Матвей Гейзер
Михоэлс
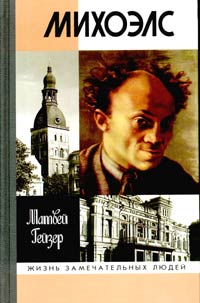
Памяти моих родителей —
Доры Марковны Гейзер (Китайгородской) и Моисея Григорьевича Гейзера
Более пятидесяти лет минуло со дня трагической гибели Соломона Михайловича Михоэлса. И если уж исходить из того, что «большое видится на расстоянии», то, очевидно, уже настало время по-настоящему оценить значимость личности этого великого актера и гражданина. Свидетельство тому — биография Михоэлса, выпускаемая в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей».
Судьба Михоэлса давно уже стала легендарной. Блистательный актер и талантливый режиссер, стоявший у истоков создания одного из наиболее примечательных московских театров 20–40-х годов, театра, имевшего, по мнению В. И. Немировича-Данченко, «свои индивидуальные особенности не потому, что это еврейский театр, а потому, что в нем есть что-то однажды найденное, глубоко и бережно хранимое, потому, что в этом театре обязательная в искусстве страстность, без которой художник не может быть самим собой».
ГОСЕТ — Государственный еврейский театр, которому Михоэлс безраздельно отдал тридцать лет своей жизни, сегодня уже почти забыт. Между тем «вот где всегда ожидало событие — так это в еврейском театре, и там уж мы старались ничего не пропустить. Меня завораживала внутренняя музыкальность, ритмичность спектаклей, в которых тела, движения, голоса — все пело. И сквозь смех — такая грусть…
Конечно, главным чудом, центром, душой театра был его организатор и руководитель Соломон Михайлович Михоэлс. Вот уж был артист — другого слова не скажешь — и в комедии, и в трагедии…» — такими запомнились С. В. Гиацинтовой Михоэлс и ГОСЕТ 30-х годов.
Как все избранники судьбы, Михоэлс был человеком сложным, многоликим. Он был строителем и разрушителем одновременно, жизнь его была трудным прохождением через победы и поражения в годы, когда искренняя вера в счастливые будущие времена и страх перед каждым предстоящим днем органично уживались. Что поделаешь — прав был поэт Александр Кушнер, написав: «Времена не выбирают, в них живут и умирают…»
Время обладает удивительным свойством — оно все ставит на свои места. Правда, иногда через десятилетия, чаще — через столетия, порой — через тысячи лет, но почти никогда — «в свое время». Впрочем, допустима ли даже мысль о справедливой оценке своего времени? В разные эпохи находились отдельные люди, кланы, группы людей, желающие что-то изменить в этой жизни — будь то общественный строй или какой-нибудь институт при нем. Они обосновывали свои намерения целями высшей справедливости. Не больше и не меньше. Но, увы! Их высокие цели чаще всего приводили к применению негодных средств, и результат был почти всегда удручающий, а то и катастрофический.
Слишком от многого зависит истина. Приближенные Николая I обвиняли его в чрезмерной мягкости по отношению к декабристам, а в советских учебниках истории его величали Николаем Палкиным. Если уж в чем-то неоспоримо гениальное открытие Эйнштейна о том, что «все относительно», то более всего — в оценке исторических фактов и личностей. Во времена Новой и Новейшей истории люди страдали куда больше от навязанных им законов «справедливости» и их создателей, чем от своего несовершенства.
Историку театра необычайно трудно воспроизвести, воссоздать роли, сыгранные актерами в канувшие в Лету времена. Сохранилось, правда, множество рецензий — сегодня они могут показаться наивными, устаревшими, однако в них отразились не только стиль и язык 20–40-х годов, но и само время. Чудом дошли до нас кинопленки с фрагментами из спектаклей Михоэлса, магнитофонные ленты с его голосом, множество фотографий, но главное, что осталось — благодарная память людей, которые знали и любили артиста.
Ф. Гарсиа Лорка однажды заметил: «Нет ничего более живучего, чем воспоминания». Своими воспоминаниями о Михоэлсе со мной делились И. С. Козловский и Ю. А. Завадский, С. В. Образцов, Р. Я. Плятт, А. Я. Шнеер, Л. М. Фрейдкина, М. И. Туровская, С. М. Хмара, Е. М. Абдулова. Отдельно хочу сказать о роли Ивана Семеновича Козловского в появлении моей первой книги о Михоэлсе. В течение многих лет он следил за моей работой над книгой, помогал советами, направлял меня и даже написал к ней предисловие.
Много интересного о Соломоне Михайловиче мне рассказали его коллеги и ученики: М. С. Беленький, Э. М. Безверхняя, Э. М. Ковенская, А. Е. Герцберг, М. Е. Котлярова, Э. И. Карчмер, Г. М. Лямпе, О. М. Цибулевская, А. Б. Шмаенок.
Хочу поблагодарить художников Юрия Миронова и Семена Оксмана, которые бескорыстно и беззаветно трудились над оформлением моих книг. Навсегда сохраню благодарность редактору предыдущих книг о Михоэлсе, истинному моему другу Роксане Михайловне Шавердовой.
Считаю своим долгом поблагодарить работников ЦГАЛИ и ЦНТК, так любезно помогавших мне в архивных поисках.
Терпеливо, очень строго и по-доброму направлял меня покойный К. Л. Рудницкий (он успел прочесть значительную часть черновой рукописи).
Много душевных сил и времени уделил моей книге А. П. Межиров.
Брат-близнец Михоэлса — Ефим Михайлович, дочери Соломона Михайловича — Наталья Соломоновна и Нина Соломоновна Вовси, его племянники и племянницы: Григорий Абрамович, Роман Моисеевич, Зелман Гильевич, Любовь Мироновна — все Вовси — поделились со мной интересными воспоминаниями.
Но решающей для написания этой книги оказалась моя встреча с Анастасией Павловной Потоцкой-Михоэлс. Познакомил меня с ней сын С. Я. Маршака — Иммануэль Самойлович.
Однажды, придя в квартиру С. Я. Маршака, я увидел пожилую, невысокого роста женщину с очень выразительными глазами. Следы былой красоты, аристократизм чувствовались в ней: в чертах лица, гордой осанке, манере разговора. Какая-то особая притягательность, насмешливость, даже молодость сохранились в ее голубовато-зеленых глазах. Увидев Анастасию Павловну, я почему-то вдруг подумал: новая моя знакомая удивительно напоминает мне сошедшую с портретов Марию Волконскую. Я не слишком уверенно, без особого почтения, сказал ей об этом.
— Едва ли, — улыбнулась Анастасия Павловна. — Я не из князей, а из «графьев». Из Потоцких — это по отцу. По матери — из Воейковых. По мужу — из Михоэлсов.
В конце мая 1969 года я пришел к Анастасии Павловне в ее квартиру на Ленинском проспекте. Маленькая, 11–12 квадратных метров комнатка — подлинный музей. Как только в ней все помещалось! Десятки фотографий: Михоэлс в ролях. Рисунки Фалька, Шагала, Завадского. Скульптурный портрет Михоэлса, выполненный Гликманом. Комод старинной работы и кресло, принадлежавшие матери Анастасии Павловны, Варваре Васильевне Воейковой.
— Это «купе» — филиал нашей комнаты на Тверском бульваре, в которой мы жили с Соломоном Михайловичем с 1935-го по 1948-й, — сказала Анастасия Павловна. — Я все сохранила и перенесла сюда. Часто мысленно беседую с Соломоном Михайловичем, советуюсь, иногда спорю…
В течение многих лет я приходил к Анастасии Павловне в ее «купе».
Слушая Анастасию Павловну, читая ее воспоминания о Михоэлсе, я все чаще думал о том, что она никогда не жила только прошлым — мне казалось, ей хотелось сохранить в памяти все, что связано с Михоэлсом. «Память, — говорила она, — единственная возможность победить время».
И уже много лет спустя после смерти Анастасии Павловны я все же не решался «взяться за перо», хотя впечатлений и материалов для книги уже собралось немало. Своими сомнениями я поделился с Сергеем Владимировичем Образцовым. Выслушав меня, он ненадолго задумался. Честно говоря, я обрадовался — решил, что он посоветует мне не писать книгу о Михоэлсе. Но через несколько секунд Сергей Владимирович сказал: «Ваши сомнения и колебания естественны. Вы математик, и это придает уверенность, что книга ваша будет написана на основании точных фактов и документов с беспристрастностью летописца.
Мой отец (В. Н. Образцов, академик. — М.Г.) когда-то сказал, что все лучшее в науке и искусстве создано дилетантами. Конечно, в словах отца была доля шутки, именно доля. Хорошо, что вы взялись за книгу о Михоэлсе.
Судьба Михоэлса — это судьба умнейшего человека, понимающего, что происходит вокруг. Встречались мы нечасто, но без его поддержки мне было трудно. Однажды я пригласил его на специальный просмотр одного „юбилейного“ и уже „принятого“ спектакля, пропущенного в качестве „праздничной премьеры“. Но что-то меня тревожило, что-то не нравилось… Михоэлс и Маршак посмотрели спектакль. После просмотра — молчание. И через несколько минут: „Вы меня пригласили, Сергей Владимирович, на „готовый“ спектакль, значит, у вас сомнения, и сомнения еще какие!“ Сомнения прошли, но премьеру спектакля я отложил… Таков Михоэлс…
Он был настоящим подвижником в жизни, в искусстве: Михоэлс был человек очень умный и очень советский. Вам, как автору будущей книги, надо это помнить…»
Беседа с Сергеем Владимировичем воодушевила меня.
… К этой книге я шел издалека — из гетто на окраине местечка Бершадь Винницкой области, где в годы войны прошло мое раннее детство. До сих пор вижу: тысячи людей немецкие оккупанты загнали в болотистую, зловонную долину реки Дохно. Был у меня друг Велвеле. Он тоже вместе с родителями оказался в гетто. Они были беженцами из Бессарабии. Я помню, как плакал навзрыд Велвеле: «Хочу домой в Бельцы!» Он даже грозился убежать. Родители со слезами на глазах утешали его и однажды принесли клетку с птичкой. Птичка эта стала единственной отрадой моего и Велвелиного детства, мы разговаривали с ней, кормили с рук. Через несколько дней птичка летала по улицам гетто, а мы носились за ней. К вечеру птичка возвращалась в клетку, а мы с Велвеле, набегавшись за день, возвращались домой.
Территория гетто была ограждена колючей проволокой, с нее жителей гетто выпускали только на кладбище. Счастливая птичка не знала этих правил и однажды, вспорхнув ввысь, перелетела «на ту сторону». Не задумываясь, Велвеле перелез через колючее ограждение и, весь окровавленный, побежал за птичкой. Проезжавший на мотоцикле полицейский остановился, подошел к Велвеле и ударил его ногой в лицо. Велвеле упал. Полицай связал его руки, веревку привязал к сиденью мотоцикла и помчался на полной скорости. Птичка полетела вслед за Велвеле. Его крик я отчетливо слышу всю жизнь. Он сопровождал меня и в часы ночной работы над книгой.
Теплым и необыкновенно солнечным выдался в Москве шестнадцатый день марта 1944 года. На кустах уже взбухли почки, что придавало этому весеннему дню особый аромат и настроение. Как всегда утром, Соломон Михоэлс отправился на Тверской бульвар прогулять Цидришку и заодно себя. Перейдя через дорогу, собачка послушно встала на задние лапы, дав понять хозяину, что поводок ей больше не нужен. Цидришка, радуясь, побежала, а потом понеслась по аллеям. Завидев встречных собак, возвращалась к Михоэлсу и, прижимаясь к его ноге, громко, по-хозяйски облаивала чужаков. Михоэлс курил «Беломор» и торжественно вышагивал по пустому и тихому скверу. Цидришка, сделав очередной, завершающий променад до аптеки, уже направлялась к хозяину, когда кто-то окликнул Михоэлса на идиш. Он был несколько удивлен: услышать идиш в такую рань на Тверском бульваре! Впрочем, что только не случается на белом свете! Повернув голову, Михоэлс увидел писателя Давида Бергельсона, быстро шедшего ему навстречу.
— Даже памятуя русскую пословицу о незваном госте, я все же иду к вам, Соломон Михайлович, не только без приглашения, но даже без предупреждения.
— Я очень этому рад, но что вас привело сюда в такую рань?
— Не спал всю ночь: читал книгу Брода «Князь Реубейни». Под утро позвонил Добрушину. Знаете, что он сказал? Говорят, в Праге сохранились дневники этого знаменитого еврея. Откладывать дальше постановку спектакля «Реубейни» нельзя.
Вся троица — Михоэлс, Бергельсон и Цидришка отправились домой — в большую комнату на Тверском бульваре, прозванную Анастасией Потоцкой, женой Михоэлса, «книгохранилищем».
— Асенька! — сказал он жене. — Меня нет дома даже по телефону, даже… — И он назвал фамилии людей, для которых был дома всегда. — Мы хотим с Дувыдом медленно и смачно покурить, а главное — решить важный исторический вопрос…
Удивленная Анастасия Павловна напомнила Михоэлсу:
— Сегодня же твой день рождения — ты забыл?!
— Кто захочет меня поздравить, сделает это завтра или позже.
«Вряд ли можно назвать второй такой дом, который одновременно был бы домом и таким проходным двором, как дом Михоэлса.
Ни телефон, ни двери, ни время дня и ночи не могли служить и не были препятствием для людей, которым нужен был Соломон Михайлович, для друзей, которым он всегда так радовался!»
Михоэлс и Бергельсон уселись за «курительный» столик, стоявший справа от большого окна, выходившего во двор-колодец. Но не успели они выкурить по сигарете, как пришел очередной незваный гость, Исаак Маркович Нусинов, профессор Института Красной профессуры и многих других московских вузов. Увидев его, Бергельсон воскликнул:
— Поверьте, Соломон, Исаака нам прислала сама судьба! Сегодня мы возьмемся за «Реубейни»! Это будет в буквальном смысле слова исторический спектакль.
Нусинов приподнял очки, внимательно посмотрел на обоих:
— Мне кажется, вместо спектакля «Цвей куни-лемел» («Два дурачка») вам нужно поставить спектакль «Цвей мышигуем» («Два сумасшедших»). Сегодня, когда даже книга Брода о Реубейни в библиотеках упрятана в запасники, ставить о нем спектакль! Мальчики, вы, видно, давно не были у психиатра! Давайте дождемся окончания войны, а потом…
— Боюсь, тогда будет совсем поздно, — сказал Михоэлс.
— Соломон Михайлович! Вам сегодня всего пятьдесят четыре! И, вообще, кто сегодня помнит о Реубейни? Кому он нужен, кому интересен?
— Реб Нусинов, вы знаете, кто были предки Реубейни?
— Если Реубейни — это Рувим, то он — старший сын Иакова и его жены Лии.
— Вы неплохо помните Берешит (Книга Бытия. — М. Г.).
— Я даже помню, что этот Рувим был лишен отцом первородства, и помню за что. Ведь этот славный сыночек осквернил постель родного отца, не так ли, реб Вовси?
— Лучше бы вместо греха вы вспомнили о его добрых деяниях, ведь именно он, Рувим, спас жизнь Иосифа. А какую роль сыграл Иосиф в истории нашего народа — не мне вам рассказывать.
Михоэлс затянулся и, медленно выпуская дым, сказал:
— О Реубейни надо напомнить тем, кто забыл, а главное — рассказать тем, кто никогда о нем не слышал. Не знаю, кому принадлежит мысль, но сегодня она мне очень близка: «Желание совершить невозможное для истинного художника — источник надежды и вдохновения». Все думают, даже уверены, что я больше всего мечтаю о Гамлете, Ричарде. Гамлета мне играть уже поздно, а играть сегодня Ричарда!.. Никто, кроме Дувыда, не знает, что значит для меня сыграть Реубейни! Знаете, что больше всего привлекает меня в этом человеке? Презрение к страданиям своего народа и стремление освободить его. Помните, что сказал Гейне об Исходе? «После Исхода о свободе всегда говорят с еврейским акцентом».
— Соломон Михайлович! — нервно заметил Нусинов. — Но вы же не будете призывать евреев к Исходу. И куда сегодня можно совершить Исход? Еще пылают печи Майданека и Дахау. Государство в Палестине не создано. Может быть, в США? После того «круиза» на пароходе «Сент-Луис», когда его пассажиры, отплыв из Гамбурга в Нью-Йорк, в надежде спасти свои жизни оказались (не без ведома Рузвельта) в Освенциме, — в США, как это было в конце прошлого века, дороги нет.
— И все же убежден: спектакль надо ставить немедленно. Я хочу, чтобы с моим народом никогда не повторилось то, что произошло во время этой войны. Помните слова Реубейни, вообразившего себя принцем? «Я лжепророк, потому что на другом языке с этими волками разговаривать не могу. Это волки, преследующие мое стадо, и чтобы расправиться с ними, чтобы люди пошли за мной, они должны мне поверить». Реубейни был не только отважным человеком, но и мудрым политиком: он понимал, что избраннику, помазаннику — тем более поверят скорее. И поэтому объявил себя человеком царских кровей.
— Теперь я знаю, как писать пьесу о Реубейни, — сказал Бергельсон.
Михоэлс разлил в стопки «Московскую», и, не сговариваясь, все произнесли тост: «За премьеру „Реубейни“!»
Анастасия Павловна предложила:
— Давайте сначала выпьем за новорожденного, а потом — за будущую премьеру.
Под звон хрусталя квартет произнес: «Лехаим!»
Наверное, бессмысленно сегодня рассуждать, почему спектакль о Реубейни Михоэлс решил поставить в 1944 году. Ясно одно: ставка была больше, чем жизнь. Ради этого спектакля он отказался от многих других заманчивых предложений как в ГОСЕТе, так и вне его.
В своей книге «И одна — моя судьба» профессор Лев Адольфович Финк пишет: «Леонид Максимович Леонов рассказывал мне, как в 1946 году порадовало его неожиданное известие из Малого театра. Там собирались ставить пьесу „Золотая карета“. В труппе мучительно искали актера на трагическую роль старого мудрого еврея Рахума, который на вопрос о судьбе своих близких горестно отвечал: „Вы слышали такой адрес, Бабий Яр. Там они все лежат, внуки мои в том числе. Тут кончается биография… и начинается история“… Режиссер и автор спектакля долго искали исполнителя. И вдруг Леонов узнал, что Соломон Михоэлс решил временно прекратить работу в ГОСЕТе и перейти в Малый театр во имя того, чтобы сыграть Рахума, рассказать зрителям о трагедии еврейского народа в годы войны. Леонов был счастлив и гордился тем, что Михоэлс решил сыграть в его пьесе».
Здесь уместно заметить: «Реубейни» — вовсе не леоновский Рахум, и Михоэлс не был главным режиссером Малого театра. Тем не менее «безработица» ему не грозила. Михоэлса звали не только в Малый, но и во МХАТ, даже в Большой. Его мнение в комитете по Сталинским премиям было весомым и авторитетным. Казалось, пора успокоиться, время от времени играть давно сыгранные нестареющие роли (Тевье, Лир), руководить театром в свободное от общественной работы время и — наслаждаться светской жизнью. Тем более что жить весело, смачно Михоэлс умел. Но нет же — ему хотелось сыграть Реубейни.
Театровед Симон Давыдович Дрейден, узнав о намерении Михоэлса поставить спектакль о Реубейни, не только удивился, но и испугался. Своими сомнениями он поделился с Сергеем Владимировичем Образцовым, на что тот возразил: «А чем еще мог Соломон Михоэлс ответить Гитлеру? И не только в этом дело. Антисемитский душок проявляется и в нашей стране».
Между 16 марта 1944 года, днем, когда «триумвират» решил поставить в ГОСЕТе спектакль о Реубейни, и началом репетиций прошло немало времени, и в жизни нашего героя произошли очень важные события. В 1945 году он поставил спектакль «Фрейлехс» (не была ли это очередная «дань» Михоэлса за будущего «Принца Реубейни»?), удостоенный в 1946 году высшего по тем временам признания — Сталинской премии. Сохранилось письмо Н. Альтмана, заведующего литературной частью ГОСЕТа, к С. М. Михоэлсу. Автор письма считает, что в 1947 году нужно привлечь следующих драматургов: М. Миллера (пьесу о Соне Слуцкивер), М. Светлова (что-то из истории комсомола); в дальнейшем (на 1948 год и далее) намечалась постановка «Обороны Москвы» П. Маркиша, «Старого учителя» В. Гроссмана; пьесы Бруштейн «О виленских евреях после войны» и О. Литовского «Современник» уже были в работе.
Думается, не только эти спектакли были преддверием к спектаклю «Принц Реубейни» — подготовкой к нему была вся предыдущая жизнь Михоэлса.
Из воспоминаний Н. С. Вовси-Михоэлс: «Эту тему „человека ищущего, ошибающегося“ он нашел в прекрасном драматическом воплощении Д. Бергельсона „Принца Реубейни“ по Максу Броду. Работа над пьесой началась фактически в сорок четвертом году, после папиного возвращения из Америки, но спектакль, законченный в конце сорок седьмого года, так и не увидел свет.
Ни одна постановка, даже „Лира“, не заняла у отца столько времени. Объяснялось это той нечеловеческой нагрузкой, которую он… взвалил тогда на свои плечи. Над „Реубейни“ он работал с огромным увлечением. Впервые после „Тевье“ ему представилась возможность создать значительный и новый образ. Да и в режиссерском плане эта работа давала больше пищи для воображения, чем спектакли на современные темы. Несмотря на столь длительный период работы, мне не удалось побывать ни на одной репетиции. Но по рассказам тех, кто сумел посмотреть репетиции „Реубейни“, это было „самое грандиозное из всего, что создал Михоэлс как актер и режиссер“. Так говорил художник, оформитель спектакля Исаак Рабинович, да и не только он…
Сейчас, восстанавливая в памяти те годы, я понимаю, что работа над „Реубейни“ была единственным светлым пятном в папиной жизни того последнего периода».
Первую репетицию «Принца Реубейни» Михоэлс начал со слов: «В этой пьесе — что ни роль, то эпоха. Ответственный спектакль. Это первая историческая пьеса в нашем театре. Надо показать народ — это первое. Второе — мы не имеем права показывать неевреев одними погромщиками».
«…Первая историческая пьеса в нашем театре». Так ли это? А как же «Уриэль Акоста», «Разбойник Бойтре», «Суламифь», «Соломон Маймон»? Михоэлс забыл о них или они не были историческими? Может быть, слова эти случайно вырвались у него во время репетиции? Едва ли. Выступая перед актерами, по мнению всех тех, кто хорошо знал Михоэлса, он «взвешивал каждое слово». Ознакомившись со стенограммой репетиции «Принца Реубейни», я спросил Анастасию Павловну: «И все же почему Соломон Михайлович назвал „Принца Реубейни“ первой исторической пьесой в ГОСЕТе?» Она сказала, что сама спрашивала не раз об этом Михоэлса, но он шутя отвечал: «Как тебе объяснить?»
После одной из репетиций Михоэлс пришел домой уставший и удрученный. В таких случаях Анастасия Павловна заводила разговор о чем-то нетеатральном. В тот вечер, придя в себя, Михоэлс сказал: «Как объяснить актерам, что история никогда не щадила мой народ и, может быть, он давно растворился бы среди других народов, а благодаря таким людям, как Реубейни, он есть».
Из воспоминаний А. П. Потоцкой: «Мне запомнились его споры с Д. Бергельсоном. Михоэлс убеждал его в том, что Реубейни предотвратил гибель европейского еврейства. Были у него с Бергельсоном дуэли тяжелые, с „кровопролитием“. Но вместе с тем какой же спектакль так торжественно создавал Михоэлс, актер и режиссер, как не последнюю свою работу „Принц Реубейни“? И Бергельсон, и Михоэлс ушли с головой в глубь истории, и все когда-то существовавшие „дуэли“ оказались маленькими недоразумениями, коротким несогласием, которое молниеносно растопилось в новой работе! Как любили оба эту работу!»
Реубейни представлялся Михоэлсу символом надежды, веры. Несомненно, он знал, что в Еврейской энциклопедии о Давиде Реубейни написано: «Известный авантюрист». Почему же так любил Михоэлс этого «авантюриста»? Давид Реубейни был человеком феерической судьбы. Он родился в 1490 году в Праге. По легенде же, сочиненной им самим, — в Центральной Аравии. Весной 1523 года он совершил путешествие в Палестину, а в 1524-м прибыл в Венецию, где в ту пору свирепствовала инквизиция. По-разному реагировали на деятельность инквизиции евреи: одни вынужденно отрекались от своей веры, становились моранами; другие, хранившие верность своему Богу, закончили жизнь на костре; третьи спаслись бегством.
Реубейни решил: он может и должен спасти свой народ. Убедив богатых итальянских евреев (художника Моисея и купца Феличи), а затем и папу Климента VII в том, что он брат еврейского царя Иосифа, царство которого находится в землях Хайбара на берегах мифической реки Самбатион, Реубейни принялся за дело. Папа римский поверил, что у брата есть огромная армия, готовая вместе с войсками Италии и Португалии вступить в войну с турками. «Брат» могущественного аравийского царя стал желанным человеком в Риме. В 1524 году он въехал в город на белом коне в сопровождении многочисленной свиты.
О Реубейни заговорили при португальском дворе, в его лице надеялись обрести надежного союзника в борьбе с султаном Селимом I, завоевателем Египта, ненавистным врагом Португалии. Под влиянием Реубейни король Португалии даже прекратил преследование евреев и моранов.
Способности предсказателя-астролога привлекли к Реубейни юного морана Соломона Молхо. Под его влиянием Реубейни вновь вернулся в иудаизм (роль Молхо в будущем спектакле была предназначена, конечно, Зускину). После возвращения Молхо в лоно иудаизма многие мораны воспряли духом. Евреи, загнанные в трюм корабля, обреченные на гибель, в лучшем случае — на продажу в рабство, подняли восстание близ порта Бадахоза в Португалии. Реубейни и Молхо снабдили их оружием. Это событие насторожило португальский королевский двор. Над Реубейни впервые нависла опасность. Отважный паладин вновь отправился в Италию, где был с почестями принят в Болонье. Конечно, любым авантюристам, даже самым «благородным» приходится рисковать. Интерес к его персоне у инквизиторов вынудил Реубейни кочевать из страны в страну. Но сколько веревочке ни виться… Реубейни схватили в Испании, стране «образцовой» инквизиции. О дальнейшей его судьбе достоверных сведений нет. Одни историки сообщают, что он был сожжен в 1541 году в присутствии короля Испании, другие утверждают, будто вместо него на костер отправили кого-то другого, а принц Реубейни остался жив. Некоторые современники приписывали ему черты мессии, которого так ожидал еврейский народ.
Актеры ГОСЕТа считали пьесу несовременной. Иные обижались на то, что им поручили «маленькие» роли. Таким Михоэлс говорил: «Я убежден, что в тексте, состоящем из пяти фраз, иногда можно дать больше, чем в монологе.
Наивный путь весьма распространен и состоит в том, что некоторые актеры принижают свою работу: „Эх, дрянь работа, ерунда работа, не стоит даже над этой работой работать“. Чаще всего так рассуждают, получив маленькую роль…
Жена Черчилля на приеме произнесла пять слов, но она принесла с собой атмосферу, дала образ» (Михоэлс имел в виду выступление леди Черчилль в 1943 году во время приема в Кентерберийском соборе членов Антифашистского еврейского комитета. — М. Г.).
Михоэлс любил своего Реубейни, верил ему и в него. На одной из репетиций в ответ на упреки кого-то из актеров, что сейчас не время для мистических героев, он ответил: «Реубейни уверен, что есть страна, Колумб ведь нашел Америку. Мотив для Реубейни — реплика Колумба „Эврика!“».
По мнению Михоэлса, Реубейни в чем-то «перекликается с образом Ивана Грозного. Тема разная, идея разная, но в образе есть что-то общее… Грозный говорит: „Умер я, умер я“ — и снова воскрес. Это перекликается не сюжетно, не идейно, но образы перекликаются…».
Во время репетиций «Реубейни» Михоэлс советует актерам «найти родственников» своих персонажей среди известных им литературных героев:
«Я прошу каждого найти родственников, но не в игранных ролях, а в новых образах из литературы». Одного из героев пьесы, Пиреса, Михоэлс уподобляет Христу: «Его судьба — служить народу. Он единственный, который может служить народу. Он идет на физические жертвы. Он избран для спасения народа. Он постится тридцать дней. Он оброс. Сходство с Христом».
Никогда еще режиссерский и педагогический талант Михоэлса не проявлялся так многогранно, ярко, как на репетициях «Принца Реубейни». Даже при постановке «Короля Лира» и «Тевье-молочника». Он разъяснял смысл каждого поступка Реубейни, отвергая обвинения его в авантюризме: «Почему Реубейни вообразил себя принцем? В пьесе есть четкое объяснение этому: „Я зажег в себе сознание принца, чтобы передать это им. Но если я использую для себя, что я принц, это приведет меня к катастрофе…
…Я лжепринц, лжепророк, потому что на другом языке с этими волками я разговаривать не могу; это волки, которые преследуют мое стадо. На пути ряд искушений, ряд колебаний. Эти колебания мне нужны, эти препятствия мне необходимы, потому что этим я проверяю стойкость моих идей“».
Подтверждая свою мысль о своевременности спектакля, его актуальности, Михоэлс пояснил, что начало спектакля напоминает события последней войны: на корабле людей увозят на продажу в рабство, а старых и больных выбрасывают за борт. Услышав отчаянные крики: «За что? За что?» — капитан корабля отвечает им: «Вы спрашиваете за что? За то, что вы евреи».
И еще учил Михоэлс актеров: «В искусстве необходимо, чтобы вероятное стало неизбежным… характер, данный актерам в роли, — это не решение образа». И тут же откровенно обрадовался — вспомнил: «Мой друг академик Капица сказал однажды: „Слава богу, что искусство не наука, когда искусство станет наукой, будет скучно“».
Во время репетиций «Реубейни» Михоэлс делился с актерами впечатлениями о встречах с А. Эйнштейном: «Вы сидите и смотрите на человека, который определяет собою „вечность“. Так де-Пизо (его прообраз — Молхо. — М. Г.) должен передать свое ощущение по поводу своего свидания с Реубейни».
И вот еще в чем, по мнению Мастера, задача актера: «Есть понятие разреза — увидеть, как это выглядит. Если бы можно было препарировать сознание, Вы бы нашли у себя нереализованными тысячи криков, тысячи плачей, тысячи смехов. Бывает ощущение у человека, что… ему необходимо крикнуть, но в данных обстоятельствах этого он не может. Актерская задача — в нужную минуту вынуть этот крик».
Вот рассказ о «Принце Реубейни» Леонида Осиповича Утесова: «Это было осенью 1947 года. Я встретил Михоэлса на Тверском бульваре. Это была последняя наша встреча. О многом мне тогда поведал Михоэлс. Впервые я услышал имя Реубейни. „А сейчас я работаю над ролью Реубейни“. И подробно рассказал мне о своем герое, которого многие в эпоху Средневековья считали лжепророком, а Михоэлс полюбил Реубейни, поднявшего свой народ в XVI веке на борьбу за свободу… Как жаль, что Соломон Михайлович не сыграл Реубейни…»
Вот что писал о «Принце Реубейни» ученый-театровед К. Л. Рудницкий: «Иной раз Михоэлсу вообще не удавалось довести до конца начатый труд. Быть может, наиболее в этом смысле характерный пример — его упорная, длительная, но так и оставшаяся незавершенной работа над пьесой Бергельсона „Принц Реубейни“. Действие драмы происходило в начале XVI века, в Португалии. Ее тема волновала Михоэлса. Он законно усматривал некую аналогию между религиозной нетерпимостью инквизиции и расизмом гитлеровцев. „В теме пьесы, — говорил Михоэлс, — есть то, что меня взволновало идейно как продолжение борьбы против фашизма, которую ведет наш советский народ, которую ведет каждый из нас как гражданин нашей Советской страны“».
Из воспоминаний актера ГОСЕТа Григория Моисеевича Лямпе: «Над спектаклем о Реубейни Михоэлс работал не только самозабвенно, но с воодушевлением, которое было заметно во всем: в его жестах, голосе. Я видел его репетиции спектакля „Фрейлехс“, но они были совсем иными, чем репетиции „Реубейни“, и не потому, что это разные по своей сути спектакли (согласитесь, все же „Фрейлехс“ ближе к мюзиклу, чем к спектаклю или оперетте). Я так хотел хоть кого-нибудь сыграть в этом спектакле, завидовал Баславскому, которому была поручена очень ответственная роль Дона Шмуэля Абрабанеи. А как я завидовал Герцбергу, ему Михоэлс сказал: „Ты знаешь, кем ты будешь в новом спектакле? Послом короля Карла V!“
У меня случайно сохранился список актеров, занятых в этом спектакле. Напротив Реубейни нет фамилии, но всем было ясно, что эту роль Михоэлс оставлял себе, хотя во время репетиций на нее пробовал Цибулевского. Думаю, что после „Короля Лира“ это был самый трудный для постановки в ГОСЕТе спектакль. Михоэлс понимал: многие из актеров имя Реубейни впервые услышали на репетиции.
Никогда не забуду, как Михоэлс одну из репетиций начал словами: „Сказано в псалмах Давида: „Счастлив народ, которому Всевышний даровал призывный звук шофара — в нем зов самого Бога“, а мой отец, который, как вы знаете, был настоящим хасидом, любил повторять слова основателя хасидизма Бешта (тогда я впервые услышал это имя): „Люди не должны идти за героями. Только Бог или его посланец, или трубный зов, исходящий от Бога, может привести народ к победе. Так было не раз в истории“. И дальше Михоэлс объяснил нам, впервые узнавшим историю Реубейни, почему такой трагической оказалась его судьба. Я уже не помню его объяснений по этому поводу. Как жаль, что не сохранились записи репетиций этого спектакля (к счастью, сохранились. — М. Г.). У меня в памяти остались лишь некоторые рассказы Михоэлса о Реубейни. Он говорил о мифах и легендах, связанных с этим именем. Реубейни сумел всколыхнуть всю Италию, Испанию, Португалию…“»
После рассказа Г. М. Лямпе мне в который раз вспоминаются слова из хасидской легенды, гласящей, что истинный крик, крик, идущий из глубины души, донесет правду до людей, услышавших этот крик…
Александр Евсеевич Герцберг — также актер ГОСЕТа, участвовавший в репетициях спектакля в роли посланника короля Карла V, вспоминает: «В конце декабря 1947 года готов был первый акт. Блестящий акт. В. Зускин чудесно играет роль Шабсая. К концу репетиции я исподволь взглянул на Соломона Михайловича, он не курил… Это верная примета, что он удовлетворен… В заключение репетиции он говорит: „Мне предстоит уехать на несколько дней в Минск, затем мы приступим ко второму акту“».
«Когда папа уезжал в Минск, уже была намечена приблизительная дата премьеры, которую все ждали с нетерпением» (из воспоминаний Н. С. Вовси-Михоэлс).
Итак, репетиции «Реубейни» Михоэлс проводил сам, этому спектаклю он придавал особое значение — уж очень хотел воплотить эту свою мечту. Даже в день отъезда в Минск, 7 января 1948 года, он утром репетировал «Реубейни» и уходя сказал: «Я уезжаю на несколько дней. Репетиции вместо меня будет вести Цибулевский. Из Минска я позвоню и назначу репетицию на день моего приезда».
Вместе с Моисеем Соломоновичем Беленьким — директором Школы-студии ГОСЕТа Михоэлс зашел к писателю Дер Нистору, квартира которого находилась в том же доме, где размещался ГОСЕТ, достал из бокового кармана недопитую бутылку водки, разлил понемногу каждому, заткнул бутылку пробкой и сказал: «Это пусть останется до весны. У нас будет повод допить эту бутылку: весной будет большой праздник у всех евреев мира». Об этом мне рассказал Беленький уже в конце 80-х годов, и еще он поведал: «Поверьте мне, Михоэлс в Америке решал вопросы куда важнее, чем материальная помощь… Сегодня уже известно, что Михоэлс в США встречался с Хаимом Вейцманом — в то время руководителем Всемирного еврейского конгресса. Они говорили о роли, которую может сыграть СССР в создании еврейского государства на территории Палестины». Бутылка водки, принесенная Михоэлсом, осталась недопитой: вскоре его убили, а писателя Дер Нистора сгноили в тюрьме.
В конце декабря 1947 года в зале Политехнического музея чрезвычайно помпезно отмечалась тридцатая годовщина со дня смерти писателя Менделе Мойхер-Сфорим. Всего за месяц до этого, в конце ноября, произнес свою знаменитую «просионистскую» речь в ООН Громыко. Напомним несколько тезисов: «Еврейский народ перенес в последней войне исключительные бедствия и страдания. Эти бедствия и страдания, без преувеличения, не поддаются описанию. Их трудно выразить рядами сухих цифр о жертвах, понесенных еврейским народом от фашистских оккупантов. На территориях, где господствовали гитлеровцы, евреи подверглись почти полному физическому истреблению…
То обстоятельство, что ни одно западноевропейское государство не оказалось в состоянии обеспечить защиту элементарных прав еврейского народа и оградить его от насилий со стороны фашистских палачей, объясняет стремление евреев к созданию своего государства. Было бы несправедливо не считаться с этим и отрицать право еврейского народа на осуществление такого стремления. Отрицание такого права за еврейским народом нельзя оправдать, особенно учитывая все то, что он пережил за Вторую мировую войну».
Однако в конце декабря с Лубянки подули совсем другие ветры. Не уловил этого мудрый Соломон Михоэлс. Его дочь Наталья Соломоновна Вовси вспоминала, что во вступительном слове Михоэлс сказал: «Вениамин, отправившись на поиски земли обетованной, спрашивает встреченного по пути крестьянина: „Куды дорога на Эрец Исроэл?“ И вот недавно с трибуны Организации Объединенных Наций товарищ Громыко дал нам ответ на этот вопрос!»
Репетицию первого акта «Принца Реубейни» Михоэлс закончил в 12 часов дня 7 января 1948 года. Жить ему оставалось немногим более ста часов. Мечтам Михоэлса о постановке «Принца Реубейни» не суждено было сбыться.
По древнегреческой легенде, лебеди были посвящены богу Аполлону, в своих пророчествах предвидевшему, каким благом будет для них смерть, и завещавшему им умирать с пением и радостью. Так, по мнению Аполлона, следовало поступать всем мудрым и добрым. Михоэлс был именно таким. Но свою лебединую песнь он так и не исполнил…
…Если они — не сами пророки, то они — сыновья пророков…
С незапамятных дней мудрецы и маги, пророки и каббалисты знали — у имени своя магическая сила. Нередко имена оказывались яркой судьбоносной звездой. Человек, решившийся посвятить себя театру и принявший сценический псевдоним Михоэлс («Сын Михаила») в память о своем отце Михеле Мейеровиче, носил странноватую фамилию Вовси… Фамилия эта, весьма возможно, восходит ко временам библейских патриархов.
«…И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран, по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых. Вот имена их: из колена Рувимова Саммуа, сын Закхуров… Из колена Иудина Халев, сын Иефонниин… Из колена Неффалимова Нахбий, сын Вофсиев (Нахби, сын Вофси; Числа, 13:15)».
Казалось невероятным предположение, что родословная человека, известного в мировой культуре как Соломон Михоэлс, ведет свое начало от древнейшего иудейского колена Неффалимова, исчезнувшего бесследно и, как считают, навсегда — но это так.
Неффалим — шестой сын праотца иудеев Иакова, рожденный от служанки Валлы. Имя Неффалим нередко переводится как борец. Рахиль, жена Иакова, с которой в ту пору не было еще снято Богом наказание бесплодием, сказала мужу своему Иакову: «…вот служанка моя Валла; войди к ней: пусть она родит на колена мои, чтобы и я имела детей от нее… Валла зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль: судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына. Посему нарекла ему имя: Дан. И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: борьбою сильною боролась я с сестрою моею и превозмогла. И нарекла ему имя: Неффалим» (Бытие, 30:3–8).
Колено Неффалимово отличилось в битвах с хананеями и было уважаемо древними иудеями. Но почти три тысячелетия тому назад земля Ханаанская, освоенная Неффалимовым коленом, была превращена в пустыню сирийским царем Венададом. А несколько позже, «…во дни Факея, царя Израильского, пришел Феглаф-фелласар, царь Ассирийский, и взял… всю землю Неффалимову, и переселил их в Ассирию» (4 Царств, 15:29). В 612 году до новой эры Ассирия была завоевана и безжалостно разграблена вавилонянами, а израильтяне — пленники ассирийцев — достались в наследство новым завоевателям. Среди них — и потомки колена Неффалимова — Вовси — пребывали здесь во времена вавилонского пленения.
Как известно, немногие вернулись из вавилонского пленения. Одни не могли этого сделать, а иные и сами не захотели. Прав был великий идишистский писатель XX века Исаак Башевис Зингер, написав: «В каждом поколении есть пропавшие колена… всегда найдутся напуганные перебежчики… листья опадают, но остаются ветви». Но потомки колена Неффалимова, скитаясь по странам еврейского рассеяния и храня верность вере своих предков, сберегли и гордую фамилию Вовси, дошедшую до наших дней… И лишь однажды, уже в наши времена, фамилия эта оказалась проклятой. Случилось это 13 января 1953 года, в пятую годовщину со дня гибели Михоэлса. В передовой статье газеты «Правда» сообщалось:
Та же фамилия — Вовси — была еще у одного актера — талантливого, знаменитого. Звали его Аркадий Григорьевич. Он сыграл немало ролей во втором МХАТе, в Театре имени Моссовета, в Ленкоме. И был изгнан из театра Ленком в 1952 году — за причастность к «Вовсям». А двоюродный брат его — Мирон Соломонович, еще совсем недавно служивший главным терапевтом Красной армии и в 1948 году избранный действительным членом Академии медицинских наук, был не только изгнан со своих должностей, но и арестован. От библейских времен до наших дней известно лишь три случая, когда фамилия Вовси была предана анафеме.
В начале XIX века потомки Неффалимова колена — Вовси — оказались на землях, доставшихся Российской империи вследствие очередного раздела Польши. Жили они вблизи города, возникшего рядом со старой крепостью Динабург. Город этот с 1893 года стал называться Двинск, а с 1920-го — Даугавпилс.
Менялось не только название города, но и названия улиц в нем. Улица, в 1990 году названная именем Михоэлса, когда-то была Постоялой. В 1935 году ее переименовали в Айзсаргу — так называлась латвийская военизированная организация. В 1940 году, когда Латвия стала советской, улица получила имя Молодежная (Яунатнес).
В XIX веке здесь, в доме № 4, жила семья Михеля Вовси — среднего сына Мейера Вовси, бедного местечкового ремесленника, который к тридцати годам стал богатым лесоторговцем и помещиком, управителем имения графа Зибельблатера — одного из видных в середине XIX века польских аристократов. Михелю Вовси досталось от отца небольшое мебельное предприятие, что позволило безбедно жить его семье. В семье было уже шестеро детей.
В марте 1890 года ожидалось появление на свет еще одного ребенка. Родители надеялись, что перед светлым праздником Пурим Бог дарует им девочку, которую они хотели назвать Эсфирью. Бог, впрочем, рассудил иначе, и 16 марта 1890 года Михель Вовси стал отцом… еще двоих сыновей, Хаима и Шлиомы — будущего Соломона Михоэлса.
Вот рассказ Хаима Вовси: «Первые самые ранние годы нашего детства почти полностью выпали из моей памяти, но моя мать постоянно повторяла: „Первые три года они были слабенькими, и никто не верил, что они выживут“. Из ее же рассказов я узнал, что нас кормила одна мамка-кормилица (мать нас не кормила). По свидетельствам знавших ее, была она женщиной простой, весьма экзальтированной, временами даже сумасбродной, быть может, это обстоятельство имело какое-то влияние на формирование темперамента Михоэлса.
Несомненно, большое влияние на развитие и оформление характера Михоэлса имела мать. Она была женщиной непосредственных возвышенных чувств, беззаветно любила своих детей и особенно нас, тогда еще маленьких».
На восьмой день жизни младенцев был исполнен ритуал, завещанный Богом потомкам Авраама («да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола»). Собравшиеся по этому торжественному случаю гости разделили радость с супругами Вовси, а старейшина Двинска реб Аврум, который уже много лет подряд отмечал свое девяностолетие, выпив рюмку водки, сказал Михелю Вовси: «Через год или два, даст Бог наш, родит тебе жена дочь, но радуйся сыновьям своим, сказано в Писании: „Венец стариков — сыновья сыновей…“ И еще запомни: славу твоему имени принесет Шлиома». Быть может, это выдумка старожилов Двинска, и возникла она уже тогда, когда Шлиома Вовси стал Соломоном Михоэлсом, Соломоном Мудрым, но разве это существенно?
Есть замечательное хасидское предание. Когда великому маггиду Бауэру из Межрича было пять лет, дом его отца сгорел. Видя убивающуюся от горя мать, сын попытался успокоить ее, пообещав, что, когда вырастет, построит новый дом. «Не о доме я плачу, — сказала мать. — Сгорело наше семейное древо, а корни наши восходят к древним раввинам из Палестины, жившим еще во II веке». Задумавшись, пятилетний Бауэр сказал: «Я создам новое семейное древо, которое будет начинаться с меня».
Немало повидал Динабург-Двинск-Даугавпилс за свою многовековую историю. Выросший вокруг старой крепости, заложенной на берегу Даугавы в 1298 году рыцарями Ливонского ордена, он неоднократно переходил из рук в руки, а с 1792 года отошел к России. К концу XIX века это был город с многонациональным населением, насчитывающий 73 тысячи жителей. Русские и литовцы, поляки и немцы, латыши и эстонцы, православные, католики, протестанты, раскольники. Немалую часть населения составляли евреи, которые, не имея права на жительство в сельской местности и больших городах, проживали в дозволенных царским правительством местах, занимаясь портняжным и ювелирным делом, мелкой торговлей, поденной работой.
Мирно соседствовали здесь евангелические училища, русские, латышские и польские школы, еврейские казенные гимназии. В конце XIX века в Двинске было три бесплатных еврейских училища для детей бедняков, а в 1901 году возникла образцовая школа-хедер, в которой и учились дети семьи Вовси. Хедеры — это народные вероисповедные школы, частные или общественные (так называемые талмудторы), которые уже много веков давали всем еврейским детям, даже самым бедным, возможность исполнять религиозную обязанность, завещанную предками, изучать Закон Божий и молитвы. Немало забавных историй о хедере, его обитателях, его содержателе и учителе-меламеде рассказали Перец, Шолом-Алейхем и другие писатели. Хедер в Двинске не был похож на большинство заведений такого типа. Среди его преподавателей не было дряхлых, измученных жизнью меламедов, избивающих розгами своих учеников по поводу и без повода.
Из воспоминаний Хаима Вовси: «С шестилетнего возраста нас определили в еврейскую школу — „хедер“. „Хедер“ — на еврейском языке значит „комната“. Вся школа действительно помещалась в одной комнате. Там стоял длинный стол, вокруг которого размещались пятнадцать — двадцать учеников.
Во главе стола сидел учитель, который обучал своих учеников книгам Священного Писания. Но прежде всего он обучал учеников еврейской грамоте, что отнимало всего три-четыре месяца. После этой? ученики уже могли бегло читать и писать, а затем приступали непосредственно к изучению Пятикнижия. Дети в хедере обучались около пяти-шести лет…»
В двинском хедере преподавали русский язык и литературу. Словом, сыновьям Михеля Вовси в школьные годы повезло. И хотя Михоэлс позднее утверждал, что «начал обучаться систематически светским наукам и русскому языку» лишь в тринадцать лет, как видим, это не совсем так. Хаим Вовси вспоминал, что «чтению на русском языке мы научились довольно оригинальным способом: мать часто выходила в город по делам или погулять и брала нас двоих с собой. Женщины в то время носили длинные платья со шлейфом. Мы, как два верных пажа, носили сзади ее шлейф. Руки был у нас заняты. Бегать и шалить было невозможно. И все наше внимание привлекали вывески магазинов, написанные на русском языке. На этих вывесках доморощенными живописцами были наивно изображены весьма незамысловатые предметы торговли. Все было нарисовано аляповато и примитивно. Но наше детское внимание было всецело поглощено этими вывесками. Рисунки на вывесках не отличались художественными формами…
И вот, прогуливаясь с мамой по городу, мы начали с ее помощью читать по складам эти вывески, а отсюда уже был один шаг к чтению начального учебника по русской грамоте, известного в то время под названием „Русская речь“, для детей младшего возраста… Вскоре в доме неожиданно появилась книга под названием „Чтец-декламатор“. Очевидно, тираж был очень большой, во всяком случае, у нас в Городе, у знакомых я часто встречал эту книгу… В то же время в доме появилась еще одна книга под названием „Энциклопедия“ издания Павленко. Книга была толстая, но удобная для чтения… Этот энциклопедический словарь был составлен умело и умно. И мы зачитывались обеими книгами. Для Соломона Михайловича „Чтец-декламатор“ и „Энциклопедия“ Павленко сыграли решающую роль. В „Чтеце-декламаторе“ было напечатано знаменитое стихотворение Брюсова „Каменщик“, прозвучавшее как протест против страдания политических заключенных, брошенных царским правительством в тюрьмы».
Надо ли говорить, что все это наложило отпечаток на человека, ставшего актером Соломоном Михоэлсом?
Не только хедеры существовали в Двинске — были также две еврейские ремесленные школы (для мальчиков и для девочек) и две общественные еврейские библиотеки. Большую часть жителей составляли бедные люди. В 1938 году, вспоминая о городе детства, Михоэлс писал: «Живя в латвийском городе Двинске, я был свидетелем разительной нищеты и убожества еврейского населения».
По данным из Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона, в 1897 году в Двинске и окрестностях проживало 32 400 евреев. Среди них купцов 1134 (из общего числа купцов 1370), крестьян 168, почетных граждан 113 (всего в городе 399). Многие евреи были заняты изготовлением одежды (около 5 тысяч). Фабрично-заводское производство в Двинске значительно уступало ремесленному, но на трех пуговичных фабриках работали в основном евреи.
Нищета миновала дом Вовси. У отца большой семьи домовладельца Михеля Мейеровича долго не было денежных забот. Головокружительные глубины Ветхого Завета, таинственные иносказания библейских притч, мистическая просветленность многих поколений мудрецов — толкователей Торы — вот что по-настоящему волновало душу Михеля Вовси. Своим детям он пытался привить доброжелательность не только к братьям по нации, но и ко всем людям вообще, ко всему живому.
Вот как вспоминал об отце Хаим Вовси: «Он был глубоко и искренне религиозен. Религиозные учения были для него миром прекрасных поэтических образов. При таком поэтическом восприятии религии уже не было места фанатизму… к середине 90-х годов прошлого (XIX. — М. Г.) столетия отец понял, что его дети должны строить свое будущее на знаниях светских наук, приобрести интеллигентные профессии…
Отец не был богатым человеком. К тому же он был обременен большой семьей. Ввиду этого ему пришлось пойти на большие жертвы, чтобы дать возможность детям получить светское образование… Все почти мальчики в семье, включая Михоэлса и меня, получили не только среднее, но и высшее образование, что в условиях царского режима было явлением совершенно исключительным».
И все же еще раз подчеркну, что Священное Писание всегда оставалось в доме Вовси важным элементом воспитания детей. Маленький Шлиома навсегда запомнил тишину, стоявшую в доме, когда отец на древнем языке читал Книгу Иова:
Растет ли тростник, где топи нет,
И встанет ли камыш, где нет воды?
Еще он свеж, не созрел для ножа,
Как вдруг сохнет прежде всех трав.
Вот участь тех, кто о Боге забыл,
И надежда отступника придет к концу.
На нити висит упование его.
(Пер. И. М. Дьяконова)
Михель Вовси хорошо знал историю своего народа, прекрасно пел еврейские народные песни, охотно затягивал хасидские песнопения; он был хорошим рассказчиком, и от него сыновья узнали немало романтических историй о библейских героях, о Бар-Кохбе, поднявшем народ на восстание против иноземных завоевателей; он любил стихи на библейские темы и часто читал детям «Газель» Байрона. Но чаще всего вспоминал мысль мудреца древности Шимона: «Мир стоит на трех основаниях — на Торе (ее изучение), на служении Богу и добрых делах». Но снова и снова возвращался отец к текстам Священного Писания, особенно часто — к Книге Иова:
Наг я вышел из чрева матери моей,
Наг и возвращусь.
Господь дал, Господь и взял,
Да будет имя Господне благословенно!
(Пер. И. М. Дьяконова)
Дни, когда дом Вовси посещали бродячие еврейские комедианты — пуримшпилеры, умевшие пересказывать библейские сказания языком театра, превращались в праздники. Особенно интересными были выступления бродячих артистов во время весеннего еврейского праздника Пурим. Комедианты-«пуримшпилеры» ходили из дома в дом и разыгрывали спектакли, посвященные легендарной Эсфири, которая спасла евреев древней Персии от жестокой расправы царедворца Амана. Дети обычно помогали представлению: при имени Амана они начинали вертеть трещотками и кричать изо всех сил, проявляя ненависть к человеку, пытавшемуся уничтожить еврейский народ. И, может быть, то, что составляло неповторимость Михоэлса-актера — выразительность жестов, умение без слов говорить о многом, — зарождалось именно в такие весенние дни.
Хороша была улица и детские игры на ней. Вместе со своими сверстниками Соломон и его братья придумывали клоунады, подобные тем, что они видели во время выступлений бродячих артистов. Отца пугала чрезмерная увлеченность сыновей пуримшпилерами; он настойчиво внушал детям свой религиозный опыт и правила, говорил о крайне отрицательном отношении Талмуда к театру. «Я родился и рос, — писал впоследствии Михоэлс, — в патриархально-набожной семье, где буквально всякое движение, каждый шаг сопровождались молитвой. Еще мой дед славился „хасидизмом“ — принадлежностью к ортодоксальной религиозной секте хасидов». Это несколько отстраненное, осторожное признание подобно ответу на вопрос о происхождении, так часто возникавший в советские времена. Вне сомнения, знаменитый актер до конца дней сберег сердечную связь с духовным наследием семьи, и хасидизм, со всеми его завораживающими легендами, преданиями, притчами, отпечатался в детском сознании и осенил весь жизненный путь Михоэлса.
Весь уклад дома Михеля Вовси, вся жизнь семьи определялись его глубокой приверженностью хасидскому учению. Это религиозное движение внутри иудаизма возникло в начале XVIII века и оказало значительное влияние на духовную жизнь евреев последующей эпохи. Основоположник хасидизма, «добрый чудотворец» Израиль бен Элизер (ок. 1700–1760), названный Баал Шем Товом (Владеющим Благим Именем Божьим), известен и по аббревиатуре БЕШТ. Он оставил ученикам не только многочисленные изречения (увы, не раз перетолкованные, искаженные в устной передаче), но и нетленное предание о прожитой им жизни.
В глуши Карпатских гор, между местечками Куты и Косов, Бешт прожил долгие годы, изучая каббалу в глубокой пещере над озером. Он копал глину в горах, затем эту глину продавала в городе его жена и как-то сводила концы с концами, а сам отшельник питался только пресным хлебом. В одиночестве и созерцании были произнесены слова основной формулы учения Бешта: «Вся земля полна Богом!» Бедный до такой степени, что «пальцы ног торчали у него из дырявых сапог», носивший, как галицийские крестьяне, короткий овчинный полушубок, всегда куривший «трубку Довбуша» (подаренную ему этим благородным разбойником), мудрец был прост, снисходителен и человеколюбив. Узнав свойства горных трав, он стал прославленным целителем. Но исцеляло прежде всего его слово, сообщавшее невероятные, казавшиеся законникам безумными, истины. Проповедь Бешта, да и все его поступки на деле звали к предельному самоограничению.
Прадед Михоэлса был учеником и последователем ребе Шнеурсона — одного из самых ученых евреев конца XVIII века, основателя литовско-белорусского, или рационального хасидизма.
Хасидизм — это не только вера, но еще и особый строй мышления — острый, парадоксальный, позволяющий смотреть на мир совершенно неожиданно, с разных точек зрения, и постичь скрытую сущность явлений. В доме Вовси, где звучали не только молитвы, сопровождаемые пением и танцами, но и притчи, изречения, рассказы о великих хасидах, такой стиль мышления усваивался естественно и глубоко. Вот почему, став взрослым человеком, Михоэлс так часто удивлял окружающих своим неожиданным восприятием обычных явлений.
Анастасия Павловна Потоцкая рассказывала, как Михоэлс, любуясь с Воробьевых гор залитой огнями Москвой, вдруг воскликнул: «Ну почему эту всю красоту видишь именно сверху?! Ведь там, внизу, это обычные будни. А отсюда — праздник! Только подумать: от будней до праздника — всего и надо, что самому приподняться!» Однажды Фаина Георгиевна Раневская сказала Михоэлсу: «Соломон Михайлович, в вас есть Бог», на что он ответил: «Если во мне и есть Бог, то он далеко в ссылке». Во всем этом столько хасидской мудрости и чудаковатости, что вспоминаются слова Исаака Бабеля: «В стройном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери… С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке веков истории».
Как известно последователям всех религий, вера движет горами. Но истинная вера — редкость… Вспомним здесь записанную Мартином Бубером хасидскую легенду: «Раввин Давид Лейкес, ученик Баал Шем Това, спросил хасидов своего зятя, равви Мотела из Чернобыля, вышедших встречать его, когда он пришел к ним в город: „Кто вы?“ Те ответили: „Мы — хасиды равви Мотела из Чернобыля“. Тогда равви Давид спросил: „Тверда ли ваша вера в учителя?“ Хасиды не ответили, ибо кто решится сказать, что вера его тверда. „Я расскажу вам, — сказал равви, — что такое вера. Однажды в субботу, как это не раз бывало, третья трапеза у Баал Шема затянулась до позднего вечера. Затем мы благословили трапезу стоя, сразу же прочли вечернюю молитву, совершили Хавдалу (молитву, произносимую над праздничным столом на исходе субботы) и сели за трапезу проводов субботы. Все мы были бедны, и не было у нас ни гроша, тем более в субботу. Однако когда после трапезы проводов субботы святой Баал Шем Тов сказал мне: „Давид, дай на медовый напиток“ — и я сунул руку в карман, хотя и знал, что там ничего нет, то нашел золотой, который и дал на медовый напиток“».
Михель Вовси всячески поощрял любовь сыновей к книгам, помня заповедь Талмуда: «Дыханьем детей, изучающих книгу, земля держится». Мать, услышав однажды, как маленький Шлиома сказал братьям: «Как хорошо, что у меня такой рост — я сумею сыграть роль Пипина Короткого!» — и, уловив в его словах горечь, вмешалась: «Сын мой, никогда больше не думай об этом. Ты невысокого роста, а ум у тебя очень высокий, и судьба тебя ждет высокая».
Многое внушили сыну родители, но одной добродетели — религиозного смирения — внушить будущему артисту они не смогли. По его собственным словам, верить в Бога он перестал в тринадцать лет (правда, сказал он об этом уже в советское время). Он разочаровался в религии, видя, что мольбы, искренние молитвы несчастных людей не доходят до Бога и нет им ни спасения, ни утешения. С такой по-детски страстной и непосредственной «претензии» к Богу начался путь мальчика в стремительно меняющуюся большую жизнь.
В начале XX века привычная для российских евреев духовная и культурная изолированность начала ослабевать; будоражащие идеи нового времени проникли и в замкнутую еврейскую среду. Молодежь приобщилась к революционному движению, политической борьбе. Преодоление вековой замкнутости, ломка казавшихся незыблемыми барьеров — основная примета этого переломного для России и ее еврейского населения времени. Вместе со становлением общественного сознания происходит и освоение новых культурных ценностей. В жизнь Соломона Вовси входит увлечение, определившее всю его будущую судьбу, — театр.
Михоэлс принадлежал, быть может, к последнему поколению жителей маленьких еврейских городков и поселений, для которых первым театральным впечатлением были не зрительный зал, занавес и актеры на сцене, а причудливо разодетые и размалеванные на манер ряженых люди, которые ходили по праздникам от дома к дому. «Я застал еще в городе мистерии. Сапожники и хлебопеки надевали бумажные костюмы и колпаки, брали в руки фонарь, деревянные мечи и ходили вечерами по домам, представляя смерть Артаксеркса», — вспоминает в автобиографии Ю. Н. Тынянов, родившийся, как он пишет, «часах в шести от мест рождения Михоэлса и Шагала». В автобиографии самого Михоэлса (написанной в 1928 году) об этом говорится так: «Интерес к театру обнаружил в раннем детстве, неизгладимое впечатление оставили пуримшпилеры, посещавшие наш дом ежегодно во время праздника Пурим… Захватывала театрально-обрядовая сторона еврейских праздников. В раннем детстве видел еще один из спектаклей еврейской труппы Фишзона. Ставили „Колдунью“. Спектакль произвел огромное, неизгладимое впечатление… До пятнадцати лет иных театральных впечатлений не имел».
Позволю себе небольшое «нелирическое» отступление.
Отроческие игры… В одной новелле Борхеса изображен великий ученый Средневековья Аверроэс, где-то в мусульманской Испании наблюдавший за игрой копошащихся в грязи детей. Это пытливое созерцание пересекается с мыслью об Аристотеле, некогда исследовавшем происхождение театра, родившегося, быть может, из подобной игры. Но понять древнего грека средневековый араб не в силах. Все-таки есть прозрачная, но непреодолимая граница между цивилизациями. Идея театра чужда миру классического ислама. Между тем еврейский театр имеет свою давнюю историю. Конечно, ортодоксальным иудеям чужды были и Еврипид, и Аристофан; источником и незыблемой основой еврейской культуры всегда было и осталось Писание. Но еврейские актеры и еврейские зрители не могли не ведать общечеловеческих чувств и страстей. Эти страсти вечны, эти глубокие чувства, в общем, просты. И вновь вспоминаются слова гениального и дерзновенного провидца Фридриха Ницше: «Там, где дионисические силы так неистово вздымаются, как мы это видим теперь в жизни, там уже, наверное, и Аполлон снизошел к нам, скрытый в облаке; и грядущее поколение, конечно, увидит воздействие красоты его во всей его роскоши».
Строгому и рассудительному отцу не по душе были увлечения сыновей «клоунскими штуками». Он приводил слова пророка Иеремии: «Я никогда не сидел в кругу веселящихся людей и не радовался», настойчиво напоминал одну из заповедей, высеченных Моисеем на скрижалях Завета: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». И все же, и все же… В Двинске был профессиональный русский театр, основанный антрепренером Медведевым, и в труппу этого театра поступил — наперекор всем правилам и невзирая на страшный семейный скандал — старший брат Шлиомы — Лев. Отец проклял его и выгнал из дому. Это событие долгое время было главной темой разговоров в семье; родственники шептались друг с другом, осуждали и жалели «грешника». Тем временем в душе младшего сына шла напряженная духовная работа. И вот в день своего рождения, 16 марта 1899 года, Шлиома Вовси пригласил всех родственников и друзей на спектакль «Грехи молодости», где он был и автором пьесы, и режиссером, и единственным исполнителем.
Сам Михоэлс никогда об этом спектакле не вспоминал и не рассказывал, но память о нем сохранили «зрители», которых так поразил в тот вечер девятилетний именинник… В первой сцене герой пьесы был еще мальчиком. Шлиома здесь играл самого себя: детская одежда, широкое лицо с характерным, как бы «перешибленным», носом, высокий крутой лоб. Густые черные волосы, необыкновенной силы печально лучащиеся глаза… Ребенок говорит о том, как прекрасна весна, о том, что на улице солнце, праздник Пурим, что ему хочется быть там, играть в веселые игры, а родители заставляют сидеть дома и изучать Тору. Постепенно впадая в отчаяние, он с яростью разбрасывает лежащие перед ним книги и тетради. В следующей сцене перед зрителями уже юноша — веселый, свободный. На нем длинные брюки и светлая сорочка. Прогуливаясь по улицам, он насвистывает, шутит с воображаемыми друзьями, но радость эта внезапно обрывается строгим зовом родителей, и юноша возвращается домой. Все это Шлиома искусно изображал с помощью жестов, мимики, модуляций голоса, заменяя отсутствующих партнеров. Далее происходят взросление и грехопадение «блудного сына». Вот он в праздничном костюме, в шляпе, с модным зонтом кутит с друзьями; беседы с ними завершаются плясками и пением веселых песен, не похожих на хасидские песнопения… И вдруг — полное перевоплощение: усталый, сгорбившийся «блудный сын» сидит за «столом», шляпа и зонт валяются на полу. Он произносит монолог, полный раскаяния и сожаления, объясняя все свершившееся «грехами молодости». Это была первая актерская и режиссерская удача Соломона Вовси — он заставил зрителей волноваться и переживать, смеяться и утирать слезы, и долго еще сидели они, потрясенные его игрой.
Быстро проходили праздники, еще быстрее пробегали счастливые часы игр на улице. Но, возвращаясь домой, дети продолжали изучать Тору. Отец по-прежнему внушал им мысль Гиллеля-старшего: необходимо изучать все Священное Писание, но помнить следует суть Торы: «Не делай ближнему того, чего себе не желаешь»; все остальное есть лишь толкование этой мысли, и ничему новому не научит даже меламед. Отец следил, чтобы сыновья исправно посещали хедер, который, как уже говорилось, в Двинске отличался от таких же учебных заведений в черте оседлости — здесь изучали русский язык и литературу. Именно в хедере Шлиома впервые услышал и полюбил стихи Пушкина, Лермонтова, Крылова. Он даже читал «Анчара» Пушкина и «Ангела» Лермонтова на вечерах в русской гимназии, гостями которой бывали ученики хедера.
С конца XIX века в Двинске существовал русский театр. Не только местные артисты, но и гастролеры выступали на его сцене. Именно здесь Михоэлс впервые увидел трагедию Шиллера «Мария Стюарт» с Горевой в главной роли и шекспировского «Гамлета» в исполнении известного в ту пору трагика Власова. Забегая вперед, заметим, что в 30-е годы Власов жил в Москве и часто ходил на спектакли ГОСЕТа. Мне рассказывали, что почти после каждой постановки «Короля Лира» он в своем неизменном наряде — черном коротком сюртуке и черном галстуке, вывязанном в виде банта, — являлся за кулисы к Михоэлсу, не скрывая своего возмущения: «Неужели вы не понимаете, что вам нельзя играть Лира?! Ведь Лир — это камея страданий, а у вас — ни камеи, ни страданий. Ваш щупленький, безбородый Лир даже не напоминает могущественного громовержца и великого страдальца. Играйте лучше героев Шолом-Алейхема, а не Шекспира!»
Но вернемся в Двинск начала прошлого века. Годы эти оказались непростыми для живших в городе евреев. Хотя они составляли большинство не только среди мелких кустарей и торгашей — много евреев было среди рабочих и интеллигентов, — погромы случались и здесь, и в конце концов в городе были созданы отряды самообороны. Но жизнь продолжалась. В марте 1903 года в дом Вовси пришел большой праздник — младшие сыновья Михеля Вовси отмечали Бар Мицву — день, когда подросток становился полноправным членом еврейской общины; у мальчиков это происходит в тринадцать лет. Погруженный в изучение Торы, Михель Вовси, казалось, не замечал, как быстро взрослеют дети. За молитвами он проглядел экономический и политический кризис, охвативший Россию в канун 1905 года. Тем неожиданнее был удар. Познав горечь разорения, семья Вовси переехала в Ригу, где в то время уже учились старшие сыновья.
В конце XIX — начале XX века Рига справедливо считалась одним из центров еврейской культуры. Здесь проживало около 25 тысяч евреев, многие из них были людьми «либеральных» профессий (адвокаты, врачи). Во главе еврейских обществ стояло отделение Общества распространения просвещения среди евреев, которое содержало не только еврейские школы и училища, но и библиотеку, и публичную читальню (около семи тысяч томов), финансировало деятельность комиссии для собирания архивных документов по истории евреев Прибалтики. В городе издавались еврейские газеты, ставились спектакли на еврейском языке.
В Риге жила близкая им семья Канторов, на поддержку которой рассчитывал Михель Вовси. Старшие сыновья прежде уже бывали в этом интеллигентном доме. Глава семьи Иегуда-Лейб Кантор — писатель, раввин, человек, имевший большой авторитет среди интеллигенции. Под влиянием своих образованных родителей он рано почувствовал влечение к светской еврейской литературе, хотя юношей считался примерным талмудистом. Получив религиозное образование, Иегуда Кантор отправился в Берлин изучать медицину. В 1874 году он написал стихотворение «Голос молодежи» — первый в еврейской литературе отголосок радикальных течений русской общественной мысли того времени. Он был берлинским корреспондентом русскоязычной еврейской газеты «Голос Москвы». Получив в 1879 году степень доктора медицины, Кантор переехал в Петербург, где работал вместе с доктором Гельмгольцем и одновременно был редактором газеты «Русский еврей». Основной целью своей жизни Иегуда Кантор считал распространение образования среди русского еврейства. Он стал первым редактором еврейского журнала в России, выпускаемого на русском языке. Среди сотрудников журнала были доктор Кацнельсон — видный журналист и ученый, один из редакторов Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона; известный поэт Яков Фруг. В доме Канторов Михоэлс познакомился со своей будущей женой — Саррой Иегудовной (Львовной) Кантор.
Революционные события 1905–1907 годов не оставили равнодушным ученика Рижского реального училища Соломона Вовси. В конце 1905 года он был избран в общегородской ученический комитет. Он выступал на митингах и собраниях, где читал поэму Бялика «Сказание о погроме» и с Удивительной, пронзающей силой передавал собравшимся страшную картину:
И все мертво кругом, и только на стропилах
Живой паук: он был, когда свершалось то, —
Спроси, и проплывут перед тобой картины:
Набитый пухом их распоротой перины
Распоротый живот — и гвоздь в ноздре живой;
С пробитым теменем повешенные люди;
Зарезанная мать и с ней, к остылой груди
Прильнувший губками, ребенок; — и другой,
Другой, разорванный с последним криком «мама!» —
И вот он — он глядит недвижно, молча, прямо
В Мои глаза и ждет отчета от Меня…
Слова трагического финала поэмы, исполненные негодования и сожаления, звучали в его исполнении страстным призывом к борьбе:
…И рви себя, горя бессильным гневом,
За волосы, и плачь, и зверем вой, —
И вьюга скроет вопль безумный твой
Своим насмешливым напевом…
(Пер. Вл. Жаботинского)
Из воспоминаний современников и самого Михоэлса известно, что он принимал участие в политических кружках, изучал прогрессивную литературу. «В промежутке 1905–1918 годов, — пишет Михоэлс в автобиографии, — я занимался педагогической деятельностью, читал на общеобразовательных курсах лекции по теории и истории литературы, по математике. Параллельно занимался еврейской партийной работой, изучал вопросы еврейской культуры и общественности». Мысли о настоящем и будущем своего народа, о национальной культуре не оставляли молодого Михоэлса. В те годы его любимым стихотворением было «Песок и звезды» Фруга:
Когда же исполнится, Господи Праведный, вещее слово?
Воззри на народ твой: в неволе, в бессилье, в нужде.
Песком мы давно уже стали средь мира земного
И топчет ногами нас всякий прохожий везде…
Здесь же, в Риге, Михоэлс впервые увидел игру выдающейся еврейской актрисы Эстер-Рахель Каминской. Этой актрисе был по силам любой жанр, начинала она с опереточных ролей, но постепенно репертуар ее обогащался. Она играла не только в пьесах еврейских авторов, но и в «Норе» Ибсена, «На дне» Горького. Ее игрой восторгались Станиславский, Москвин, Качалов. Возможно, впечатления от ее игры многое определили в жизни молодого Соломона Вовси. Позднее, вспоминая знаменитую актрису, он писал: «Уже тогда я мечтал стать актером. Но эти мечтания упрятал глубоко — я считал, что не обладаю достаточными способностями, чтобы посвятить себя актерской деятельности. Кроме того, мои родители отнеслись бы к подобному решению отрицательно: в среде, к которой принадлежала моя семья, профессия актера считалась зазорной. Если в столице небольшая часть актеров иногда проникала в другие слои общества, то в провинции, и особенно в еврейской среде, к ним относились отрицательно и никогда их не принимали. Я начал серьезно готовиться к совершенно другой профессии — меня очень тогда интересовала политическая адвокатура. Я воображал себя юристом, с героическими усилиями защищающим какого-то человека — обязательно революционера — и добивающимся его освобождения из-под стражи».
Убедив себя в том, что и юристу нужна актерская подготовка, Соломон Вовси берет уроки дикции у актера Велижева, впоследствии работавшего в Театре Мейерхольда. «Велижев много дал мне в смысле постановки голоса и дикции, но заявил, что актера из меня не выйдет, так как у меня нет для этого достаточных данных», — вспоминал Михоэлс.
И хотя профессия актера была для него тогда «лишь грезой», молодой Вовси не отказывался от возможности выступать на сцене. Вот что рассказывает об этом времени М. Воркель, руководитель драматического кружка, который посещал юный Вовси: «Довоенная Рига… Кружок любителей драматического искусства — кружок, в котором принимают участие передовые рабочие, учащаяся молодежь. Юный Михоэлс, тогда ученик реального училища, часто выступает на наших вечерах. Он читает стихи современных поэтов, увлекается новыми идеями преобразования театра. Помню, в один из этих вечеров известный художник Гартман сказал мне: „Да, этот Вовси должен ехать в Берлин учиться — из него выйдет первоклассный актер“. Мне вспоминается еще один вечер, устроенный в пользу еврейской народной столовой в Дубелтах. Из всех театральных выступлений особый интерес вызвало исполнение Вовси одного из произведений Шолом-Алейхема. Те, кто видел Михоэлса в молодые годы на сцене, мог предположить, что маленький Вовси станет одним из крупнейших актеров современности» (Советское искусство. 1935. 11 августа).
Огромное влияние на формирование личности будущего актера, как и прежде, оказывала атмосфера дома Иегуды Кантора. Двери гостеприимного дома этого просвещенного раввина всегда были открыты для молодых людей, интересовавшихся историей еврейства, русской и мировой культурой. Здесь говорили о новых произведениях Переца, Шолом-Алейхема; не менее горячо, чем еврейская классика, обсуждались сочинения Толстого, Чехова, Горького. На литературных вечерах в доме Кантора Шлиома Вовси читал стихи Бялика, Фруга, Пушкина, Крылова. Спустя много лет посетители этих вечеров вспоминали, с какой удивительной проникновенностью читал Михоэлс стихотворение Надсона:
Я рос тебе чужим, отверженный народ,
И не тебе я пел в минуты вдохновенья.
Твоих преданий мир, твоей печали гнет
Мне чужд, как и твои ученья.
И если б ты, как встарь, был счастлив и силен,
И если б не был ты унижен целым светом,
— Иным стремлением согрет и увлечен,
Я б не пришел к тебе с приветом.
Но в наши дни, когда под бременем скорбей
Ты гнешь чело свое и тщетно ждешь спасенья,
В те дни, когда одно название «еврей»
В устах толпы звучит как символ отверженья,
Когда твои враги, как стая жадных псов,
На части рвут тебя, ругаясь над тобою,
— Дай скромно стать и мне в ряды твоих бойцов,
Народ, обиженный судьбою!
В 1908 году Михоэлс окончил Рижское реальное училище. Он попытался поступить в Петербургский университет, но «процентная норма» не позволила ему осуществить это намерение. Тогда он поехал в Киев и поступил в Киевский коммерческий институт — единственное высшее учебное заведение, куда в те годы был открыт путь для еврейской молодежи. Знавшие Михоэлса люди отмечали: в этом коммерческом институте не было человека более чуждого коммерции, чем Вовси… Впрочем, известна его фраза: «Человек рождается богатым или бедным». Богатство это — отнюдь не деньги.
У студента Вовси был широкий круг интересов. Со свойственным ему упорством он занимался юридическими науками, высшей математикой, изучал с большим увлечением философию, русскую и западноевропейскую литературу. Именно в это время определился круг любимых писателей: Шекспир, Гоголь, Шолом-Алейхем, Перец. Увлеченность занятиями нисколько не умеряла жгучего интереса к окружающей жизни. Михоэлса влекло в самую ее гущу. Поговаривали, что он участвовал в студенческих волнениях 1911 года, приуроченных к годовщине смерти Льва Толстого, в результате — в числе многих других был исключен из института.
Однако имя Михоэлса в списках студентов вузов Российской империи, исключенных по этой причине, в документах Киевского охранного отделения, хранящихся в Центральном государственном архиве Украины, отсутствует.
Болезненным был в ту пору в России еврейский вопрос. Впрочем, когда этот «проклятый вопрос» не был болезненным?
«Трудно быть евреем» — это первая фраза из современного учебника иврита. Михоэлс рано осознал свое еврейство и все то роковое, что связано с кровной причастностью к народу, о прошлом, да и настоящем коего Генрих Гейне писал: «История еврейства прекрасна, однако современные евреи вредят древним, которых можно было бы поставить гораздо выше греков и римлян. Мне думается, если бы евреев не стало и если бы кто-нибудь узнал, что где-то находится экземпляр представителей этого народа, он бы пропутешествовал хоть сотню часов, чтобы увидеть его и пожать ему руку — а теперь нас избегают!.. История современных евреев трагична, но вздумай кто-нибудь написать об этой трагедии, его еще осмеют. Это трагичнее всего».
Едва развеялся мрак Средневековья и погасли в Европе костры инквизиции, евреи ощутили первое, еще слабое, но все крепнущее веяние антисемитизма нового образца — не религиозного, но бытового. Это веяние, ветерок в конце XIX века стал превращаться в бурю. Реакционеры, милитаристы и шовинисты, затеявшие во Франции знаменитое «дело Дрейфуса», отнюдь не были ни романтиками, ни идеалистами. Сторонниками военной диктатуры двигал расчет на то, что народные массы удастся одурачить… В Риге, в доме Кантора, велись нескончаемые разговоры об этом процессе, обо всех его перипетиях, завершившихся победой прогрессивных сил: в 1906 году Дрейфус был полностью оправдан.
В 1913-м Михоэлс стал очевидцем подобной провокации: именно в Киеве было сфабриковано «дело Бейлиса», всколыхнувшее всю Россию. Менахиму Бейлису было предъявлено обвинение в убийстве мальчика-христианина Андрея Ющинского, причем убийстве якобы ритуальном, то есть продиктованном требованиями иудейской религии. Эта грандиозная провокация могла привести к тяжелым последствиям для российских евреев. Играя на доверчивости и непросвещенности простых людей, черносотенцы распространяли дикие измышления об их кровожадности и зловредности. Вот что писала в эти дни петербургская газета «Русское знамя»: «Правительство обязано признать евреев народом, столь же опасным для жизни человечества, сколь опасны волки, скорпионы, гадюки, пауки ядовитые и прочая тварь, подлежащая истреблению за свое хищническое отношение к людям, и уничтожение которых поощряется законом… Жидов надо поставить искусственно в такие условия, чтобы они постоянно вымирали: вот в чем состоит ныне обязанность правительства и лучших людей страны». Но реакционеры и черносотенцы тщетно взывали к «лучшим людям страны». Среди тех, кто по праву носил это звание, никто не поддержал черную сотню. Напротив, очевидная ложность и абсурдность обвинения вызвали бурный всеобщий протест. Виднейшие представители научной и художественной интеллигенции безоговорочно встали на защиту невинного человека. Среди защитников Бейлиса были видные русские писатели: Горький, Короленко, Куприн, Андреев, Блок, многие известные ученые, деятели культуры. Сколько ни старались обвинители посеять ненависть к инородцам и иноверцам, пытаясь натравить массы на евреев, им не удалось приглушить присущее народу чувство справедливости. Доказательством этому стал оправдательный приговор Бейлису, вынесенный двенадцатью присяжными, среди которых десять принадлежали к крестьянскому сословию. «Дело Бейлиса» завершилось победой разума над ложью, торжеством гуманных идей и разоблачением мракобесия. Эта моральная победа сплотила евреев России, пробудила их национальные чувства, вызвала жгучий интерес к истории еврейского народа, его культуре и самобытности.
Но эти страшные дни не прошли бесследно, не каждый сумел пережить травлю, глумление, наветы. Михоэлс впоследствии рассказывал о двух лишившихся рассудка евреях. Их знал и жалел весь Киев. Один громко проклинал иудаизм и порывался провозглашать новую веру с амвона Софийского собора; другой бродил по улицам и рынкам города и, раздирая на себе одежду, заявлял: «Братья православные, это я убил бедного Андрюшу!»
Следивший, как и сотни тысяч русских евреев, за судом над Бейлисом, Соломон Вовси все более склонялся к тому, чтобы избрать профессию адвоката, что могло дать ему не только средства к существованию, но и позволило бы приносить пользу людям. Молодой человек внял советам отца: «Есть только две профессии, достойные еврейского человека, знающего русский язык, — это профессии врача и юриста. Доктор и присяжный поверенный спасают людей, а что может быть лучше этого занятия? Я хотел бы, чтобы мой Соломон приносил пользу людям…»
Человек, произнесший эти слова, — Михель Мейерович Вовси — преданный еврейский отец девяти детей — умер в 1911 году. Семья осталась на попечении матери Басшевы Хаимовны.
Прошло время писаний на досуге;
всего себя подай людям —
вот что теперь надо в искусстве!
Братья и сестры Шлиомы Вовси продолжали жить в Риге. Старший брат Михоэлса Моисей (Иоссель-Мовша Михелевич) в 1911 году успешно закончил Рижский политехнический институт. Получив звание кандидата коммерции первого разряда и право поступления на государственную службу на штатную должность, в том же году уехал в Петербург и остался там жить и работать.
По традиции, как рассказывал мне Евсей Михайлович, брат-близнец Соломона, вся семья собиралась на Пасху в родительском доме. Весной 1913 года приехал в родительский дом и Моисей и — неожиданно для всех — из Киева приехал Шлиома. Взволновавшаяся мама бросилась навстречу: «Что случилось, Шлиома? Неужели ты снова пошел на митинг с этими революционерами, и тебя, не дай Бог, опять исключили из института? Я не хочу слышать такую новость! Мое сердце не выдержит!» Спокойный и степенный Моисей, обращаясь к маме, сказал: «Еще при жизни отца я договорился с ним, что Шлиома поедет в Петербург. Я помогу ему на первых порах. Сделаю все, чтобы мечта отца осуществилась — Шлиома станет адвокатом. Знаменитым не только в Риге и Двинске, но и в других городах». Сказал и подмигнул Шлиоме.
И еще об отце Шлиомы. В нем всю жизнь жили хасидская мудрость и рассудительность. И огромное желание наслаждаться праведностью и счастьем этой жизни на этой земле. Евсей Михайлович Вовси, брат-близнец Михоэлса, говорил мне: «Отец замечательно знал Тору, Талмуд, знал десятки, сотни хасидских притч, легенд, преданий. Когда кто-то из нас пребывал в угнетенном состоянии, он пересказывал слова Баал Шема: „Если я люблю Бога, зачем мне грядущий мир?! Если Бог любит меня, пусть даст мне счастье и покой на земле“».
Летом 1913 года Михоэлс приехал в Петербург, но, как и все люди его племени, прежде чем стать студентом, побывал «швейцарским подданным». Так называли себя евреи, нелегально проживавшие в Петербурге, — в основном студенты, тайно снимавшие квартиры и платившие дворнику, а чаще всего — швейцару за то, чтобы жить в столице без дозволения полиции. Таких молодых людей было немало даже в тех частных высших учебных заведениях, где не было процентной нормы (Институт высших коммерческих знаний Санкт-Петербургского купеческого общества, Психоневрологический институт), евреи получали право жительства вне черты оседлости только после сдачи государственных экзаменов, то есть после окончания курса обучения. Новый «швейцарский подданный» брал уроки у преподавателей, готовясь к поступлению в университет, и сам занимался репетиторством (отметим — педагогом уже в ту пору он был замечательным).
Рассказы людей, с которыми общался Михоэлс, воссоздают его облик с удивительной отчетливостью. «Я познакомился с Вовси зимой 1914 года в Петербурге, который только что стал Петроградом, — вспоминает журналист О. С. Литовский. — Вот он стоит передо мной — студент в примятой форменной фуражке и штатском пальто, пожалуй, только пледа не хватало для того, чтобы он походил на человека шестидесятых годов. Вовси появлялся довольно часто в квартирах, где давались импровизированные концерты, сбор от которых шел в пользу политического Красного Креста… Я не мог часто бывать на этих концертах, — продолжает Литовский, — потому что мне приходилось думать о ночлеге до часа закрытия дворов и подъездов. Я был „швейцарским подданным…“»
Соломон Вовси часто выступал в этих импровизированных концертах. Он читал стихи Пушкина, Лермонтова; но, пожалуй, наибольшим успехом пользовались в его исполнении басни Крылова, произносимые нараспев, со стилизованным еврейским акцентом. Каждая басня сопровождалась замечательной жестикуляцией и забавным пением.
Концерты давали удовлетворение, но не приносили денег. Чем только не занимался в те годы Соломон Вовси, чтобы заработать на существование и оплату за учебу! Он был и репетитором, и агентом по страхованию жизни; правда, последняя работа была менее успешной, чем репетиторство: в течение полугода Михоэлс сумел застраховать всего трех клиентов — своих знакомых.
Однако это была хорошая репетиция для будущей роли Менахема-Менделя в спектакле и фильме по рассказу Шолом-Алейхема.
Вот как вспоминает о жизни в Петербурге в тот же период Марк Шагал: «Снять комнату было мне не по карману. Приходилось довольствоваться углами. Даже своей кровати у меня не было. Я делил постель с одним мастеровым… Я лежал спиной к нему, лицом к окну и вдыхал свежий воздух… Однажды, когда я возвращался после каникул в Петербург без пропуска, меня арестовал сам урядник. Паспортный начальник ждал взятку, но, не получив ее (я просто не понял, что надо делать), накинулся на меня с бранью и позвал подчиненных: „Эй, сюда, арестуйте вот этого… он въехал в столицу без разрешения…“»
И все же и Михоэлс, и Шагал в той петербургской жизни познали немало по-настоящему интересного. Петербург перед Первой мировой войной… Петербург, еще не ставший Петроградом! Так много интересных свидетельств оставили о нем поэты, писатели, художники. Художник Николай Кузьмин писал:
«Петербург! Мы вышли из вокзала на площадь. Лицом к вокзалу на тяжелом постаменте высился грузный бородатый царь верхом на битюге… У памятника — часовой с большой бородой, в черной шинели и высокой шапке наполеоновских времен. Вокруг памятника звенели трамваи, табуны извозчиков сновали по площади…
Прохожие, трамваи, извозчики… И вывески, вывески, много вывесок, больших и малых:
Таким был Петербург незадолго до того, как стал Петроградом.
1 августа 1914 года началась Первая мировая война. Вскоре Петербург стал Петроградом. Но поступать в университет в 1914 году Михоэлс не осмелился: витали слухи о возможном выселении евреев из Прибалтики: царский режим подозревал их в лояльности Германии. Слухи эти, разумеется, дошли до Петербурга, и Шлиома, опасаясь, что такое может произойти, решил в такие времена быть рядом с мамой. Впрочем, это были не только слухи. Вот несколько строк из автобиографии Вениамина Зускина — он жил до Первой мировой войны в Литве, в Поневеже: «Третьего июля 1915 года главнокомандующий великий князь Николай Николаевич издал приказ о выселении всего еврейского населения из прифронтовой полосы. Почти все жители нашего Поневежа должны были оставить пределы города. На сборы дано несколько часов, а мы под градом и дождем ждали несколько суток около вокзала. Там люди и рожали, и умирали».
В начале августа 1914 года Соломон Вовси уезжает в Ригу, но вскоре снова возвращается в Петроград.
Заметим, что в то время Петербург-Петроград, несмотря на сравнительно небольшую численность еврейского населения, стал едва ли не главным центром еврейской культуры в Российской империи. Там издавалась газета «Дер фрайнд» («Друг»), а с 1912 года выходил один из первых толстых журналов на идиш «Ди идише велт» («Еврейский мир»). Многие евреи приумножали славу русской культуры: художник Л. Бакст, поэты О. Мандельштам и Б. Лившиц, скрипачи Л. Ауэр и Г. Венявский. Процветало крупнейшее книжное издательство Брокгауза и Ефрона, обогатившее русскую культуру многими уникальными изданиями. Кстати, «Еврейская энциклопедия», изданная на русском языке в шестнадцати томах, до сих пор не потерявшая своей исторической ценности, была выпущена этим издательством. В работе редакции «Еврейской энциклопедии» и журнала «Русский еврей» активно участвовал Иегуда Кантор, будущий тесть Михоэлса. Когда началась война, в Петрограде был создан Еврейский комитет помощи жертвам войны. В ноябре 1914 года в столице был проведен нелегальный съезд представителей еврейских общин России. В Петрограде же, правда значительно позже, проходили благотворительные концерты в пользу фонда образования театра в Палестине. В них принимали участие и выдающиеся артисты. Об одном таком концерте, на котором выступил великий Шаляпин, рассказывал известный дирижер М. М. Голинкин: «…Евреи, тщательно скрывавшие свою принадлежность к нашему народу, вдруг появились на этом сенсационном концерте. Важное значение имел он и для еврейской песни. Шаляпин в этом концерте пел народные еврейские песни на идише и „А-тикву“ на иврите („А-тикве“ — „Надежда“ — сионистский гимн, ставший государственным гимном Израиля. — М. Г.)… Материальный успех концерта был блестящим… Затем был устроен буфет, в котором жена Шаляпина, Мария Валентиновна, окруженная цветом еврейских дам Петербурга, торговала, а детки Шаляпина бегали по кулуарам и продавали букеты цветов, перевязанные лентами, украшенными магендавидами…» И далее М. М. Голинкин пишет: «Шаляпин в этом концерте дал право гражданства еврейской песне и обоим еврейским языкам на русской эстраде. Шаляпин глубоко верил в осуществление идеала возвращения еврейского народа в Палестину».
Соломон Вовси продолжал готовиться к поступлению в столичный университет — готовиться добросовестно, серьезно и в августе 1915 года стал наконец студентом юридического факультета уже не Петербургского, но Петроградского университета.
Как складывалась жизнь студента еврейской национальности в те времена? Об этом красноречиво свидетельствуют сохранившиеся документы. Вот некоторые из них:
Квитанция об оплате тоже дает некоторое представление о студенческой жизни (этого рода документы повторяются из семестра в семестр):
Еще один выразительный документ:
Сохранилось немало документов о пребывании Соломона Вовси в университете. Большинство из них свидетельствует о том, что учился он прилежно и добросовестно. Вот отрывок из воспоминаний Николая Никитина, сокурсника Вовси по университету: «Я помню его еще студентом университета. Мы вместе учились. Наш длиннейший коридор, около 3/4 километра! В одном конце его дверь к декану, в другом — дверь в университетскую библиотеку, левая сторона — широкие окна, за ними старые липы, правая — двери аудиторий. Кудрявый студент с книгами под мышкой мчится, точно глиссер. Мне кажется, что вокруг него ветер. Интересы его необозримы. Он изучает все — математику, римское право, историю литературы, экономические науки. Он влюблен в сцену! Часто его можно увидеть на галерке Александринского театра, где подвизаются корифеи русского драматического искусства — Давыдов, Варламов и Савина. Он сам играет по вечерам в любительских еврейских спектаклях. В университете волнения. 1917 год… Михоэлс, конечно, не может стоять в стороне от жизни. Но он не политик. Он из той породы людей, которые живут и дышат проблемами культуры. Студент бросает все, уходит в массы, организует для рабочих лекции, сам выступает каждый день, как лектор пользуется огромной популярностью… Но годы идут. Надо заниматься чем-то основным, „надо выбирать жребий“, и Михоэлс становится одним из основателей Еврейского камерного театра». Свидетельства Н. Никитина, безусловно, любопытны, но если следовать им, — то уж очень все скоропалительно: прилежный студент-революционер — основатель еврейского театра! Во всяком случае 4 октября 1918 года Михоэлс еще был не только Вовси, но и студентом университета, о чем свидетельствует документ № 3699, который воспроизвожу ниже. Небезынтересно, что в угловом штампе этого документа вычеркнуто слово «Императорскаго», уже без «I», но еще с «-аго» в окончании.
В документе этом, столь незатейливом, так во многом отражено время, точнее — безвременье перемен. Слово «Императорский» вычеркнуто дважды — крепка была власть большевиков спустя неполный год после ее захвата. Проректор А. Иванов, состоявший на этой должности еще при старом режиме, составил документ на старом бланке с тщательным соблюдением новой орфографии при его заполнении.
Беспощадно быстро рушился старый мир. Многим позже, в своих мемуарах «Курсив мой» Нина Николаевна Берберова напишет: «Я росла в России в те годы, когда сомнений в том, что старый мир так или иначе будет разрушен, не было и никто всерьез не дрался за старые принципы — во всяком случае в той среде, в которой я росла. В России 1912–1916 годов все трещало, все на наших глазах начало сквозить, как истрепанная ветошь. Протест был нашим воздухом и первым моим реальным чувством».
Если так размышляла молодежь из богатых семей, нетрудно себе представить, каким было настроение выходцев из черты оседлости и отдаленных национальных окраин империи. В той страшной стихии, которая завершилась явлением, названным большевиками Великой Октябрьской социалистической революцией, была какая-то судьбоносная неизбежность. В поэзии это зафиксировал Мандельштам:
Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы
И ощетинился убийца-броневик,
И пулеметчик низколобый, —
— Керенского распять! — потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала:
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
И сердце биться перестало…
Даже Горький, не особенно симпатизировавший большевикам, писал в своих «Несвоевременных мыслях»: «Но нам не следует забывать, что все мы — люди вчерашнего дня и что великое дело возрождения страны в руках людей, воспитанных тяжкими впечатлениями прошлого в духе недоверия друг к другу, неуважения к ближнему и уродливого эгоизма». Правда, через несколько страниц великий пролетарский писатель, как бы опомнившись, написал: «Революция низвергла монархию, так! Но, может быть, это значит, что революция только вогнала накожную болезнь внутрь организма. Отнюдь не следует думать, что революция духовно излечила и обогатила Россию…» И далее совсем неожиданное «резюме»: «Мы должны дружно взяться за работу всестороннего развития культуры, — революция разрушила преграды на путях к свободному творчеству…»
Писатель Дон Аминадо (Аминадав Пейсахович Шполянский) оказался в своих рассуждениях более точным, чем Алексей Максимович. Вспоминая год восемнадцатый (он жил тогда еще в Москве), он писал: «Пульс страны бился на Лубянке… Двустволки заговорили ясным языком. Стрельба в цель стала бытовым явлением»… И еще об этом позже напишет Осип Мандельштам: «Кто может знать при слове расставанье, какая нам разлука предстоит…» Действительно, может быть, и хватит — очень увлекательная тема… Но снова-таки из Дон Аминадо: «Каждый пошел в свою сторону» — евреев до революции было больше среди кадетов, чем среди большевиков, но, уловив и разумом, и чутьем, что маргиналы с удачным самоназванием «большевики» идут на все, вчерашние обездоленные ремесленники, бедняки (впрочем, нечто подобное произошло в империи и с другими национальными меньшинствами, только про евреев больше известно) пошли сражаться «за дело революции».
Евреям в России воистину нечего было терять… Вот несколько цитат из Ленина: «Ненависть царизма направлялась в особенности против евреев»; «…царизм умел отлично использовать гнуснейшие предрассудки самых невежественных слоев населения против евреев». Не это ли явилось причиной того, что именно Россия стала родиной плеяды не только выдающихся, но и самых остро-социальных еврейских писателей — создателей литературы на идиш (Менделе Мойхер-Сфорим, Ицхок-Цеб Лейбуш Перец, Шолом-Алейхем, Шолом Аш), чье творчество, несомненно, способствовало пробуждению умов, воскрешению духа обитателей «черты оседлости»?
Революционные события в России конца XIX — начала XX века значительно изменили вековую психологию евреев. Многие из них поняли, что бороться за счастье нужно в «этой» жизни, в «этом» мире, в «этой» стране.
Ленин казался еврейским большевикам чем-то вроде мессии. Большевистское учение заслонило от глаз русских евреев тысячелетнюю веру предков и для многих совсем заменило ее. Во имя светлого будущего они готовы были расстаться не только с прошлой жизнью, унизительной, нищей — им хотелось вычеркнуть или, во всяком случае, переиначить возникшее в той, ушедшей жизни искусство.
«Новые времена — новые песни». Казалось само собой разумеющимся, что в «новой» жизни не будет места бродячим пуримшпилерам, этим местечковым Арлекинам и скоморохам, разыгрывающим на рыночных площадях сценки из библейских сказаний, чередующиеся с цирковыми трюками. Было в тех выступлениях что-то жалкое, и их искусство никак не вписывалось в послереволюционную действительность. Грановский и Михоэлс, Бабель и Шагал, как и многие представители еврейской интеллигенции, восторженно восприняли революцию — она обещала свободу, возрождение… Не случайно именно в это время бурлящим гейзером возник первый в истории настоящий еврейский театр — театр, ставший судьбой Михоэлса. «Октябрь, творимый на улицах Ленинграда, — писал он впоследствии, — взволнованное дыхание необозримо огромных масс. Это — эпоха. А год — год был тяжелый, решительный, когда в условиях беспримерных жертв, холода, голода решалась победа нового класса на фронте Гражданской войны — год 18–19-й. Это и есть время рождения ГОСЕТа. Время необычайное. Время беспримерной борьбы» (Советское искусство. 1931. 17 января).
В 1931 году, возвращаясь к истокам Московского еврейского театра, Михоэлс писал: «На том месте, где появился ГОСЕТ, было до революции пустое место. ГОСЕТ построен фактически на пустыре… Серьезно говорить о прошлом еврейского театра не приходится… Театра как такового, где спектакль является целью и единственной формой произведения творчества театра, — такого театра не было». Поэтому не могло быть и преемственности. Более того: «… пришлось отказаться от всего, что имело прямое или косвенное отношение к старому еврейскому театру, и, прежде всего, от старого еврейского актера». Несмотря на то, что среди старого актерства были люди несомненно одаренные, — все же традиции бродячего театра, беспринципной игры в подражание оказывались почти непреодолимым препятствием на пути построения нового театра… «И ГОСЕТ начал со школы, — продолжает Михоэлс. — С театральной школы, где еврейский актер впервые за многолетнюю историю получил возможность учиться» (Советская культура. 1931. 17 января).
Еврейская театральная студия, с которой начался ГОСЕТ, была создана в Петрограде вскоре после революции при содействии Наркомпроса.
Пройдут годы и Александра Вениаминовна Азарх, жена Алексея Михайловича Грановского — основоположника ГОСЕТа, подробно расскажет о рождении этого театра, этого уникального явления в мировом искусстве. Тогда, вскоре после Октябрьской революции — А. В. Азарх-Грановская называла ее «большевистским переворотом» — были созданы комиссариаты всех национальностей — молодая страна стремилась развивать национальное искусство. Узнав об этом от своей знакомой, Александра Вениаминовна рассказала Грановскому, а он по-детски обрадовался — давно мечтал о создании своего театра. Грановский тут же отправился в Еврейский комиссариат, где услышал следующее: «Начинайте это дело. У вас непременно получится. Мы сегодня же напечатаем объявления и развесим их по городу».
По ходатайству М. Ф. Андреевой студия получила помещение — огромную десятикомнатную квартиру в доме № 64 на Фонтанке.
Что же унаследовала Еврейская театральная студия? Были ли предшественники? Традиции? Прав ли Михоэлс, утверждая, что театр возник «на пустом месте»? Не совсем. За несколько лет до создания ГОСЕТа в Петербурге, который был тогда центром еврейской и русско-еврейской культуры Российской империи, возникали одна за другой организации еврейской культуры: Общество для распространения просвещения между евреями России, Еврейское историко-этнографическое общество, Еврейское театральное общество и др. Последнее и явилось предтечей ГОСЕТа. «Наше общество задается целью создать Еврейский театр. Но не театр, подобный американскому лубочному, а еврейский народный художественный театр с настоящей режиссурой и настоящим репертуаром. Создание этого театра есть еврейское народное дело первостепенной важности» — так сказал в своем выступлении на заседании Еврейского театрального общества О. О. Грузенберг 5 июня 1916 года. Заметим, что в работе этого театрального общества участвовал и Александр Азарх (позже ставший Грановским) — человек тогда еще малоизвестный, но очень скоро занявший заметное место в Еврейском театральном обществе. Это он предложил начать создание театра с театральной школы. И хотя этот путь казался длинным, другого Азарх-Грановский, выученик великого немецкого режиссера-модерниста Рейнхардта, не видел. И, похоже, был прав, хотя многие ему возражали. Возможно, именно это привело к столь внезапному разрыву Грановского с Еврейским театральным обществом и отъезду в страны Скандинавии. Еще одна важная деталь, занявшая по воле судьбы заметное место в истории ГОСЕТа: незадолго до отъезда Алексей Михайлович Азарх женился на Александре Вениаминовне Идельсон — девушке, родившейся и выросшей в весьма интеллигентной ассимилированной еврейской семье в Витебске. Она училась медицине в университетах Брюсселя, Парижа, но велика была ее любовь к России — незадолго до Первой мировой войны она вернулась на родину и поступила на психоневрологический факультет Петербургского университета — одного из немногих учебных заведений, где не существовало процентной нормы для евреев.
Итак, еще раз подчеркнем: не на пустом месте возник ГОСЕТ. До него в России были десятки кочующих еврейских трупп, театров, среди них весьма значимых и признанных в Европе, в США (театр Фишзона, Каминской…).
Историк театра Бернард Горин полагал, что еврейский театр существует уже более двух тысячелетий на том основании, что театр был уже в древнем Иерусалиме при царе Ироде. Однако, по всей видимости, там исполняли греческие трагедии заезжие актеры, собственно же еврейский театр не мог возникнуть в те времена из-за религиозных запретов. Зато уже в V веке везде, где жили евреи, в странах рассеяния появились актеры, разыгрывавшие сценки на библейские сюжеты, сопровождая их пением и пляской. Но и они возникли не на пустом месте — евреи Израиля, в особенности когда страна была под властью греков, не могли не поддаться магии эллинизма.
В России в XVIII веке возникли крохотные странствующие труппы — так называемые «певцы из Бродов». Они исполняли маленькие оперы, или, скорее, «мюзиклы» на те же библейские темы.
В середине XIX века евреи России пережили своего рода культурную революцию. Идеалы просвещения — Гаскалы захватили тех, кто хотел вырваться из узких рамок традиции, сводившейся к освоению Торы, Талмуда и каббалы, и тех, кто призывал покончить с еврейской замкнутостью — открыть мир для себя и себя для мира. Именно в это время возникла светская еврейская литература и драматургия — но пока лишь для чтения, так называемая «лейзе-драма». Таким образом, хотя театра и не было, уже существовали литература для театра и его потенциальный зритель.
И вот Авраам Гольдфаден — актер, режиссер, драматург, названный впоследствии отцом еврейского театра, в 1876 году создал театр в Яссах. За короткое время Гольдфаден поставил 39 спектаклей. Театр разъезжал по Юго-Западной России и Польше. В нем, помимо «певцов из Бродов», играли безработные учителя, изгнанные из синагог канторы, недоучившиеся подмастерья, «бадханы» (нечто вроде тамады на еврейской свадьбе), обычно умевшие хорошо петь. Актеров с нетерпением ждали в городах и местечках, где они выступали за весьма небольшую плату, помогая людям хоть ненадолго забыть об их тяжелой нищей жизни.
Вскоре у театра Гольдфадена появилось много конкурентов. Еврейские труппы возникали повсюду. Однако век их был недолог: в 1885 году они были запрещены. Гольдфаден уехал в Америку, остальные театры закрылись, и лишь немногие, уже называвшие себя еврейско-немецкими труппами, прозябали на окраине империи — в Польше и в Вильне. Только труппа Э. Каминской была исключением. В начале XX века она часто гастролировала в Петербурге.
Молодая идишистская театральная студия, возникшая в Петрограде, не столько следовала традициям старого странствующего еврейского театра, сколько полемизировала с ним. Разумеется, отдавали должное былым звездам, восхищались отдельными самородками, но сами мечтали о спектакле художественно-целостном, режиссерском. И уж никак не бытовом. В полемике, иногда в преувеличенном отрицании прошлого формировалась новая эстетика. Формировалась она и в соперничестве, в сложных взаимоотношениях с переехавшим в 1916 году из Польши в Москву профессиональным еврейским театром «Габима».
Возглавлявший «Габиму» актер Н. Л. Цемах был настолько восхищен и захвачен искусством Художественного театра, что отважился преобразовать свой театр в школу.
Спектакли были временно остановлены. Лекции читал сам К. С. Станиславский, он же направил в «Габиму» любимого своего ученика Е. Б. Вахтангова, который обучал актеров по системе Станиславского и готовил первый спектакль «Вечер студийных работ». «Габима» была чрезвычайно бедна — не было денег даже на декорации. Вахтангов устроил в студии вечер и пригласил на него меценатов, которые, однако, не спешили раскошеливаться. Тогда Евгений Вахтангов вместе с Михаилом Чеховым переоделись половыми и пустили шапку по кругу. Остроумие было оценено, деньги собраны, и в октябре 1918 года театр открылся в Москве.
Спектакли «Габимы» шли с возрастающим успехом, театр становился знаменитым; о нем писали, о нем говорили. Вахтангов, даже тяжелобольной, не прерывал связей с «Габимой». Незадолго до смерти он поставил здесь один из лучших своих спектаклей «Га-дибук», ставший заметным событием театральной жизни Москвы. Он был очень хорошо принят такими разными режиссерами, как Станиславский, Мейерхольд, Таиров. Восторженно о спектакле отозвались Горький и Шаляпин.
В глазах поклонников «Габимы» молодому Еврейскому камерному театру поначалу отводилась второстепенная роль. И не только поначалу — в 1924 году в журнале «Зритель» (№ 7) аноним, скрытый под инициалами М. 3., писал:
«— Скажите, какая разница между Студией „Габима“ и Еврейским камерным?
— Такая же, как между Бяликом и Шолом-Алейхемом, как между Горьким и Зощенко. Первые — очень большие для всех, для всего мира, а вторые — маленькие и только для определенной народности, то есть, в сущности, для немногих.
— Значит, вы утверждаете „Габиму“ и отрицаете Еврейский камерный?
— Отнюдь нет! Я очень люблю Бялика, но иногда я с удовольствием читаю и Шолом-Алейхема. Всему свое время.
— Но театр ведь не литература, а нечто совсем иное.
— Совершенно верно. Поэтому-то почти никому не известный древнееврейский язык „Габимы“ может понять весь мир, а популярный, народный жаргон Еврейского камерного понятен для немногих.
— Вы уверены?
— Уверен. „Га-дибук“ смотрится помимо текста, а „Гет“ ощущается только через текст. „Вечный жид“ может быть разыгран на малабском наречии, если только такое существует, а „Агенты“ — только на жаргоне. В этом и вся разница…
…В сущности, в Еврейском камерном театре есть только один большой актер — это Михоэлс, но он не занят в „Гет“».
«Адвокатские услуги», оказываемые «Габиме» Горьким, Станиславским, Шаляпиным, вмешательства Ленина, Каменева, Сталина не могли спасти этот блистательный театр. Видимо, даже в ту пору бюрократы, аппаратчики были могущественнее вождей. И если в начале 20-х годов «Габима» могла как-то продержаться на средства нэпманов (олигархов тогда еще не было), то, лишившись финансовой поддержки государства, театр был обречен.
Не надо думать, что борьба с «Габимой» шла впрок ГОСЕТу. И этому театру досталось не меньше, чем «Габиме». В 1922 году предстояла реформа системы театров Москвы — их было в ту пору больше ста. Согласно намечаемой реформе ГОСЕТ предполагалось перевести из-под «крылышка» Главполитпросвета в другое ведомство — Управление государственными академическими театрами. Финансирование в Главполитпросвете и Управлении театрами разительно отличалось, да и вопрос о закрытии театра в Управлении театрами решался куда проще и безапелляционнее, чем в Главполите. Словом, ничего хорошего ГОСЕТу, тогда еще Еврейскому камерному театру, аппаратные изменения не сулили. Тем более что среди заступников ГОСЕТа, в отличие от «Габимы», не было ни Ленина, ни Каменева, ни Мазе — тогда главного раввина России. В рядах «адвокатов» ГОСЕТа оказался Сталин — в ту пору министр по делам национальностей. Человек, в 1949 году уничтоживший ГОСЕТ, в 1922-м сыграл важную, если не решающую роль в его спасении. Среди недругов ГОСЕТа было немало евреев, в особенности — в Центральном комитете Евсекции, но здесь же, среди видных чиновников были и друзья, прежде всего — Мария Яковлевна Фрумкина, член ВКП(б) с 1897 года, с 1921-го заведующая Еврейской секцией Главполитпросвета. Вот отрывок из ее письма к И. В. Сталину: «История с Еврейским государственным камерным театром приобретает характер сказки про белого бычка, и я убедительно прошу простить меня за то, что я продолжаю беспокоить Вас ею.
т. Рыков не согласился с постановлением Малого Совнаркома (от 7/VII п. 16) о включении театра в число субсидируемых, приостановил исполнение и перенес дело в Большой Совнарком.
Я пыталась попасть на прием к т. Рыкову и представить ему свои объяснения. Но вчера потерпела неудачу, а сегодня его нет в Москве.
т. Сталин, поверьте, что только сознание партийного долга заставляет меня быть настойчивой. Я прошу Вас поговорить с т. Рыковым.
Люди беспартийные, но глубоко преданные делу и идущие с нами, исстрадались, изголодались, деморализованы. Они не могут понять, почему они не имеют права на то, что дается другим театрам такого же характера, которые высший художественный орган Республики в порядке очередности поставил ниже их. Они считают, что это только из-за еврейства».
Письмо, получившее поддержку Сталина и Куйбышева, не возымело действия: в июле того же года вопрос о Еврейском камерном театре рассматривался на заседании Большого Совнаркома под председательством А. И. Рыкова. Решение было положительным, но осталось только на бумаге. Как ни странно, среди тех, кто тормозил его, были в основном чиновники из Евсекции. Отстоять ГОСЕТ пытался Александр Иванович Чимеринский, секретарь ЦК Евсекции. В своем обращении в высшие инстанции он писал: «Кампания (против ЕКТ. — М. Г.) ведется из Наркомпроса…
Ведется исключительно против еврейского театра, единственного в РСФСР.
В годы голода и разрухи театр пользовался поддержкой государства.
Еврейский государственный театр стал могучим орудием нашей политической борьбы, завоевав себе почетное имя в международном театральном мире…
В борьбе с еврейской контрреволюцией и сионизмом в Польше и Америке театр служит лучшей иллюстрацией национальной политики по отношению к еврейским массам.
Кому-то нужно вырвать это орудие из наших рук».
В 1928 году, когда «Габима», вытесненная ГОСЕТом, была уже за пределами СССР, А. М. Эфрос писал о ней, как о явлении «паразитическом»: «„Габима“ жила чужим умом. Это было своего рода побочное дитя Станиславского от случайной еврейской матери». Мнение такого авторитетного искусствоведа, каким, несомненно, был Абрам Маркович Эфрос, нельзя считать абсолютным. Искренность, честность и выдающаяся роль А. М. Эфроса в создании ЕКТ не вызывают сомнений. Но прав был художник А. Г. Тышлер, написав в «Автобиографии»: «Живой и сильно бодрствующий Эфрос принадлежит к природе тех „хирургов“, которые вовсе не заинтересованы в том, чтобы „больной“ ожил, а так, больше для собственного удовольствия, оперировал; и все видел в „профилях“, а анфас ему, по-видимому, еще не под силу…»
Судьбы театров, как и судьбы людей, воистину неисповедимы: «Габима» жива до сих пор, находится в Израиле, в ней ставил спектакли Ю. П. Любимов, Л. И. Райхельгауз. В 1989 и 2001 годах театр побывал на гастролях в Москве, а ГОСЕТ трагически прекратил существование более полувека назад! Но это свершилось потом, а в начале 20-х годов спектакли ставила и «Габима».
Петроградская студия называлась «Государственная еврейская школа сценического искусства». Руководить ею Комитет по делам национальностей поручил Алексею Михайловичу Грановскому. Вот копия документа, подтверждающая сей факт: «Дано сие тов. А. М. Азарху (по сцене Грановскому) в том, что он состоит заведующим театральной школы-студии при Еврейском отделе Комнаца СКСО. Отдел просит все учреждения, которых это касается, оказать всяческое содействие тов. Азарху в исполнении возложенных на него обязанностей». Грановский явился не только отцом-создателем ЕКТ — позже ГОСЕТа, но и режиссером-постановщиком лучших в его истории спектаклей, таких, как «Колдунья», «Ночь на старом рынке», «Путешествие Вениамина Третьего».
Грановский родился в том же году, что и Михоэлс, но ко времени создания ЕКТ был уже опытным театральным деятелем. Он вырос в богатой еврейской семье, окончил в 1911 году Школу сценического искусства в Петербурге, осуществил дипломные спектакли «Укрощение строптивой» и «Три сестры»; затем три года учился в Мюнхенской театральной академии, где был любимым учеником Макса Рейнхардта. И хотя Михаил Чехов считал, что у Рейнхардта не может быть учеников, так как он всегда полагался «на гений, на случайные вспышки интуиции», Грановскому все же удалось многому научиться у него и даже унаследовать (или позаимствовать) некоторые, свойственные немецкому мастеру, черты — любовь к масштабным массовым зрелищам, к манипулированию большими группами статистов, что он и продемонстрировал в своих самостоятельных постановках.
Свой первый спектакль Грановский поставил в 1914 году в Новом театре в Риге. Это был «Филипп II» Верхарна. Однако театральная работа была надолго прервана Первой мировой войной: Грановский с женой оказались за границей (в Скандинавии), и все их попытки вернуться в Россию ни к чему не приводили; лишь случайное знакомство жены Грановского А. В. Азарх с дочерью советского посла в Швеции В. В. Воровского и его вмешательство помогли им.
Незадолго до начала Первой мировой войны Грановские уехали из Санкт-Петербурга. А вскоре после ее окончания вернулись в тот же город, но назывался он уже Петроград. Они остановились у Макса Ратнера, витебчанина, земляка А. В. Азарх. В его доме в Петрограде бывали Маяковский, Ахматова, Гумилев, Мандельштам. Здесь же, на квартире Ратнера, проводились первые репетиции трагедии Софокла «Эдип-царь» с Юрьевым в главной роли. Грановский увлек актеров интересным профессиональным замыслом, расположил к себе Юрьева и, по существу, стал режиссером этого спектакля. Премьера с большим успехом прошла в здании Петроградского цирка Чинизелли.
Вдохновленный Грановский взялся за новую постановку — шекспировского «Макбета» с Юрьевым и Андреевой в главных ролях. Вот как вспоминает об этом спектакле в цирке Чинизелли Азарх-Грановская: «Он (Горький. — М. Г.) нашел, что трактовка „Макбета“ очень своеобразная, свежая, и интересовался, откуда вот такая… „А у нас так не трактуют „Макбета“. — „Ну, каждый режиссер трактует по-своему“. — „Ну, а по-русски… — говорит, — это не совсем по-русски“. — „Я же не русский, я ж еврей“, — ответил Грановский. Горький рассмеялся и сказал: „Ну, вы так бы с самого начала и сказали. Теперь все ясно““.
Любопытен отзыв об этом спектакле Гумилева: „Да, у вас хорошо: есть черт, и есть Бог. А у них нет“. — „У кого же — у них?“ — „А вот у Юрьева и у Марии Федоровны. Леди есть. А леди Макбет нету. Это не относится к вам, у вас она есть“, — сказал он Грановскому».
Спектакль был почти готов, когда Грановский получил предложение организовать в Петрограде еврейскую театральную студию с последующим преобразованием ее в театр. «В 1918 году заместитель наркома просвещения 3. Гринберг передал мне миссию организовать еврейскую театральную школу, — рассказывал он в интервью корреспонденту „Литературного листка“ в Варшаве 27 апреля 1928 года. — В этом же году была открыта Государственная еврейская школа сценического искусства, насчитывавшая тогда немногим более 30 учеников».
Грановский с истовым увлечением взялся за дело. Ему нужны были «свои» актеры, и он надеялся воспитать их в студии. Целиком отдавшись новой работе, он едва довел до конца постановку «Макбета». Между тем именно в этом спектакле впервые вышел на сцену (вернее, на арену) в крошечной роли одного из убийц Банко Соломон Вовси.
Юрьев вспоминал, как однажды во время репетиции «Макбета» к нему подошел небольшого роста молодой человек и сказал, что хочет поступить на сцену. Неактерская внешность и ощутимый еврейский акцент показались Юрьеву серьезным препятствием, но что-то заинтересовало его в незнакомце, и он посоветовал ему обратиться к Грановскому, приступавшему в это время к созданию еврейской студии.
Сам Михоэлс рассказывал об этом иначе: «Возвращаясь из университета, где я учился, я встретил приятеля (кстати, впоследствии одного из актеров нашего театра), который сообщил мне, что открывается еврейская театральная школа. Я сразу понял значение этого события — театральной школы в истории еврейского театра не существовало…Узнав от приятеля о школе, я отправился туда и поступил.
В ответ на газетное объявление на стройку еврейского рабочего театра пришли представители трудовой интеллигенции: врач Абрагам, железнодорожный слесарь Штейман, студент ЛГУ Михоэлс, Карчмер, Ромм, Рогаллер, Эпштейн… С переездом театра в Москву к ним присоединились Зускин, Ротбаум, Гертнер, Шидло и др.» (Красная газета. 1935. 1 мая).
Жюри проводило набор в Еврейскую театральную студию в здании, где прежде располагалось Министерство внутренних дел, в комнате, которая когда-то была кабинетом бывшего министра внутренних дел Столыпина. Михоэлс спел на этом экзамене песню «Дуду» Лейви-Ицхока из Бердичева и продекламировал на идиш свое любимое стихотворение «Последнее слово» Бялика. В исполнении песенки ощутим был уходящий мир прошлого: перед членами жюри как будто стоял пуримшпилер середины XIX века. Чтение же стихотворения, превратившееся в «спектакль одного актера», потрясло всех до глубины души. Об этом рассказала мне Э. Я. Карчмер, в будущем заслуженная артистка РСФСР, принятая в студию в тот день, что и Михоэлс. После чтения стихотворения Грановский сказал: «Отдохните немного, Вовси, и дайте нам прийти в себя…» Однако один из членов жюри заговорил о странном репертуаре кандидата в актеры: «Все, что вы показали нам, может быть, и неплохо, но речь идет о театре! Организуется первый в мире Государственный еврейский театр!» — «Это прекрасно! — ответил Михоэлс. — Наконец сбудется моя мечта». Посовещавшись, члены жюри вручили Вовси договор о принятии его в студию, который он тут же подписал.
Правда, есть и другое свидетельство. Из воспоминаний А. В. Азарх-Грановской: «Михоэлс пришел… усатый, с поднятым воротником, немножко ссутулившийся и вызвавший у меня крайнее удивление. Я думала: „Ну куда же ему идти в театр и зачем он сюда пришел?“…
Михоэлс читал стихотворение Бялика „Сохрани меня под крылышком“ („Приюти меня под крылышком“. — М. Г.). Читал он его сначала на еврейском языке, а потом — на русском языке в переводе Жаботинского. Причем прочел великолепно, произвело очень сильное впечатление, его попросили что-нибудь из прозы. Он опять же читал куски из Бялика… Потом он спел песню по просьбе комиссии. Его необычайная музыкальность сразу была обнаружена. К нему обратился Унгерн (он был приглашен Грановским в качестве режиссера. — М. Г.) с вопросом: „А почему, собственно говоря, Вы пришли в театральное училище? Я вижу, что Вы в студенческой шапке появились, Вы — студент?“ Он говорит: „Да, я на последнем курсе юридического факультета“. — „А почему Вы так поздно приходите в театральное училище?“ Тут он совершенно откровенно рассказал, что он пытался поступить к Таирову, но Таиров сказал: „Вы же умный человек, Вы юристом будете. Актером Вы никогда не будете, так что лучше и не пытайтесь“. Он попытался еще у Сохновского. Сохновский дал такой же безнадежный приговор: „С Вашей внешностью сцена для Вас совершенно закрыта“».
Не знаю, уместно ли здесь напомнить: в самые трудные для Александра Яковлевича Таирова времена (в 1946 году закрыли созданный им Камерный театр) рядом с ним оставались немногие. Михоэлс был среди них.
Вот как вспоминал об этом времени Михоэлс:
«Это было в январе… Мы собрались впервые вместе… Мы пришли еще далекими и чуждыми друг другу, и каждый был занят собой, своими думами… Все возрасты были здесь представлены… Были совсем молодые, юные, среднего возраста и пожилые… Здесь были люди различнейшего положения и происхождения…И велика, очевидно, должна была быть любовь к народу и творчеству для него, и громким должен был быть голос призвания, чтобы не погасла эта любовь, и не замолк звучный голос среди мрака и холода судьбы диаспоры… Мы бродили по просторным и холодным полупустым комнатам, и не верилось, что с молниеносной быстротой спаяемся мы в одну семью, которая дышит одним желанием, и что холодные комнаты превратятся в храм… Но мы почувствовали это уже на второй день. То действовала созидающая сила нашего руководителя».
Грановский мыслил свой театр как храм — «храм светлой красоты, радостного творчества». Идеал этот был воспринят им от Рейнхардта, на которого, в свою очередь, оказал влияние известный антропософ Рудольф Штейнер. Вообще это был идеал, ни разу полностью не воплощенный, но всегда живущий в сознании создателей любого серьезного театра. В те же времена Андрей Белый тоже мечтал о театре-храме и о мистериях, которые должны там разыгрываться. Показательна в этом смысле и запись в дневнике А. А. Блока (15 августа 1919 года): «В театре. Снимали фотографию. Потом говорили о религии и „театре-храме“».
Грановскому казалось, что он близок к воплощению идеи мирового театра, что он создает «храм, в котором молитва поется на еврейском языке». Но четкого оформления его концепция еще не приобрела. «Задачи нашего театра — это задачи мирового театра, и только язык отличает его от других. Каким наш театр будет? Каким богам он может служить? На этот вопрос мы ответить не можем. Мы не знаем наших богов. Мы ищем их… Искать… вот вся наша программа», — писал он. Совершенно ясно для него было лишь то, что в храме все должно быть иерархично: он — верховный жрец — на вершине и внизу актеры — просто жрецы, послушные каждому его жесту, слепо верящие ему.
Впоследствии Михоэлс вспоминал о петроградском периоде жизни театра как о поре радостного ученичества. Для него началась новая жизнь, он оказался в положении бедняка, нашедшего в подвале клад, он открывал в себе все новые психологические и даже физические возможности. Это был период чистой радости обретения себя, период овладения техническими секретами актерского искусства, актерской методологии. Он учился играя, в буквальном смысле этого слова. Ему на первых порах не мешали даже рамки того, несколько уже устаревшего, символизма на сцене, который проповедовал Грановский; статичность в решении мизансцен, многозначительность пауз; благодаря им Михоэлс овладевал великим искусством молчания, в котором потом достиг таких вершин. (Идеи символизма настолько захватили его в то время, что он написал символистскую мистерию «Строитель», где исполнял роль Духа Былого; пьеса до нас не дошла, и об этой потере Михоэлс не очень жалел.) Он оказался способным учеником и вскоре стал премьером труппы. Грановский прекрасно понимал, какую ценность представляет собой его ученик. «Если меня спросят — из какого материала вы делаете ваши работы, я скажу: я их делаю из Михоэлса…из моих болей, страстей и радостей», — признался он позднее.
Студия очень скоро — весной 1919 года — стала театром. К его открытию Еврейское театральное общество в Петрограде выпустило проспект с эмблемой художника М. Добужинского. (Следует сказать, что с первых дней и до конца существования ГОСЕТу очень везло с художниками: Грановский привлек к работе в театре А. Бенуа, М. Добужинского, Р. Фалька, М. Шагала, Н. Альтмана, И. Рабиновича, а Михоэлс — А. Тышлера.) В этом проспекте были три большие программные статьи — театрального критика Льва Левидова, Грановского и Михоэлса.
Театральные критики (Я. Гринвальд, О. Любомирский, П. Новицкий) утверждали, что Грановский повел театр по неверному пути, и поэтому Михоэлсу и остальным актерам не повезло: они слепо исполняли волю «верховного жреца». Так ли это? В статье, написанной к открытию театра, сам Михоэлс убедительно отвечает на этот вопрос: «Каждый из нас чувствовал и сознавал необходимость еврейского Театра-Храма, некоторые из наших товарищей уже знали в своем прошлом какие-то попытки в этом направлении, но… попытки эти кончались тем же, чем кончались многие начинания на еврейской улице… Мачеха-история издевалась над их серьезными исканиями и с остервенением гасила каждую искру надежды. Они были слишком слабы для того, чтобы стать творцами Еврейского театра… Но „тяжкий млат, дробя стекло, кует булат“. Та же мачеха-история с парадоксальной логикой, ей одной свойственной, в то же время холила и вырастила того нужного человека, который сумел найти нужное слово творца. Он пошел, вооруженный европейским образованием, театрально-техническими познаниями и большими организационными способностями. Он нас позвал, он стал нашим руководителем. Мы пришли на зов нового строителя… Кто были мы — одинокие мечтатели с неясными затуманенными стремлениями, что принесли мы с собой — кроме полного незнакомства с театральной техникой и театральным действием, кроме внутренней связанности и внешней скованности? Ничего. И лишь одним обладал каждый из нас: огненным желанием, готовностью к жертвам… И наш руководитель сказал нам, что этого достаточно… Наш руководитель… Не о таланте, не о направлении художественном я могу здесь говорить. Но мы, близкие к нему, видим многое, что скрыто от взора других. Мы видим полную жертв и самоотречения работу, мощную силу любви к искусству и народу, богатую идейным содержанием деятельность его, не прерывающуюся ни на один миг в течение дня».
Пройдет немногим более пятнадцати лет, и ученик совсем по-другому заговорит об Учителе: «Что же, однако, такое — Грановский? Человек, который сумел в определенный момент уйти и порвать с нашей советской действительностью — этот человек, очевидно, скрывал в себе предпосылки для того, чтобы не отображать нашей действительности.
Я знаю, что основной чертой Грановского являлся страх».
В начале 30-х годов, еще при живом, но забытом Грановском, историки театра назовут ГОСЕТ «театром Михоэлса», забыв об истинном его основоположнике. Думаю, права была Азарх-Грановская, заметив: Михоэлс бы не состоялся без Грановского. «Михоэлс бы не стал таким актером, если бы Грановский в нем не сумел уловить мелодику речи. Он сумел дать ему… умение сказать слово музыкально, ритмично…
Грановский его сделал от начала до конца».
Осмелюсь заметить, что Грановскому с Михоэлсом повезло не меньше, чем Михоэлсу с Грановским: без их встречи в Петрограде ГОСЕТ если бы и состоялся, то был бы совсем иным. Эта мысль не умаляет значимости ни Михоэлса, ни Грановского. Пожалуй, ничего нового в теме «ученик — учитель» Михоэлс и Грановский не открыли.
К открытию театра репетировали одновременно три пьесы: «Пролог» А. М. Л. (музыка Маргуляна), «Слепые» Метерлинка (музыка Ахрона) и «Грех» Шолома Аша (музыка Розовского); они должны были пойти в один вечер. Художником был приглашен А. Бенуа, в то время уже опытный мастер, много работавший в театре.
Работа шла в почти не отапливаемом помещении, с ослабевшими от голода и холода актерами. Это были трудные годы. Нелегко было всем. А. А. Блок писал в январе 1919 года (в письме к Н. А. Нолле-Коган): «Почти год, как я не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах. Я не выхожу из мелких забот, устаю почти до сумасшествия, приходится думать о еде (за день до этого письма Блок делает запись в дневнике: „Небывалое отсутствие еды и небывалые цены“. — М. Г.), протоколах, дровах, гонорарах и пр.». Блока все это страшно удручает, тяготит, он не может работать. «Пускай человека отрывают от его любимого дела, — продолжает он в том же письме, — для которого он существует (в данном случае, меня — от писания того, что я, может быть, мог бы еще написать!), но жестоко при этом напоминать человеку, чем он был, и говорить ему „ты — поэт“, когда он превращен в протоколиста, включен в политику и т. д.».
Для Михоэлса такой проблемы не было, да и не могло быть. Весь опыт прежней жизни, а главное, так поздно и неожиданно нахлынувшее на него счастье творчества позволяли ему почти не замечать трудностей; а, может быть, трагичность и величие происходящего вокруг только обостряли эту эйфорию. Он всецело отдавался любимой работе и вместе с единомышленниками закладывал основы будущей театральной культуры своего народа — что могло быть выше этого?
Открытие первого сезона Еврейского театра в Петрограде намечалось на середину весны 1919 года. Репетиции шли днем и ночью. Преисполненные энтузиазма ученики театральной студии (среди них была и Сарра Кантор — жена Михоэлса) спешили, жаждали показать свое искусство. Но руководитель студии «верховный жрец» Грановский понимал, что спешить нельзя. Да и весна 1919 года в Петрограде выдалась не самой простой — в мае Комитет обороны вынужден был закрыть все зрелища в Петрограде, как «государственные и частные, так и кинематографы», до особого распоряжения. И даже в такие трудные времена интерес к искусству в Петрограде оставался.
Следующее открытие сезона, намеченное на 22 июня, состоялось чуть позже, 3 июля 1919 года.
Своей первой ролью Михоэлс считал роль старика-ев-рея на кладбище в драме Шолома Аша «Грех», он появлялся во втором отделении. «Грех» — это небольшая мистическая притча, по смыслу перекликающаяся со знаменитой притчей Достоевского о «луковичке». Умер грешник, земля не принимает его; старый мудрый раввин предлагает выход, последнюю надежду — нужно бросить в костер три кирпича, и если хоть один из них не треснет, значит, грешник все же сделал в своей жизни хоть одно доброе дело и благодаря этому спасется. Грановский, как уже говорилось, любил групповые мизансцены и умело ими пользовался: здесь все напряжение спектакля держалось на группе актеров, изображавших жителей местечка, с волнением следящих за кирпичами и выражающих свои сложные переживания жестами, почти танцем. Среди них был и Михоэлс: «Старик мой стоял в толпе, наблюдавшей за похоронами. Так случилось, что моя актерская жизнь началась на кладбище».
В тот же вечер шла пьеса-притча Метерлинка «Слепые» — одно из самых мрачных и безнадежных произведений бельгийского символиста; написанная в конце XIX века, она вся пронизана предчувствием скорой гибели человечества. Даже сегодня трудно объяснить выбор этой пьесы Грановским. Выбирая для своих спектаклей пьесы нееврейских авторов, далеких от еврейской темы, Грановский с первого дня преследовал другую цель: сделать из талантливого человека прежде всего актера, а уж потом — актера еврейского. Напомним, что профессиональных актеров Грановский в свою студию не принимал.
И снова из воспоминаний Азарх-Грановской: «Слово на сцене — событие, и вот, чтобы это событие было именно неслучайным, не как-нибудь, а именно событием, мы стали учиться на „Слепых“ Метерлинка… Потом „Слепые“ научили мелодичности еврейского языка. Природное свойство восточных языков — именно мелодика».
Наряду с жестами, словом Грановский преподавал своим ученикам другую науку — умение «содержательно молчать».
Метерлинк с его пьесой «Слепые» был очень близок символисту Грановскому, который пытался претворить в жизнь метерлинковскую теорию «статичного театра», где застывшая поза важнее движения, а молчание — важнее слов. На залитой мертвенным лунным светом сцене, среди мрачных кладбищенских деревьев с отблеском океана на стволах неловко двигались и застывали в странных позах актеры. Двенадцать слепых, словно двенадцать антиапостолов (символ пребывающего во тьме человечества), заблудились на острове посреди страшного океана (символ смерти). Проводник (вера — религия) умер. Все они заключены в тесную скорлупу своей слепоты и эгоизма («ведь для того, чтобы любить, надо видеть», — говорит один из них), но степень их непросветленности различна. Одна слепая — самая юная, почти готовая прозреть — чувствует свет звезд (по мысли Метерлинка, она — символ искусства). Ее антипод — человек, отделенный от мира стеной слепоты и глухоты. Следующий за ним по степени внутренней темноты — первый слепорожденный, герой Михоэлса. Он весь в интересах сугубо плотских и материальных, он узнает время лишь по голосу желудка, он одержим страхом и одновременно агрессивен; он — символ бюргера, мещанина, та частица почвы, которая окажется благоприятной для семени насилия, фашизма. Эта роль одновременно и сатирическая, и трагическая в своей обреченности. Удалась ли она Михоэлсу? Видимо, да. Снова листаю записи своих бесед с Эсфирью Иосифовной Карчмер: «Никогда не забуду, как после окончания первого вечера Еврейской студии Грановский, подойдя к Соломону Михайловичу, сказал:
„Теперь, Вовси — Вы Михоэлс!“»
Мастер признал за ним право иметь псевдоним.
Вскоре после первого вечера ЕКТ поставил еще два спектакля по пьесе на библейский сюжет «Амнон и Томоре» Шолома Аша и драме «Строитель», автором которой был Михоэлс. Художником-оформителем спектакля «Строитель» был сам Грановский. Музыку написал Маргулян — композитор, много сотрудничавший с Еврейским камерным театром. Сюжет пьесы чем-то напоминает миф о Сизифе и одновременно — Вавилонскую башню: люди в течение столетий строят башню, чтобы добраться до богов, давно покинувших грешную землю. Но напрасны их старания — одно поколение строит башню, другое ее разрушает.
В этом спектакле было три героя: Прошлое, Настоящее и Будущее. Михоэлс играл Прошлое, Грановский — Настоящее, Азарх — Будущее. Спектакль пользовался успехом у зрителей, был отмечен прессой. Впрочем, как и остальные первые спектакли, показанные ЕКТ в Петрограде.
Но по-настоящему ведущим актером театра Михоэлс стал, сыграв заглавную роль в драме Карла Гуцкова «Уриэль Акоста».
Пьеса эта была широко известна в России, да и во всем мире. Роль Акосты играли такие великие актеры, как Орленев, Станиславский, Моиси. Уриэль Акоста — философ, бунтарь, «еврейский Галилей» — написал дерзкую книгу, противоречившую традиционным еврейским представлениям о мире, был проклят раввинами, принужден ими к покаянию, но нашел в себе силы остаться верным своим убеждениям.
В Еврейском камерном театре «Уриэля Акосту» ставил Я. Унгерн-Штернберг (художник М. Добужинский, композитор С. Розовский).
В большинстве прежних постановок Уриэль Акоста трактовался как герой-победитель. У Михоэлса — он жертва, раздираемая двумя страстями — жаждой истины и любовью к невесте. Раздвоенность Акосты подчеркивалась оригинальностью костюма: один рукав у него белый, перечеркнутый черным, другой — черный, рассеченный белой полосой — переломанные крылья его души.
И хотя в игре Михоэлса еще присутствовали робость и скованность, зрителям после премьеры «Уриэля Акосты» стало ясно, какие возможности таит в себе этот актер. «Тем Уриэль и мощен, что его сила внешне незаметна, тем и красив, что красота его внутренняя, а наружность обыденна, тем и выделился среди людей, что он простой, такой же, как они, и огромно другой в то же время» (Жизнь искусства. Пг., 1919. № 189).
Уже тогда проявились не только актерские, но и режиссерские, а также организаторские способности Михоэлса. Сохранилось документальное свидетельство того, что уже на втором году своего существования студия была преобразована в Камерный театр:
Подошел к концу первый, петроградский период; вся последующая жизнь театра связана с Москвой.
Грановский довольно скоро понял, что открытие еврейской студии и театра в Петрограде было делом неожиданным и несколько искусственным: здесь для осуществления его планов не было перспектив — не было своего зрителя. Петроград не относился к тем городам дореволюционной России (как, например, Варшава, Одесса, Рига), в которых концентрировались еврейское население, еврейская культура.
Москва в этом смысле была предпочтительнее. В 70-х годах XIX века евреи Москвы познали сравнительно спокойные времена при генерал-губернаторе князе Долгоруком (в ту пору они составляли около 3 % населения города); в конце XIX века, по «высочайшему повелению» от 15 октября 1892 года, еврейское население Москвы вновь испытало ужасные унижения и издевательства: начался разгром общины. Изгоняли ремесленников, мастеров; тех же, кто скрывался от властей, вылавливали, направляли в пересылочную тюрьму, а оттуда — по этапу. В тюрьме им надевали деревянные наручники и обращались с ними, как с опасными преступниками (за поимку одного беглого еврея вознаграждение было таким же, как за двух убийц). И все же евреи Москвы, вопреки всем ограничениям, сохранили общину; большинство из них восприняли советскую власть как спасение. Поэтому открытие театра — центра еврейской культуры в Москве — стало для его создателей делом желательным и благим. Один из руководителей Московской еврейской театральной студии А. М. Эфрос отправился в Петроград «на разведку».
После первой же беседы с Грановским Эфросу стало ясно, что ни продуманной конкретной программы, ни полного понимания целей и задач первого в мире Государственного еврейского театра у Алексея Михайловича не было.
— Почему же это еврейский театр? — спросил Эфрос.
— Но ведь мы играем на еврейском языке! В Москве думают, что этого мало? — последовал ответ Грановского.
— Да, мы представляем все это иначе.
— Вот как! Мне хочется познакомить вас с моим премьером… Он — настоящий; правда, со мной он играет в «послушание», но иногда отваживается противоречить, и тогда кротким голосом говорит вещи, которые меня бесят. Теперь я вижу, что они как будто перекликаются с московскими…
Грановский пригласил Михоэлса для беседы. «В комнату вошел не первой молодости человек, видимо, около тридцати лет — низкорослый, худощавый, на редкость некрасивый, с отвисающей нижней губой и приплюснутым, хотя и с горбинкой, носом, с уже редеющими на высоком лбу волосами и торчащими на висках вихрами, с живым, но точно бы искусственно погашенным взглядом.
„Экое обаяние в этом уроде“», — внезапно подумал Эфрос.
Проведенные в Петрограде дни не оставили у А. М. Эфроса сомнений: Грановский и Михоэлс вместе с театром готовы переехать в Москву.
Визит Абрама Марковича Эфроса в Петроград получил свое логическое завершение: Наркомпрос принял решение о переводе Еврейского камерного театра в Москву.
Москва 1920 года.
«Хлеб табачного цвета с овсом и соломой.
Митинги. Митинг поэтов, митинг художников, митинг актеров. Митинг, посвященный международному положению, под председательством Луначарского.
Митинг поэтов. Громче других кричит Маяковский…
Вот Есенин — с его трогательной улыбкой. Случалось — кричал и он — но хмель его от Бога, а не от вина…» — такой Марку Захаровичу Шагалу запомнилась Москва, куда в мае 1920 года приехали Грановский, Михоэлс и с ними весь коллектив Еврейского камерного театра.
«В то время в Москве утверждается древнееврейский театр „Габима“ — театр высокого умения и значительной техники, он успел сгруппировать вокруг себя сионистские и, следовательно, контрреволюционные еврейские буржуазные прослойки, которые еще застряли в Москве.
Здесь, в Москве, надо было утвердить иное качество еврейского театрального искусства, создающегося на живом еврейском языке трудовых еврейских масс и для трудового зрителя» (Вечерняя Красная газета. 1935. 3 мая).
Заметим, что эти слова Михоэлс написал о «Габиме» в 1935 году, а в начале 20-х, когда ЕКТ переехал в Москву, он посещал все спектакли «Габимы». Однажды он опоздал на собственный спектакль. Запыхавшись, выбежал на сцену без грима и застал там уже другого Менахем-Менделя. Под впечатлением этого случая Шагал предложил поставить новый спектакль «Два агента». Как выяснилось, Михоэлс пошел посмотреть один акт «Га-дибука» и так был очарован игрой актеров «Габимы», что забыл о своем спектакле.
«Га-дибук», поставленный гениальным Вахтанговым, был, несомненно, одним из шедевров, но и другие спектакли театра шли в те годы с огромным успехом. «Габиму» постоянно посещали А. В. Луначарский, К. С. Станиславский, член Политбюро Л. Б. Каменев, другие политические деятели и деятели культуры. А между тем спектакли там шли на иврите…
Высокого мнения об этом театре был А. М. Горький: «У артистов „Габимы“ есть — мне кажется — сильное преимущество перед Художественным театром его лучшей поры — у них не меньше искусства, но — больше страсти, экстаза. Театр для них — богослужебное дело, и это сразу чувствуешь. Все слова, жесты, мимика — глубоко гармоничны, и во всем горит та мудрая правда, которую рождает только искусство, только талант».
Горячим поклонником «Габимы» был Ф. И. Шаляпин. В этой связи мне хочется воспроизвести мою короткую беседу с его сыном Борисом Федоровичем. Это было в доме Ивана Семеновича Козловского. Хозяин, представляя меня, сказал: «Это наш „михоэлсовед“». Борис Федорович улыбнулся: «О Михоэлсе не помню, чтобы отец что-то рассказывал. А вот Грановского — ругал! Считал, что он „подвел под гильотину“ прекрасный еврейский театр „Габиму“… А может быть, вынудив „Габиму“ покинуть Россию, Грановский тем самым спас ее — ведь театр в конечном счете попал в Палестину. Кстати, в пользу создания еврейского театра в Палестине отец давал благотворительные концерты — знаю это точно!» (Возможно, что в последнем утверждении Борис Федорович допустил неточность: документального подтверждения этому я не нашел. Но благотворительный концерт с участием Шаляпина «Для сбора средств в фонд образования театра в Палестине» действительно состоялся в Петрограде 28 апреля 1918 года.)
В Москве ЕКТ разместился в Чернышевском переулке, позднее на несколько десятков лет переименованном в улицу Станкевича, однако госетовцы и те, кто был с ним связан, употребляли старое название.
«Чернышевский переулок находится в стороне. Он захватил где-то немного зелени, легко и прозрачно замаскировался ею и оберегает творческую тишину», — писал Перец Маркиш, хотя в театральном доме тишины, тем более творческой, конечно, не было. Новые обитатели старого дома, полные сил и энергии, преисполненные желания служить еврейской музе, дискутировали в «общих» кухнях и коридорах, а порой здесь же проводили мини-репетиции.
Михоэлс с семьей занимал две небольшие комнаты на третьем этаже. Грановский поселился в другом доме, поэтому проведение репетиций иногда поручал Михоэлсу, который в то время уже заведовал сценической частью театра. Ни у кого не было сомнений в том, что переезд театра был решением правильным. Но с чего начать? Сделанное в Петрограде было явно неприемлемо для Москвы. Грановский, понимая это, не показывал на московской сцене спектакли, поставленные в Петрограде. Словом, есть режиссеры, есть здание, есть актеры, но где взять пьесы?
Выход был найден на заседании художественного совета в октябре 1920 года: в репертуар включили произведения Шолом-Алейхема. Так и назывался первый спектакль: «Вечер Шолом-Алейхема». «Мазлтов» («Поздравляю»), «Агенты» и «С’алыгн» («Обман») были показаны московскому зрителю 1 января 1921 года.
Грановский очень осторожно руководил постановкой этих миниатюр. Он понимал, что старый быт местечек черты оседлости с его неповторимым колоритом навсегда уходит в прошлое. Понимал и то, что революция разворотила, всколыхнула еврейские массы России. Но говорить в начале 20-х годов о новой жизни выходцев из местечек было слишком рано. Оставалось одно — юмором, сатирой, насмешкой помочь людям вырваться из местечкового быта. Однако если решать только эту задачу, показывая на сцене суетливых нерешительных людей в лапсердаках и капотах, с длинными бородами и пейсами, с печальными глазами, — будет ли в этом что-то новое по сравнению с дореволюционным театром? Репетируя, опытный и умный Грановский большие надежды возлагал на Михоэлса и тех актеров, которые знали быт и нравы местечек.
Многое зависело от художника: по рекомендации А. М. Эфроса оформлять первый спектакль еврейского театра в Москве был приглашен Марк Шагал. Предки его расписывали синагоги в Витебске, Шклове, других городах. Шагал приехал в Москву из Витебска, где работал уполномоченным по делам искусств, и поселился в Малаховке. Много времени и сил уделял воспитанникам детского дома, где жил и преподавал. Хорошо знавший творчество Шолом-Алейхема, Шагал с упоением принялся за работу над спектаклем. Ни с кем не советуясь, он дни и ночи разрисовывал маленький зрительный зал («коробочка» Шагала). Даже Грановского он пускал неохотно, а с исполнителями ролей вовсе не общался, это очень беспокоило руководство театра. Одержимый созданием нового спектакля, Михоэлс подолгу работал с актерами не только над ролями — он знакомил их с содержанием «Еврейской энциклопедии», приобретенной им для театра, читал лекции по истории еврейской культуры. Словом, вскоре выяснилось: Грановский руководит постановкой в целом, Михоэлс — актерами, а Шагал оформляет спектакль. Расписав зал, он приступил к эскизам костюмов, «подстраивая» их под общее оформление зала.
Казалось, декорации, костюмы актеров, их грим как бы сливались с общим оформлением зала, однако, сам того не замечая, Шагал превращал спектакль в приложение к своим декорациям; «плакал настоящими, горючими, какими-то детскими слезами, когда в зрительный зал с его фресками поставили ряды кресел»; бросался на рабочих, которые устанавливали декорации, и «уверял, что они их нарочно царапают». Он не позволял зрителям прикасаться к стенам, кричал на весь зал, что «своими толстыми спинами и сальными волосами» они все испортят.
Эфрос вспоминал, что «в день премьеры, перед самым выходом Михоэлса на сцену, Шагал вцепился ему в плечо и исступленно тыкал в него кистью, как в манекен, ставил на костюме какие-то точки и выписывал на его картузе никакими биноклями неразличимых птичек и свинок, несмотря на повторные тревожные вызовы со сцены и кроткие уговоры Михоэлса, и опять плакал и причитал, когда силком вырвали актера из его рук и вытолкнули на сцену» (А. Эфрос).
Грановский в этом спектакле делал свое дело как бы «со стороны». Шагал был неуправляем. Труднее всех пришлось Михоэлсу. Никаких конкретных рекомендаций и советов режиссера он не получил. Шагал создал своего реб Алтера, а сыграть нужно было реб Алтера Шолом-Алейхема: доброго, кроткого местечкового мечтателя, жившего в мире призраков.
Содержание миниатюры Шолом-Алейхема «Мазлтов» незамысловато. Еврей-книгоноша реб Алтер на кухне богатого еврея беседует с его прислугой, рассказывает ей сказания и легенды, сочиненные им самим. Но реб Алтер не только фантазер и выдумщик — он знаком с литературой социалистов. Он никого ни в чем не обвиняет, он очень добр, даже беспомощно добр. В отличие от него прислуга богачей проклинает своих хозяев: «Лучше лютая смерть моим хозяевам, чем дать упасть волоску с головы социалистов!» Показывая слабые и смешные стороны реб Алтера, Михоэлс не насмехается над ним. Он играет человека, униженного чертой оседлости, но не потерявшего веру в доброту и будущую справедливость.
Следует отметить, что авторы инсценировки «дополнили» ее не существующим у Шолом-Алейхема текстом (так, угрожая своим хозяевам, прислуга восклицает: «Социалисты говорят: будет вам капут!»). Такого рода вставки, может быть, и заостряли социальное звучание спектакля, но чуждые Шолом-Алейхему мысли, попытка осовременить его героев могли привести к провалу первого спектакля ГОСЕТа в Москве.
И в самом деле высказывались достаточно резкие суждения:
«Адонай, Адонай! Что они сделали с добродушным и кротким Шолом-Алейхемом?
Снилось ли Шолом-Алейхему, грезилось ли, когда он живописал своих евреев, что некогда придет свой же брат, еврей, Грановский и из самых обыкновенных, наиобыкновеннейших евреев сделает адские хари, супрематистские куклы, намагниченные и напружиненные, лишенные подобия не только еврейского, но и простого человеческого?! Не споря о принципах, не возражая против любого подхода к спектаклю, согласимся все же, что каждое сценическое зрелище только тогда приемлемо и оправданно, когда трагедия трактована не как комедия, а драма явлена не в аспекте фарса. Иначе просто пошлем к черту все эстетические каноны, начисто похерим все, до Грановского существовавшее, и изобразим короля Лира сумасшедшим меламедом, и из Гамлета сделаем ешиботника! Это будет также обосновано и также оправдано, как четырех евреев — агентов по страхованию воплотить в персонажи итальянской „комедии дель ар-те“, придав им при этом конструкцию супрематистского — истинно русского Петрушки.
И все же, и все же — можно принять даже это, если бы… если бы это было хоть чуточку талантливо. Но со сцены несет — извините меня — режиссерским потом.
Когда вместо заурядного еврея видишь рыжего из цирка, а на подбородке реб Алтера вместо честной еврейской бороды три разноцветных шнурка, вспоминаешь белое кашне в роли той же бороды в „Турандот“ и горестно думаешь: вот какая разница между гениальной чуткостью, божественной легкостью и тяжелым изощренным недомыслием.
Да простят меня великий бог Саваоф и уважаемый Абрам Эфрос: лучше я буду наслаждаться опереттой почти гениальной Клары Юнг, лучше буду, как грубовато выразился Эфрос, „икать“ от удовольствия в „Габиме" — театре воистину пророческого пафоса, чем содрогаться от чудовищной зевоты в Еврейском Камерном театре“» (Е. Янтарев).
Михоэлса в этом спектакле критик С.М. сравнивал с Михаилом Чеховым: «По значительности актерской игры — лучшая вещь спектакля все-таки „Мазлтов“, и это, конечно, благодаря Михоэлсу в образе реб Алтера. Иногда мне кажется, что Михоэлс и есть еврейский Чехов в ролях, которые он играет, — в нем та же особенная современная нервность подвижности, тот же внутренний эксцентризм, тот же мгновенный срыв игры в самую неожиданную минуту, та же изумительная способность все буффонное из комедийного вдруг свести к химерическому. У Михоэлса такой же глаз: бегущий, скользящий, останавливающий.
Несомненно, что Михоэлс — одно из значительнейших явлений еврейского театра, а мне думается, и вообще нашего театра, не только благодаря огромному таланту, который чувствуется в этом актере, но и благодаря тому живому, современному духу, какой этот мастер несет в себе и с собой — на сцену.
В роли реб Алтера Михоэлс — лирик, не только буффонный комик. Мягкость его игры — отрадна, четкость — строга.
Безделушка Шолом-Алейхема становится значительным театральным явлением.
Такова власть актера, когда он современный актер до конца и когда он играет при этом в атмосфере современного театра.
Счастливое детство артистического формирования Михоэлса — несомненно спектакль „Мазлтов“» (П. Маркиш).
«ГОСЕТ первые свои шаги начал с проклятия уходящему. И вот галерея местечковых спектаклей — смешная и грустная вывеска черты оседлости — этого мешка, в котором не два, а десять котов дерутся за кусок хлеба». Был ли прав А. М. Эфрос, полагая, что ГОСЕТ начал с «проклятия»? Но почему евреи должны проклинать прошлое? Разве евреи России сами себе выпросили черту оседлости с ее несправедливостью и нищетой? Разве обитатели дореволюционных местечек хотели быть «униженными и оскорбленными»? Такими их сделала жизнь, и Михоэлс, несомненно, понимал это.
В роли реб Алтера Михоэлс обратился к теме «маленького человека», сближающей еврейскую литературу с русской классической литературой XIX века.
Михоэлс играл реб Алтера с такой симпатией к своему «маленькому человеку», что зритель угадывал замысел актера: чувство человеческого достоинства, человеческой порядочности можно сохранить в самые тяжкие дни жизни. И Михоэлс «приоткрывал завесу собственной души, и тогда, сквозь сумрак создаваемого образа, за четкой и совершенной формой, раскрывалась ясная, мудрая и чистая душа, полная неизбежной любви к людям и ненависти ко всему их уродующему» (Перец Маркиш).
Обитателей черты оседлости, этих «котов в мешке», описал Шолом-Алейхем во многих своих произведениях. Менахем-Мендель, «человек воздуха» — один из них. Его сыграл Михоэлс в пьесе «Агенты». Нет смысла анализировать сейчас эту роль Михоэлса. К ней актер возвращался позднее, снимаясь в фильме «Еврейское счастье». Об этом будет рассказано в последующих главах.
«Вечер Шолом-Алейхема» успешно шел в течение января — февраля 1921 года, театр становился популярным, о нем писали, говорили. Но Грановский понимал, что театру нужны пьесы о революции. А они еще не были созданы.
Грановский приступил к репетициям пьесы А. Войтера «Перед рассветом».
«Спектакль „Перед рассветом“, — рассказывал в своем интервью Грановский, — поставлен в день годовщины трагической гибели Войтера и выпадает из общего плана работ театра.
Написанная в 1907 году пьеса скорее отражает пессимистическое настроение, возникшее после поражения революции 1905 года, чем пафос борьбы».
Донести пафос революции в спектакле без напряженного драматического сюжета — затея невыполнимая. Ни замечательная игра Сарры Давыдовны Ротбаум, ни участие Михоэлса (он играл роль мудрого еврейского Деда, хранителя вековых традиций еврейского дома) не спасли спектакль Грановского, который продолжал экспериментировать.
В июне 1921 года он ставит «Бог мести», драму Шолома Аша, ранее показанную на русской сцене. Напомним: эту драму Горький считал «вещью, сильной по фабуле». В 1908 году ею заинтересовалась Комиссаржевская, позже «Бог мести» был поставлен и с успехом шел в петербургском Современном театре, которым руководил Николай Ходотов.
На роль Шепковича Грановский назначил Михоэлса. Его герой постоянно жил в страхе перед Богом за свой величайший грех (он был содержателем публичного дома). Михоэлс должен был сыграть человека слабовольного, изъеденного муками совести: человека, который всю жизнь мечется между «чистым» первым этажом и подвалом, где царит смрад — духовный и физический. И на сей раз театру, как и в «Вечере Шолом-Алейхема», повезло с художником: сюда пришел Исаак Моисеевич Рабинович, работавший с Марджановым (знаменитая постановка «Фуэнте Овехуна»), с Вахтанговым («Свадьба»), и уже в оформлении этих спектаклей проявился его недюжинный талант театрального художника.
Ознакомившись с содержанием пьесы, Рабинович вскоре принес наброски и эскизы к спектаклю. Они очень понравились Михоэлсу, но многое меняли в замыслах Грановского. Художник оказался настойчивее и капризнее, чем можно было ожидать при первом знакомстве, не соглашаться с ним было все труднее, он становился соавтором спектакля, хорошо понимавшим его направленность и социальную суть.
Раздвоенность Шепковича он выразил символически, с помощью маски, одна сторона которой выражала человеческий облик с надеждой и верой, а другая — жуткое, звериное лицо хозяина притона.
Михоэлс в роли Шепковича углубил содержание мелодрамы Шолома Аша. Он предсказал: Страшный суд над теми, кто, живя на высших этажах, строит свое счастье и благополучие на несчастье обитателей подвалов, — неминуем. Бог мести — суровый и справедливый Бог иудеев не простит грехопадения. И предсказание сбывается. Шлойме, сутенер, служивший «честно» хозяину, совращает дочь Шепковича — Риву, и она становится обитательницей нижнего этажа «заведения».
С особой силой воплотил Михоэлс мысль: люди, забыв заповеди Моисея, богохульствуют, нарушают святость, завещанную предками, пренебрегают запретами Торы. Но сказано в Писании: «Нельзя ничего прибавить и нельзя ничего отнять». В исполнении Михоэлса, знатока Священного Писания, роль Шепковича стала высоко трагической.
Напомним финал спектакля: Шепкович, уничтоженный, потерявший надежды, расстался с Торой — ей уже нет места в его доме. В финале спектакля — пауза, молчание, насыщенное болью, страданием; «ибо за все воздастся».
Вот что рассказывала об этом спектакле Азарх-Грановская: «Показывали мы Шолома Аша „Бог мести“… Это первая роль, где Михоэлс играл трагедию, и много Грановский с ним работал, лепил все, каждый поворот пальца, так как он считал, что поднятый палец — это событие на сцене. На сцене не может быть ничего случайного. Это было как закон у нас. Ни случайного поворота головы, ни случайно опущенных глаз… Так что до такой степени все было отработано четко, строго высчитано, а при этом массовые сцены шли на бешеном темпе, на невероятном темпераменте… Это было громадное искусство».
По мнению М. С. Беленького, «роль Шепковича была первой значительной ролью молодого Михоэлса».
Пожалуй, точнее всех о Шепковиче-Михоэлсе написал Павел Марков: «Роль Шепковича в „Боге мести“ — отнюдь не совершенной пьесе Шолома Аша — Михоэлс подымал до высот трагических.
Он коснулся в этой роли внутренних противоречий — той внутренней борьбы, которой не было во многих его других ролях. Борьба добра со злом стала предметом пьесы. Михоэлс решал свою задачу страстно, почти неистово, и, хотя многие из его стремлений разбивались о схематизм драматургического материала, отдельные сцены, как, например, финал пьесы, он сыграл с силой, необычайной для молодого актера. Так приближался он к большой проблеме смысла жизни, справедливости и несправедливости, к теме очищения и рождения человека».
В марте 1921 года Грановскому предложили поставить «Мистерию-буфф» Маяковского для участников III конгресса Коминтерна. На немецкий язык пьесу перевела Рита Райт.
Грановский хотел воплотить замысел автора: «Спектакль должен был стать героическим, эпическим и сатирическим изображением нашей эпохи». Он понимал значимость предложения: рядом с ним был Мейерхольд, которому куда ближе творчество Маяковского. И все же постановку «Мистерии-буфф» поручили именно ему, Грановскому.
Как пишет В. Маяковский, «…ставят второй вариант мистерии („Мистерия-буфф“. — М. Г.)…в цирке на немецком языке для III конгресса Коминтерна. Ставит Грановский… Спектакль прошел около ста раз…»
Создавать спектакль в здании цирка для Грановского — дело не новое, но для таких зрителей — задача более чем сложная. Триста пятьдесят актеров, десять художников привлек Грановский к участию в спектакле. Он учел первые режиссерские пробы Михоэлса и поручил ему, кроме исполнения роли Интеллигента, работу режиссера-ассистента.
Одним из художников «Мистерии-буфф» был Натан Исаакович Альтман.
Он в ту пору был уже знаменит, признан сначала в Париже, как это нередко случалось прежде со многими художниками, потом и в России. Ему суждено было стать первым художником, писавшим В. И. Ленина. Встречи и беседы его с Лениным (в общей сложности Альтман провел с ним 250 часов) убедили художника в решении служить революции.
Совместная работа над постановкой «Мистерии-буфф» сблизила Альтмана и Грановского.
Алексей Михайлович решил возобновить, вернее, поставить по-новому в ЕКТ не удавшийся в Петрограде спектакль «Уриэль Акоста». Оформить спектакль он предложил Н. Альтману.
Премьера спектакля «Уриэль Акоста» состоялась 9 апреля 1922 года в здании Театра на Малой Бронной. Бывший концертный зал «Романовка» был отремонтирован и заново перестроен. Зал вмещал 440 зрителей, в просторном фойе разместили декорации Шагала, теснившиеся прежде в здании театра на улице Станкевича.
Альтман до «Акосты» создал декорации к спектаклю «Га-дибук» в «Габиме», и уже тогда проявился его талант художника, по-настоящему знающего историю и быт еврейского народа.
Все, от чего отказался Альтман в «Га-дибуке» (конструктивное решение), стало настоящим триумфом при оформлении «Уриэля Акосты» в Еврейском камерном театре. Это был спектакль, как заметил А. В. Луначарский, «в некоторых отношениях изумительный по работе, сделанной там Альтманом».
Созданные художником конструкции переносили зрителей в Амстердам XVII века. Дома, синагоги, библиотеки при всей условности их изображения казались реальными. И если Натан Альтман блестяще справился со своей задачей, то Михоэлсу и на сей раз роль Уриэля Акосты не удалась: он слишком доверился своему учителю. Грановский видел в Акосте не героя, а лишь жертву Средневековья. Так его и играл Михоэлс. Акоста — первый проблеск свободной и независимой мысли, прообраз Спинозы. Он пытается бороться, но не находит в себе достаточно сил и мужества. Михоэлсовский Уриэль в Москве отличается от Уриэля петроградского. Это был иной Акоста, готовый отстаивать свои идеи. И все же: «Автор статьи заранее не мог предположить, что Уриэль, этот борец и прообраз Спинозы, будет превращен на Малой Бронной в неврастеника с лицом Павла I и повадками Эрика XIV.
Чудесный актер Михоэлс, но ему нельзя играть Уриэля. Для этого у него нет ни голоса, ни внешности, ни фигуры. Актер весь в быте — он должен был восполнить отсутствие пафоса криком. Это было фальшиво, это не интересовало, не трогало.
…Нельзя превращать эту актерскую пьесу в выставку декораций Альтмана» (Известия. 1922. 20 июня).
После полуудачи «Уриэля Акосты» Грановскому, Михоэлсу, да и актерам театра становилось все яснее, что к постановке мировой классики театр не готов, а пьес современных еврейских драматургов еще не было. Не вернуться ли к Гольдфадену? «Они давно ждут и ищут друг друга… Гольдфаден с одной стороны. А с другой — Еврейский камерный театр, созданный суровым дыханием Октября… Эта встреча неизбежна в путях, которыми идет Еврейский камерный театр… Мы, еврейские комедианты, трепетно ждем ее», — писал Михоэлс в 1922 году.
Из репертуара Гольдфадена решено было выбрать «Колдунью». Театру нужен был успех. И в этом смысле судьба театра в значительной мере зависела от «Колдуньи». Грановский задумал спектакль в традициях пуримшпилеров, в жанре театрального карнавала. На афише значилось: «Колдунья» («Еврейская игра по Гольдфадену»).
Режиссер не только высмеивал местечковый быт — это было бы слишком прямолинейно — во всем ощущались любовь к обитателям черты оседлости, вера в то, что революция навсегда избавила их от тяжелого унизительного прошлого. Лестницы, платформы, крыши домов Исаака Рабиновича, массовые карнавальные сцены, хореография, музыка Ахрона (в спектакле около 50 музыкальных номеров), темпераментная, талантливая игра актеров включили «Колдунью» в ряд лучших спектаклей двадцатых годов (достаточно вспомнить, что в то время, когда в ГОСЕТе шла «Колдунья», Мейерхольд ставил «Великодушного рогоносца», Таиров — «Брамбиллу», Вахтангов — «Принцессу Турандот»).
Из исполнителей этого спектакля, кроме Михоэлса и Зускина, следует отметить Л. Розину, исполнявшую роль Миреле. Ее прекрасным голосом восхищалась вся театральная Москва.
Сюжет, встречающийся у народов многих стран: злая мачеха с помощью колдуньи загнала в тюрьму своего мужа, дочь — красавицу Мирру — продала в гарем турецкого султана. Как во всех сказках, и в этой конец — счастливый. Но театр значительно осовременил текст Гольдфадена (драматург — Добрушин). В «Колдунье» талант Михоэлса-актера проявился с огромной силой. Он играет Гоцмаха — еврейского скомороха, комедианта, шутки и песни которого подхватывал народ. Но это не тот Гоцмах, что был в прежних постановках «Колдуньи». От Михоэлса-Гоцмаха доставалось жуликам, дельцам и нэпманам.
Ироническая музыка Ахрона способствовала тому, что Михоэлсу удалось сыграть еврейского Фигаро («Гоцмах, Гоцмах, везде Гоцмах!»). И действительно, Гоцмах возникает всегда и повсюду. Вот он среди девушек-помощниц Колдуньи. Гоцмах просит их своим колдовством содействовать воплощению его жульнических замыслов. Для изготовления колдовского зелья требуются три волосинки Гоцмаха, но вместо них одна из девушек оторвала у него целую пейсу; обнаружив «пропажу», Гоцмах соскакивает вниз, резко делает кульбит и, достав вместо свечки фонарик, начинает оплакивать свою потерю. «Моя несчастная пейса овдовела», — поет он песню — пародию на причитания евреев, о чем-то искренне скорбящих. Игра Михоэлса в этом спектакле вызывала восторг зрителей. В этой роли он «играет» песни-куплеты, прибаутки; здесь впервые по-настоящему проявились его музыкальность, пластичность — качества, без которых немыслим актер Михоэлс. Но особенно важно здесь другое: если Гоцмах у всех актеров, исполнявших эту роль раньше, напоминал то ли еврейского Арлекина, то ли местечкового скомороха, то у Михоэлса Гоцмах — это «человек воздуха», с которым зритель позже встречался не раз, но еще не Менахем-Мендель — у Гоцмаха больше юмора, надежд, легкомыслия, беззаботности.
«Колдунья» стала первым спектаклем ГОСЕТа, широко отмеченным прессой.
«Михоэлс возвел заурядного балаганного шута Гольдфадена до фантастического образа сверхкомедианта, который растет во время действия, увлекая за собой дружную, веселую толпу местных комедиантов на сцене и в зрительном зале», — писал о спектакле А. Кушниров.
Позже об этой своей роли Зускин напишет: «Колдунья — фантастический образ, тем не менее в основу его я положил совершенно реальных людей. Когда я ребенком учился в хедере, эти две торговки сидели на рынке против школы. Они были конкурентками, одна из них говорила басом, другая — фальцетом. Они и послужили мне материалом для колдуньи. Мой старый товарищ, посетив „Колдунью“, с удивлением сказал мне: „Ведь это они — эти женщины“».
Постановка «Колдуньи» знаменательна еще и тем, что партнером Михоэлса впервые выступил Вениамин Зускин, недавно принятый в труппу театра.
…печальны дороги Сиона, ибо нет идущих на его праздник…
Дебют Вениамина Зускина в роли еврейской Бабы-яги был неожиданно блестящим. Он вошел в театр стремительно и победно.
«Актерская техника пришла к Зускину как-то сразу, вернее, — была врожденной… — рассказывает в своих воспоминаниях Леонид Окунь. — Однажды на спектакль пришел Немирович-Данченко. Зускин ему очень понравился, и он сказал: „Колдунью у вас играет очень опытный и талантливый актер“. Ему ответили, что исполнитель Колдуньи всего два года на сцене. Тогда Немирович-Данченко попросил показать этого актера. Робкий, застенчивый Зускин подошел к знаменитому деятелю театра. Немирович-Данченко был ошеломлен и не верил глазам своим. „Если успех не вскружит вам голову, и вы будете упорно работать, — сказал он, — из вас может выйти большой актер“».
Зускин часто повторял: «Мои детские впечатления определили мою актерскую судьбу…»
Он родился и вырос в небольшом литовском городе По-невеже (современное название Паневежис) Ковенской губернии в семье «модного» портного. В доме отца бывало много людей, и Зускин с детства подмечал свойственные каждому характерные жесты, улавливал слова, выражения, интонации и потом, при случае, их копировал. «Весьма часто, — вспоминал Зускин, — в среде своих домашних или товарищей показывал того или иного посетителя вашего дома, причем мои зрители тут же улавливали жертву». Любимым его занятием была игра в театр (как это похоже на детство Михоэлса!). При приезде труппы уходил из дому. Помогал актерам в поиске квартиры и т. д. Как и Михоэлс, Зускин учился в реальном училище. В 1918 году поступил в Уральский горный институт, в 1920-м перевелся в Московскую горную академию, но, так же как Михоэлс, не закончил учебу в вузе, ушел в театр. «Все время не оставлял мысли о поступлении на сцену, на еврейскую сцену, как наиболее мне близкую».
Несколько по-иному свою биографию изложил Вениамин Зускин в последнем слове на суде 10 июля 1952 года: «Мне было восемнадцать лет, когда свершилась Великая Октябрьская революция. Никакого националистического груза к этому времени у меня не было. После революции я стал полноправным гражданином СССР и до сегодняшнего дня не запятнал этого высокого звания. В Государственный еврейский театр я попал совершенно случайно, и это потом стало трагедией всей моей жизни».
Вениамин Львович жил в такой стране и в такие времена, когда это даже не назовешь отступничеством: трудно обвинять человека, попавшего на Лубянку с больничной койки и измученного кошмаром нескольких лет следствия, в том, что он счел поступление в еврейский театр «трагедией всей жизни», если это привело его к такому страшному концу.
«Зускин появился в театре в 20-м году, — рассказывал Моисей Беленький. — В спектакле „Вечер Шолом-Алейхема“, который театр показал в 21-м, он уже был занят. Там он играл человека, который постоянно на все повторял: „Это враки“. И бесконечна нежность актера к своему герою. Когда разгоняли ГОСЕТ, арестовали немногих, но Зускина надо было уничтожить… Если Михоэлс, даже при Грановском, был головой театра, то Вениамин Зускин — это сердце еврейского театра. Простой народ скорее принимал Зускина. Михоэлс важен и значителен — зрители это понимали, но почему велик и почему значителен, было не всегда доступно. А Зускин — сама непосредственность, улыбка самого народа…»
Об этом же пишет и Окунь: «Мастерство Зускина было другого характера, чем Михоэлса: ни один из них никогда не впадал в „тон“ другого, вместе они составляли единое целое, каждый оттенял другого. Это были две ипостаси единого, одного, национального характера».
Вместе с тем в становлении Зускина как актера влияние Михоэлса было, несомненно, решающим; влияние как педагогическое, так и человеческое.
«В один из зимних вечеров 1921 года, — вспоминает Зускин, — я сидел усталый после спектакля, издерганный в результате многих бессонных ночей, в опустевшем фойе крошечного студенческого помещения, где ГОСЕТ давал свои первые представления. Мучительно думал — в который раз! — над вопросом: как быть, не оставить ли всякие мысли об искусстве и не вернуться ли обратно в Горную академию, откуда я пришел в театр? Вот уже несколько месяцев работаю как актер, а вместо радости, которую я мечтал найти на сцене, испытываю горькое разочарование, сомнение, тревогу. Долго я сидел так, погруженный в тяжкие мысли. Кто-то ласково стал гладить мою голову. Это был Михоэлс. Оказалось, он уже несколько дней следил за мной, и его очень беспокоило мое подавленное состояние…
Мы говорили о многих и многих проблемах, связанных с трудной, сложной актерской профессией, и эта беседа положила не только начало нашей творческой и личной дружбе, которая с годами крепла и углублялась, но она определила мою дальнейшую судьбу…»
По словам Окуня, Зускин, вспоминая об этой беседе с Михоэлсом, сказал: «Да, если бы не та ночная беседа… Может быть, я бы ушел со сцены, а может быть, меня вообще не было бы в живых». И добавил: «Соломон Михайлович — мой единственный учитель!»
Дуэт «Михоэлс — Зускин» возник в 1922 году, когда Грановский поставил «Еврейскую игру по Гольдфадену» — «Колдунью». Именно здесь впервые партнером Михоэлса стал Зускин, бессменно оставаясь им во всех последующих выдающихся спектаклях театра. В одном из разговоров с Леонидом Окунем Вениамин Львович признавался: «Партнер на сцене для меня — все, и лучший партнер всегда — Михоэлс, с ним всегда легко играть: я стою спиной к нему на одном краю сцены, а он спиной ко мне на другом, мы не видим друг друга, но я чувствую, как Соломон Михайлович начинает поворачиваться ко мне, и инстинктивно поворачиваюсь к нему — это полное блаженство — вся твоя душа в роли, в том, что происходит на сцене, я всецело завишу от него, а он от меня — это высшее счастье!»
По мнению Эфроса, «Зускин переиграл Михоэлса потому, что у него в руках был материал, какого не было у Михоэлса». Едва ли это так: Михоэлс и Зускин, по мнению всех театроведов, писавших о «Колдунье», составили артистический дуэт «от Бога».
О театральном и человеческом дуэте «Михоэлс — Зускин» написано немало. В книге Натальи Вовси «Мой отец Соломон Михоэлс» есть глава «Зускин — партнер, друг, близнец». «Король и шут» назвал свою статью о Михоэлсе и Зускине выдающийся актер В. Папазян; так же озаглавил свою пьесу известный писатель-исследователь А. Борщаговский. О дружбе этих двух талантливых людей писала А. П. Потоцкая, об этом можно прочесть у писателя В. Лидина… Иван Семенович Козловский не раз говорил мне, что Михоэлс и Зускин друг без друга не просто осиротеют, но немыслима сама жизнь каждого из них в отдельности на сцене, да и вне сцены. По этому поводу Козловский рассказывал такой случай: «Зускина как-то вызвали в райвоенкомат, он предъявил там паспорт (или военный билет, уж не помню), а из окошка в проходной ему говорят: „Фотография вроде бы соответствует, но фамилия-то у вас двойная, а здесь только Зускин… А где вторая — Михоэлс?“» Этот эпизод, который с таким юмором изображал Иван Семенович, на допросе Зускина в суде звучал уже трагически — такое соединение было теперь для него смертельно!
Из показаний Зускина: «На суде говорят о Михоэлсе, но я знаю Вовси, а между Михоэлсом и Вовси колоссальная разница. Этот Вовси довел меня до мысли о самоубийстве……Я с Михоэлсом с 1939 года, то есть с Вовси не разговариваю. Разговаривал я только с Михоэлсом потому, что связан с театром… Когда я задолго до войны пришел в военкомат, меня принял райвоенком, взял он военный билет, читает и говорит: „Почему одна фамилия Зускин, а где Михоэлс?“ Настолько эти две фамилии фигурируют вместе и в обвинительном заключении, а между тем никто в своих показаниях не показывал о Зускине. Я все ждал, что скажут Михоэлс, затем последует Зускин, но нет, этого не было». На настойчивые вопросы председательствующего с требованием подтвердить свои прежние показания (на одном из допросов Вениамин Львович сказал: «Не стану скрывать, Михоэлс мне был известен как убежденный еврейский националист») Зускин, не колеблясь, ответил: «Все мои показания ложные… Я их отрицаю категорически… Меня арестовали в больнице, где я находился на лечении… Арестован я был во сне и только утром, проснувшись, увидел, что нахожусь в камере, и узнал, что я арестован». Зускин был арестован 24 декабря 1948 года, и в тот же день ему объявили, что он «государственный преступник». При таких обстоятельствах он дал свои первые показания против Михоэлса.
Все, кто хорошо знал Михоэлса и Зускина, писали об их «вечной игре», забавных розыгрышах. Писатель В. Лидин вспоминает: «Однажды, ранней весной, проходя по Тверскому бульвару, я увидел на скамейке против большого серого дома, в котором оба они жили, Михоэлса и Зускина. Зускин необыкновенно выразительно сидел с повинным видом, сложив обе руки на коленях, свесив голову и сдвинув несколько внутрь носы ботинок.
Он изображал, будто виновато вздыхает, а Михоэлс изображал, будто отчитывает его…
— Ты после гриппа или ты не после гриппа? — строго допрашивал Михоэлс. — Я спрашиваю тебя: ты после гриппа или ты не после гриппа?
Зускин судорожно вздохнул.
— Я после гриппа, — прохрипел он.
— Если ты после гриппа, то кто тебе позволил выйти для променажа на бульвар? Кто тебе позволил? Московский градоначальник? Сейчас нет градоначальников. Может быть, начальник пожарной команды?
— Ребе, — хрипло выдавил Зускин, — у меня от ваших криков опять начинается грипп.
— А, у тебя от моих криков опять начинается грипп? А у тебя до моих криков тоже начинался грипп? — И так далее в духе интермедии, где один был школьником, а другой школьным учителем.
— Смотри на него, — сказал Михоэлс. — Тоже герой. Генерал Скобелев. Марш домой! — заключил он и повел Зускина, действительно рано вышедшего после гриппа, домой…»
В своих воспоминаниях «О Михоэлсе богатом и старшем» Анастасия Павловна Потоцкая пишет о том, что у Михоэлса с Зускиным была своя долголетняя «игра в подкидного поклонника»: «…Не только в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, но и во многих-многих городах жили фанатики — поклонники театра, Михоэлса и Зускина… Эти поклонники, томимые непреодолимым желанием общения и разговора, врывались в номера гостиниц, как только узнавали, где остановились Михоэлс и Зускин… Только-только распакованы чемоданы, налита ванна, заказан кофе в номер, как вдруг раздается громкий стук в дверь. Не дожидаясь ответа, сияющий улыбкой святого, Зускин распахивает перед кем-то дверь и весело кричит: „Ну, вот, наконец, ваш Михоэлс! А я пока пойду! Мне на репетицию“. Секунда… и невинные глаза Зускина и улыбка исчезали… Соломон Михайлович делает какой-то широкий гостеприимный жест, заказывает еще кофе и только через час-полтора объявляет: „Что же делать, теперь и мне пора в театр… Вы извините!“ Мы идем по длинному коридору, останавливаемся у какой-то двери… Михоэлс стучит и, открывая дверь, говорит: „Зуска! Ну вот, передаю тебе в руки нашего друга… И, кстати, имей в виду, на сегодня я тебя освободил от всех репетиций!..“»
Они умело обыгрывали буквально все, включая собственную природу. Зускин рядом с Михоэлсом всегда выглядел подчеркнуто импозантно; на Михоэлсе же, по словам Анастасии Павловны, даже новый костюм имел поношенный вид.
Несомненно, они были очень близкими друзьями, чувствовали локоть друг друга. Многие люди, хорошо знавшие Михоэлса и Зускина, считали, даже были уверены в том, что между ними не было и не могло быть не только принципиальных, но даже незначительных разногласий. Это не так. Отношения не были безоблачными, и шло это чаще всего от Зускина.
По свидетельству Окуня, при распределении ролей в водевиле Лабиша «Миллионер, дантист и бедняк» Зускин громко выражал свое недовольство, считая, что Михоэлсу досталась выигрышная роль (Бедняк), а в его роли (Дантист) «играть нечего!..». Как только это дошло до Михоэлса, он в присутствии всей труппы предложил Зускину поменяться. Спектакль прошел с шумным успехом, и оба артиста — Михоэлс (Дантист) и Зускин (Бедняк) играли великолепно: «Критика хвалила и того и другого, но особенно подчеркивали… что Михоэлс — чистейший француз». Это было в 1934 году, а несколькими годами позже, когда театр обратился к «Тевье-молочнику» Шолом-Алейхема, Зускин был всерьез обижен, что роль Тевье отдали Михоэлсу, а не ему. И тут Михоэлс пошел навстречу — он предложил играть Тевье по очереди. Начались репетиции. И Зускин от роли отказался и поступил правильно, как считает Окунь — «это была мудрость, подсказанная художнику интуицией: прямое сражение с Михоэлсом в одной и той же роли оказалось совершенно невозможным: оставаясь самим собой, Зускин выигрывал».
Не обошлось без сложностей и с «Королем Лиром». Александр Дейч в статье «Четверть века» пишет: «Без всяких предисловий Михоэлс сказал: „На очереди ‘Король Лир’. Я уже не могу без него. Но в театре — все против меня, даже Зускин“».
Итак, после стольких замечательных дуэтов в спектаклях «Колдунья», «Ночь на старом рынке», «Путешествие Вениамина III», в фильме «Еврейское счастье» — неужели Михоэлс и Зускин разойдутся при постановке «Короля Лира»? Но Соломон Мудрый понимал — без Зускина Шекспир на сцене ГОСЕТа немыслим. Михоэлс сумел убедить как Зускина, так и остальных актеров в том, что «Король Лир» — «это, собственно говоря, библейская притча о разделе государства в вопросах и ответах». А когда Михоэлс распределял роли, то ни у кого не было сомнений: Шута может и должен сыграть только Зускин.
По мнению прекрасного актера Ваграма Папазяна, «Лир Михоэлса — особенный Лир. Он не напоминает ни одного из Лиров, которых я видел на других сценах. Его Лир… воевал с черной неблагодарностью и отступал перед коварством… Зускин был так же велик в роли Шута, как был велик Михоэлс в роли Лира».
Пытаться точно обозначить, выразить словами отношения Михоэлса и Зускина представляется почти невозможным: «учитель и ученик», «два закадычных друга», «коллеги-единомышленники» — все так и все не совсем так… А уж любое сравнение степени их талантливости, попытка понять, было ли серьезное артистическое соперничество между ними, и тем более объяснить ссору, возникшую, как говорил Зускин на суде, между ними в 1939 году в связи с их работой в ГОСЕТе, — занятие и вовсе бесперспективное. Но одно можно утверждать безоговорочно: сделать жизнеописание Михоэлса без Зускина, а Зускина без Михоэлса — немыслимо.
В своих показаниях на суде на вопрос председательствующего, уточняющего отношение Зускина к Михоэлсу, Зускин, не раздумывая, ответил: «Михоэлс — актер замечательный». И конечно же Михоэлс не раз подумывал о том, что руководство театром придется кому-нибудь передать. И что бы ни говорили сегодня, да и в ту пору, Михоэлсу, безусловно, было ясно, что его театральным наследником может быть только Зускин. Конечно, в ГОСЕТе была плеяда замечательных актеров, но продолжить то, что начал Грановский, то, что сделал Михоэлс, мог только Вениамин Львович Зускин, который, будучи первоклассным актером, не раз испытывал себя на режиссерской работе. Впрочем, вновь обратимся к рассказу Зускина на суде: «Это было в 1946 году, когда праздновалось 25-летие моей работы. После спектакля, когда публика разошлась, меня вызвали на сцену, и в скромной, но теплой, дружественной обстановке коллектив меня приветствовал. Когда я вернулся домой, то я увидел большую корзину цветов и письмо в ней… В письме было написано так: „Зуска! (Так обращался ко мне он в минуты расположения.) Так или иначе, хочешь ты этого или не хочешь, но ты должен занять мое место в театре“».
Когда не стало Михоэлса, Зускин возглавил театр. На гражданской панихиде Михоэлса Вениамин Львович сказал: «…Потеря невозместима, но мы знаем, в какой стране и в какое время мы живем». Этих слов Зускину не простили. В декабре 1948 года он был арестован, а 12 августа 1952 года расстрелян.
Ровно за месяц до своей трагической гибели, 11 июля 1952 года, в последнем слове на суде Зускин произнес самый трагический приговор делу, которому безраздельно посвятил свою жизнь: «Я еще не говорил суду, что, когда следователь Погребной сообщил мне о закрытии еврейского театра, я сказал ему, что это сделано правильно, что я уже раньше видел необходимость этого и видел свое будущее на сцене русского театра и в кино».
В этих горьких словах приговор не только своим деяниям, достойным, безусловно, великого уважения. В них приговор всему тому святому и вечному, что сохранили и пронесли евреи диаспоры через века и страны. В начале XX века выдающийся еврейский мыслитель Исроэль Зангвил произнес слова, казавшиеся бесспорными: «Народ, который научился жить без страны, невозможно завоевать». Слова эти, если и были бесспорными, то не для Сталина или Лубянки… Здесь еще раз напомним слова писателя Дон-Аминадо, сказанные им не в 1952 году, а в 1918-м: «
Успех «Колдуньи» вдохновил и Грановского, и всех актеров театра. Коллектив уже понял, как много зависит от репертуара. Грановский пытался найти новую, современную пьесу. По его предложению И. Добрушин, А. Кушниров и Н. Ойслендер написали сценарий для спектакля «Карнавал еврейских масок». Спектакль успеха не имел, прошел незамеченным для зрителей, для печати. Держаться на трех спектаклях становилось все труднее. Тень репертуарного голода снова коснулась ГОСЕТа.
Москва 1923 года. Нэп. Десятки ночных ресторанов и кабаре предлагали самые различные меню и услуги: бутерброды с черной и красной икрой; вина русских и зарубежных фирм; коньяки из Франции; после ужина: электролото, выступления актеров лучших московских театров…
В газетах сотни объявлений: о предстоящем приезде Моиси и о том, что школа Айседоры Дункан продолжает существовать; сообщается о скором возвращении К. С. Станиславского и группы актеров МХАТа из-за границы, и рядом с этим — маленькое объявление о предстоящей в октябре 1923 года премьере «200 000» в ЕКТ. В этой же газете сводка — Центросекрабис определил количество безработных работников искусств — около 15 тысяч человек.
О Михоэлсе той поры мне рассказал Е. М. Вовси, брат-близнец Соломона Михайловича: «Соломон серьезно подумывал об уходе из театра. Помню, мы подолгу беседовали с ним, вспоминали Двинск, друга нашего детства — Мотеле Вайнберга, который десяти лет, сгорбившись, день и ночь сидел за швейной машинкой и напевал:
Я подмастерье — портной.
Счастье и горе со мной.
Ставлю заплаты на латы,
Может быть, стану богатым!
Подолгу говорили о судьбах местечковых ремесленников, которые одинаково добросовестно шили костюм для богача и саван для умершего, перелицовывали на „третью“ сторону чей-то субботний сюртук или перешивали „мамино“ подвенечное платье на свадьбу дочери. А вечером, когда солнце уже садилось, эти бедняги проводили лучшие часы своей жизни в синагоге: в громких спорах и мирных беседах доказывали они друг другу свою правоту, комментируя Тору и Талмуд. Они говорили о своих предках, изгоняемых из страны в страну, мечтали о светлом рае на земле обетованной, продолжали хранить веру в Бога, надежду и юмор. Поздно вечером, возвратясь из синагоги, они снова принимались за основное занятие: ставили новые заплатки на старые дыры…»
Михоэлс говорил брату, что после роли вожака воровской ватаги в «Карнавале еврейских масок» ему больше не хотелось играть на сцене, но умный психолог Алексей Михайлович Грановский вызвал его к себе и сказал:
— Если мы не сделаем хороший спектакль в 23-м году, то в 24-м году нас ждет биржа.
— А что ставить? — спросил Михоэлс.
— У меня для тебя сюрприз: «200 000» Шолом-Алейхема. И, главное, — я тебе мешать не буду, играй, как хочешь. Вот тебе пьеса Шолом-Алейхема, обработанная Добрушиным, можешь внести свои изменения.
Воистину Грановский, случайно или обдуманно, вернул Михоэлса в театр. Он знал, что от этой роли Михоэлс отказаться не сможет.
Однажды, гуляя по Арбату, Михоэлс увидел вывеску: «Мужской портной. Моисей Натанович Шнайдерман. В Москве работаю 4 месяца в году. Остальное время в Париже. В кредит работу не выполняю». Что-то потянуло Михоэлса к Моисею Натановичу, Он зашел к нему. Первое, что сказал портной, окинув Михоэлса взглядом: «Вы не умеете носить вещи, и я вам шить не буду». — «Но ведь я уплачу вам, как все остальные ваши клиенты», — пытался возразить Михоэлс. «Не в деньгах дело, молодой человек. Я шью так, чтобы мою работу узнавали на улице, а вы изомнете брюки и никогда их не будете утюжить. Нет, идите к Эйдельману, пусть он вам сошьет, это здесь, рядом!»
«Моисей Натанович, а в подмастерье вы возьмете меня?» — спросил Михоэлс.
«Давайте попробуем! Я вижу, вы бедный еврей, а в Священном Писании сказано: „Всякое даяние — благо“. Я возьму вас с собой в Париж на практику. Вы чем-то понравились мне, и не ваша, а родителей вина в том, что они не внушили вам мысль: для еврея ремесло — это сама жизнь. Вы думаете, что шить — это просто? Сшить хорошо костюм тяжелее, чем написать „Заколдованный портной“… И Шолом-Алейхем, и Гольдфаден смеялись над братом-ремесленником, а в нашем деле нужно быть актером большим, чем Клара Юнг. Клиент не понимает, что ему лучше носить, его надо убеждать, уговаривать. А какое, казалось бы, мне дело?! Шей, как просит клиент, получи деньги и все! Но это не для Шнайдермана! Мой папа любил повторять: „Когда Бог ни порадовал бы — поздно не бывает“. Вам уже далеко за тридцать, но давайте займитесь, наконец, делом».
С того дня Соломон Михайлович часто стал бывать в доме Моисея Натановича, а когда в июле шел прогон спектакля «200 000», Соломон Михайлович уже так исправно шил, что Грановский сказал ему: «Шлиома, признайся, ты в детстве учился портняжьему делу? Я не знал этого за тобой!»
Моисей Натанович, побывав 2 октября 1923 года на премьере «200 000», после спектакля, пытаясь прервать шквал аплодисментов, кричал на весь зрительный зал: «При чем здесь Грановский? Это я выучил Михоэлса играть в этой комедии! А шить он так и не научился!»
Поиски прообразов своих героев — в литературе и в жизни — были органической необходимостью для актера Михоэлса. Многие из этих «прообразов» становились его друзьями. Так было с Борисом Абрамовичем Шимелиовичем (с 1931 по 1949 год — главный врач Боткинской больницы) — братом «прообраза» Юлиуса; так случилось и с М. Н. Шнайдерманом. После смерти Моисея Натановича сын его, известный в Киеве меховщик, продолжал обшивать семью Михоэлса. Узнав о гибели Соломона Михайловича, он написал Анастасии Павловне письмо:
«Глубокоуважаемая мадам Михоэлис!
Пишет Вам меховщик из Киева, что делал Вашу муфту и шапочку и головной убор Вашему высокоуважаемому мужу. Хочу написать Вам, что живу хорошо и при работе с квартирой. Если шуба Вашего мужа нуждается в чем-нибудь, то я приеду в конце июня и сделаю все возможное.
Мне не позволяет сердце сказать Вам, как мне тяжело, что вы лишились и каракулевое пальто. Вам невозможно носить цигейку. Если Вы разрешите, то я сочту за величайшую честь Вам помочь, ибо, как он сказал, что Вы его королева, так нам тем более.
Желаю Вам здоровья и счастья, а также всем детям и внукам Вашим.
Со старой женой я покончил, и она переехала на новое жительство и в полных удобствах осталась со своим незаменимым чувством преклонения Вашим супругом и Вами».
Незатейливая история дружбы Михоэлса с одним из своих «прообразов», как и само письмо потомков Шнайдермана, которое я привожу без каких-либо изменений, подтверждается мыслью А. Соболя о том, что «он (Михоэлс. — М. Г.) показал и доказал всю жизненность, всю правильность своего подхода, своих целей и возможностей».
«200 000» — это рассказ о том, как бедный честный портной Шимеле Сорокер, труженик и фантазер, мечтатель и добряк, выиграл 200 тысяч рублей. Мечта о хорошем субботнем ужине, о жизни без долгов стала для Сорокера реальностью. И не только это — он становится самым богатым, а значит, и самым почтенным человеком в местечке. Больше не надо работать по ночам, думать о том, как накормить голодных детей, — «главный выигрыш» перевел Сорокера из «амхо» (бедняк-ремесленник) в среду местечковых магнатов; он становится Семеном Макаровичем.
Не Шимеле, не Шимеле,
Меня теперь зовут
Семен Макарович, Семен Макарович!
Я слышу там и тут!
Но, увы, недолгим оказалось «счастье» — мошенники, окружившие обладателя «счастливого» выигрыша, обманули его, и Семен Макарович снова становится Шимеле Сороке-ром: он счастлив своему возвращению к трудному, но честному существованию. Достоинство человека не в богатстве, а в добродетели, в честности — такова тема пьесы.
Любопытен рассказ А. В. Азарх-Грановской об этом спектакле, который всегда для нее, да и для всех зрителей становился праздником: «Михоэлс. Михоэлс вообще… он замечателен. У него такие движения — механическая привычка мерить аршин, он как бы разговаривал, а в это время отмерял вот так, ладонью руки, сколько раз она помещалась в пространстве. Потом, когда он выиграл, и ему говорили: „Ну, ты же теперь барин. Ну так вот, надо же пыжиться“, — как он на себя шапку надевал, подушку надевал, как наполеоновскую шапку, и изображал из себя важного барина. Все это играючи, все это с шуткой такой легкой. И все это было по-своему необыкновенно изящно. Здорово! Спектакль всегда имел большущий успех, потому что все было весело, жизнерадостно и глубоко народно. Все выстроено на народных корнях».
О. Э. Мандельштам, потрясенный спектаклем «200 000», писал: «Скрипки подыгрывают свадебному танцу. Михоэлс подходит к рампе и крадучись, с осторожными движениями фавна прислушивается к минорной музыке. Это фавн, попавший на еврейскую свадьбу, в нерешительности, еще не охмелевший, но уже раздраженный кошачьей музыкой еврейского менуэта. Эта минута нерешительности, быть может, выразительней всей дальнейшей пляски. Дробь на месте, и вот уже пришло опьянение, легкое опьянение от двух-трех глотков изюмного вина, но этого уже достаточно, чтобы закружилась голова еврея: еврейский Дионис нетребователен и сразу дарит веселье.
На время пляски лицо Михоэлса принимает выражение мудрой усталости и грустного восторга, как бы маска еврейского народа, приближающаяся к античности, почти неотличимая от нее.
Здесь пляшущий еврей подобен водителю античного хора. Вся сила иудаизма, весь ритм отвлеченной пляшущей мысли, вся гордость пляски, единственным побуждением которой в конечном счете является сострадание к земле — все это уходит в дрожание рук, в вибрацию мыслящих пальцев, одухотворенных, как членораздельная речь.
Михоэлс — вершина еврейского дендизма — пляшущий Михоэлс, портной Сорокер, сорокалетнее дитя, блаженный неудачник, мудрый и ласковый портной».
Мандельштам любил не только искусство Михоэлса, но и самого актера. В трудные для Мандельштама времена, когда в Москве у него не было ни жилья, ни средств к существованию, дом Михоэлса становился кровом и для него, и для Надежды Яковлевны. Михоэлс, как и поэт Перец Маркиш, оказывал Мандельштаму поддержку во всем, чем мог. Не говоря уже о материальной поддержке. Об этом пишут в своих воспоминаниях и вдова Мандельштама, и вдова Маркиша. Сам же Перец Маркиш, по его признанию, не был на спектаклях «200 000» только в случае «крайней безысходности». Вот один из его отзывов об этом спектакле: «Абсолютно не преувеличенным будет утверждение, что Шимеле Сорокер в ГОСЕТе — в гораздо большей степени образ Михоэлса, нежели Шолом-Алейхема.
Если не знать, что необычайная артистическая изобретательность и театральная мудрость, вложенные в образ Шимеле, принадлежат Михоэлсу, художнику нашей эпохи, — можно было бы думать, что пьеса „200 000“ (вне специфики гениального шолом-алейхемского слова) написана советским драматургом».
«Сорокалетнее дитя» становится заметной личностью в театральной Москве, которая тогда стала едва ли не самым театральным городом в мире. Более ста театральных коллективов, разных и интересных, ежедневно давали спектакли. Но даже на фоне таких постановок, как «Синяя птица», «Принцесса Турандот», «Лизистрата», «Слышишь, Москва», — «200 000» шли в переполненном зале.
В 1933 году П. Марков писал: «Театр возобновил работу старой постановкой „200 000“. Этот спектакль идет в театре свыше 10 лет. Благодаря мастерскому оформлению и бодрому темпу, в котором происходит спектакль, он пользуется неизменным успехом у зрителей. Этот успех был значительный и 18 апреля. Зрители очень тепло отнеслись к дружной, сработанной игре актеров. Особенно горячо аплодировали игре заслуженных артистов Михоэлса и Зускина» (Правда. 1933. 20 апреля).
Спектакль «200 000» в определенной мере был этапным не только для Михоэлса, но и для театра. Успех его на ка-кое-то время снял вопрос о закрытии театра. Да и пресса сделала свое дело — субсидии театру, хоть на короткий период, — увеличились. Театр уже настолько уверовал в свои силы, что позволил себе подвергнуть насмешке существовавшие до него в разных странах и в разные времена еврейские театры.
Гротеск, юмор, сатира, свойственные ГОСЕТу, пронизали спектакль «Три еврейские изюминки» (авторы И. Добрушин и Н. Ойслендер). «Три изюминки» — насмешливое напоминание о еврейском театре до ГОСЕТа. «Остроумно вышучивая национальную трагедию „Одесского Еврейского театра“ резким подчеркиванием условных нелепостей мелодрамы „Принц фон-Фляско-Дриго“, ГОСЕТ дал веселую пародию на американский еврейский театр во второй опереточной миниатюре „Сарра хочет нефа“. Но лучшие свои силы он приберег для третьей пьесы — „Ночь у хасидского раби“, — которая заслуживает всяческого внимания, в частности, со стороны наших театральных работников. Здесь дана настолько стройная и художественная проработка антирелигиозной постановки, что ее можно смело поставить в пример многим нашим профессиональным театрам, в особенности опере и оперетте, которые до сих пор не удосужились проработать у себя эту тему столь же убедительно, как то сделал А. Грановский. Правда, у него нет острой, беспощадно бьющей сатиры Мейерхольда, но он уверенно показывает, что при желании можно добиться очень многого даже приемами эстетического театра, если только обладать твердой целевой установкой. Если бы на этот путь сумел встать в свое время Камерный Таирова, то целая полоса его деятельности не прошла бы бесследно для советской общественности» (А. А. Гвоздев).
«Три изюминки» — это вечер пародии: «Принц фон-Фля-ско-Дриго» — на старый русско-еврейский театр; «Сарра хочет негра» — на американо-еврейский театр и «Ночь у хасидского раби» — пародия на «Габиму».
«Можно сказать, что это самый веселый спектакль сезона. Еврейский камерный театр порадовал нас крепкой, красочной опереттой не в опошленном ее виде…
Из актеров надо выделить Михоэлса (вот крупный актер, не известный русской публике!)» (Известия ЦИК. 1924. № 81).
«Можно смело сказать, что из всех пародийных спектаклей на текущий сезон это самый удачный, самый веселый и остроумный.
А главное — это спектакль, который стоит посмотреть» (Правда. 1924. 3 апреля).
«Три изюминки» Михоэлс ставил вместе с Грановским и Вульф, и здесь его режиссерские и педагогические способности проявились особенно ярко. Он помогал авторам сценария в совершенствовании текста пьесы. Между тем ГОСЕТ готовился к своему пятилетнему юбилею. «Удивительное дело. Театр, что называется „без роду и племени“. Без вчерашнего дня, без родителей, без багажа „культуры“ и всяческих традиций — и такой успех!» (Новый зритель. 1924. № 20).
«А вот где всегда ожидало событие — так это в Еврейском театре, и там уж мы старались ничего не пропустить. Меня завораживала внутренняя музыкальность, ритмичность спектаклей, в которых тела, движения, голоса — все пело, и сквозь смех — такая грусть! Наверное, это проявились национальные свойства, но как их использовали в искусстве, на сцене — не передать!» — вспоминает С. В. Гиацинтова. Эти благодарные слова, без сомнения, заслужили люди, создавшие такой спектакль, как «Ночь на старом рынке». (Премьера состоялась 5 февраля 1925 года.)
Это был, быть может, самый интересный, самый спорный спектакль в ГОСЕТе той поры.
Грановский в программе сообщал зрителям:
«„Ночь на старом рынке“ является нашей последней постановкой из цикла „еврейское прошлое“.
Задача, которую мы поставили себе, осуществляя эту работу, необычно трудная, так как текст „Ночи“ не только не написан для театра, а является произведением вне театра.
„Ночь“, собственно говоря, нельзя назвать пьесой — триста строк текста, отсутствие сюжета и беспрерывная смена сцен, лишенных видимой связи, напоминают скорее карнавал призраков.
В этом плане театр и осуществил постановку, давая этому представлению название — трагический карнавал». Перед зрителями — старая площадь, переходящая в кладбище, кладбище, ставшее рынком.
Площадь — призрак. Воссоздать такую площадь-призрак оказалось по силам художнику необычайного дарования — Р. Р. Фальку, профессору живописи ВХУТЕМАСа. Прекрасный живописец впервые пришел в театр, и работа его в «Ночи» вызвала немало споров. Даже такой тонкий знаток, как А. Эфрос, отдавая дань даровитости Фалька, полагал, что «сцена — не его дело». Грановский думал иначе и пригласил этого художника, не считаясь даже с мнением худсовета.
Фальку удалось слить в нечто единое все живое и неживое, что было на сцене. Декорации умирают, оживают, пляшут вместе с героями спектакля.
Ожившие мертвецы и живые люди, подобные мертвецам…
Последняя пляска мертвецов перед наступлением дня.
Призраки прошлого. Карнавал теней вчерашнего дня.
В той же программе к «Ночи» Грановский предупреждает: «К „Ночи“ нельзя относиться как к драматическому спектаклю. — Это трагический карнавал на театре».
Мы остановимся на кратком содержании спектакля, без этого невозможно понять и оценить одну из важнейших ролей Михоэлса, да и, быть может, лучший спектакль ГОСЕТа времен Грановского.
«В своем „трагическом карнавале“ театр прощается с „запоздалым миром еврейского средневековья“. Жестоко и зло. Все то, что ранее было намечено в постановке „Гет“, в этом спектакле доведено до предела, до монументальной строгости и сгущенности…
Два шута — еврейских скомороха — являются ироническими и насмешливыми пояснителями показываемого мрачного и волнующего зрелища. Их остро и легко играют Михоэлс и Зускин», — писал П. Марков (Правда. 1925. 14 февраля).
За день до этой рецензии спектакль получил иную оценку: «…Сама форма мистериальной поэмы Переца стала для театра роковой. Более, чем смешно, явилось само намерение театра преодолеть мистику через… мистическую композицию (по Уайльду, „лучшее средство преодолеть искушение — поддаться ему“).
…В общем — провал очевидный. Театр должен в этом честно признаться» (Известия. 1925. 13 февраля).
Для артистической биографии Михоэлса роль Бадхена значительна. Ему удалось создать образ глубоко сатирический по своей антирелигиозной направленности. Михоэлс произносит всего 50 слов, некоторые фразы повторяются, но в них сказано очень много — это приговор патриархальному миру еврейского средневековья. Он насмешливо произносит вещие слова: «Скопище старцев у западной стены» в ответ на жалкий и бессмысленный плач мертвецов: «Не забывайте старой матери, мы удаляемся на поиски святой земли». Что ж, быть может, тогда эта насмешка была искренней. Михоэлс неоднократно подчеркивал, что человека надо рассматривать как самую великую тайну природы, и хотя изучить ее до конца невозможно, решать эту задачу актер должен всю жизнь. По существу, Бадхен-Михоэлс в спектакле «воюет» со всем «трагическим карнавалом», и чтобы в роли почти без слов остаться не только не замеченным, но выйти победителем, Михоэлс находит ряд точных средств.
У Бадхена странная внешность: дико заросшее лицо, искусственная голова, огромные губы, на разной высоте большие брови; резкие, динамичные движения; внезапные остановки, придающие загадочность, — все это способствовало огромному эмоциональному воздействию Михоэлса на зрителей, да и на партнеров. Чтобы верить в будущее, бороться за него, надо постоянно хранить память о прошлом. И в этом актер Михоэлс в «Ночи на старом рынке» разошелся во мнениях с режиссером Грановским, обещавшим зрителям, что этим спектаклем театр распрощается с темой «о прошлом».
Вот что написала об этом спектакле Алла Вениаминовна Зускина: «Изучая материалы по „Ночи на старом рынке“, я не могла избавиться от ощущения, что в этом спектакле скрыто нечто большее, чем высокое искусство, — какая-то неведомая мне глубина. Ведь недаром же сказано: „Пути творчества неизъяснимы; они проложены в темных шахтах подсознательного“. Все эти „вымирающий город и ожившее кладбище“, „второе я“, „психологическая линия“ просто взывали к подсознательному, и я даже стала читать книги по психологии, в частности Фрейда, чтобы в этом разобраться. Не могу сказать, что разобралась, но мои ощущения в ка-кой-то мере подтвердились, пусть косвенно, и подтверждение пришло с другой, неожиданной стороны.
Я узнала, что в 1928 году, во время гастролей театра в Европе, по окончании представления „Ночи на старом рынке“ в Вене за кулисы прошел человек, искавший Грановского. Грановского на месте не оказалось, и человек попросил передать следующее: „Я так потрясен спектаклем… это что-то из ряда вон выходящее“. — „Вы знакомы?“ — спросили его. „Нет“. — „Так как же передать? Простите, ваше имя?“ — „Зигмунд Фрейд“».
Во время европейских гастролей спектакль «Ночь на старом рынке» производил на зрителей неизгладимое впечатление. В Европе же об этом спектакле писали многие критики, и среди них самый по тем временам знаменитый и влиятельный — Альфред Керр: «Это великое искусство. Великое искусство… Сквозь пантомиму просвечивает вечность…»
Хотя советская пресса и одобряла спектакль, считая его революционным, поскольку старый мир там умирает, уделять ему слишком много внимания она не решалась: все-таки не мертвецам представлять радужную советскую действительность.
Нет ничего хуже, чем ускользнувшее счастье.
После «Ночи на старом рынке» к ГОСЕТу пришла известность не только в нашей стране, но и за рубежом. Последовали приглашения на зарубежные гастроли, а из США поступил заказ на съемку фильма «Еврейское счастье» (по циклу рассказов Шолом-Алейхема «Менахем-Мендель»).
«Человек воздуха» — герой не новый для ГОСЕТа. В «Вечере Шолом-Алейхема» Менахем-Мендель уже был «важной фигурой», и заказ без колебаний принят коллективом театра. К работе над фильмом приступили в начале 1925 года, писать сценарий сначала поручили Тенеромо, затем Левидову, а позже кто-то сказал Грановскому: «Этот сценарий может написать только Бабель». О его участии в фильме «Еврейское счастье» мне рассказал народный артист СССР Григорий Львович Рошаль:
«Это было в конце мая 1925 года. Мы собрались на квартире Соломона Михайловича на улице Станкевича. Все собравшиеся были в замечательном настроении. Михоэлс, Зускин, Альтман, Тиссе. Мы думали о том, что нового удастся нам рассказать о Менахем-Менделе, да еще в кино! Тиссе долго разъяснял нам преимущества кино перед театром. „Понимаете, — говорил он, — нельзя Менахем-Менделя запереть в маленький согнувшийся домик на узенькой местечковой улице, как это сделано в спектакле; надо показать его мытарства везде и сполна: в городах, в местечках, на вокзалах, в поездах“.
…Все ждали Грановского с обещанным „большим сюрпризом“. Мы подробно вспоминали спектакль „Агенты“ и не представляли, как можно сыграть Менахем-Менделя в кино.
Раздался звонок, в комнату вошел человек невысокого роста в серой блузе с резинками на рукавах. Большие очки подчеркивали его высокий лоб, казавшийся еще большим из-за наметившейся на лбу широкой лысины. Голубовато-серые, по-детски лукавые глаза с особой силой подчеркивали его непосредственность.
Бабель снял очки, протер медленно стекла, не спеша снова надел их и, внимательно осмотрев каждого из нас, спросил: „А кто же из вас Грановский? Никого не подозреваю!“
— А я вам не подхожу? — с ехидцей в голосе спросил Михоэлс.
— Михоэлс, вы, может быть, Менахем-Мендель, но не Грановский, и тем более не Мендель Крик, — ответил Бабель. — У нас в Одессе не любили „людей воздуха“. Мы любили людей дела. Ваш Менахем-Мендель или реб Алтер говорил, что „еврей, даже если и выпьет, всегда трезв. Язык у него не заплетается… На ногах крепко держится“… Словом, сам себе удовольствие боится сделать. А Мендель Крик любит шумную жизнь! Он всегда при деле и при веселье. А вы хотите, чтобы я писал о „человеке воздуха“. Давайте, Михоэлс, договоримся так: я из Менахем-Менделя сделаю Менделя Крика. Идет?
— А как же Шолом-Алейхем? Может быть, он вам прислал депешу с того света, чтобы вы дописали за него Менахем-Менделя?
Михоэлс и Бабель рассмеялись так громко и заразительно, что, когда они уже перестали смеяться, нас еще долго „давил“ смех.
— Я с удовольствием сыграл бы вашего Менделя Крика, — признался Михоэлс, — правда, Одессу я знаю плохо. Но если Бабель думает, что в Двинске не умели свистеть как у вас в Одессе, то даже он ошибается.
И Михоэлс, вставив два пальца в рот, свистнул так громко, что из многих окон в общежитии на Станкевича послышался плач испуганных детей.
— Детей вы пугать умеете, — с усмешкой сказал Бабель, — Мендель Крик из вас, может быть, получился бы, но больше вы бы мне понравились в роли Бени Крика. Я вижу — вы человек страстный, горячий, а „страсти владычествуют над мирами!“
Потеряв надежду на приход Грановского, мы решили взяться за дело сами. Бабель изложил свою концепцию Менахем-Менделя. В его рассказе чувствовалось глубокое знание творчества Шолом-Алейхема, жизни еврейских местечек, но к концу беседы возникли сомнения. „Понимаете, — сказал Бабель, — в Одессе были бедные и богатые евреи, ремесленники и банкиры, врачи и ломовые извозчики. Одни жили в шикарных особняках на Французском бульваре, а другие ютились в подвалах Молдаванки и Слободки. Но одесские евреи — это не местечковые евреи. Среди них я не встречал „людей воздуха“, они все с детства стремились к какому-то реальному делу, и поэтому я боюсь, что сценарий у меня не получится“.
— Знаете, я не писатель, но позволю себе дать вам маленький совет, — сказал Михоэлс. — Я слышал, что вы свои рассказы пишете очень медленно, переделывая каждую фразу десятки раз. Сейчас ваша задача проще. За вас большую часть работы уже сделал Шолом-Алейхем, он писал о своем Менахеме более десяти лет и переделывать несколько раз вам не понадобится. Так вот, я советую вам написать сценарий за две недели.
Все, что вы говорили сегодня о Менахем-Менделе и о Менделе Крике, — похоже на правду. Но помните, Бабель, когда будете писать сценарий, что при царизме почти все евреи были обречены на голод, нищету. И если верить вашему прекрасному земляку — Менделю Мойхер-Сфориму, то и в Одессе было немало нищих. Может быть, они были веселее, чем нищие в Глупске. Но что это меняет? Чтобы хоть немного скрасить свою жизнь, хотя бы на минуточку получить надежду, люди эти становились „людьми воздуха“, Менахем-Менделями.
Голодные дети, протекшая кровля, холод зимой и жара летом — что оставалось этим людям, кроме самообмана, вселяющего веру?
Вы все поняли, что я хотел сказать? И еще, уверяю вас, Бабель: Менахем-Мендель ближе к Акакию Акакиевичу, чем к Менделю Крику. Я люблю Менахем-Менделя, страдаю вместе с ним. Хватит уже насмешек — надо понять, отчего хочется плакать, когда читаешь Шолом-Алейхема!
— Я согласен с вами, Михоэлс, во всем, но не могу понять, за что вы так невзлюбили моего Менделя Крика? Вы не находите в нем что-то от Лира? Если нет, мне жаль вас, Мудрый Соломон!
— А мне вас еще больше жаль, ибо вы должны помнить: в июне нас уже ждут в самом Бердичеве, а это вам не Одесса!»
Прошел месяц, а исчезнувший Бабель не давал о себе знать.
В съемочной группе возникло беспокойство, пошли разговоры о приглашении нового сценариста, но Михоэлс сказал: «Дайте мне три дня, и мы примем один из трех вариантов: либо я приведу Бабеля вместе со сценарием, либо принесу сценарий без Бабеля, либо последнее — если не будет сценария, не будет Бабеля».
Бианка Петровна Тиссе сообщила о том, что в то время, когда Грановский приступил к работе над фильмом «Еврейское счастье», Э. К. Тиссе был включен в группу Эйзенштейна, который начал снимать фильм «Броненосец Потемкин». Тиссе буквально «сбежал» от Эйзенштейна для работы над фильмом «Еврейское счастье» (актер М. Штраух вспоминал о том, что вся съемочная группа разыскивала «пропавшего» Тиссе).
Словом, как в детективе: Тиссе «сбежал» от Эйзенштейна, а Бабель — от Грановского.
И уже спустя время мы узнали, что Бабель долго ходил по закоулкам Дорогомиловской Заставы. Он нашел старика-еврея, занимавшегося до революции более 30 лет сватовством. Человек этот никогда не читал Шолом-Алейхема, но разговаривал на языке его героев. Бабель выдал себя за старого холостяка.
Менахем-Мендель из Дорогомиловской Заставы возил за собой Бабеля то в Малаховку, то в Черкизово, то в Перловку в надежде женить «старого холостяка».
Попутно старик продавал в Малаховке черный перец, купленный в Черкизове, а в Перловке торговал спичками, приобретенными в Малаховке.
Старик удивлялся поведению Бабеля: «Как вы можете жениться, если вы не запоминаете даже имя невесты, я не успеваю вас знакомить, а вы уже что-то пишете… Я составлю список невест без вас. Ваше дело — сделать себе судьбу!»
Бедный старик — он не знал, что становится героем сценария…
В конце концов «пропавший» Бабель нашелся. Сценарий он не принес, но сказал: «Снимайте без сценария, а я напишу титры по готовому фильму».
Творческая судьба еще не раз сводила этих художников, свидетельством тому — чудом сохранившееся письмо Бабеля Михоэлсу:
«Молоденово 28/XI—31
Дорогой С. М. Я жив — и пишу рассказы, не пьесу, а рассказы. Замерзшая пьеса лежит, лежат сотни исписанных листов. Самое удивительное в этом деле — что я ее все-таки напишу, она не дается, но мы ее оседлаем. От этих рассуждений никому не легко — ни вам, ни вашей бухгалтерии.
Все-таки не стоит сажать меня в долговую яму. Гордость моя заключается в том, чтобы не платить кредиторам по 20 копеек за рубль, а бедствие в том, что о рубле, его качестве и удельном весе — у меня соответственное представление. Если Вы согласны ждать еще — ждите, это будет правильно, если нет — я верну деньги.
Я начал печататься и гонорарий помаленьку будет капать.
Мне очень хочется, чтобы Вы приехали в Молоденово. У нас нет комфорта, но красота неописанная. Дороги еще нет, но как только ляжет настоящий снег — я пришлю за Вами гонца. Вы передадите ему, к какому поезду выслать лошадей, и мы весь Ваш выходной день будем говорить о любви и пить вино. Привет от всего сердца Е. М. Ваш И. Бабель».
Анастасия Павловна рассказала мне о беседах Михоэлса с Бабелем, о предполагаемой постановке «Заката». Бабель жаловался на каторжность писательского труда: он считал, что не владеет образностью, воображением, а все, им написанное, — в лучшем случае заготовки для настоящих книг. Михоэлс, потрясенный таким признанием, в сердцах воскликнул: «Ваши рассказы — заготовки?! Так что же тогда вся наша сегодняшняя литература?!..» К постановке «Заката» в ГОСЕТе Михоэлс и Бабель приступили, но это было позже, а весной 1925 года коллектив ГОСЕТа выехал для съемок фильма «Еврейское счастье» на Украину. Михоэлс писал об этой поездке: «Когда Еврейский камерный театр начинал жить, героический пролетариат Ленинграда и Москвы напряг все усилия, чтобы завоеванный ими октябрьский день превратить в советскую эпоху. В то время Украина корчилась в дьявольском танце национальной схватки. Пролетариат понес здесь большое количество жертв. Рукой погромщиков были созданы руины из еврейских местечек. Теперь мы едем по этим местам с другими песнями.
Еврейские комедианты унаследовали от павших от рук контрреволюционеров исключительную жажду жизни, превратили ее в пафос революционной динамики.
Мы восприняли последнюю улыбку уходящих от жизни, и эту улыбку в жизнерадостный октябрьский смех превратили. Мы пришли на Украину не со слезой, а с радостью, под марш октябрьской победы. Мы совершили свой комедийный парад на Украине. Это наша социально-революционная миссия».
Михоэлс очень любил Украину, родину Шолом-Алейхема, страну местечек бывшей черты оседлости, в которых, по его мнению, «только и есть наш настоящий зритель». Грановский тоже мечтал об этой поездке. Михоэлс его убедил, что снять фильм «Еврейское счастье» можно только в Бердичеве, Виннице или Бершади. «Там, — убеждал Грановского Михоэлс, — еще сохранились в первозданном виде дома и люди шолом-алейхемской эпохи». Михоэлс обещал показать Грановскому, не знавшему жизни местечек, не только их тесный, душный быт, но и прелести субботних вечеров, полных покоя и юмора.
— Поверьте мне, Михоэлс, ничего от всего этого после Петлюры и Махно уже не осталось. Давайте сделаем декорации «а-ля Бердичев» и спокойно снимем фильм в Москве.
— Уважаемый Алексей Михайлович, — продолжал настойчиво Михоэлс, — я хочу рассеять ваши сомнения, да поможет мне Бог и Шолом-Алейхем. Есть у него рассказ «Новостей никаких…». Джейкоб (в прошлом Янкл) пишет из Америки своему другу Исролику: «Нас очень огорчает, что ты не пишешь нам писем. Потому что с тех пор, как начались у вас все эти революции, конституэйшн и погромы, мы тут ужасно расстроены, просто головы потеряли. Если то, что пишут наши газеты, не блеф, то ведь у вас уже, наверно, половину народа уложили. Каждый день слышишь о вас какую-нибудь новую сенсейшн…»
Исролик ответил на это своему другу так: «Дорогой друг Янкл!.. Чудной ты все-таки человек! Уже если выбрался один раз в два года написать поздравительное письмо, то писал бы хоть по-человечески! Кто это обязан понимать. Такие слова как „блеф“, „сенсейшн“ и тому подобное?.. О чем я могу тебе писать? Новостей никаких. Сейчас у нас, слава Богу, все благополучно. Богачам живется хорошо, как всегда, а бедняки мрут с голоду, как везде». (Михоэлс лукаво подмигнул присутствующим и певучим голосом пропел: «Алексей Михайлович, как вам нравится этот Маркс из Бердичева?»
Грановский рассмеялся и попросил Михоэлса продолжить чтение рассказа Шолом-Алейхема.)
— Так вот, — продолжил Михоэлс, — дальше Исролик сообщает бывшему Янкелю:
«Мы, ремесленники, сидим без работы. Об одном только мы можем сейчас не беспокоиться — о погроме. Погрома мы вообще больше не боимся, потому что он уже был, а дважды одно и то же только в Кишиневе могло случиться. Погром, правда, произошел у нас с опозданием, но зато мы имели погром по всем правилам…»
Описав другу своему все ужасы погрома и страданий, выпавших на долю жителей местечка, Исролик заканчивает письмо так:
«…Больше новостей нет. Будь здоров и кланяйся сердечно каждому в отдельности. В Америку я не собираюсь. Не нравится мне твоя Америка! Страна, в которой газета называется „пейпер“, в которой Блюма превращается в Дженни, а жених оказывается троеженцем, из такой страны, прости меня, бежать надо!»
— Поверьте, уважаемый Алексей Михайлович, дети Исролика, уцелевшие от погромов, еще живы и ждут нас в Бердичеве. Вы поняли?
И скептицизм Грановского по поводу поездки в Бердичев сник. Кто-то запел песенку «Давайте мне билетик на Бердичев», ее подхватили все, а Михоэлс вдруг пронзительно свистнул, все замолчали, и он сказал: «Билеты уже заказаны. Мы едем в Бердичев!»
В Бердичеве Тиссе и Грановский приступили к съемкам фильма «Еврейское счастье». Когда съемочная группа направилась к месту съемок, все жители Бердичева высовывались в распахнутые окна и рассматривали «приезжих», провожали их возгласами на еврейском и ломаном русском языке: «Снимите меня, я хочу видеть себя в иллюзионе».
«Мы лишили Бердичев кинематографической девственности», — шутя вспоминал о первых днях съемок Грановский. Авторы фильма хотели продолжить съемки в Виннице, но Михоэлс настаивал, чтобы «кинотабор» еще побыл в Бердичеве, он считал, что общение с жителями этого города является настоящей театральной школой для актеров ГОСЕТа.
В статье о фильме «Еврейское счастье» В. Шкловский писал:
«Есть такая болезнь у крыс, когда они в подполье срастаются своими хвостами. Так срослись дома и люди в еврейских местечках. Быт душный, запах мутный, проволоки вокруг всего местечка. Кругом чужие поля и чужие враждебные люди. Люди в тюрьме создают свой язык. Униженные — остроумны. Самые лучшие еврейские анекдоты созданы самими евреями о себе. К числу этих анекдотов относятся рассказы Шолом-Алейхема».
Многое из того, о чем писал Шкловский, в 1925 году еще было живо в Бердичеве, но они хотели, чтобы в их фильме жила тоска по лучшей жизни, вера в будущее.
Ожидания постановщиков фильма «Еврейское счастье» сбылись: и режиссеру, и автору сценария, и актерам — Михоэлсу прежде всего — удалось рассказать не только о мрачном прошлом, породившем «людей воздуха». Были в фильме и смех сквозь слезы, и слезы сквозь смех, и лирическая ирония, и сарказм. Вспомним эпизод «Встреча в воде». К голому Менахем-Менделю — из воды торчит только его голова в цилиндре — подплывает, тоже голый, другой «человек воздуха». Они подчеркнуто вежливо раскланиваются (Менахем-Мендель даже снимает цилиндр) и начинают вести переговоры о каком-то деле. Ничто: ни вода, ни град, ни молния — не могут стать препятствием для «людей воздуха», только бы возникла возможность «гешефта» (дела), и они готовы сделать все, чтобы его осуществить.
Конечно, Менахем-Мендель, да и вообще «люди воздуха» — обречены, это понимает Михоэлс и доносит до зрителя. Меланхолия, неврастеничность Менахем-Менделя нарочито заземлены (вплоть до «несварения желудка», как следствия расстройства нервной системы из-за неудавшегося дела). Михоэлс все учел: взаимоотношения Менахем-Менделя с людьми, с окружающим миром; может быть, поэтому фильм не устарел, и не случайно Ю. А. Завадский писал: «До сих пор, если в кинозале показывают фильм „Еврейское счастье“, где Михоэлс неповторим, я не могу пропустить ни одного кадра, я не могу уйти, как бы я ни был занят, как бы меня ни торопили… Это — праздник актера Михоэлса в комедии, это — огромная радость для любого зрителя сегодня…»
Осенью 1925 года ГОСЕТ вернулся в Москву, и зрители увидели пьесу «Доктор» по Шолом-Алейхему с участием Михоэлса. Спектакль шел несколько раз, но особого следа в истории ГОСЕТа не оставил. Продолжался напряженный поиск новых пьес, их по-прежнему не было, и коллектив театра снова вернулся к Гольдфадену.
…Праведники накликают на землю бедствия…
Много мудрости — много огорчений.
В оперетте-памфлете «Десятая заповедь» в восьми картинах (обработка Г. Добрушина) сатирически изображается жизнь Берлина и Палестины, звучит ирония по адресу II Интернационала, прислужников Антанты: Вандервельде, Макдональда и т. п. (Попутно сатира оборачивается и на собственный театр, где в быстрой смене ряда забавных сцен «обнажаются приемы» театра и его сценические эффекты.)
«Оценивать этот спектакль можно с различных точек зрения. По сравнению с западным „ревю“, „Десятая заповедь“ — образец хорошего вкуса и театральной культуры. С общественной точки зрения, постановка также выдерживает критику, ибо недвусмысленно высмеивает отжившие свой век предрассудки и свободно вращается в кругу политической злободневности.
Но, признавая значение этого спектакля для широкой публики и для театра, нельзя не отметить, что он не опровергает возникающие против него возражения. При всей своей ритмичности, „Десятая заповедь“ не разрешает проблемы постановки политобозрения, так как вся ее „фокстротная масса“ с пряными костюмами Н. Альтмана все же висит над спектаклем, покрывая своим весом сатирическое задание. А кроме того, и это самое важное возражение, спектакль сводит на нет большое драматическое дарование труппы, столь заинтересовавшее в первых постановках ГОСЕТа. Поэтому хотелось бы быть уверенным, что устремление к чистой театральности, доведшее театр до пышного „обозрения“, — на ней и обрывается, с тем, чтобы возвратиться к подлинной музыкальной драме» (А. Гвоздев. Красная газета. 1926. 23 августа).
Несколько слов о содержании спектакля. Хор ангелов прославляет небесное житье, но вдруг появляется злой ангел Ахитойфель (Михоэлс) и вступает в спор с добрыми ангелами о том, чьей воле послушен человек.
В корчме, расположенной на пути из Немирова в Берлин, купец Генах вступает в переговоры со злым ангелом: он не прочь отдать ему душу, только бы получить в жены Матильду, жену компаньона. Добрый ангел пытается предостеречь его, но… власть Ахитойфеля сильнее.
Затем действие переносится в богатый дом Людвига в Берлине. Гости поют печальные песни о том, что бедная еврейская культура, встретившись с американской, потеряла свою невинность. Хозяин дома Людвиг страдает меланхолией. Врачи советуют ему развлечься, ангелы напевают песни о свободной любви, а добрый ангел предостерегает от последствий такой любви. Людвиг и Генах, как и их жены, грешны. Они кончают жизнь самоубийством, и небесный суд выносит им высшую меру наказания — вечное райское житье.
Театр дал злую сатиру не только на буржуазное общество, но и на уже появившихся тогда в нашей стране бюрократов, ибо, как справедливо отмечал М. Эвенлев, «основная идея гольдфаденской пьесы ничуть не устарела»: алчность, стяжательство продолжали жить на Западе, а у нас в 1926 году появились симптомы их возрождения. Результатом работы театра за пять лет в Москве стало присвоение А. М. Грановскому и С. М. Михоэлсу очень почетного по тем временам звания — заслуженный артист республики.
Вдохновленный высокой оценкой своей работы, Михоэлс приступил к репетициям роли Шинделя в пьесе А. Вевюрко «137 детских домов».
«137 детских домов», по мнению Г. Рыклина, — неудачная пьеса, напоминающая «Ревизора» Гоголя в плохом переводе.
Местечковый авантюрист Шиндель похож то на Хлестакова, то на «сыновей лейтенанта Шмидта», похождения его более чем неправдоподобны; быт современного местечка в спектакле не показан, словом, пьеса сама по себе крайне неудачна и привела бы к полному провалу, но провала не было: актерский коллектив спас спектакль, причем главная тяжесть этой работы пала на плечи Михоэлса (Г. Рыклин).
Сегодня трудно установить, взялся ли Михоэлс за роль Шинделя по настоянию Грановского или уже так вошел в роль премьера ГОСЕТа, что не хватило мужества отказаться от главной роли, уступить ее кому-то…
Ясно одно: для Михоэлса не существовало ролей проходных — он играл Шинделя ярко, заменяя трусливую суетливость, свойственную Хлестакову, юмористическим спокойствием (даже в момент ареста Шиндель спокоен).
О. Мандельштам писал о спектакле «137 детских домов»: «…и человечек-то, подбитый ветром, и все — сущая чепуха: просроченная командировка и пять кусков сахару. Откуда же взялась демоническая самовластность, страстная убедительность? Шиндель гипнотизирует нас, заставляет желать, чтобы у него был сахар и настоящая командировка.
…Когда Шиндель с конструктивной площадки, изображающей комнату, выходит на улицу, вся фигурка пайкового чертика съеживается и слышно, как снег хрустит под наркомпросовскими валенками. Такого актера нельзя выпускать на реалистическую сцену — вещи расплавятся от его прикосновений. Он создает предметы: иголку с ниткой, рюмку с перцовкой, зеркало, быт, когда ему вздумается. Не мешайте ему — это его право, не отнимайте у него творческой радости. Иногда, утомившись прыжками, утомившись мудрым своим беснованием на беспредметной сцене, Михоэлс садится на пол: „Довольно! Прекратим игру…“ Это часовщик, созерцающий зубчики в лупу, это еврей, созерцающий свой внутренний мир, — совсем одинокий, с горящей свечой в руках и выражением страдальческого восторга, как в „Колдунье“…»
И все же спектакль «137 детских домов» не стал для ГОСЕТа шагом вперед.
За семь лет коллектив ГОСЕТа сыграл немало пьес по произведениям Шолом-Алейхема, а современного драматургического материала, по существу, не было. Может быть, поэтому выбор Грановского пал на пьесу Жюля Ромена «Труадек».
В интервью от 26 декабря 1926 года по поводу постановки «Труадека» Грановский сообщил: «В поисках европейской темы для музыкальной комедии я остановился на Жюле Ромене, как на одном из самых остроумных и блестящих писателей современной Западной Европы. Почти никто, как он, не умеет передавать, по выражению Верхарна, „грохот разрушения старых миров“.
В частности, я взял у Ромена „Труадека“, потому что „Труадек“ — один из самых ярких образчиков той человеческой природы, которая руководит „старыми мирами“.
„Труадек“ не спектакль для жеманных девиц. Ромен не только не прикрывает фиговыми листочками „страшные места“, а, наоборот, срывает их там, где им быть полагается в „хороших европейских домах“.
Я строю спектакль в плане эксцентричной оперетты. В основу текстов положены 2-я и 3-я части трилогии „Труадек“, и соответственно спектакль делится на две части: первая — „Труадек в лапах разврата“, вторая — „Труадек — вождь честных людей“. В спектакле 40 эпизодов.
За исключением нескольких эпизодических фигур — все основные действующие лица оставлены по Ромену. Текст тронут в нескольких местах в сторону обострения диалога, часть текста переведена в форму куплета и шансона».
Тема «Мещанина во дворянстве» уже испытана ГОСЕТом — но местечковый портной Сорокер из «200 000» далеко не Труадек! Труадек — профессор, член Французской академии, офицер Почетного легиона.
Михоэлс играл Труадека прежде всего злободневно. Уже тогда, в конце 20-х годов, появилась тень халтурщиков и конъюнктурщиков от науки, приписывающих себе чужие открытия, или, что еще страшнее, «ученые», навязывавшие свои лжеоткрытия.
Тень Лысенко уже витала над научным миром, и Михоэлс и Грановский своевременно показали на сцене жестокого, растерянного, высокомерного, тщеславного человека, который не останавливается ни перед чем, чтобы «быть избранным в члены института на предстоящих зимой выборах».
Нет, его Труадек не простак, поверивший с детской доверчивостью в легенду о городе Доного-Тонка. Он навязывает свою мысль о существовании этого города в докладах, в прессе и, таким образом, помогает заправилам делового мира создавать биржевой бум и ажиотаж, получать прибыль на лжи. Труадеки очень опасны: чтобы оправдать свои действия, они всегда подводят под них идеологическую основу.
О спектакле писали: «Причину все возрастающего успеха этого спектакля надо искать в его исключительно высокой квалификации. Она подсознательно подкупает зрителя, даже не искушенного в тонкостях театральной культуры…
Нельзя выбросить или заменить ни одной интонации из всей игры Михоэлса от первого до последнего его появления — таково впечатление, создаваемое этим первоклассным актером, которым можно любоваться, совсем даже не зная еврейского языка» (М. Кольцов. Правда. 1927. 17 февраля).
«Великий изобразитель национальных типов, Михоэлс сумел не только перевоплотиться во француза, но и проникнуться самими традициями французского сценического мастерства.
В Труадеке он верно отгадал черты мольеровских героев, и опереточный персонаж сыгран в тонах высокой комедии.
Высокое качество комедии, культура и отточенность мастерства режиссера, красочное и полное изящества оформление художника, игра Михоэлса — все это делает ГОСЕТовский „Труадек“ одним из самых лучших спектаклей сезона и едва ли не самым лучшим спектаклем в истории самого ГОСЕТа» — так написал о спектакле бывший актер Двинского русского театра Николай Волков.
О Михоэлсе в роли Труадека рецензенты не сказали главного: «На сцене нельзя спрятать глупость и злость» (Михоэлс «Из записной книжки»).
Благодаря «Труадеку» театр ненадолго вышел за пределы национального репертуара.
Поистине непростая повесть об исходе находится посередине еврейской истории и мысли…
И Грановский, и Михоэлс, и остальные актеры понимали, что к Шекспиру театр еще не готов. Что делать? Кого играть? Снова Шолом-Алейхема? За семь лет сыграно немало спектаклей по его произведениям. Репертуара нет — «Карнавал еврейских масок», «137 детских домов» свидетельствовали скорее об отсутствии современного репертуара.
Над ГОСЕТом нависла тень творческого кризиса. «Труадек» был последним достижением театра. И Грановский вернулся к еврейским вариациям. Почему? Что мешало обратиться к западной драматургии? Режиссерские искания Европы были ему близки. По своей культуре он — западник, а ученичество у Рейнгардта развило его природные склонности и вкусы.
«Если бы он не был так трезв, как это ему свойственно, о медленности процессов культуры ему напоминали бы шишки на лбу. А затем это не должно было бы помешать мировой драматургии войти обязательной частью в работу Еврейского Театра. Он уже так зрел, что справится с классиками. Потерять себя ему уже не опасно, и картавить он будет все равно. Но разве театр может именоваться театром, если Шекспир, Мольер и Гоголь миновали его подмостки?
Грановский оттягивает минуту этих испытаний. Каждый художник зреет по собственному календарю. Колебания творчества естественны и неизбежны. Но когда они затягиваются, они грозят расслаблением. Со стороны тогда это виднее — в особенности дружественному и беспокоящемуся глазу. У меня есть право на окрик. Мне кажется, что Грановский слишком долго морщится „перед чаркою вина“. Что если бы ему закрыть глаза и осушить трудный бокал залпом?» (А. Эфрос). Но Грановский не был знатоком еврейской культуры и литературы, и в этих вопросах ему помогал, советовал Михоэлс.
Поздней февральской ночью 1927 года, после оваций «Труадеку», уставшие и счастливые актеры, по предложению Михоэлса, собрались в фойе театра.
Михоэлс в костюме Труадека читал актерам прекрасное творение, неведомое до сих пор многим из них, да и самому Грановскому.
«Всю свою жизнь, — рассказывает о себе Вениамин Третий, — то есть вплоть до того, как я задумал совершить свое великое путешествие, я провел в Тунеядовке. Здесь я родился, здесь воспитывался, здесь же в добрый час и сочетался браком с женой своей, Благочестивой Зелдой, — да пошлет ей Господь долгие годы.
Тунеядовка — маленький городок, заброшенный уголок, в стороне от почтового тракта, почти отрезанный от мира. Случится, попадет туда кто-нибудь, — жители распахивают окна, двери и с удивлением разглядывают нового человека. Соседи, высунувшиеся из окон, спрашивают друг у друга: „Кто бы это мог быть? Откуда он к нам свалился?.. Что ему нужно?.. Спроста ли это?.. Нет, не может быть! Так просто, ни с того ни с сего не приезжают! Видимо, здесь кроется нечто такое, что надо разгадывать…“
При этом каждый пытается блеснуть смекалкой и житейским опытом. Догадки, одна другой чудовищней, сыплются, как из дырявого мешка. Что касается самих обитателей Тунеядовки, то они, не про вас будь сказано, люди бедные, можно сказать — нищие. Но нужно им воздать должное — бедняки они веселые, жизнерадостные, неунывающие. Если спросить невзначай тунеядовского еврея, как и чем он перебивается, бедняга в первую минуту не найдет, что ответить, растеряется. А придя в себя, проговорит смиренно:
— Я? Как живу? Да так… Есть на свете Бог, скажу я вам, который печется обо всех своих созданиях… Вот и живем… Авось он, скажу я вам, и впредь не оставит нас своими милостями…
И еще нужно воздать должное тунеядовцам — люди они без причуд: в нарядах неприхотливы, да и в еде не слишком привередливы. Истрепался, к примеру, субботний кафтан, расползается по швам, порван, грязноват, — ну, что поделаешь! Все-таки он как-никак атласный, блестит. А что местами сквозь него, как в решете, голое тело видать, так кому какое дело? Кто станет приглядываться? Да и чем это зазорнее голых пяток? А пятки разве не часть человеческого тела?!
Случилось однажды, что кто-то привез в местечко финик. Посмотрели бы вы, как сбежались глазеть на это чудо! Раскрыли Пятикнижие и удостоверились, что финик упоминается в Библии! Поразительно! Подумать только — финик, вот этот самый финик родом из страны Израиля!.. Казалось, вот она, Земля обетованная, перед глазами: вот переходят через Иордан, вот гробница праотцев, могила праматери Рахили, западная стена иерусалимского храма… Вот, казалось тунеядовцам, они погружаются в теплые воды Тивериады, взбираются на Масличную гору, едят финики и рожки и набивают себе полные карманы священной землею палестинской…
— Ах! — восклицали тунеядовцы, и слезы навертывались у них на глаза.
В ту пору вся как есть Тунеядовка душою была в стране Израиля. Горячо говорили о Мессии и со дня на день ожидали его пришествия. Кстати, назначенный новый полицейский пристав особенно сурово правил местечком: у нескольких евреев сорвал с головы ермолки, одному пейсы обрезал, забрал чью-то козу, которая сожрала новую соломенную крышу… Это, помимо всего прочего, побудило запечный комитет усиленно заняться турецким султаном: доколе же правитель израильтян будет властвовать? Снова пошли разговоры о десяти краях в богатстве и чести. Пошли толки и россказни о красноликих израильтянах — потомках Моисеевых, об их могуществе и разных подобных вещах. Им я, главным образом, и обязан путешествием, которое потом совершил…»
До утра продолжалось чтение книги Менделя Мойхер-Сфорима «Путешествие Вениамина Третьего», после Грановский произнес: «Это для нас!» Больше всех радовался Зускин: он обожал Дон Кихота и Санчо Пансу, а Вениамин и Сендерл — герои-горемыки из только что прочитанной книги — чем-то напомнили ему героев Сервантеса…
Вскоре коллектив театра приступил к репетициям. В программе, выпущенной к премьере, состоявшейся 20 апреля 1927 года, сообщалось: «В память десятилетия со дня смерти Менделе Мойхер-Сфорима». (Композиция Ал. Грановского, художник Р. Фальк.)
Почему так хотел Михоэлс сыграть эту роль?«…Вениамин несет в себе какую-то тайну. Он ничего, может быть, не скажет зрительному залу, но когда он подходит к рампе, становится тихо, и я знаю, почему становится тихо. Потому что ждут: „Сейчас он что-то важное скажет“. А я ничего не могу сказать, кроме того, что знаю, что хочется раскрыть какую-то тайну…»
Эти слова о Вениамине Михоэлс произнес в 1934 году, а за десять лет до того, по свидетельству Ефима Михайловича Вовси, Михоэлс жаловался: «Кроме Менахем-Менделя и Шимеле Сорокера я еще никого не сыграл. А так хочется сыграть что-то настоящее… Мне кажется, Грановский не понимает меня до конца.
Прошлое, настоящее и будущее связаны тесным узлом, вечным узлом. Нельзя, играя „вчера“, играть только „сегодня“. В Вечной Книге сказано: „И ты голос мой услыхал“. Если я не сыграю когда-нибудь Тевье и Вениамина Третьего, голос мой останется неуслышанным, и мне кажется, что я зарою свой талант (а есть ли он у меня?) в землю.
Вениамин Менделя Мойхер-Сфорима кажется мне не просто фантазером и мечтателем — есть в нем что-то от пророка Ионы…
Как мужественно побеждал в себе Вениамин чувство страха, трусости — быть может, самого разрушительного из всех чувств: „По природе своей наш путешественник Вениамин был невероятно труслив: ночью он боялся ходить по улице, ночевать один в доме не согласился бы, хоть озолоти его. Отправиться чуть подальше за город означало для него попросту рискнуть жизнью, — мало ли что может случиться! Какая-нибудь ледащая собачонка внушала ему смертельный страх.
Предпринимая путешествие в дальние края, Вениамин решил прежде всего преодолеть в себе трусость. Он нарочно заставлял себя гулять по ночам в одиночку, нарочно спал в пустой комнате, умышленно часто уходил за город. Все это давалось ему нелегко, он даже отощал, осунулся.
Человек, вчера бежавший от собственной тени, поверил в свою мечту, бросает дом и уходит в неведомое.
Мне хочется, чтобы зрители мои поняли, что трусость, страх — не природное чувство евреев: оно порождено веками гонений, уродливыми условиями жизни многих поколений Менделей, Абрамов, Вениаминов.
Я понимаю, что поставить в нашем театре „Путешествие Вениамина Третьего“ не менее фантастично, чем мечтания Вениамина о стране „червонных евреев“.
А впрочем, я сейчас размечтался, как Вениамин Третий — пока его ставить в нашем театре никто не собирается…“»
Действительно, еще в 1925 году Грановский сообщил зрителям (в своем предисловии к «Ночи на старом рынке») о том, что с показом жизни местечек черты оседлости театр «рассчитался».
Но совсем уйти от прошлого никому не дано, было в нем и нечто неповторимое: сквозь века и страны пронесли евреи извечную надежду на счастье, веру в своего Бога и верность Ему, и, как заметил О. Мандельштам, «пластическая слава и сила еврейства в том, что оно выработало и пронесло через столетия ощущение формы и движения, обладало всеми чертами моды непреходящей, тысячелетней. Я говорю не о покрое одежды, который меняется, которым незачем дорожить. Мне и в голову не приходит оправдывать чем-то тот или иной местечковый стиль. Я говорю о внутренней пластике гетто, об этой огромной художественной силе, которая переживет его разрушения и окончательно расцветет только тогда, когда гетто будет разрушено».
Говорят, что Михоэлс, приступая к работе над Вениамином Третьим, шутя сказал Зускину: «В этом возрасте (ему было тогда 37 лет) часто решается судьба людей искусства. Без Вениамина, мне кажется, моя дальнейшая жизнь в театре была бы бессмысленна…»
Говорил ли эти слова Михоэлс или их ему приписывает молва — не столь уж важно. Он так хотел сыграть этого мечтателя из захолустной Тунеядовки, чьи мечты порождены библейскими сказаниями! Никогда раньше не выезжавшие за пределы Тунеядовки, всего с несколькими медяками в кармане, накопленными практичным Сендерлом втайне от ворчливой жены, отправляются Вениамин и его друг в далекое путешествие, навстречу призрачному счастью. «В добрый час! С правой ноги!» — торжественно говорит Вениамин — и оба трогаются в путь. Но уже с первых шагов их ждет разочарование: у кого они ни спрашивают, никто не знает, где дорога на «Эрец-Исроэль» — землю Израильскую. После ряда смешных приключений путешественники попадают в город Глупск, который наивный Сендерл сначала принял за Стамбул. Ловкий вор выманивает у них жалкие гроши. Уставшие и голодные, ложатся Вениамин и Сендерл спать, и снится им сон, обоим один и тот же.
Они в сказочной стране. Их встречают Александр Македонский, церемониймейстер его двора Пипернотер, индийский царь Ал-Турах, дочь Александра Македонского Рохов-Распутная и другие герои. В награду за смелость Александр провозглашает Вениамина королем «червонных евреев», отдает свою дочь ему в жены и велит впредь именоваться Вениамином Третьим в отличие от двух других некогда существовавших евреев-путешественников, тоже Вениаминов. И вдруг, откуда ни возьмись, появляются сварливые жены Вениамина и Сендерла и, невзирая на высшее общество, начинают бить своих мужей.
С ужасом просыпаются только что помазанный король и его друг и снова отправляются в путь. Устав, они присаживаются отдохнуть на пригорке, оглядываются по сторонам и к своему великому удивлению видят — внизу расстелилась их родная Тунеядовка…
Многие театроведы склонны видеть в Вениамине Третьем предшественника «людей воздуха». Едва ли это так. Вениамин Третий — не Менахем-Мендель, в фантазиях и деяниях которого есть что-то от прозы жизни — мечты Вениамина возвышенны, даже божественны.
Михоэлс так давно любил и так навсегда полюбил своего Вениамина, что играл его (пожалуй, единственную роль!) около 20 лет. Об одной из постановок этого спектакля вспоминает Любовь Мироновна Вовси — дочь профессора М. С. Вовси: «Замечательным, ярким был спектакль, сыгранный Михоэлсом и Зускиным в декабре 1935 года. Из родного города Даугавпилса в Москву приехали в гости старенькие тетушка и дядюшка Соломона Михайловича (родители профессора М. С. Вовси). Специально для них был назначен спектакль „Путешествие Вениамина“. Они были когда-то зрителями сочиненной и разыгранной девятилетним Шлиомой драмы „Грехи молодости“. Теперь в театр были приглашены и усажены в первом ряду все многочисленные члены семьи Вовси, жившие в то время в Москве, — сестры, братья, племянники и племянницы. И Михоэлс, и Зускин играли феерически, показали весь блеск своих талантов. Зрители были потрясены и очарованы. Конечно, стариков поразило то, что их „маленький Шлиома“ стал руководителем такого большого Еврейского театра в Москве, в столице России, где недавно они жили в „черте оседлости“, а их дети могли получать образование только в пределах „процентной нормы“».
«Я его всегда называю не Вениамин Третий, а „Вениамин — подрезанные крылья“. Не знаю даже, как родилось у меня это представление. Когда Фальк спрашивал о костюме, то я сказал: „У меня такое чувство, что в плечах тесно, хочется полететь, а крылья подрезаны…“»
(Михоэлс всю жизнь повторял слова своего любимого поэта Тютчева: «Жизнь как подстреленная птица, подняться хочет и не может…» Он сказал однажды, что, если бы он писал историю диаспоры, эти строки Тютчева взял бы эпиграфом.)
Если «гордая» мечта Вениамина о Земле обетованной, о земле предков несбыточна, что ждет обитателей Тунеядовки? Жестокая реальность — по сути, рабство, зло, насилие, цинизм. Утешает лишь верность друзей. С ними легче жить, не так страшно умереть.
Во время работы Михоэлса над ролью Вениамина Р. Фальк принес удачный эскиз. На этом эскизе Вениамин был весь рыжий. «Когда же я приклеил рыжую бороду и надел рыжий парик, получилось совсем не то, что задумал Фальк, и совсем не то, что во мне внутри складывалось уже в виде образа. Я потихоньку от Фалька отменил рыжий парик и рыжую бороду и прицепил себе седую острую бородку…»
Но Михоэлс так вжился в своего Вениамина, что, играя его, не просто незаметно «обманывал» режиссера, как бывало прежде («Агенты»), На репетициях он «отстоял» того Вениамина, которого знал, в которого верил. «Хвалить Михоэлса — повторять старые истины. И не хвалить его за прекрасно очерченный тип местечкового Дон Кихота — Вениамина — нельзя. Михоэлс остается на прежней высоте» (Г. Рыклин).
О спектакле «Путешествие Вениамина Третьего» писал Михоэлсу молодой Юзовский: «Тов. Михоэлс!
Посылаю Вам несокращенную редакцию статьи, составленную после того, что мне хотелось написать, и, по крайней мере, десятую часть того, что следовало написать об этом замечательном спектакле.
Сегодня я прочел статейку некоего Палатника. Его суждения о „Вениамине“ поразили меня бездарным вкусом, соединенным с удивительно неприличным резонерством. Его замечания о Вениамине — как о „воскрешении мертвого“ — поражают меня, журналиста, пишущего в русской печати, совершенно непростительной поверхностью.
Откровенно говоря, похоже на подхалимство перед советской идеологией, это „ультракрасное“ утверждение: „Прекрасный революционный спектакль, который лично меня убедил в тысячу первый раз, что только Октябрь разрубает все узлы — назвать „воскрешением мертвого“?!“ Ой, какая плоская башка у этого Палатника!
Думая о Вашем удивительном даровании, я задаюсь вопросом о путях его дальнейшего развития. Утверждать, что ГОСЕТ имеет „светлое будущее“, опасно. Еврейское население разбросано и рассыпано, — вряд ли пойдет путями централизации самобытной культуры. Это возможно только на территории, где масса компактна. Прежние скрепы, организовавшие эту национально-культурную центростремительность, снимают одну за другой.
Процесс ассимиляции, хотя бы еврейской интеллигенции, — проходит лихорадочно.
Вряд ли при таких условиях ГОСЕТ может иметь восходящий путь…
Не этим ли, в частности, объясняется кризис репертуара в Вашем театре. Вы догадываетесь, к чему я веду. Ваш талант реализуется чрезвычайно скупо и скромно. Я имею в виду и художественно-идеологический материал, и, прежде всего, конечно, аудиторию. Ведь миллионы зрителей лишены возможности наслаждаться Вашим высоким искусством. Михоэлс — на русской сцене — вот что я хочу сказать. Я думаю, рано или поздно перед Вами встанет этот вопрос.
Вот скромные мысли, которые я позволил себе высказать в связи с огромным впечатлением, которое я получил, видя Вас на сцене.
Ваш Ю. Юзовский, 7 июня 1929 года».
Можно пересказать содержание спектакля, описать игру, манеры, даже жесты актеров. Но как передать музыку спектакля, его ритм?
Вот Вениамин (Михоэлс) и Сендерл (Зускин) вглядываются в бесконечно влекущую их даль, пытаются увидеть небо далекой сказочной страны. На Вениамине черный, очень старый капот; на Сендерле — мешковатый балахон, который с особенной силой подчеркивает его незащищенность, наивность…
А песни, которые поют Вениамин и Сендерл, сколько в их исполнении тоски, надежд, юмора…
Михоэлса и Зускина после «Вениамина Третьего» полюбила вся театральная Москва.
Театровед Новицкий писал: «Михоэлс в этом спектакле изможденный, худой, почти прозрачный, с продолговатым лицом подвижника-мечтателя и фантаста, беспокойный и задумчивый, смешной и трогательный, трагичный и нелепый, затхлый человек средневекового гетто, свободный гражданин Вселенной. Вениамин Михоэлса представляет собой вершину театрального истолкования еврейской классики».
Перед каждым очередным спектаклем «о прошлом» Грановский считал эту тему исчерпанной, но угроза, нависшая едва ли ни с первых дней существования театра, — отсутствие репертуара — превращалась уже в реальность…
Алексей Михайлович по-прежнему обещал ставить мировую классику (в частности, было объявлено о готовящихся спектаклях Шекспира, Мольера). И все же что-то сдерживало Грановского. Что? Ведь еще десять лет тому назад он ставил Шекспира с такими выдающимися актерами, как Юрьев, Андреева — не испугался! Почему же не решался сейчас? Не готовы актеры? Может быть, язык идиш неприемлем для мировой классики? (Михоэлс вскоре напрочь опровергнет эту гипотезу, сыграв Лира на идиш.) А если не мировую классику, то почему бы не взять современные пьесы русских драматургов Вс. Иванова, Тренева, Третьякова и др.
Может быть, перед предстоящей поездкой театра в Европу Грановский не захотел «перегружать» себя трудной работой?
«В ознаменование октябрьского юбилея Государственный еврейский театр выбрал явно неудачную пьесу Резника „Восстание“. Никакого восстания зрителю не показано. Показана в плохих трафаретах заговорщическая деятельность каких-то революционеров, направленная против английского командования в колониях. Заканчивается эта „деятельность“ (и пьеса — в последней редакции спектакля) террористическим актом — убийством генерала-резидента.
Изобретательный и яркий в своих прежних постановках („Труадек“, „Путешествие Вениамина Третьего“) театр на этот раз не сумел ничем расцветить скудный материал пьесы. На сцене назойливо сменяются военные, надоедает щелканье каблуков и звяканье шпор. В особенности слабо обрисованы повстанцы. Самый решающий момент „Восстания“ показан в устрашающем шествии уличного сброда, стреляющего в упор в смущенную публику, наполняющую зрительный зал. Революционеры также неубедительны; непонятным остается, чем они связаны с восставшими (так, вероятно, представляют себе обыватели где-нибудь за границей „агентов Коминтерна“). Встречи они устраивают в глухом притоне, среди пьяных матросов и проституток. Генералы, в свою очередь, пьют шампанское и беспечно танцуют под уличные выстрелы фокстрот. Вот и все дешевые эффекты спектакля.
Ни вкуса, ни темперамента, свойственных актерскому составу этого театра, в спектакле не проявлено» (Правда. 1928. 14 декабря).
«Впервые противоречия между Грановским и Михоэлсом выплеснулись на поверхность, — рассказывала мне Э. И. Карчмер. — Алексей Михайлович буквально на повышенных тонах разговаривал с Михоэлсом, когда Соломон Михайлович с несвойственной ему твердостью отказался от участия в этом спектакле.
— Роль вожака воровской ватаги тебя устроила (имеется в виду спектакль „Карнавал еврейских масок“. — М. Г.), а роль руководителя восстания туземцев на Яве против английских колонизаторов не по тебе? Впервые мы получили настоящий драматический материал, а ты хочешь лишить театр такой возможности.
Соломон Михайлович нервно курил, смотрел на Грановского пронизывающим взглядом („Вы это серьезно, Алексей Михайлович?!“ — говорил его взгляд), молчал, но когда Грановский сказал:
— Это политический вопрос, Михоэлс! Критики уже задушили нас за карнавалы и местечковые шуточки!
Михоэлс ответил:
— Я на поводу у Крути и Литовского не пойду. Слишком трудно далась нашему театру любовь настоящего зрителя, потерять ее можно за один вечер!»
Грановский не послушал Михоэлса. «Восстание» было поставлено.
«Грановский — руководитель ГОСЕТа — мастер первоклассной величины, художник, отличающийся исключительно тонким вкусом и тактом. Как же эти свойства могли ему настолько изменить, чтобы привести к постановке такой, с позволения сказать, пьесы, как „Восстание“ Резника? Да ведь это безвкуснейшая стряпня, какую только можно вообразить себе! Положив в основу пьесы, очевидно, недавние события на о. Ява — восстание туземного населения против английских империалистов, — автор ничего не сумел надумать, кроме унылой агитки, лишенной всяких признаков революционного подъема, построенной на примитивнейших положениях, начиненной ходульными призывами и фразами!
Ничего не скажешь и об актерском исполнении. Такового, в сущности, не было, да быть не могло: из ничего ничто и рождается. Были кой-какие возможности в этом смысле лишь у Гольдблата (резидент Хор), но актер не сумел их использовать» (Ян Рощин. Комсомольская правда. 1927. 18 ноября).
Через несколько дней после премьеры «Восстания» в пустом зрительном зале театра сидели актеры — участники спектакля.
«Знаете, кого мне жаль больше всех, Алексей Михайлович? — сказал Михоэлс. — Пульвера! Сочинить такую хорошую музыку к такому плохому спектаклю мог только он! Но она ведь умрет вместе со спектаклем, и огромный вдохновенный труд Пульвера пропадет!
— Что будем делать? — спросил Грановский.
— Искать счастье, как это делал всю жизнь Менахем-Мендель! — ответил Михоэлс».
И театр вернулся к Шолом-Алейхему. 20 февраля 1928 года, незадолго до гастрольной поездки в Европу, зрители увидели спектакль «Человек воздуха».
«Разве это не знаменательно: на одиннадцатом году революции у Мейерхольда — Грибоедов, а у нас — у ГОСЕТа — Шолом-Алейхем… Грановскому, строящему еврейский театр, не заказаны никакие пути, лежащие вне Шолом-Алейхема…
Кто бросил эту мысль, что будто еврейскому театру не надо и нельзя работать над мировой драматургией? Кто и что заставляет театр обескрыливать себя, топтаться на одном месте?» (И. Крути).
Третий раз за одиннадцать лет Менахем-Мендель на сцене одного театра. Не много ли? «Что делать? Нечего ставить, нечего играть», — жаловался Грановский на собрании общества друзей ГОСЕТа (Современный театр. 1927. № 15).
«Если „Труадек“ — вылазка ГОСЕТа „в Европу“, то „Человек воздуха“ возвращает театр к традиционной местечковой тематике. Собственно, ГОСЕТ и не выходил из черты оседлости лирико-юмористического быта еврейского городка. И если он чем-нибудь отличается от старого жаргонного театра, то, главным образом, высоким формальным мастерством и редким прорывом в современность» (О. Литовский).
В 1927 году на празднование 10-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции приехали многие зарубежные гости. Им, естественно, среди достижений советского искусства, демонстрировали возникшие в советское время новые национальные театры. ГОСЕТ был не только новым — он явил собой первый в многовековой истории государственный еврейский театр и, естественно, не был обойден вниманием зарубежных гостей. До этого театр знали за рубежом только по отзывам прессы, но увиденное превзошло все ожидания.
«Московский ГОСЕТ уже в 1921 году во время моего пребывания в Москве произвел на меня неизгладимое впечатление. Теперь мне удалось увидеть „Путешествие Вениамина Третьего“. Мне кажется, что ансамбль этого театра — лучший из когда-либо виденных мною.
Режиссура этого театра достигает потрясающих результатов, работая совершенно своеобразными методами» (проф. Гольдшмидт, Берлин).
«Ансамбль и режиссура этого театра были для меня потрясающей неожиданностью. Я отдаленно не мог себе представить, что еврейский театр достиг такой небывалой высоты» (проф. Пражского университета Тьеппе).
«Мое глубокое убеждение, что постановки ГОСЕТа — самое интересное из того, что мне удалось видеть на подмостках советских театров во время празднования десятилетия Октября…
Если бы это был не еврейский театр — его бы послали по всему миру и имя его печаталось бы огромными буквами», — писал голландский журналист Нико Рост.
Не удивительно, а скорее — естественно, что ГОСЕТ получил приглашение на гастроли из многих столиц Европы. 5 июля 1927 года «Вечерняя Москва» сообщала своим читателям: «Директор М.Г.Е.Т. А.М.Грановский поехал за границу.
А. М. Грановский посетит Берлин, Прагу, Франкфурт, Вену и другие города.
Поездка эта связана с предстоящими весной будущего года гастролями театра в Германии, Чехословакии и Австрии.
Грановский посетит Магдебургскую выставку, куда посланы экспонаты Московского Государственного Еврейского театра…»
Решение о поездке театра в страны Европы Наркомпрос принял в январе 1928 года. Сохранился документ:
Гастроли начались с Берлина; Рейнхардт и Брехт, Фейхтвангер и Томас Манн посещали все спектакли ГОСЕТа. О театре много писали:
«Все, что я видел в театрах Европы, несоизмеримо с высоким искусством этого театра».
«Чрезвычайно выдающийся актер Михоэлс».
«Тоска — преувеличена, грусть — фанатична».
«Старые мелодии поют на новые слова, впрочем, не всегда новые слова были лучше старых».
«Напряженность с первого до последнего момента».
«Новый еврейский театр как будто смеется над старым».
«„Ночь на старом рынке“ — изображение эпохи в период ее упадка» — это цитаты из рецензий зарубежной печати во время гастролей.
Тогда же Альфонс Гольдсмит писал о ГОСЕТе: «Настоящий театр исходит из зрителей, от контакта с ними. Это игровое выражение жизни на сцене.
Публике важен ансамбль, а не звезды, что очень соответствует ГОСЕТу. Контактность с публикой целого ансамбля — это явление крайне редкое.
ГОСЕТ — это самый поучающий театр, который я когда-либо видел.
Во мне происходит какое-то очищение под влиянием его спектаклей…
Театр приехал в Германию, ему следовало бы побывать во всем мире, это не еврейский театр, а настоящий мировой театр…»
«Приехал сюда еврейский драматический театр. Успех — оглушительный. Создание этого предприятия дело еще наше, в Петрограде…». В этом же письме М. Ф. Андреева пишет о том, что «подкупает страстная любовь к своему делу всей труппы и один очень талантливый актер — Михоэлс» (из письма М. Ф. Андреевой к А. М. Горькому. Берлин, апрель 1928 г.).
Итак, ГОСЕТ «завоевывает» Европу.
В Париже его спектаклями восторгаются Ж.-Р. Блок и А. Моруа.
«Имя Михоэлса известно не только в нашей стране, — вспоминает В. Зускин. — В Париже мы гуляли с Михоэлсом, мы поехали в кинотеатр смотреть картину с Чаплиным. Наняли такси. Приезжаем. Михоэлс хочет платить. Шофер отказывается.
— От Вас денег не возьму. Вы своей замечательной игрой доставили мне такую громадную радость, что я хочу хоть в какой-нибудь степени отблагодарить Вас. Для меня большая честь везти знаменитого советского актера…
Глубокое и национальное по форме и языку искусство Михоэлса истинно интернационально…»
Советская пресса, похоже, по поводу гастролей ГОСЕТа за рубежом заняла позицию выжидательную. Кроме информационной заметки в июньской «Правде» (1928. 26 июня) о предстоящем отъезде ГОСЕТа на гастроли в Европу подробных сообщений не было.
Статья Луначарского «Факты и перспективы» (Вечерняя Москва. 1928. 6 октября) явилась первой в советской печати оценкой зарубежных гастролей театра. Статья эта очень важна для правильного понимания дальнейшей судьбы ГОСЕТа (быть может, это было начало конца?). «Государственный еврейский театр под управлением Грановского совершает в настоящее время заграничное турне. Успех его можно назвать смешанным. С одной стороны, нет никакого сомнения, что и пресса, и очень значительная часть публики всюду, где появляется этот театр, приветствует его тонкое и острое искусство, с другой стороны, некоторые газеты — часть буржуазной и даже эмигрантской печати — всячески стараются ослабить политическое значение этого успеха, заявляя, что в театре нет и следа какой-либо советской идеологии, что это театр чужеродный у нас и непоказательный для подлинного лица нашего театра.
К сожалению, руководители Еврейского театра, по-видимому, не сделали всего, что предписывал им прямой советский долг для того, чтобы резко опровергнуть такого рода ложные суждения и подчеркнуть свою коренную принадлежность именно к советскому театру, о чем мы так часто слышали от них здесь, в Москве. Материальный успех театра тоже не выяснен. Почти одновременно руководители театра докладывают о том, что поездка безубыточна и поэтому может быть продолжена, и о том, что она привела к значительной задолженности, для покрытия которой должно быть продолжено турне по Америке. Все это вместе и наличие ряда других фактов не дает возможности Наркомпросу с совершенной уверенностью сказать, каков будет дальнейший путь театра: будет ли он вызван немедленно в Москву или ему будет дано разрешение продолжить поездку.
Для выяснения всех этих обстоятельств Наркомпрос посылает за границу доверенное лицо, которому поручает с совершенной точностью выяснить как политико-идеологическую, так и финансовую сторону нынешнего состояния Еврейского театра».
Процитирую письмо М. Литвакова и С. Палатника, написанное по поручению ЦБ Евсекции и Наркомпроса в местком ГОСЕТа в ответ на заявку А. Грановского, поддержанную коллективом театра, о продлении гастролей по Европе и о поездке из Берлина в США без заезда в Москву. Вот ответ на предложение А. М. Грановского: «Сообщаю Вам текст телеграммы начальника Главискусства тов. Свидерского: „Поездка в Америку не разрешается. Срок пребывания театра остается разрешенный. Предлагаю немедленно выехать в Москву по урегулированию денежных и других вопросов. Свидерский“.
Мы уверены, что коллектив вернется к сроку в Москву. Тех артистов, которые не вернутся вместе с коллективом, предпочитая оставаться за границей, мы будем считать выбывшими из ГОСЕТа, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Вместе с тем просим сообщить обо всех затруднениях, которые могут возникнуть, для Вашего своевременного возвращения, дабы мы могли принять меры к их устранению»
Актеры ГОСЕТа не понимали, что происходит. Профсоюзные активисты И. Шидло, И. Рогалер, С. Зильберблат отправили письмо на имя С. А. Палатника и М. И. Литвакова: «Содержание телеграммы тов. Свидерского нам было своевременно сообщено т. Грановским до получения Вашего письма, но для нас в настоящее время совершенно непонятны взаимоотношения между правлением театра в Москве и директором его т. А. М. Грановским. Ваше обращение непосредственно к нам и к коллективу наводит на целый ряд предположений, в то время когда по такому важному и основному для нас вопросу мы должны были бы быть информированы совершенно ясно и определенно.
Дальше Ваше письмо касается вопроса о возвращении театра в Москву. И здесь для нас много неясного. Сроки поездки, как известно, устанавливали не мы, а правление и дирекция. Ваше письмо, по-видимому, имеет в виду техническое прекращение поездки до установленного ранее срока. Но такой вопрос, связанный с целым рядом организационных и материальных вопросов и договорных взаимоотношений, может быть разрешен не нами, а лишь официальным лицом, действующим по определенным полномочиям, ибо требует безошибочного разрешения во избежание последствий как для театра, так и в политическом отношении.
Поэтому мы считаем необходимым приезд сюда лица с соответствующими полномочиями и авторитетом (желательно было бы тов. Литвакова) или, в случае, если это невозможно, тогда, быть может, имеет смысл привлечь к разрешению этого вопроса полпредство…
Письмо Ваше мы пока воздержимся довести до трудового коллектива, т. к. ждем инструкций Союза и Вашего ответа на данное письмо. Не имея ясных и точных директив, мы его опубликованием внесли бы, несомненно, лишь элемент паники и дезорганизации» (4 сентября 1928 года).
Вениамин Львович Зускин не мог остаться в стороне — он отправил личное, весьма подробное письмо Литвакову и Палатнику, где решительно опроверг слухи, дошедшие до руководства Евсекции. Рассказал о приеме в Мангейме, устроенном раввинами этого города: «Вся официальная часть этого вечера состояла из пародий, включая и специально для этого вечера сделанные туманные картины, изображающие триумфальное шествие ГОСЕТа по Европе. За весь вечер не было ни единого выпада против советской власти. Наоборот… Михоэлс от имени всего коллектива… говорил, что ГОСЕТ — дитя Октября, что только в Советской России мог родиться наш театр…»
В этом же письме Зускин рассказывает и о приеме у Шолома Аша, горячо принявшего спектакль «Путешествие Вениамина III»: «У себя на вилле под Парижем он устроил чай в честь „дорогих московских гостей“… Поверьте мне, Моисей Ильич (имеется в виду Литваков. — М. Г.), что Алексей Михайлович (Грановский. — М.Г.) не произносил никаких антисоветских, антиевсековских речей.
И еще несколько цитат из письма В. А. Зускина: «А теперь, Моисей Ильич, о „наших за границей“. Клянусь честью, что все мы идеально ведем себя. Живем мы здесь так же, как в СССР. Работаем много, неимоверно тяжело…
Обидно, до боли обидно, Моисей Ильич, когда после такой напряженной работы, после такого большого успеха работники ГОСЕТа вместо привета и пожеланий им успеха, Вы через Ром (актриса ГОСЕТа. — М. Г.) предъявляете необоснованные обвинения» (10 сентября 1928 года).
Грановский, разумеется, знал о содержании писем Литвакова и Палатника, но за занятостью, а возможно, по другим причинам отнесся к ним недостаточно серьезно. Зускин по простоте душевной всего лишь призывал начальство не верить стукачам. И лишь Михоэлс — Соломон Мудрый — учуял надвигающуюся на ГОСЕТ катастрофу. Он не мог не реагировать на происходящее. Вот цитаты из его послания Литвакову и Палатнику: «Письмо Ваше к Алексею Михайловичу — его убило. Так неожиданно после триумфа, после победы советского театра прозвучали… Ваши обвинения в антисоветских выступлениях и пр… И все это на основании… писем Вассермана или Малаги… (ни в одном из списков работников ГОСЕТа — с 1920 по 1949 год фамилии такие не значились. — М. Г.) Вы как-то выразились, правда давно, что все мы (актеры) суть навоз для удобрения той нивы, которую засевает Алексей Михайлович. И если многие из нас выросли, то, конечно, не настолько, чтобы работать и строить без него. Вопрос о нем — сейчас центральный. Ему надо бы помочь…
Я считаю сейчас роковым то, что Вы заговорили об Алексее Михайловиче тоном борьбы и запугали его…»
Ни письма руководителям месткома ГОСЕТа, ни письмо Зускина, ни даже безапелляционное письмо Михоэлса, увы, воздействия не возымели. В том же, что они дошли до адресатов и лично до главы Наркомпроса А. В. Луначарского, нет никаких сомнений. Воспроизведенное выше его письмо от 6 октября 1928 года тому свидетельство. И хотя в нем нет даже упоминаний о письмах Зускина, Михоэлса, его публикация — сейчас бы это называлось «открытое письмо» — ответ всем вышеперечисленным адресатам. К тому же «для выяснения обстоятельств» действительно был послан человек — им оказался Шмуэль Палатник (тот самый, о бездарном вкусе которого писал в 1927 году Михоэлсу театровед Юзовский), беспартийный большевик, один из авторов еврейской хрестоматии «Классовая борьба». В 1928 году он был одним из руководителей Евсекции. Поставленную задачу Шмуэль Палатник выполнил — театр вернулся в Москву, но без Грановского и его жены.
Девять месяцев длились гастроли, но как много изменений произошло в СССР за этот незначительный для истории срок!.. Времена нэпа подходили к концу. В газетах беспощадно громили нэпманов, кулаков. Боролись с пережитками прошлого (к которым относились, в частности, музыка Чайковского и Скрябина и ее исполнители. Рабочему классу, будущим колхозникам нужно было совсем другое искусство). Состоялась XVI партийная конференция, за ней — Пятый Всесоюзный съезд Советов, на котором (единогласно) был утвержден план первой пятилетки.
Коллективизация, а вместе с ней раскулачивание и начавшаяся война с «врагами народа» набирали темпы. Уже шли первые сталинские спектакли, именуемые судебными процессами («Шахтинское дело», а вскоре за ним — «Процесс промпартии»). Словом, наступили новые времена, и как всегда это случается в истории, их вдохновители захотели новых песен.
«Центральной в будущем сезоне считаю тему о классовом враге», — писал А. Глебов в «Современном театре» (1929. № 18). В такое непростое время Михоэлс волею судеб, а скорее — начальства, становится художественным руководителем ГОСЕТа. Есть все основания предполагать, что назначение это он рассматривал как временное, «и. о.», как сказали бы мы сегодня. Никто, да и сам Грановский, не мыслил иначе. Свидетельств тому немало. Достаточно вспомнить, в какое время и с какими трудностями вернулся в 1918 году Грановский в послереволюционную Россию. Его письмо в газету «Известия» подтверждает эту мысль: «Уважаемый товарищ Редактор! Мои московские друзья и товарищи пишут мне, что в Москве кем-то распространяются слухи, что я навсегда остался за границей, что я „порвал“ с СССР, с ГОСЕТом и т. д.
Разрешите мне на страницах Вашей газеты выразить свой категорический протест и глубокое возмущение против этой клеветы. Я вынужден был остаться временно за границей для урегулирования ряда для меня очень важных дел. Я надеюсь в течение года вернуться в Москву и надеюсь, что товарищи, с которыми я проработал 11 лет, помогут мне положить предел всяким лживым слухам. С товарищеским приветом А. Грановский. Берлин. 17 октября 1929 года».
Примерно в то же время Грановский писал Михоэлсу:
«Родной Михоэлс, я тебе долго не отвечал, потому что был основательно заверчен всякими делами, больше неприятными. За время, что я тебе последний раз писал, произошли следующие события.
„Рычи Китай“ прошел в Лейпциге почти с таким же успехом, как и в Франкфурте.
Состоялся пятидесятилетний юбилей Альфонса Гольдшмидта, народу было миллион…
Мои дела пока в тумане…
Пришли мне, пожалуйста, статьи против меня, которые были в театральных журналах, и твое письмо в редакцию.
В чем дело?..
Идут ли у Вас репетиции и если идут, что намечается?..»
Итак, Грановский не собирался расставаться с ГОСЕТом; Михоэлс продолжал советоваться с ним.
В интервью корреспонденту журнала «Современный театр» (1929. № 3) Михоэлс подробно рассказал о зарубежных гастролях театра.
«В течение 9 месяцев театром было дано 220 спектаклей». Михоэлс выразил удивление, что в нашей печати не упоминалось о работе театра. В течение пребывания театра за границей все газеты дали самые лучшие отзывы о спектаклях. В особенности успехом пользовались «200 000», «Путешествие Вениамина III», «Ночь на старом рынке».
«В Бельгии, во избежание эксцессов, вся сцена была окружена полицейскими.
При отъезде театра из Парижа полпред СССР во Франции тов. Довголевский отметил художественный успех и политический эффект, вызванный пребыванием Еврейского Государственного театра в Париже». (Странно, что об этом не знал нарком просвещения. — М. Г.)
Михоэлс отметил кризис западноевропейского театра. Несмотря на исключительные актерские дарования (Макс Палленберг, Пауль Вегенер, Альберт Вассерман и др.), несмотря на поразительные сценические усовершенствования, кризис театра, — по его мнению, был налицо и выражался, главным образом, в отсутствии крупных пьес…
На вопрос корреспондента: «Когда вернется в Москву А. М. Грановский?» С. М. Михоэлс сообщил, что Грановский пробудет за границей около года: он заключил договор с Берлинским театром, но так как ГОСЕТ вернулся раньше намеченного срока, Грановский, связанный контрактом, остался в Берлине до окончания своей работы.
Примерно в тот же период Михоэлс дал интервью журналу «Новый зритель».
«…Интерес, проявленный к театру, равно как и его художественный успех, превзошли всякие ожидания.
Левая революционная печать приняла нас чрезвычайно горячо, безоговорочно признавая значительность и художественную ценность наших постановок.
Что касается буржуазной прессы, то она должна была в некоторых случаях пойти на признание очевидного нашего успеха. Конечно, не обошлось без обычных злобных выпадов со стороны буржуазной печати по нашему адресу.
Мы были для них, прежде всего, театром страны Советов, но все же, видя наш успех, и они вынуждены были, хотя и с неохотой, признать его.
Еврейская буржуазная печать заняла несколько „своеобразную“ позицию по отношению к нашему театру — она просто молчала о нас. (Советская печать, увы, заняла ту же позицию. — М. Г.)…
В день нашего отъезда из Вены — тревожный для Вены день 7 октября, — когда предполагался поход фашистов в рабочую часть города, огромная толпа явилась на вокзал и провожала нас пением Интернационала. С этим гимном нас встречали и провожали почти везде…»
Успех — политический и художественный — был очевиден. Почему он вызывал сомнения у А. В. Луначарского? Может быть, потому, что сам нарком уже не вписывался в «новое» время — в августе 1929 года его «по личной просьбе» освободили от занимаемой должности. Вместо эрудита Луначарского на этот пост был назначен Андрей Сергеевич Бубнов — старый большевик, хороший человек, как все отмечали, к искусству и к образованию реального отношения не имевший. Одним из его консультантов по вопросам культуры был Эфрос. Разумеется, столь резкие перемены не могли не коснуться Михоэлса, недавно назначенного художественным руководителем ГОСЕТа. Во всяком случае «ветер времени» он уловил — только этим можно объяснить выбор летом 1929 года пьесы Добрушина «Суд идет». Для постановки спектакля Михоэлс пригласил молодого режиссера Ф. Н. Каверина.
«Все, кому дорог московский ГОСЕТ, ждали с большим нетерпением, я бы сказал даже с трепетом, рождения этого спектакля.
Уловит ли чужой режиссер привычные ритмы и темпы этого театра; проникнется ли он его своеобразным стилем?
Вынесет ли молодая драматургия (в данный момент — в лице Добрушина) на своих плечах московский ГОСЕТ из тупика устаревшего репертуара?
И что ж? — Случилось так, что пьеса „Суд идет“ оказалась стыком между старым и новым репертуаром. Вы здесь вновь встречаете „людей воздуха“ — Гоцмаха, Соловейчика, Менахем-Менделя — правда, слегка видоизмененных. Эти тени прошлого все еще судорожно хватаются за всякую возможность, чтобы отстоять свое призрачное существование.
Но лоток Гоцмаха, зонтик Соловейчика и биржевые бумажки Менахем-Менделя — это уже в СССР почти музейный реквизит.
И вот эти „люди воздуха“, жалкие спекулянты Кричева, приспособляются. Они чают свое спасение в артели. В эту артель они втягивают местного кулака Мойше-Бера, еврея старого закала. Это не случайность. Сын Мойше-Бера — Нема — служит в Красной Армии; к тому же он комсомолец. Вот его-то они и метят в председатели артели. Они отлично знают, что Нема в такое „дело“ без боя не пойдет. Чтобы поставить его лицом к лицу с совершившимся фактом, они склоняют Мойше-Бера (отца Немы) дать подпись сына, без ведома последнего, на заявлении в райисполком о разрешении артели. Базой своих „артельных“ махинаций они избрали полуразрушенную мельницу! Но на эту же мельницу претендует действительная артель трудящихся во главе со старым столяром Нефтоле при энергичном содействии представительницы еврейского национального меньшинства местечка тов. Сони. Борьба между этими двумя лагерями и является осью пьесы.
Композиция пьесы сделана Добрушиным довольно искусно. Он быстро перебрасывает действие из шумной, резкой толпы красноармейского либо местечкового комсомольского молодняка в мрачное логово Мойше-Бера, или же из основного гнезда спекулянтов (у того же Мойше-Бера) — на мельницу и обратно. Благодаря этому является возможность вести пьесу в бодром и динамичном темпе. К тому же пьеса написана живым, метким языком.
Основная слабость пьесы в том, что Добрушин, как и большинство наших советских драматургов, прекрасно знает и умеет показать старый быт и старые типы, а ростки нового, нашу молодежь, ее быт пока не сумел облечь в художественно-убедительные формы».
Михоэлс сознавал, понимал, что в театре нужно отразить день сегодняшний, разобраться в котором так непросто, а если показывать, не поняв до конца, может повториться история с «Восстанием» Резника, поставленным Грановским по политическим соображениям. Михоэлс интуитивно ощущал перемены, но, видимо, тогда еще не понял главного: кампания, поднятая в печати против Грановского, была целенаправленной — театр Грановского своей необычностью и новизной претил «новым нравам». Закрыть театр, только что завоевавший Европу, — недальновидно. Можно проще — оставить его без основателя. Режиссеры этой «постановки» знали, что все оскорбления в адрес Грановского до него дойдут. Учли постановщики антиграновского спектакля и характер Алексея Михайловича: вспыльчивый, самоуверенный, не терпящий обид. Они были уверены, что, избавившись от Грановского, глядишь, избавятся и от театра. И не просчитались! 30 сентября 1929 года в газете «Рабочий и искусство» было опубликовано «Письмо в редакцию», в котором Михоэлс ясно выразил свою позицию.
«Уважаемый товарищ редактор! Позвольте мне через посредство Вашей газеты ответить товарищам рецензентам, отозвавшимся на последнюю работу ГОСЕТа „Суд идет“ в постановке молодого, бодрого, талантливого т. Каверина.
Я рад, что работа тов. Каверина в нашем театре встретила единодушную, достойную, положительную оценку. Тем более становится непонятным тот тон, совершенно недопустимый, а иногда и возмутительный (И. Туркельтайб), который приняли означенные товарищи по отношению к основателю ГОСЕТа, мастеру, тов. Грановскому.
Правда, тов. Грановского сейчас нет в Москве — он временно в Берлине. Это, конечно, дает повод для выражения неудовольствия, даже негодования по случаю его отсутствия, но товарищам рецензентам это открыло совершенно другую возможность — возможность доходить до оскорбительных и недопустимых выпадов по его адресу, очевидно, в уверенности, что это может остаться безнаказанным.
Товарищ Грановский остался в Берлине временно (см. „Известия“ ВЦИК от 26 октября с. г.). А за время его отсутствия так удобно уничтожить значение его огромной работы, так легко на месте высокой цифры, обозначающей его заслуги, тихонечко и зло зачеркнуть единицу, оставив лишь сплошные нули. И действительно, еще недавно рецензенты „Вечерней Москвы“ находили множество патетических слов для оценки высокого мастерства ГОСЕТа и его руководителя т. Грановского. Вспомните рецензии о „Вениамине Третьем“, „Труадеке“, „10 заповедях“, „Человеке воздуха“. Были там, конечно, вполне естественные указания на необходимость обновить репертуар, перейти к новой революционной тематике, но одновременно в этих рецензиях подчеркивалась выдающаяся значительность работ как нашего мастера, так и его коллектива. Характерен, скажем, заголовок одной недавней рецензии о „Труадеке“ — „Праздник театральной культуры“. И вдруг на страницах той же „Вечерней Москвы“ — „штампы ГОСЕТа“, „игры по-Грановскому“ и другие весьма „умные“ замечания и советы о том, как актеру, учившемуся у своего мастера в течение десяти лет, легче всего освободиться от преподанной ему определенной сценической системы.
Или т. Крути на стр. „Известий“ ВЦИК: „Театру нужно было освободиться от давящего авторитета своего бывшего руководителя…“ Позвольте, т. Крути, перелистайте ваши же собственные статьи в „Одесских известиях“, вспомните, как вы писали о ГОСЕТе как о революционном театре, о его режиссере и мастере, который вырастил новое поколение актеров. Вспомните, как вы отзывались о высоком качестве актерской игры в ГОСЕТе. Вот, кстати, цитата из вашей статьи: „К новому зрителю театр сумел найти пути через слияние в своем мастерстве начал глубоконациональных, современно-социальных и высокотеатральных. В этом сила ГОСЕТа, его непреодолимая власть, его культурное значение“ (веч. выпуск „Одесских известий“ от 6.06.25 г.). Через несколько дней там же вы пишете: „После убедительных демонстраций мастерства актера ГОСЕТа нельзя уже больше сомневаться в успешности его дальнейших шагов и в несомненности его будущих театральных побед“. Там же вы говорите об „изумительной выдумке режиссера“ и т. д. Так от чего, собственно, нужно освобождаться актерам ГОСЕТа? От какого „давящего авторитета“ „своего бывшего руководителя“ театр должен спасаться? А ведь товарищи из „Вечерней Москвы“ и „Известий“ не остались в одиночестве. Их в том же неожиданном и странном тоне поддержал т. Загорский и т. Хандро в „Современном театре“, т. е. товарищи, воспевавшие прежде и весь ГОСЕТ, и А. М. Грановского.
А венцом всего является И. Тур в „Жизни искусства“. Без дальних разговоров, с места в карьер И. Т. начинает рецензию так: „Уход в эмиграцию бывшего руководителя ГОСЕТа Грановского…“ Позвольте, какие основания у вас имеются, гр. Т., для того, чтобы безнаказанно пятнать имя основателя ГОСЕТа, письмо которого недавно было опубликовано в „Известиях“ от 26.10. с.г. (1929 год)?
И. Т. нынче пишет о победе „над Грановским“… Это тем более разительно, что у И. Т. в Харькове вышла весьма крупная размолвка с тамошней партийной и советской общественностью из-за того, что он, И. Т., вздумал было путем действительно неумеренного превознесения московского ГОСЕТа и руководителя травить Государственный Еврейский театр Украины. А теперь…
Нет, товарищи, ГОСЕТ, питающийся корнями нашей Октябрьской современности, был, по заданиям, при всемерной поддержке и сотрудничестве партийных и советских сил, создан тов. Грановским. Благодаря ему театр приобрел свой стиль, свое лицо, свой собственный театральный язык. Можно быть какого угодно мнения о ГОСЕТе и его основателе, но нельзя с безответственной, циничной легкостью сводить на нет десятилетнюю работу театра и его мастера, ибо эта работа есть огромное достижение советской культуры, и, как таковое, оно зафиксировано не только у нас в СССР, но и расценивается далеко за пределами Союза. Если этого некоторые рецензенты-однодневки не понимают, я вынужден это сказать».
От редакции.
«…несколько необычное как по тону, так и по содержанию письмо С. Михоэлса редакция оставляет целиком на ответственности автора, как отдельные сообщенные в письме факты, так и резкие оценки отдельных рецензентов.
1. Рецензии, на которые ссылается письмо, были напечатаны без каких-либо примечаний редакции и, стало быть, являются только личными мнениями рецензентов.
2. Ругают театр… „молодой Государственный еврейский театр, питающийся корнями нашей Октябрьской современности“, рожденный Октябрьской революцией, — добавим мы, — повернулся к советской действительности лишь после того, как этот поворот с равным успехом проделали уже старые, „заслуженные“ театры.
3. Мастерство и бескорыстные заслуги Грановского ни в коей мере не освобождают его от ответственности за запоздалый поворот театра лицом к сегодняшнему дню.
4. Несмотря на отсутствие основателя ГОСЕТа и мастера Грановского в столь важный и ответственный для театра момент (о чем, разумеется, можно пожалеть), это не отразилось на последней работе ГОСЕТа, отличный коллектив которого в новой постановке „Суд идет“ сумел лишний раз показать превосходные свои качества».
Письмо Михоэлса — смелый поступок честного человека, тем более в такие времена. Репрессивный каток уже был запущен, и ускорение ему придавали с каждым днем. Вступить в открытую борьбу означало тогда несогласие с официальным мнением. Но Михоэлс и не стремился уловить в нападках на Грановского «знамение времени», он искал правды, добивался ее.
Не понимая политического смысла шумихи вокруг Грановского, Михоэлс объяснял ее завистью врагов ГОСЕТа к его мастеру. Увы, Соломон Мудрый не сумел разобраться в событиях, развернувшихся вокруг ГОСЕТа в 1928–1929 годах. Вскоре в журнале «Огонек» появилась статья «Суд идет — суд пришел» (как это импонировало духу времени!). «С большим успехом прошел устроенный недавно еврейским рабочим клубом „Коммунист“ дискуссионный вечер, посвященный последней постановке ГОСЕТа „Суд идет“, — пишет рабочий Зильбертгельт. Однако пьеса „Суд идет“ вызвала среди участвующих в дискуссии и серьезную критику. Отмечали, что тов. Добрушин отразил явление, не характерное для данного момента. В отсталом местечке кустарь, столяр Нафтоле руководит комсомольцами. Неправильно дан тип торговца Бурмана: вместо того, чтобы вызвать у зрителя ненависть, торговец Бурман может вызвать к себе сочувствие и сожаление.
…Совершенно непонятно, каким это чудом сын торговца-лишенца попал в ряды Красной Армии. Товарищ Добрушин оправдывается тем, что пьеса написана им 3 года тому назад. Все же и это не спасает положения» (Рабочий и искусство. 1930. 15 января).
Но в целом, как отметил В. Млечин в «Литературной газете», «театр одержал большую победу».
Быть может, постановка спектакля «Суд идет» была для Михоэлса вынужденным тактическим шагом — чтобы после него вернуться к репертуару, свойственному ГОСЕТу. Во всяком случае, предположение это не лишено смысла: следующий спектакль в ГОСЕТе был поставлен по рассказу Д. Бергельсона «Глухой».
К концу 1929 года надежды на возвращение Грановского рассеялись как дым… Переписка Михоэлса с газетой «Рабочий и искусство», реакция прессы на письмо Михоэлса в защиту Грановского поставили точки над «i». Что оставалось в этой ситуации Михоэлсу? Стать художественным руководителем театра, сохранив весь лучший репертуар «эпохи» Грановского, сделать что-то новое, свое. Его издавна волновали мысли о том, что в конце XIX века в еврейской среде что-то менялось в понимании честности и справедливости. Михоэлсу хотелось вернуть этим понятиям изначальную, библейскую чистоту. Он попытался это сделать, еще играя Шепшовича в «Боге мести», но материал пьесы не позволил справиться с этой задачей. В новелле Бергельсона он увидел такую возможность: Глухой — воплощение чело-века-страдальца, постепенно превращающегося в человека-борца, мстителя.
Больше сорока лет работал Глухой на мельнице хозяина-еврея. Он потерял на работе здоровье, слух. Остался нищим, одиноким. Впрочем, не совсем — была у Глухого радость, надежда, утешение — его единственная дочь Эстер.
«Сама по себе пьеса Бергельсона вряд ли может претендовать на особую актуальность: действие ее относится к эпохе 1905 года. Но некоторые ее достоинства и, главное, работа, проделанная над нею театром, обострили эту пьесу, придали ей большую жизненность, которая в связи с предстоящим юбилеем революции 1905 года делает ее нужной и созвучной нашим дням.
Особенность этой пьесы, ее главное достоинство заключается в том, что она впервые демонстрирует подлинную классовую борьбу в среде дореволюционного еврейства…
Опасность, скрывавшаяся в пьесе, заключалась в излишнем внимании автора к частной коллизии, возникающей из связи дочери Глухого с сыном хозяина. Театр мог сосредоточить внимание на этой коллизии и широко развернуть мелодраматическую основу, тем самым ослабив социальное звучание пьесы, сведя ее к обычной истории „бедной девушки“, соблазненной богатым маменькиным сынком.
Эту основную опасность театр в значительной степени преодолел. Искусство режиссера заключается именно в такой композиции спектакля, которая не позволяет зрителю ни на минуту отвлечься от того, что действие разворачивается на революционном фоне, что все взбудоражено пятым годом и что разворачивающийся конфликт между „глухим“ и его хозяином есть лишь обостренное, правда, но частное выражение конфликта более сложного, более значительного и общего…
С чисто театральной точки зрения „Глухой“ заслуживает всяческих похвал.
Этот спектакль вновь подтверждает правильность взятого театром курса на сочетание своей работы с требованием современности, на решительную перестройку как в части разрабатываемой тематики, так и в области чисто театральной» (В. Млечин. Вечерняя Москва. 1930. 20 ноября).
«Глухого» согласился ставить С. Э. Радлов. Это было началом творческой дружбы двух деятелей искусства. Работа над пьесой «Глухой» навсегда запомнилась Радлову. В письме от 9 февраля 1930 года он писал Михоэлсу: «…очень скучно без Вас, без Вашего театра, без „Глухого“. Эти два месяца остались в моей памяти, как лучшие дни творческого пути и настроения, морального отдыха. Низко кланяюсь Вам… и Вашему театру…» Михоэлс говорил зрителям со сцены: всегда остается надежда (у Менахем-Менделя — на хорошую сделку, у Глухого — на счастье Эстер, у Вениамина — на страну «червонных евреев»). И только человек может причинить и зло, и добро. Если вам жаль Глухого, если вы сочувствуете Эстер, «спешите делать добро», а «злому злой конец бывает».
Михоэлс понимал, что ГОСЕТ не может жить сегодняшним днем — необходимо было растить, воспитывать театральную молодежь.
Осенью 1929 года по настоянию и при большом участии Михоэлса был открыт Театральный техникум при ГОСЕТе.
Михоэлс сам знакомился с поступающими.
«В маленькой выбеленной комнате шел приемный экзамен для желающих поступить в еврейский театральный техникум… По очереди входят мальчики и девочки. Читают (почти все Маяковского), танцуют (почти все „яблочко“), двигаются под музыку. Наконец, отвечают на вопросы…
Михоэлс: „Как тебя зовут?“
„Лева“.
Михоэлс: „Скажи, Лева, почему ты хочешь стать актером?“
Лева: „Так я хочу поздно вставать“.
Мгновенно, в мертвой тишине падает на стол железный кулак Михоэлса. Оглушительный треск и не менее оглушительный разъяренный голос:
„Вон отсюда!“
Не выдержал Михоэлс ни наивной бездумности этого ответа, ни такого представления о работе актеров» (А. П. Потоцкая).
Набор учащихся проводился во всех городах, где гастролировал театр. Михоэлс считал, что неопытной молодежи легче проявить природное дарование в песне, чем в стихах или прозе. Поэтому он требовал, чтобы одну и ту же песню экзаменующийся пел сначала для себя, а потом с эстрады для публики. Поступающим предлагалось двигаться под музыку, тональность, ритм и темп которой менялись. Эти упражнения позволяли судить не только о музыкальности и ритмичности кандидата в актеры, но и об умении сочетать ритмику и музыкальность с искусством владеть, хотя бы примитивно, телом и движением.
О работе Михоэлса в приемной комиссии с любовью и юмором вспоминали многие его ученики. Он не просто «просматривал» кандидатов в актеры — он становился их партнером; ставил самые неожиданные задачи и требовал их решения («Миша, ты внезапно ослеп; ты ищешь дорогу — покажи, как это ты сделаешь?», «Окажи мне помощь — я порезал палец и фонтаном льется кровь»).
Однажды взрослый кандидат в актеры отказался спеть еврейскую народную песню, заявив, что ему надоели «эти местечковые песни». И вообще, ему, члену профсоюза, не достойно их петь. Михоэлс предложил спеть «Марсельезу». Но, как выяснилось, кандидат в актеры не имел понятия о «Марсельезе». Рассерженный Михоэлс сказал: «В спектакле на „местечковые“ темы вы не хотите играть, а к спектаклю на „революционную тему“ еще не готовы. Приезжайте к нам через год!»
К преподаванию в техникуме Михоэлс привлек лучших актеров и режиссеров: Завадского, Попова, Каверина, Лойтера… По установившейся традиции открывался курс лекцией Михоэлса «Еврейский театр от Гольдфадена до наших дней». Через несколько лет директором театрального техникума стал Моисей Соломонович Беленький.
Одно дело — быть ведущим актером, помогать Грановскому в режиссерской работе, порой подменять и даже заменять его… Но самому отвечать за судьбу театра! Да еще в такое переломное, сложное время. Воспитание, полученное в семье, не подготовило Михоэлса к руководящей деятельности, скорее даже претило: глубоко усвоенные каноны Священного Писания не позволяли ему руководить работой театра методами Грановского. «Но он (Грановский. — М. Г.) совершенно не умеет работать с актерами. Ничего он не может в них вызвать»… (Фальк Р. Беседы об искусстве. М., 1981).
«Негласный договор»: Грановский в целом осуществляет свой режиссерский замысел, а Михоэлс помогает актерам — уже давно «прижился» в театре. Но это было «негласно». Не всегда решительность была отличительной чертой характера Михоэлса: порой он падал духом, его мучили сомнения.
Лозунги конца 20-х годов: «Планов наших громадье», «Об обострении классовой борьбы» — не были похожи на лозунги начала 20-х. Тогда враги были известны: белогвардейцы, недобитые буржуи. А как распознать врага нынешнего? Почему «кулак» — враг? Ведь еще недавно он был середняком, а теперь стал врагом и его надо показать на сцене как врага опасного, коварного. Это куда сложнее, чем изображать контрреволюционеров.
Вождь призывал отражать на сцене правду жизни. А принять ее в столь сложное время — увы, не просто даже Соломону Мудрому. (Позже, в 1940 году Михоэлс отметит в записной книжке: «Я много говорю о правде — не потому, что так уж люблю ее, а потому, что она меня всегда беспокоит».)
«…Всегда беспокоит»… Правда действительно всегда беспокоила Михоэлса, а в те годы — особенно, так как сомнений оставалось немало… Что может сделать честный человек в такие времена? Скрывать свои мысли за занятостью делами, только бы не превратиться в лицемера. А дел, за которыми можно «скрыться», хватало. Хороших пьес для постановки по-прежнему не было, хотя авторов, желающих увидеть на сцене свои пьесы, было более чем достаточно. (Многим из них казалось, что им по плечу любая тема — только бы поставили.)
Из всего предложенного Михоэлс выбрал пьесу Маркиша «Нит гедайгет» («Земля»). (Не совсем понятно, почему в переводе на русский язык пьеса так называлась, впрочем — соответственно времени. Коллективизация коснулась и еврейского населения: в ту пору были попытки создать еврейские колхозы в Крыму, в Херсонской области.)
Менялось время, а с ним репертуар театров. С Гольдфаденом, Мойхер-Сфоримом пора было прощаться — «новые песни придумала жизнь». И если всем предложенным пьесам Михоэлс предпочел пьесу Маркиша, то это еще и потому, что его с Маркишем объединяла любовь к прошлому и настоящему своего народа.
Имея небольшой режиссерский опыт, Михоэлс и на сей раз не отважился поставить «Землю» самостоятельно — он снова пригласил С. Э. Радлова, хотя многие актеры в труппе театра возражали против режиссеров «со стороны».
Радлов, познакомившись с переводом пьесы, сообщил Михоэлсу: «Пьеса Маркиша кажется мне очень недурной и „настоящей“. Мне видится в ней повод для спектакля, органически вытекающего из предыдущей истории ГОСЕТа. Меня соблазняет маячащая в тумане возможность сделать спектакль о судьбах еврейского народа, спектакль антисионистский. Но с таким же временным размахом — поворотом в судьбе тысячелетий. Прием для этого — ораториальные интермедии — музыка и текст в темноте во время перестановок.
Так, после сцены найденных черепов — в оркестре и голосах — вихрь гражданской войны, погромы, марш Буденного.
Из слов Исаака Моисеевича (Рабиновича. — М. Г.) я понял, что очень затягивать с этим спектаклем нельзя». (Печать в то время уже упрекала ГОСЕТ — единственный из театров Москвы, не показавший спектакля на современную тему. — М. Г.)
«Из этого положения я вижу один выход, на который сердечно прошу Вас согласиться. Выход только в том, чтобы Вы пошли на официальную режиссуру со мной… Я не хочу поставить на афише: „Постановка Михоэлса и Радлова“, если это почему-нибудь не устраивает Вас (меня это вполне устраивает).
Сердечный привет Евгении Максимовне (Левитас. — М. Г.).
Ваш Радлов».
(В афише сообщалось: «Постановка Радлова — Михоэлса», вопреки даже алфавиту. — М. Г.)
Чем же руководствовался Михоэлс, приняв к постановке пьесу Маркиша? В статье «ГОСЕТ на перевале» (Рабочий театр. 1931. № 17) А. Эфрос высказал мысль: «Но отрицать, ничего не утверждая, как известно, невозможно». Да и сам Михоэлс в своей статье «Пути ГОСЕТа» (Советское искусство. 1931. 17 января) писал: «ГОСЕТ является театром социальной насыщенности. Таким образом он себя создал, таковым являются все его работы. Социальные радости, социальные страсти, катастрофа социального порядка, столкновение социальных интересов, социальная сатира — таковы его темы. И с первых дней определялась его политическая установка. Его ориентировка на нового зрителя, рабочего зрителя». Публикуя статью Михоэлса, редакция не замедлила в том же номере заметить: «Редакция оговаривает свое несогласие с рядом утверждений автора. В частности, редакция считает неправильным заявление тов. Михоэлса о том, что ГОСЕТ всегда является театром социальной насыщенности, ориентирующимся на нового рабочего зрителя».
Резко менялось время и с ним Михоэлс: от письма в защиту Грановского до статьи «Пути ГОСЕТа» прошло меньше двух лет. В том же номере «Советского искусства», где была помещена статья Михоэлса, можно было прочитать призыв: «Мобилизуем искусство на помощь предвыборной кампании».
«Москва деятельно готовится к перевыборам… Стопроцентное участие трудящихся в перевыборах — вот лозунг дня.
Очень далеки союзы (творческие) от выполнения основной задачи текущего момента перестройки всей театральной жизни и художественной самодеятельности к отчетно-вы-борной кампании.
Между театрами заключается договор — на лучшее проведение кампании…
Театр имени Мейерхольда вызывает ГОСЕТ на 100-процентную явку избирателей на общее собрание, на сбор ценных предложений к наказам и за выдвижение лучших ударников производства г. Москвы в райсоветы».
Михоэлс отозвался на эти призывы постановкой «Земли» Маркиша.
Спектакль «Нит гедайгет» многие критики склонны были расценить как «перелом» в истории ГОСЕТа.
«Тов. Михоэлс не удовлетворен пьесой. Он характеризует „Землю“ („Нит гедайгет“) как „библейский сценарий“. Два театра подошли к постановке этой пьесы совершенно различно. Тут дело в различии методов. ГОСЕТ — это театр социальных страстей, и все образы „Земли“ он трактует как социальные маски. Театр Корша подошел к пьесе с точки зрения старого понятия об „амплуа“, определив героев еврейской пьесы по старым канонам „героя-любовника“, „злодея“ и др.
Тов. Михоэлс не считает подход ГОСЕТа к этой пьесе абсолютно правильным, многое здесь сделано в порядке экспериментальном, но, во всяком случае, метод Корша в применении к новой пьесе кажется ему совершенно неудачным» (Советское искусство. 1931. 7 апреля).
Работа над «Землей» сблизила двух больших, но очень разных художников — Михоэлса и Маркиша. По свидетельству актеров, Маркиш десятки раз «вырывал» рукопись из рук Михоэлса, отказывался от постановки пьесы, от трактовки Михоэлса… Потом снова, после очередного звонка Михоэлса, возвращал ее, и они продолжали бороться за каждое слово. Позже Маркиш поймет (и напишет об этом), что для Михоэлса текст — лишь канва, Михоэлс «обходится исключительно подтекстами». Но в 1931 году молодой, полный надежд Маркиш этого еще не понимал…
В этом же 1931 году Михоэлс вместе с Радловым ставят «Четыре дня» Даниэля. Премьера спектакля состоялась в день 14-летия Октября. К тому времени уже «созрели» первые выпускники студии, и в спектакле было занято много молодых актеров.
Михоэлс работал с ними в студии, в театре, дома. По их воспоминаниям, дом Михоэлса был открыт для всех, кто этого хотел и кто в этом нуждался. Повсюду царила теплая, «михоэлсовская» обстановка. Многое прощал Михоэлс, но непонимания трудности актерского труда не терпел. Наверное, такая требовательность способствовала творческому росту молодых актеров, так хорошо проявивших себя в пьесе Даниэля «Четыре дня».
«Четыре дня» — пьеса о борьбе за установление советской власти в Белоруссии. Уже шла на сцене «Любовь Яровая», но еще не была написана «Оптимистическая трагедия».
Показать события Гражданской войны на сцене ГОСЕТа — задача не только новая, но и очень сложная. Быть может, поэтому Михоэлс решил сыграть главную роль — Юлиуса. В основу пьесы были положены реальные события. Подробно познакомил актера с героической жизнью героя его друг, доктор Шимелиович. Брат Шимелиовича был прообразом Юлиуса. «Михоэлс во время работы над пьесой „Четыре дня“ каждый день бывал у нас дома, беседовал с отцом, расспрашивал подробно о Юлиусе, о его привычках, характере. Отец шутя говорил: „Михоэлс скоро будет знать Юлиуса больше, чем я сам“». (Л. Б. Шимелиович).
Перед началом репетиций Михоэлс ездил в Минск, изучал документы, беседовал с участниками событий. Он сумел передать главное в своем герое: беззаветное служение делу революции, безраздельное желание отдать ей не частицу своей души, но всю полноценность жизни.
«Спектакль „Четыре дня“, будучи национальным по форме, является пролетарским по содержанию и может быть легко доступен, близок и понятен любой рабочей аудитории. Он свидетельствует о том, что коллектив ГОСЕТа несет в себе мощную творческую зарядку, которая позволит ему, несмотря на все трудности, стать на новые рельсы» (Б. Розенцвейг).
«ГОСЕТ имеет свои огромные заслуги. И свои ошибки, и промахи. Одно неоспоримо:…он с честью выполнил почетную роль могильщика старого, насквозь реакционного, шовинистического еврейского театра. ГОСЕТ был театром яркой, остро бичующей сатиры. Крепко, с задором, свойственным революционной молодежи, он издевался над бытом и персонажами уходящего старого местечка. Богачи, раввины, сионисты, „люди воздуха“, все эти уродливые действующие лица недавних дней прошли на подмостках ГОСЕТа при непрерывном смехе зрительного зала. Тут театр был силен. Он создал свою школу. Сказал свое слово» (Г. Рыклин. Правда. 1931. 28 ноября). Михоэлс наверняка знал о рецензии Г. Рыклина, напечатанной в «Правде», и был оскорблен такой трактовкой созданных им с такой любовью образов.
Если Добрушин в 1929 году всего лишь «уловил» суть классовой борьбы в стране («Суд идет»), то в 1932-м таких материалов было уже вдоволь: процессы над «вредителями, врагами народа», «шпионами» отныне носили массовый характер.
«В этом новом спектакле Михоэлс играл роль инженера Берга, беспартийного советского специалиста, оказавшегося втянутым во вредительскую организацию.
Инженер Берг, интеллигент-индивидуалист, принял советскую власть, так сказать, условно. Он заключил для себя как бы неписаный договор с ней. Он, инженер Берг, не будет мешать советской власти, даже поможет ей своей честной работой, но он требует, чтобы советская власть уважала и не ущемляла его, Берга, индивидуальности. И когда однажды инженеру Бергу показалось, что этот неписаный договор советская власть нарушила, он, полный обиды и возмущения, попадает в давно уже расставленные сети вокруг него контрреволюционной организацией. Всю жизнь считавший себя честным, порядочным, не способным на подлости человеком, а главное — человеком, не вмешивающимся ни в какие политические события, твердо сохраняющим „нейтралитет“, Берг становится вредителем и приходит к полному душевному кризису.
Роль Берга не внесла ничего нового в творчество Михоэлса как актера.
Он играл ее сдержанно, скупо, пожалуй, даже чересчур скупо, как будто хотел подчеркнуть свое стремление освобождать образы на сцене от шелухи формализма, от „игровых приемов“, но без особого взлета вдохновения. И все же роль эта явилась очень значительной вехой на творческом пути Михоэлса. В ней впервые наметилась та тема, которая в течение многих последующих лет будет занимать и волновать Михоэлса-актера, — тема трагического краха мировоззрения, вызванного несоответствием всего образа мыслей и чувств человека объективному миру» (Я. Гринвальд).
Пьеса «Спец» — первая самостоятельная работа Михоэлса-режиссера. Он же — исполнитель главной роли. Его интервью дает некоторое представление о том, чем он жил в эти дни:
«Пьесой „Спец“ театр стремится дать спектакль о новой советской интеллигенции. Обычно вопрос об интеллигенции освещался со сценических площадок весьма упрощенно.
Наш театр пытается показать взаимоотношения людей, всю сумму этических и эстетических вопросов, на которых часто спотыкается наша интеллигенция, и раскрыть линию классового расслоения современной советской интеллигенции» (Вечерняя Москва. 1932. 18 января).
Спектакль «Спец» был памятен Михоэлсу еще и тем, что роль жены Берга исполняла актриса Евгения Максимовна Левитас.
Михоэлс полюбил Евгению Максимовну, и она не была для него «мимолетным увлечением». Но святое отношение к понятию «семья», хасидские традиции не позволяли Михоэлсу что-то изменить в своем семейном укладе. Он считал, как и все хасиды, что только первый брак — настоящий, ниспосланный небесами. Жгучая любовь к Евгении Максимовне мучила его, он постоянно испытывал угрызения совести, двойственность положения его угнетала. Извечный вопрос «как быть?» — он решить не мог.
Все решила за него жизнь.
4 августа 1932 года умерла жена Михоэлса Сарра Львовна Кантор. Умерла неожиданно, быстро. Михоэлс в это время находился с театром на гастролях в Одессе. От него долго скрывали состояние здоровья жены, только 31 июля он приехал в Москву. Положение больной, по мнению профессора М. С. Вовси, было безнадежным. Сарру Львовну госпитализировали, дни и ночи находился с ней в больнице Соломон Михайлович. Он так изменился за эти дни, что, когда вернулся из больницы домой (уже после смерти жены), соседи его не узнали. «Это кто, отец Соломона Михайловича?» — спрашивали они. Было тогда Михоэлсу 42 года, его жена не прожила и 32…
Не только любящую и любимую жену, не только мать дочерей потерял Михоэлс — со смертью Сарры Львовны ушел большой друг, хранитель прекрасных традиций дома Канторов, хранитель библейского покоя в доме, в который уже врывались 30-е годы… Михоэлс чувствовал горечь потери, ее духовную невозместимость.
«После смерти Сарры Львовны, — рассказывал мне Е. М. Вовси, — Михоэлс читал „запоем“ страницы из Танаха». Что искал он тогда в этой вечной книге? Может быть, строки из Книги Руфь:
Не вели покинуть тебя
И не идти за тобой!
Ты пойдешь — и я за тобой пойду.
Где ты заночуешь — там и мой ночлег,
Твой народ — мой народ,
Твои боги — мои боги!
Где ты умрешь — там и умру.
И с тобой погребут!
Да свершит Господь по воле своей
И сверх того!
Разлукой нам — одна смерть!
(Пер. И. Брагинского)
Как часто вспоминал он после смерти Сарры Львовны старую Ригу, дом Канторов. Красивую девушку, по которой вздыхали самые достойные молодые люди. А она из всех не просто предпочла — выбрала Соломона Вовси.
Однажды к ее отцу пришел очередной сват и сказал: «Вы совсем ослепли, если не видите, за кого отдаете свою красавицу-дочь. Саррочка достойна стать женой самого царя Соломона, а не Шлемы Вовси». Говорят, что в ответ на это реб Кантор рассказал притчу о том, как один юноша буравил скважину в заборе, чтобы увидеть лицо красавицы, жившей за забором.
— Зачем ты это делаешь? — спросил отец девушки.
— Не проклинай меня, ребе, и не осуждай. Не суждена мне твоя дочь, хочу хоть издали на нее полюбоваться.
Войдя в дом, отец сказал дочери: «Лучше бы тебе, дочь моя, в прах обратиться, чем доставлять красотою своею мученья людям».
— Мои дочери, — продолжил реб Кантор, — страдания людям не доставят. И если моя дочь Саррочка предпочла Шлему Вовси другим, ей помог сделать выбор сам Бог.
В Писании сказано: «Много званых, но мало избранных». Быть на месте кого-то невозможно, но, будь я на месте Саррочки, я предпочел бы только Шлему Вовси! Я слышал многих актеров, но когда Соломон прочел в нашем доме поэму Бялика «Зори», мне навсегда открылась душа этого человека!
Я рос одиноко, и в детстве безлюдном
Любил притаиться, уйти в тишину;
В душе моей жажда о светлом и чудном
Шумела, бродила, подобно вину.
Часами я грезил в углу незаметном
И в око вселенной гляделся мой взор;
Слетались друзья — пошептать о заветном —
И в сердце их голос звучит до сих пор…
(Пер. Вл. Жаботинского)
Дни, часы, проведенные в доме Канторов, душу и сердце того дома — обо всем этом помнил Михоэлс всю жизнь. Знал он и другое: причиной ранней смерти Сарры Львовны была болезнь почек — следствие травмы, перенесенной еще в детстве. Почему же так мучило Михоэлса чувство вины? Любовь к Евгении Максимовне Левитас? Истинный лицедей, лицедей от Бога — Михоэлс не только догадывался, но знал: любовь — это лихорадка разума, лихорадка души, лихорадка сердца. Бороться с ней бессмысленно. Он собирался жениться на Евгении Максимовне и надеялся, что дочери поймут его, а она поймет дочерей.
Михоэлс понимал, что любовь, страсть приносят страдания невыносимые, но — прекрасные! Жить без страстей он не мог, но, невольно подчиняясь страстям, начинал неизбежно казнить себя. (Может быть, верна мысль: совестливые люди всегда чувствуют себя грешниками?)
Михоэлс был близок к решению жениться на Евгении Максимовне, но произошло трагическое, непоправимое: в ночь с 29 на 30 декабря 1932 года, после спектакля, Евгения Максимовна умерла от инфаркта.
Михоэлс воспринял ее смерть как кару, как возмездие судьбы.
Вспоминая позже эти дни, Михоэлс писал:
«В 1932 году в моей жизни было много горя… Я потерял за очень короткий срок несколько близких мне людей. Эти тяжелые утраты настолько выбили меня из колеи, что я стал подумывать вообще бросить сцену.
Выходить на сцену и играть свои старые роли стало для меня невыносимым. В этих ролях были комедийные эпизоды, смешившие весь зрительный зал. Мне же этот смех казался чуждым. Мне было завидно, что люди могут смеяться. Я сам был тогда внутренне лишен этой возможности. Я твердо решил уйти из театра.
Но мои товарищи по театру, желая вернуть мне интерес к жизни и к работе, все чаще и чаще говорили:
— Вот Вы сыграете Лира».
Еще в 1932 году Михоэлс приступил к работе над спектаклем «Мера строгости» по пьесе Давида Бергельсона. «Это означало наш переход к актуальной теме… Я этот спектакль также считаю условным, хотя и неудачным. В нем много творческих неудач… Он образен. Я бы не сказал, что это символика. В работе над советской темой мы очень многое исправили. Но было бы ошибкой думать, что мы советскую тему действительно оформили и нашли смысл спектакля.
Одной из причин формализма на театре является драматург. Это должно быть четко сказано» (Михоэлс).
Может быть, поэтому он посягал на самостоятельность даже такого признанного писателя и драматурга, каким был Давид Рафаилович Бергельсон. Пьесу «Мера строгости» совершенствовали вдвоем. Не раз Бергельсон говорил: «Соломон Михайлович, дай Бог, чтобы мы окупили хотя бы кофе и сигареты, затраченные на эту работу».
А театр продолжал жить своей жизнью. Если на «Путешествие Вениамина» зритель еще приходил охотно, на «Четыре дня» и «Спеца» уже искали организованного зрителя.
До Михоэлса доходили разговоры, что ГОСЕТ потерял себя и что повинен в этом именно он. Грановский создал театр, а Михоэлс его погубил. Были мысли уйти из театра, но кому он мог его передать? Михоэлс понимал, что в таком случае начнется «местечковый базар» — каждый второй актер мнил себя режиссером, способным возглавить театр. «Мне кажется, что актеры наши в большинстве своем не читают газет, не слушают радио, не видят, что делается за пределами театра. Мои слова и политчтения до них не доходят. Я им объясняю, что до Мольера мы еще не доросли, а Гольдфадена переросли. Так что же нам ставить?» (Из рассказа Э. И. Карчмер.)
Отчаяние Михоэлса того времени ощущается в его письме Ф. Н. Каверину:
«Дорогой Федор Николаевич!
Представляю себе ваше изумление, когда на ваше длинное письмо и исключительную товарищескую услугу мне и театру я ответил столь продолжительным молчанием.
Но если бы вы знали, что на меня сыпались за последнее время неприятности, как из рога изобилия, неприятности как личного порядка, так и по линии театра. Вы бы, право, меня уже не так осуждали…
А теперь о главном… О „Гребле“. Она повсюду прошла с большим успехом, но не таким, что в Одессе. Пресса, правда, хорошая, но на диспуте в Киеве довольно резко нападали на отдельные части спектакля.
В Харькове, где у Орланда, как у всякого пророка в своем отечестве, много врагов, спектакль вызвал особые споры, нападки и признание — пьеса имела какой-то особый успех.
В антрактах люди ссорились, кричали, некоторых из „писателей“-моапповцев пришлось успокаивать при содействии милиции. На просмотре было все ЦК ВКП (б).
В моем письме перерыв на несколько дней. Я ждал прессы, чтобы вам послать.
В одной рецензии некий Морской (Мирский, — М. Г.) покрывает, что называется, матом. Рецензия называется „Ехали да сели на мель…“.
Вот, собственно, и все о нас. Могу лишь добавить, что со мной делается что-то необыкновенно скверное. У меня самочувствие самоубийцы, честное слово. Когда озираюсь в своем одиночестве, я все больше убеждаюсь, что Вы для меня сейчас, пожалуй, единственный человек, которого мне жалко потерять.
Единственный из людей театра по-настоящему отличный».
Воистину: «Нет пророка в своем отечестве» — такими сокровенными мыслями поделиться в своем театре Михоэлс в то время мог бы, пожалуй, только с Зускиным.
Сезон 1932/33 года был отменен из-за ремонта здания театра. Это было передышкой и спасением. 8 октября 1933 года, к 16-летию Октября, пьеса «Мера строгости» была показана зрителям.
«Тематический спектакль Государственного еврейского театра „Мидас Гадин“ продолжает линию ряда революционных спектаклей последних лет.
Период, к которому относится действие, исторический фон пьесы во многом сближает ее со „Штормом“ Билль-Белоцерковского, обозначившим, как известно, новую веху в развитии советского театра. Близкая „Шторму“ по теме пьеса т. Бергельсона не говорит о той меткости мировоззрения…
Первая самостоятельная режиссерская работа т. Михоэлса „Мера строгости“ доказывает, что С. М. Михоэлс не только замечательный актер, но и законченный режиссер — изобретательный, талантливый, своеобразный.
Как режиссерская работа „Мидас Гадин“ — законченная полифоническая композиция. Михоэлс несомненно столкнулся с трудностями необычайными. Главнейшее — многотемность пьесы; ее рыхлость и плоскостность персонажей, данных автором, объясняемая, может быть, тем, что этих персонажей много и всем им автор уделяет почти одинаковое внимание, все они проходят сквозь всю пьесу» (Советское искусство. 1933. 2 ноября).
«ГОСЕТ избрал другой путь — неутомимых поисков национального по форме, пролетарского по содержанию театрального зрелища.
В плане и специфике своего искусства, воскрешающего приемы игры бродячих еврейских комедиантов, он ставит новые вехи на своем творческом пути. Такой вехой и является спектакль „Мера строгости“» (Я. Гринвальд).
Сезон 1932/33 года…
«Работники показывают пример революционной сознательности. Ленинград соревнуется с Москвой — поход театров на заводы.
10 600 работников искусства подписались на заем 2797 000 рублей» (Советское искусство. 1932. 15 июня).
Мелькают лозунги: «Смеясь, расставаться с прошлым», «Комедию и сатиру — в арсенал средств зрелищной пропаганды». Газеты сообщают о трудовых успехах советского народа: 10 октября 1932 года пуск Днепрогэса. Группа работников Наркомпроса во главе с В. Э. Мейерхольдом (в нее среди прочих включены В. М. Качалов, Н. А. Обухова, Ирма Яунзем, Зинаида Райх) направлена на праздник пуска электростанции. Жизнь, казалось, сделала поворот к лучшему: бесконечно рапортуют вождю о достигнутых успехах рабочие, колхозники, работники искусства. Правда, для «профилактики» появляются и другие материалы (статья «Мейерхольд на чистке». Советское искусство. 1933. 2 ноября).
Михоэлс решил поставить в ГОСЕТе веселый спектакль. Предложение о постановке водевиля французского драматурга Эжена Мари Лабиша «Тридцать миллионов Гладиатора» было встречено неодобрительно многими актерами, да и друзья ГОСЕТа не понимали, зачем на сцене еврейского театра ставить французский водевиль.
Но Михоэлс настоял: перед постановкой Лира нужно сыграть пьесу старого доброго Лабиша, пьесу, которая обошла многие театры мира. И поехать на гастроли в Ленинград и Тбилиси.
После гастролей в конце лета 1934 года ГОСЕТ снова в Москве. Успешно идут «старые» спектакли, готов к постановке «Миллионер, дантист и бедняк», премьера которого состоялась 10 ноября 1934 года. Одна из рецензий на этот спектакль называлась «Париж в ГОСЕТе».
«„Париж в ГОСЕТе“. Действительно, музыка Пульвера оказалась столь „французской“, что в сочетании с декорациями художника Лабаса на сцене ГОСЕТа ожил Париж».
«Поставить на московской сцене в Государственном еврейском театре водевиль Лабиша „Миллионер, дантист и бедняк“ совсем не так просто, как это может показаться с первого взгляда.
Артистам ГОСЕТа пришлось немало поработать над собой, чтобы освободиться от старой привычной манеры игры. В свое время эта манера обеспечивала им успех, но сейчас имеется опасность, что она превратится в своего рода канон. Я думаю, что теперешний опыт, при всем своем несовершенстве, явится толчком к дальнейшему развитию и поможет им в работе над классической комедией. Артистам ГОСЕТа, вопреки долголетней привычке, впервые придется „играть вовне, если так можно выразиться. В этом отношении я нашел самого вдумчивого сотрудника в Михоэлсе, который увлек за собой весь коллектив ГОСЕТа“» (Леон Муссинак).
Французский режиссер Леон Муссинак, приглашенный для постановки пьесы, сделал из водевиля настоящую социальную сатирическую комедию.
Михоэлс сыграл в ней роль Гредана.
«Михоэлс отделывает словесную ткань роли. Слова строятся здесь в пышные ряды — как следственная паутина, когда лицемерят и лгут уста, их произносящие… Потрясающая гибкость речи, она как бы вся пронизана мыслью, пронизана эмоцией, пропитана реальностью жизни, точно живое сердце — кровью…» (Красная газета. 1933. 11 июня).
Летом 1934 года ГОСЕТ гастролировал в Тбилиси, тогда еще Тифлисе.
Темпераментные тбилисцы, как всегда, восторженно встречали актеров ГОСЕТа, зал устраивал овацию после спектаклей, зрители пели вместе с актерами полюбившиеся мелодии. Встречая актеров ГОСЕТа на улице, тифлисцы приветствовали их репликами на идиш.
Соломон Михайлович дружил со многими грузинскими актерами. Каждый день, возвращаясь после утренней репетиции в свой номер в гостинице, Михоэлс заставал на столе букет изумительно красивых тбилисских роз. «Цветы незнакомки», — шутя заметил Михоэлс. Решив выследить таинственную незнакомку, он попросил Зускина «подыграть» ему. Вениамин Львович закрыл Михоэлса в комнате, а ключ оставил дежурной. Вскоре в комнату Михоэлса (который притаился за шкафом) вошла «незнакомка», очень хорошо ему известная. Это была Верико Анджапаридзе. Верико Ивлиановна призналась Михоэлсу, что так была наслышана о его якобы ужасной внешности, что откладывала встречу с ним. Но, увидев его на сцене, влюбилась в Михоэлса, боясь в этом признаться даже себе самой…
В тот приезд ГОСЕТа в Тбилиси Соломон Михоэлс и Верико Анджапаридзе часто встречались, подолгу беседовали, гуляли по городу. Однажды побывали в Государственном историко-этнографическом музее евреев Грузии. Их гидом был Акакий Хорава. Он оказался замечательным экскурсоводом, прекрасным знатоком «еврейского Тбилиси». На одной из улочек он обратил внимание своих спутников на развалины — здесь когда-то была синагога, разрушенная очередными завоевателями. Евреи живут в Тбилиси почти так же давно, как и грузины. Не только евреям, но и грузинам под натиском жестоких завоевателей не раз доводилось покидать любимый город, но они или их потомки всегда возвращались.
На обратном пути они зашли в маленький ресторанчик. Хозяин встретил гостей с радостью. Но Хорава охладил его:
— Это потомок поколений великих портных, живших когда-то на этой улице! Пусть не обидятся на меня мои одноплеменники, но таких портных, какими были евреи с этой улицы, никогда не было, нет и не будет во всем мире.
— Это видно по твоему костюму, — с улыбкой заметила Верико.
— Я о другом хочу рассказать нашему гостю. Этого не помнит даже Верико, — улыбаясь сказал Хорава. — Событие это произошло, кажется, в 1840 году. Староста или начальник тифлисских портных…
— Они назывались устабаши, — сказала Верико. — А ты говоришь — я не помню.
— Так вот, — продолжил Хорава, — эти устабаши обратились с письмом лично к барону — фамилии не помню — главному представителю России на Кавказе с просьбой выселить из Тбилиси всех евреев-портных. И знаете, что сделал этот барон? Обратился к высшему начальству, написав, что «жалоба на евреев лишь доказывает, что евреи в мастерствах своих превосходят других ремесленников. Да и вообще они городу не только нужны, но и необходимы».
Хозяин ресторанчика поднес гостям напитки:
— Тост уже сказал Акакий.
Когда ГОСЕТ уезжал из Тбилиси, Верико Ивлиановна и Соломон Михайлович под мелодию еврейской народной песни «Дядя Эля» «прошлись» в танце от первого вагона до девятого…
«А в будущем году вы непременно приедете к нам, — продолжала Верико. — Грузины и евреи России отметят в 1935 году замечательный юбилей. Когда в 1835 году появилось „Положение о евреях“, не включившее город Тбилиси в число местностей, открытых для евреев, управляющий города возбудил ходатайство об „оставлении на месте водворившихся евреев, особенно тифлисских, т. к. люди сия сколько полезны здесь, столько и необходимы…“.
Приезд вашего театра подтвердил правоту слов, написанных 99 лет тому назад».
А потом, уже прощаясь, Верико Ивлиановна сказала Михоэлсу: «Тбилиси — не просто город. Это — сердце, которое безошибочно чувствует людей. Тбилиси любит вас, Соломон Михайлович. Существует у нас в Грузии предание о том, что царский наш род Багратионов восходит к библейскому царю Соломону. Теперь я верю, что это так, дорогой Соломон Мудрый. Мы всегда ждем вас».
С трудом сдерживая слезы, Михоэлс расцеловал ее и тихо произнес: «Сердце мое, Верико!»
«Как я был счастлив, Верико, в Тбилиси! Вы вернули меня к жизни», — позднее написал он.
Когда Михоэлс погиб, одна из первых телеграмм с соболезнованиями пришла из Тбилиси от Верико Ивлиановны. Несколько слов сочувствия, а вечером 17 января она позвонила Анастасии Павловне и долго беседовала с ней по телефону. Среди прочих утешений она сказала: «Мы с вами счастливые женщины. Мы обе любили, обожали замечательного человека. Слово „актер“ — лишь часть этой Личности. На тризне я всегда буду с вами. А если не удастся приехать в Москву, то пойду гулять по улочкам старого Тбилиси. Радом со мной будет Соломон Михайлович. Он будет напевать мне напевы, которые он называл каким-то красивым словом — хасимские (наверное, хасидские. — М. Г.), а я ему буду петь грузинские песни, которые, я знаю, он любил так же, как и еврейские. Встречу с Михоэлсом мне послали небеса как подтверждение встречи двух народов — грузин и евреев».
В начале 50-х, когда имя Михоэлса шельмовали, а по сути — проклинали в советской прессе, Верико Ивлиановна находила способ каждый год 13 января дать знать о себе Анастасии Павловне, и не просто словесно — через своих друзей и знакомых в Москве она помогала ей материально. Что может быть благороднее? Думается, когда-нибудь имя Верико Анджапаридзе появится на аллее Праведников в Яд Ва-Шеме в Иерусалиме.
В конце 30-х годов художественный совет ГОСЕТа решил осуществить давнишнюю свою мечту: поставить спектакль «Испанцы» по Лермонтову. Переводчиком был приглашен Самуил Галкин, Консультантом — Ираклий Андроников, признанный уже тогда лермонтовед. Древо знаменитого грузинского рода Андроникашвили восходит к династии греческого императора Андроника-Комнена. О нем упоминает Осип Мандельштам в стихотворении, посвященном своей возлюбленной — княжне Саломее Николаевне Андрониковой, родной тетке Ираклия Андроникова:
Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!
Помоги мне в эту ночь
Солнце выручить из плена,
Помоги мне пышность плена
Стройной песней превозмочь,
Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!
Потомок царя Комнена, вошедший в русскую культуру как Ираклий Андроников, был сыном Луарсаба Николаевича Андроникашвили — уважаемого в Тбилиси юриста. Ираклий более всего увлекался творчеством Лермонтова. Это и послужило поводом для его знакомства с Михоэлсом. Вот как вспоминал об этом Андроников: «Произошло это в 1935 году в Пименовском переулке, в подвальчике, где тогда помещался Московский клуб мастеров искусств. Соломон Михайлович вместе с женой своей, Анастасией Павловной Потоцкой-Михоэлс, пришел на мой вечер… После этого мы встречались не раз, но в новую фазу знакомство вошло только лет через пять, когда Михоэлс предложил мне, как специалисту по Лермонтову, консультировать постановку лермонтовских „Испанцев“, над которыми собирался работать Еврейский театр…» Во время одной из бесед о будущем спектакле Михоэлс попросил Андроникова прочесть самое любимое его стихотворение Лермонтова, на что Андроников сказал: «Нам придется тогда здесь сидеть до утра», а потом все же прочел «Клянусь я первым днем творенья».
В тот день Михоэлс «заманил» Андроникова в свою гримерную — там был Зускин — и попросил рассказать им что-то неведомое о Лермонтове. Андроников заговорил о «Балладе» Лермонтова и, уловив, что и Михоэлс, и Зускин об этом стихотворении слышат впервые, подробно рассказал историю его создания девятнадцатилетним поэтом. И тут же продекламировал его наизусть.
Куда так проворно, жидовка младая?
Час утра, ты знаешь, далек…
Потише — распалась цепочка златая,
И скоро спадет башмачок.
Вот мост, вот чугунные влево перила
Блестят от огня фонарей;
Держись за них крепче, — устала, нет силы…
Вот дом — и звонок у дверей.
Безмолвно жидовка у двери стояла,
Как мраморный идол бледна;
Потом, за шнурок потянув, постучала, —
И кто-то взглянул из окна.
И страхом и тайной надеждой пылая,
Еврейка глаза подняла…
Конечно, ужасней минута такая
Столетий печали была.
Она говорила: «Мой ангел прекрасный,
Взгляни еще раз на меня,
Избавь свою Сару от пытки напрасной,
Избавь от ножа и огня.
Отец мой сказал, что закон Моисея
Любить запрещает тебя.
Мой друг, я внимала отцу не бледнея,
Затем, что внимала любя.
И мне обещал он страданья, мученья,
И нож наточил роковой,
И вышел… Мой друг, берегись его мщенья, —
Он будет как тень за тобой.
Отцовского мщенья ужасны удары,
Беги же отсюда скорей!
Тебе не изменят уста твоей Сары
Под хладной рукой палачей.
Беги!..» Но на лик, из окна наклоненный,
Блеснул неожиданный свет,
И что-то сверкало в руке обнаженной,
И мрачен глухой был ответ.
И тяжкое что-то на камни упало,
И стон раздался под стеной, —
В нем все улетающей жизнью дышало,
И больше, чем жизнью одной!
Поутру, толпяся, народ изумленный
Кричал и шептал об одном:
Там в доме был русский, кинжалом пронзенный,
И женщины труп под окном.
Вениамин Львович, обращаясь к Андроникову, сказал: «Сейчас в зале идет репетиция спектакля „Суламифь“. Почитайте актерам эту „Балладу“. Уверен, это поможет им в работе над „Испанцами“».
Андроников написал статью «Поэт и аналитик». По сути — это размышления и воспоминания о Михоэлсе.«…Соломон Михоэлс — это больше, чем замечательный актер и замечательный режиссер. Михоэлс — это явление советской культуры. Он не просто играл. И не просто ставил спектакли. Он искал новые пути. И находил их. Он понимал театр как великое выражение жизненной правды. Но она никогда не превращалась у него ни в копию жизни, ни в копию правды, никогда не бывала у него будничной, обыкновенной, похожей на тысячи других воплощений. Она всегда была новой, открытой вот только что, свежей, сверкающей и заключала в себе ту великую праздничность искусства, которая способна вызывать улыбку сквозь слезы и заставить задуматься посреди безудержного веселья. Да, он умел ставить спектакли, стопроцентно верные жизненной правде. Но какой концентрированной была эта правда! Разве можно забыть его „Фрейлехс“ — спектакль, построенный на материале, который в прежние времена называли этнографическим и который в руках Михоэлса обрел настоящую театральность и увлекательность и превратился в истинное событие!»
Встречались Андроников и Михоэлс не так уж часто, но дружба их всегда была крепкой и искренней. И приветствия были всегда одинаковыми:
— Здравствуй, брат Ираклий! — восклицал Михоэлс. — Благословляю тебя. Преисполнись и примени.
На что Андроников отвечал:
— Спасибо, что просветил, кормилец, батюшка Михайлович!
Надо ли напоминать читателям о значимости Одессы в истории российских евреев, в особенности — во второй половине XIX — начале XX века. «Одесса — очень скверный город. Это всем известно, — писал Бабель. — Вместо „большая разница“, там говорят — „две большие разницы“. И еще: „тудою и сюдою“. Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом значительном и очаровательнейшем городе Российской империи».
О любви Михоэлса к Одессе писала Анастасия Павловна: «Если б Вы знали, как любил Одессу Соломон Михайлович! Как любили ее мы вместе! Когда после спектаклей мы медленно гуляли по Одессе (иногда эти прогулки длились до утра — Михоэлс обожал ночную Одессу, а Пушкинскую улицу — особенно), он останавливался у каждого дома и, восхищаясь архитектурой его, повторял: „Не могу понять, почему я не родился в этом городе. Это ошибка!“»
12 августа 1932 года Соломон Михайлович приехал из Москвы в Одессу, где успешно шли гастроли ГОСЕТа. Его встречала вся труппа, а еще точнее — вся Одесса. Популярность его в Одессе была так велика, что она даже вызвала ревность Утесова. Рассказывают, что Утесов во время спектакля послал Михоэлсу записку: «Соломон, ты покорил Париж, Вену, Берлин. Одессу оставь мне. В случае отказа встретимся на рапирах около Дюка в субботу вечером. Не целую. Утесов».
Михоэлс был занят на сцене, и «посыльный» передал записку В. Л. Зускину. Зускин, прочтя записку, быстро набросал и передал посыльному «ответ Михоэлса»: «Правоверному еврею в субботу работать не положено, тем более со шпагой. „Суббота для человека“ — сказано в Писании. Одессу, Леня, я уступаю тебе, одесситок оставляю себе. Целую, Соломон».
Дружба Утесова и Михоэлса прошла через всю их жизнь. Анастасия Павловна рассказывала, что Михоэлс посещал концерты Утесова повсюду — в Одессе они даже сдвигали время выступления, чтобы можно было побывать друг у друга. «Когда во время гастролей Михоэлс был свободен, он молниеносно организовывал „поход“ на концерты Утесова, а на обратном пути оба коллектива — ГОСЕТа и оркестра Утесова — распевали особенно запавшие в сердце мелодии».
В том же 1932 году Михоэлс вызвался стать «экскурсоводом» Утесова по Одессе. «Это вам только кажется, Леонид Осипович, что вы знаете Одессу лучше меня. Я вас повожу по той Одессе, которая неведома вам». И они пошли по улицам и улочкам, где снимался фильм «Еврейское счастье». Михоэлс вспоминал забавные сцены, возникавшие во время съемок. В этом «путешествии» с ними был и Вениамин Зускин. Подходя к местам, где снимался фильм «Еврейское счастье», они показывали из него сценки одному-единственному зрителю — Утесову. На улице Дегтярной Михоэлс остановился на том месте, где когда-то был дом, в котором жил писатель Менделе Мойхер-Сфорим. Он заговорил с Утесовым об этом писателе и рассказал ему, что без прогулок по этой улице многие его роли были бы совсем другими.
— Дорогой реб Михоэлс! Я согласен с тем, что дедушка еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорим был хороший писатель. Но после него и до Бабеля был в Одессе и другой, писавший на русском языке. Звали его Семен Юшкевич. Он был очень популярен. Его ставили во всех значимых театрах России. Даже — в Художественном в Москве. Герои его ближе и мне, и вам, чем светлой памяти образы из книг Менделе Мойхер-Сфорима или даже Шолом-Алейхема.
— Вы так говорите, реб Вайсбейн, потому что сами в молодости играли его Сонькина. Не помню, как назывался тот ваш спектакль. Когда-то я его смотрел. Но мы учтем ваши замечания, реб Утесов! — произнес Михоэлс, посмотрев на Зускина. — В следующем сезоне поставим на очередь Юшкевича.
— Не иронизируйте, мудрый Соломон. Юшкевича высоко ценили многие большие русские писатели. Даже сам Иван Бунин. А когда он умер, в какой-то парижской газете написали: «Плач, тоска Юшкевича по Одессе в Париже, а потом и в США, где в 20-х годах жил писатель, — это древний плач на реках Вавилонских… Жизнь Юшкевича сложилась так, что на склоне лет солнечная и веселая, русскоязычная пестрая и яркая Одесса была отнята у него, и его плач стал еще пронзительнее».
— Теперь я понимаю, как вы любите Юшкевича. Действительно, надо подумать в ГОСЕТе о нем. И вообще об «одесском спектакле», ведь мы в долгу перед этим замечательным городом.
Не жажди успеха в мире, не впасть в заблуждение — уже успех.
Как уже известно читателю, в начале 30-х годов личные трагедии привели Михоэлса к мысли уйти из театра. Но друзья, товарищи по театру настойчиво советовали ему приступить к работе над ролью короля Лира, да и сам Михоэлс часто говорил, что тому, «кто способен все перетерпеть, дано на все дерзнуть». И он не ушел со сцены, чтобы сыграть одну из лучших своих ролей, о которой мечтал всю жизнь:
«Сыграть короля Лира было моей давнишней, еще юношеской мечтой. Я учился тогда в реальном училище в Риге. В этом училище большое внимание уделялось изучению мировой литературы. Педагог по литературе часто заставлял нас на уроке вслух читать произведения классиков. Мне он обычно давал стихи. Драматические произведения мы всегда читали по ролям. Когда дошла очередь до „Короля Лира“ Шекспира, педагог поручил мне читать роль Лира. Очень хорошо помню, какое впечатление произвела на меня последняя сцена. Она больше всего волновала меня во всей трагедии. Это, очевидно, отразилось на моем чтении, потому что, когда я ее читал, учитель наш прослезился. В этот день я дал себе слово, что если когда-нибудь стану актером, то непременно сыграю короля Лира».
Трагическую и неповторимую историю еврейского народа, опыт собственной жизни привносил Михоэлс в свое творчество. Может быть, поэтому такая затаенная печаль была в глазах зрелого Михоэлса всегда, даже когда он улыбался. До Лира он сыграл десятки ролей, лучшие из созданных им образов были проникнуты трагическим лиризмом с оттенком тонкой сатиры. О своем пути к образу Лира написал сам Михоэлс в статье «Моя работа над „Королем Лиром“ Шекспира»: «…исходная точка моей концепции трагедии заключалась в том, что король, созвав дочерей, явился к ним с уже заранее обдуманным намерением. Легкость, с какой он отказывается от своей великой власти, привела меня к выводу, что для Лира многие общепризнанные ценности обесценились, что он обрел какое-то новое, философское понимание жизни.
Власть ничто по сравнению с тем, что знает Лир. Еще меньшую ценность представляет для него человек… Просидев на троне столько лет, он поверил в свою избранность, в свою мудрость, решил, что мудрость его превосходит абсолютно все, известное людям, и решил, что может одного себя противопоставить всему свету…» Так понимал и воспринимал Лира Михоэлс. Впрочем, такое понимание имело свои конкретные предпосылки: всю жизнь Михоэлс перечитывал, изучал Софокла, в особенности — «Царя Эдипа» (роль Эдипа он так и не сыграл; уже после гибели Михоэлса И. С. Козловский написал: «И великая горечь возникает при мысли, что не показали мы „Царя Эдипа“»), Трагедия Эдипа явилась для Михоэлса подтверждением его мысли о том, что преступления одного человека могут привести к несчастьям и бедам целого народа. И если возникает такая страшная личность, то не повинны ли в этом народ, общество? В трагедии царя Эдипа Михоэлс усматривал прежде всего конфликт между отдельным человеком и объективными условиями жизни. Разве не то же самое произошло с Лиром? «Я — центр мира. Ничего нет выше меня. Что для меня власть, могущество, сила! Что для меня правда или ложь! Что для меня притворное лицемерие Гонерильи и Реганы, что для меня сдержанная, но истинная любовь Корделии? Все — ничтожно, все — тщетно, истина только в моей мудрости, только моя личность имеет цену…» (Михоэлс).
Он изучил «Короля Лира» в различных русских переводах — Дружинина, Кузьмина, Кетчер и Соколовского; сравнивая переводы, делал в них очень важные для себя открытия: в переводе Дружинина Лир говорит, что он решил выполнить «свой замысел давнишний», в переводе же Соколовского фраза звучит иначе: «Мы решили осуществить наш умысел давнишний». «Это укрепляло меня в убеждении, что Лир, осуществляя свою мысль о разделе государства, действовал по заранее обдуманному плану. Отнестись к его затее как к капризу выжившего из ума старика, затосковавшего по покою, было бы натяжкой, искусственно приписанной Шекспиру» (Михоэлс).
К работе над ролью Лира Михоэлс приступил в трудное для себя время. И все же о нем можно сказать, что он был любимцем — не баловнем, но любимцем судьбы. Именно в это трагическое для Михоэлса время судьба одарила его новой встречей — с Анастасией Павловной Потоцкой. Она вошла в его мир — неожиданно и до конца дней — как бы из другой галактики. По матери — потомок старинного дворянского рода Воейковых, по отцу — аристократического польского рода Потоцких, Анастасия Павловна выросла в окружении учениц и преподавателей Первой московской женской гимназии, основательницей которой была ее мать — Варвара Васильевна Потоцкая, преподававшая там французскую словесность. В гимназии Потоцкой учились сестры Марина и Анастасия Цветаевы, среди преподавателей был С. В. Рахманинов, частый гость в их доме. В конце 1933 года, когда Михоэлс познакомился с Анастасией Павловной, она была молода и прелестна. Насмешливый взгляд умных, необычайно красивых глаз, чарующая улыбка, некрасивые, но удивительно милые черты лица сводили с ума многих ее поклонников. Анастасия Павловна отличалась незаурядным умом, истинной воспитанностью, тонкой женской интуицией, подлинным талантом общения.
«С Михоэлсом я познакомилась „первый раз“ в доме у моей кузины в 1933 году, — вспоминала Анастасия Павловна, — но мне казалось, что об этом знакомстве он забыл, а летом 1934 года мы встретились с Соломоном Михайловичем в Ленинграде.
Чудная голубовато-белая ночь. Мы медленно гуляем по Невскому, по набережным Невы. Я знала о недавних трагических событиях в жизни Соломона Михайловича: в течение короткого времени он потерял близких ему людей. Он сказал мне в ту ночь: „Сыграть Лира стало целью моей жизни. Но почему так быстро стало убегать время, вместо того, чтобы оно хоть чуточку приостановилось? Боюсь, не успею… Велят играть в другие игры“.
Мы говорили о любимых писателях, о любимых книгах. „Больше всего в жизни люблю книгу Иова. И не потому, что любил ее Толстой. (Одного этого было бы достаточно!) Люблю Иова! Помнишь, Асенька: Бог дал разрешение Сатане испытать Иова. И на Иова ниспосланы были страшные муки: он потерял богатство, нажитое тяжким, честным трудом; потерял дом, погибли дети. Но Иов не проклял Бога, а лишь разорвал в трауре свои одежды, остригся наголо и, упав на колени, восклицал: „Яхве дал, Яхве и взял; да будет имя Яхве благословенно!“ Он не послушал совета жены — похулить Бога: „Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?“
А у Шекспира, помнишь: „Вот она — великолепная глупость мира! Стоит нам впасть в несчастье, в котором мы чаще всего сами виноваты, и ответственность за катастрофу мы возлагаем на солнце, звезды и луну, как будто мы становимся негодяями по велению необходимости, дураками — по небесному предначертанию, мерзавцами, ворами и плутами — под давлением небесных сфер, пьяницами, лжецами и развратниками — подчиняясь влиянию планет; и как будто бы все наше зло навязывает нам божественная воля““.
Странно устроен человек (и во времена Иова, и во времена Шекспира, и сейчас): мы все пытаемся вину перенести на время, в котором живем, на людей, на окружающих, на правителей. А ведь Пушкин так не поступал. Помнишь:
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу…
Михоэлс прочел эти строки и оглянулся по сторонам: „Ну и времена! Пушкина в Ленинграде приходится читать с оглядкой!“
— Ты ведь только что читал монолог Эдмунда и не испугался.
— Я уверен — если бы в Англии не было Шекспира, власть королей так и оставалась бы неограниченной до наших дней…
Мне становилось все более понятным, почему Михоэлс решил сыграть Лира…
— А почему ты не сыграл Гамлета? — спросила я его.
— Не сыграл и уже не сыграю. А не сыграть Лира не могу. В нем так много можно рассказать о прошлом, о настоящем, о будущем. И главное — все о себе.
— А в „Гамлете“ разве нельзя?
— В силу, может быть, наивности я поверил обещанию Алексея Михайловича Грановского, который мне к десятилетию театра обещал роль Гамлета. Я очень много думал тогда о Гамлете. Было время, когда я увлекался и ролью Отелло, причем обосновал для себя целый ряд концепций, то есть систем построения этого образа. А Гамлет останется моей вечной любовью, но мое время для исполнения Гамлета уже прошло, я повзрослел и дорос до Лира. Мне до сцены хочется спросить зрителей: „Разве для того, чтобы познать истину, надо сначала надеть корону, а потом лишиться ее?“ И еще: „Если ограничить жизнь лишь тем, что нужно, то жизнь человека сравнится с жизнью скотской. Почему люди не хотят этого понять?“ Я много раз перечитывал всего Шекспира, но когда читаю „Короля Лира“, душа моя очищается…
Я завидую людям, настроение которых не зависит от событий жизни вообще, а только от житейских мелочей. А меня постоянно волнует все вокруг: от невинно осужденных людей до семейных неурядиц у актеров нашего театра… Мой дед учил меня: от судьбы не уйдешь, поэтому радуйся ее подаркам, а если судьба неблагосклонна — потерпи, не думай о худшем.
Сейчас я счастлив, мне хочется, чтобы эта белая ночь длилась вечно, чтобы она превратилась у нас с тобой в светлую жизнь… А на сердце все же тревога. Порой мне кажется, что я участвую в каком-то злодеянии. Может быть, я ищу спасения у Лира? Так часто меня преследуют его слова: „Чтоб мир переменился иль погиб“.
Белая ленинградская ночь незаметно перешла в светлое солнечное утро. Выпив кофе в подвальчике на Невском, я пошла с Соломоном Михайловичем на репетицию „Лира“ (репетировали, если мне не изменяет память, в зале дома Санпросвета, недалеко от гостиницы „Европейская“), С. Э. Радлова в то утро еще не было. Соломон Михайлович сидел за столом у окна. Подперев лоб руками, он смотрел куда-то вдаль и, казалось, не имел отношения к происходящему на сцене.
Но это только казалось…
Он реагировал на неуловимые интонации в голосе актеров, на каждый жест. Я видела это по его глазам, по выражению лица.
Он никого не останавливает, не перебивает. А в перерыве делает подробнейший анализ репетиции, сам играет каждую роль. Михоэлс помнит наизусть весь текст Лира. Репетиция идет на идиш, а замечания и наставления Михоэлс делает на русском языке.
А когда актеры устали, Соломон Михайлович предложил сделать „литературный перерыв“, во время которого он рассказывал о „Короле Лире“, о Шекспире».
— Начну с конца. Тема черной неблагодарности детей так стара, что в пьесе Шекспира не кажется мне основной.
— А что же, по-вашему, самое основное в пьесе «Король Лир»? — спросил его кто-то из актеров.
— Когда в момент величайшего горя Лир восклицает:
Бездомные, нагие горемыки!
Где вы сейчас? Чем отразите вы
Удары этой лютой непогоды
В лохмотьях, с непокрытой головой
И тощим брюхом? Как я мало думал
Об этом прежде!
«Вот прозренье Лира! Я говорю об этом потому, что хочу, чтобы вы не просто играли в „Короле Лире“ — я хочу, чтобы вы поняли по-настоящему Шекспира, его время. Без этого играть в „Короле Лире“ невозможно.
Мне лично кажется, что трагедия Лира — это трагедия обанкротившейся ложной идеологии…»
(Прерву воспоминания Анастасии Павловны, чтобы обратить внимание читателей: последняя фраза была произнесена в 1934 году, и случайно вырвавшейся ее считать нельзя, так как немногим позже Михоэлс повторил ее в статье «Моя работа над „Лиром“». И не исключено, что фраза эта сыграла роковую роль в его судьбе…)
«„Король Лир“ — сюжетно не оригинальный вымысел Шекспира, — продолжил свой рассказ Михоэлс. — Мы знаем знаменитую английскую народную сказку… Жил-был король. Было у него три дочери. Однажды он призвал дочерей и попросил их, чтобы они ему сказали, как они его любят. Одна дочь угодила комплиментом, вторая дочь угодила страстной речью, а третья просто сказала: „Люблю тебя, как соль“. Король рассвирепел и прогнал эту дочь. Дальше в народной сказке говорится о том, что наступил соляной голод, и только тогда король догадался, как любила его младшая дочь. Это очень простая сказка, в ней нет никакой особой поэзии, в ней народ пытался высказать некую мудрость, эмпирическую и неглубокую, но ценную. Так что Шекспир не явился новатором. Этим сюжетом воспользовались и другие драматурги. Есть подобный сюжет и в Библии. Но Шекспир сделал это „по-шекспировски“. Пусть не покажется вам это пустыми словами, когда я говорю о безбрежной, о глубокой, о бездонной пучине и сравниваю Шекспира с океаном. Кто подходит к Шекспиру чисто созерцательно — этого понять не может. Только тот, кто остается с ним лицом к лицу, тот, кто должен взвалить на плечи тяжесть всех страстей человеческих, которые задевает Шекспир, тот, кто встречается лицом к лицу с текстом, с его образами, испытывает приблизительно то, что испытывает парашютист, бросаясь сверху вниз на девять километров, или водолаз, опускающийся на самое дно морское, на много километров вглубь…
— Скажите, Соломон Михайлович, а правда, что Шекспира вообще не было на свете? — спросил кто-то из молодых актеров.
— Сколько вам лет, молодой человек?
— Двадцать три.
— А сколько у вас детей?
— Я еще не женат.
— А Шекспир женился в восемнадцатилетнем возрасте, а когда ему был двадцать один год, у него было уже трое детей, не в пример вам. А теперь я хочу спросить: вы любите „Песнь песней“?
— Очень, очень.
— Я не уверен, был ли автором этой великой книги мой предок Соломон Мудрый, но для меня важно, что „Песнь песней“ мне хочется читать всю жизнь.
И Михоэлс вдохновенно продолжил свой рассказ о Шекспире. Познания его жизни и творчества Шекспира вызывали восхищение. Михоэлс рассказал об эпохе Шекспира, о жизни в елизаветинской Англии, об эпохе заката феодализма и наступления новой исторической эпохи.
Помню его последние слова:
— Меня, в отличие от Готорна или Марка Твена, не волнует, кто был истинным автором „Гамлета“ и „Короля Лира“, — я счастлив, что эти Книги существуют на свете, и они современнее многих книг, написанных нашими писателями вчера и сегодня. Даже если слова „Книга дороже мне престола“ тоже приписывали Шекспиру, они волнуют меня, независимо от их автора. Великие слова, книги, песни не стареют. Мысли Гамлета, Лира волнуют мое сердце сегодня. Сила Шекспира, по-моему, в том, что прошлое он сделал настоящим и будущим.
Я так много говорю об этом потому, что хочу, чтобы вы не просто играли в „Короле Лире“, я хочу, чтобы вы полюбили по-настоящему Шекспира, его трагедии, комедии и сонеты. Многие сонеты Шекспира дополняют, разъясняют его трагедии». Послушайте:
Я жизнью утомлен, и смерть — моя мечта.
Что вижу я кругом? Насмешками покрыта,
Проголодалась честь, в изгнанье правота,
Корысть — прославлена, неправда — знаменита.
Где добродетели святая красота?
Пошла в распутный дом, ей нет иного сбыта!..
А сила где была последняя — и та
Среди слепой грозы параличом разбита.
Искусство сметено со сцены помелом,
Безумье кафедрой владеет. Праздник адский!
Добро ограблено разбойнически злом.
На истину давно надет колпак дурацкий,
Хотел бы умереть, но друга моего
Мне в этом мире жаль оставить одного.
(Пер. В. Бенедиктова)
Может быть, прочитав этот сонет, мы с вами лучше поймем и Лира, и Шекспира, и его время, и тогда вы сумеете по-иному сыграть. Каждый настоящий актер — поэт, он творит свои поэтические миры, в которых отражается наша действительность.
— Вот уже целый час слушаю вас, почтенный Соломон Михайлович! Вы самый знающий шекспировед из всех, которых я знавал, — сказал С. Э. Радлов. — Я при всей занятости не приостановил ваш чудесный урок и для актеров, и для меня — не только из-за истинного к вам уважения: уверен, что ваш урок важнее моих репетиций!
После репетиции мы с Соломоном Михайловичем пошли пообедать в «Асторию».
— Я сегодня так счастлив! Ты, Шекспир и Ленинград в один день!
— В течение суток, — шутя заметила я. — Это были самые прекрасные часы всей моей жизни.
— Ты знаешь, я забыл сказать актерам самое главное, без этого им не понять Лира: он стал жертвой своей самоуверенности. И главный герой всех событий в истории — Время — разрушило иллюзии Лира.
Я где-то выписал слова Блока о Лире:
«Должно быть, в жизни самого Шекспира, в жизни елизаветинской Англии, в жизни всего мира, быть может, была в начале XVII столетия какая-то мрачная полоса. Она заставила гений поэта вспомнить об отдаленном веке, о времени темном, не освещенном лучами надежды, не согретом сладкими слезами и молодым смехом. Слезы в трагедии — горькие, смех — старый, а не молодой… Шекспир передал нам это воспоминание, как может передать только гений, он нигде и ни в чем не нарушил своего горького замысла».
Я убедилась в тот день, что не сыграть Лира Михоэлс не мог.
Вечером того же дня я уехала в Москву. И вскоре поняла, что «шекспировские сутки» изменили всю мою жизнь. Я была «без ума» от Михоэлса, с нетерпением ждала возвращения театра в Москву, ходила на вокзалы, встречала поезда из Ленинграда. Наконец в середине августа 1934 года мы снова встретились с Михоэлсом. И уже навсегда…
— У меня сохранились все письма и даже записки Соломона Михайловича, — сказала однажды автору этих строк Анастасия Павловна. — Вот первое письмо, которое он прислал мне. Вы — первый, кому я даю его прочесть…
«Астка, Астка, Асенька, Асик, Асточка. Начинается на „А“ и так и является для меня, моей жизни, моего дня и ночи началом начал… <нрзб.> сердцем моим. Когда произношу твое имя, в груди становится полно, до тесноты. Спирает все и дает могучее ощущение внутреннего моего богатства, силы, власти.
Астка! Это утро, первое пробуждение. Это день (в который) брошена была моя мысль, это — вечер с его первых сумерек до густого мрака замирающего неба, когда позволено мечтать и освобождать воображение. Это — ночь, моя ночь с прерывистым сном, тревожным сном, где воображение обрабатывает явь.
И явь, и сон — это Астка…
Глаза твои часто касаются самого дна, хотя глубина их бездонна. И волосы твои кончаются одной завитушечкой сбоку, хотя ничего более непокорного я не видел. В них весна и протест.
Губы твои — ласковы, нежны и часто жестоки в поцелуе и слове. И тело Твое мудро, как Твой свежий высокий и острый ум. И вся Ты — то, чем дышу, чем живу, и чего хочу и чего никому никогда не отдам.
Астка — и для тебя эти сто страничек.
Хотя их у меня для тебя гораздо, неизмеримо больше. Ими полон мозг, глаза, уши и то, что отдано и посвящено Тебе. Пишу Тебя, пишу для Тебя. И ничего нежнее и жесточе я не знал в моей жизни, как моя любовь к Тебе, к Астке, к жене моей.
К Астке.
В Тебе я весь. Но я не тону в Тебе. Я рождаюсь заново.
Тобой уже рождены во мне новые слитные образы — мысли. Это уже наши с Тобой дети. И все, что родится вновь, каждый образ, каждая мысль, каждый острый прием, зачато мной в близости с Тобой, смешано с Твоей сочной и мутной, как смоченное радостью сознание, любовной струей твоей женской страстной влаги. Рождено Тобой.
Предок Авраам жизнь свою начал в пустыне. Кругом сжигающее жизнь раскаленное жерло солнца. С ним Сарра, которую звали Соррой.
Закон запрещал смотреть на женщин, и Авраам никогда не видел той, кого любил. Он любил ее в своем воображении, но никогда не видел образа своей жены.
Но и у Сарры были свои тайны, и немало ангелов белокрылых готовы были выполнить любое желание, лишь бы насладиться радостной улыбкой ее подлинно земного прекрасного лица.
И Сарра не пожелала ничего, ни нарядов прекрасных, ни украшений ценных, ни сана даже вначале не пожелала она.
В пустыне Сарре по женской прихоти захотелось воды. Не для питья, нет. В старых мехах ее было достаточно, чтоб утолить жажду. Ей ручья с родниковой хрустальной, прозрачной водой захотелось — в пустыне, именно здесь.
Что же ангелы? Эта порода полна восхищения и готовности лишь до той минуты, пока не нарушен порядок, заведенный свыше.
Вода в пустыне — абсурд, чепуха. Воды в пустыне быть не может. Там кое-где оазишко гнилой, еще туда-сюда, но ручей, да чтоб вода была, да еще хрустальной, чистой — ну, это, конечно, женская блажь, ради которой пустыня никак не может изменить своей природы, — быть безводной и сухой.
И лишь один из стаи серафимов, быть может, „бывший“, быть может, „падший“, быть может, просто „примазавшийся“, не устоял. Захотел он не столько желание Сарры осуществить, не столько в улыбке ее выкупать свои крылья, — думаю, что не это его соблазнило. Я даже уверен в том, что его мучило желание узнать, для чего, для какой цели Сарра захотела изменить положенный свыше Распорядок вещей в природе.
Вот. И он, ему одному известными путями, повернул волю Господню к некоторой ревизии образа пустыни.
— Пусть потечет ручей!
Это было раннее утро. Приблизительно такое, когда (спустя) тысячелетия люди только кончают свой ужин на крыше в „Европейской“ и отправляются срывать анютины глазки для чисто научных надобностей по митогенетике. Вот в такую, едва брезжущую рань перед палаткой супружеской четы предков вдруг возник ручей.
Женский сон чуток.
И тихое журчание ручейка прервало легкий сон Сарры. Можно даже быть уверенным в том предположении, что не самый ручей журчал; шум нетерпения производил искусник сизокрылый, который выжидал улыбки Сарриной, своей мзды за содеянное, да еще последствий всего этого дожидался он, уверенный, что „неисповедимы пути“…
Сарра вышла. Увидела ручей. Где-то в глубине души усмехнулась, потом брови ее сразу проглотили улыбку, и в глазах искрометно блеснул зеленый огонек.
Она быстро скинула покрывало, чалму и все, что скрывало от глаза человеческого ее гордо дразнящее тело, и с вызывающим криком кинулась в воду.
Авраам праведен.
Он вышел, не глядя в сторону жены, спросить, что исторгло этот странный, необычный крик. Но вместо ответа раздался второй крик. В нем было все: восторг, страсть, изумление, радость, боль, горе, острая мысль, смешанная с безумием, в нем смешались кровь и тлен, жизнь и смерть, скорпион с розой.
Крик этот принадлежал уже не Сарре, а Аврааму.
Вода отражала зеркальной поверхностью своей бесподобный, отравляющий ядом желаний образ и тело Сарры. Авраам впервые увидел жену. Любовь с заповедных высот спустилась на землю. Из темных и холодных углов стихийных и слепых желаний влезла безжалостным двуязычным жалом — любовь, в самый мозг, в память, в мысль человека.
Да, да, двуязычным жалом. Ибо в эту минуту родилась не только любовь. Родилась еще и ревность. Авраам увидел, и вместе с радостью, со счастьем любви родился страх — потерять!!!
Так началась земная любовь: в крике муки и ошеломляющего счастья.
И сизокрылый здесь ни при чем.
Здесь только ты да я.
По усам текло, в рот не попало, и т. д. Все остальное, как полагается».
Анастасия Павловна вспоминала: «Каждый день разлуки с Михоэлсом длился для меня бесконечно… Наконец в середине августа 1934 года мы снова встретились. Верили, что навсегда…
На спектакли ГОСЕТа я ходила почти каждый вечер, после спектаклей мы пешком шли домой (в то время мы жили уже на Тверском) и ночи напролет принимали гостей. Наш дом превратился в ночной „клуб актеров“. Качалов и Андроников, Москвин и Русланова, Климов и Тарханов бывали нашими гостями.
Мы весело и шумно встречали „старый“ Новый 1935 год. Помню, Качалов пришел во втором часу ночи, после спектакля и очередных гостей:
— Я поднимаю тост за успех Соломона Михайловича; этот год станет самым знаменательным в вашей артистической жизни. Вы сыграете Лира, и сыграете его по-настоящему. Уж очень нужен сейчас „Король Лир“, настало его время…»
«Настало его время»… Январь 1935-го… Газеты полны сообщений о трудовых успехах советского народа. Народ с энтузиазмом выполняет решения XVII съезда ВКП (б) — съезда победителей.
А в памяти еще свежи события 1934 года — Первый съезд писателей, приветствие Сталину: «Этот исторический день мы начинаем с приветствия Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, нашему учителю и другу.
Вам, лучшему ученику Ленина, верному и стойкому продолжателю его дела, мы хотели бы сказать все самые душевные слова, которые только существуют на языках народов Союза.
Имя Ваше стало символом величия, простоты, силы и постоянства, объединения в то единое и цельное, что характеризует тип и характер большевика.
Дорогой Иосиф Виссарионович, примите наши приветствия, полные любви и уважения, как к большевику и человеку, который с гениальной прозорливостью ведет коммунистическую партию и пролетариат СССР и всего мира к последней и окончательной победе.
Да здравствует класс, Вас родивший, и партия, воспитавшая Вас для счастья трудящихся всего мира…»
Писатели, художники, актеры все более активно вовлекались в политическую жизнь страны. 23 февраля 1934 года газеты опубликовали слова Сталина: «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны». В это же время в печати появилось обращение деятелей советского искусства «Мы с вами, рабочие Австрии!», под которым, наряду с Немировичем-Данченко, Мейерхольдом, Книппер-Чеховой и другими, подписались также Михоэлс, Зускин, Пульвер (ГОСЕТ шел в гору!).
На тост Качалова в ту новогоднюю ночь Михоэлс, по воспоминаниям Анастасии Павловны, ответил так:
— А мне, дорогой Василий Иванович, пока видится в наших днях время Макбета, а какие настанут времена — Лира или Ричарда III — еще посмотрим! Играть сейчас Шекспира страшновато…
До премьеры оставалось меньше месяца. Качалов, видимо, ощутив какую-то «робость» Михоэлса перед грандиозной ролью, весь тот вечер проговорил с ним о Лире. «Послушай, Соломон (на „ты“ Василий Иванович обращался крайне редко), не дури! Ты обязан сыграть Лира. А сколько трудов позади! Да не только в этом дело, Соломон, не то мы теряли. Но признайся всем нам: ты можешь не сыграть Лира? Кого боишься? Может, Россов тебя испугал?» (Н. П. Россов, трагедийный актер, однажды, встретив Михоэлса, сказал ему: «Вам, с вашим ростом и вашими данными играть Лира?! Да вы спятили, Михоэлс! Играйте своего Шимеле Сорокера и Вениамина! Но не Лира!») «Так вот, Соломон, — продолжал Качалов, пронизывая Михоэлса взглядом, — и мне Россов не разрешал играть Гамлета, но я ведь сыграл! Да и Николая 1 я играл, а ты боишься сыграть Лира!» — «После таких речей, — ответил Михоэлс, — не сыграть Лира не могу. Но учтите, Василий Иванович, это будет моя последняя роль на сцене!»
И Михоэлс 5 февраля 1935 года сыграл Лира. Премьера, на которой были маршал Тухачевский, Карл Радек, потрясла театральную Москву.
«Мы горячо приветствуем… замечательного мастера Михоэлса, режиссера Радлова с этой большой победой, мы приветствуем также то, что лучшие московские актеры собираются совместно посмотреть и продискутировать спектакль, чтобы учиться у своих еврейских коллег» (Карл Радек).
«Своей игрой Михоэлс оправдал мою юношескую любовь к „Лиру“, дав в этом образе сочетание легкости и глубины» (О. Пыжова).
«„Король Лир“ в ГОСЕТе — выдающееся событие в театральной жизни. Несмотря на незнание языка, я полностью ощутил страсти и гармонию мыслей шекспировских персонажей.
Я необычайно рад за еврейский театр и его актеров. В постановке классической пьесы они полностью преодолели национальную ограниченность. На этом спектакле я ощутил такую трепетность исполнения, какая бывает у актера только в юношескую пору его творчества.
Михоэлс больше всего понравился мне в III действии, сцене воображаемого разговора с дочерью. Смена состояний, переход от одного состояния к другому были сделаны изумительно» (Д. Орлов, заслуженный артист республики).
«Спектакль „Король Лир“ в ГОСЕТе показал огромные возможности этого театра. Прежде всего нужно отметить четкость актерского исполнения и большую культуру речи. Театр впервые выступает с классическим репертуаром. Однако спектакль целиком выдержан в старых классических тонах, на которых я воспитана. Поразила меня удивительная ритмичность спектакля, согласованность с музыкой не только движения, но и речи.
Из актеров мне больше всего понравились Михоэлс (в роли короля Лира), Зускин (в роли Шута) и Финкелькраут (в роли Кента). И прежде всего Михоэлс. Его влияние чувствуется на всем спектакле» (Е. Турчанинова, заслуженная артистка республики).
«Он создал глубокий, философский, художественный образ Лира… С огромным мастерством раскрыл Михоэлс не только внутренний мир Короля, но и характерные особенности всего того мира, в котором жил и погиб величественный слепец. Какие глубокие мысли окрыляли эту работу артиста! Какой волнительный, напряженный путь философских поисков!» (Н. Охлопков).
«Я видел в Московском государственном еврейском театре превосходную постановку „Короля Лира“, с крупным артистом Михоэлсом в главной роли и с замечательным Шутом Зускиным, — постановку, блестяще инсценированную, с чудесными декорациями» (Л. Фейхтвангер).
«Я помню великого артиста Соломона Михоэлса по моему первому посещению Москвы… Я помню, конечно, его великий спектакль „Король Лир“ Шекспира. Я думал о нем, как о появлении в России нового Ира Олдриджа — великого американского актера, негра по происхождению, исполнявшего эту же роль в середине XIX века» (П. Робсон).
Сдержанный в оценках Гордон Крег, посмотрев весной 1935 года «Короля Лира», писал о спектакле:
«…Подлинной неожиданностью, без всякого преувеличения — потрясением оказался для меня „Король Лир“! Должен сказать, что эта пьеса является наиболее близкой и любимой мною из всего шекспировского репертуара. Поэтому я шел в театр на спектакль с нескрываемым недоверием. Я даже предупредил Михоэлса, чтобы мне было оставлено такое место в театре, с которого я мог бы подняться и уйти, когда мне это заблагорассудится. Но вот я в партере. Я понял сокровенный трагический смысл жеста рук актера Михоэлса во второй сцене первого акта, и я понял также, что с такого спектакля уходить нельзя. Со времен моего учителя, великого Ирвинга, я не запомню такого актерского исполнения, которое потрясло бы меня так глубоко до основания, как Михоэлс своим исполнением Лира. Я не умею и не люблю говорить комплиментов даже там, где имею для этого достаточно основания.
Но какие бы похвалы ни были сформулированы по адресу актера Михоэлса, это не будет преувеличением» (Советское искусство. 1935. 5 апреля).
Все эти слова Михоэлс прочел, услышал уже после премьеры, а до нее даже люди, высоко ценившие талант Михоэлса, сомневались:
«Когда Михоэлс говорил мне о своем намерении играть „Короля Лира“, я отнесся к этому очень скептически. Я боялся, что эта драма Шекспира, являющаяся не только хронологически одной из последних его пьес, но и венцом его художественной мощи, не дойдет до массового зрителя, как не дошла бы, быть может, „Антигона“ Софокла» (Карл Радек).
Радек был не одинок в своих опасениях: к моменту начала работы над постановкой «Короля Лира» никто из актеров ГОСЕТа не поддерживал Михоэлса в его начинании, полагая и высказывая вслух, что Шекспир — не для еврейского театра. Но Соломон Михайлович оставался тверд в своих намерениях. Он рассказывал А. Дейчу: «На очереди „Король Лир“. Я уже не могу без него. Но в театре все против меня, даже Зускин: боятся провала, говорят, что это не наше дело, что надо питаться национальным репертуаром. Сегодня мне удалось сломить упорство. Я убедил их, что „Король Лир“ — это, собственно говоря, библейская притча о разделе государства в вопросах и ответах».
«8 марта 1934 года Соломон Михайлович поздравил нас с праздником и шутя заметил: мужчины должны дарить женщинам счастье, — рассказала мне Э. И. Карчмер, — а счастье для истинной актрисы — сыграть в „Короле Лире“. „Сопротивлению“ нашему пришел конец. Первой „сдалась“ Берковская (жена Зускина), за ней С. Д. Ротбаум (она, со свойственным ей юмором, сказала: „Если в спектакле нет роли жены Лира, я сыграю его старшую дочь…“).
Одна за другой актрисы Минкова, Розина, Ицхоки согласились участвовать в спектакле.
— Ну, теперь я уверен, мы поставим „Короля Лира“ на сцене ГОСЕТа. Если мужчины наши не с нами, то мы их заменим другими.
— Кто вам сказал, Соломон Михайлович, что мы не хотим играть в „Лире“? Я всю жизнь мечтал о роли графа Кента, — сказал М. Штейман. — Просто чуточку боялся…
Гертнер, Шехтер, Гукайло дружно скандировали: „Лир в ГОСЕТе!“ В глазах Михоэлса просияла улыбка победителя…
— Первая читка „Короля Лира“ завтра в фойе в 10 утра…»
О распределении ролей он думал уже давно.
В статье «Моя работа над „Королем Лиром“ Шекспира» Михоэлс подробно рассказывает о своей работе со многими актерами.
«Ротбаум — актриса, в прошлом получившая образование у Рейнгардта. Она усвоила в школе Рейнгардта одно из наименее выгодных направлений, в котором все внимание актера было обращено на произношение слова… Ротбаум, сохраняя полную неподвижность рук, все время делает усиленные движения головой, стремясь как бы подчеркнуть смысловую сторону слова.
Но именно в трагедии Шекспира эта сдержанность жеста может создать некую монументальность и с особой силой раскроет в образе Гонерильи ее надменность и то особое, циничное равновесие, с которым Гонерилья мучила своего отца.
Если бы образу Гонерильи придать подвижность, он сразу стал бы суетливым и мелким. Таким образом, дефект обычной манеры актрисы даст здесь некоторую прибыль.
Гертнер — актер одаренный, хотя внешние данные у него небогатые. У Гертнера несколько глухой голос, посредственная музыкальность, чисто внешнее чувство ритма… Все, что он знает, он постиг „в порядке самообразования“. Знает он довольно много, хотя его знания довольно эмпиричны, разрозненны: как и большинство актеров нашего театра, Гертнер относится к людям пассивной мысли. У него нет способности к обобщению…»
Но в том-то и заключалось искусство режиссера-педагога Михоэлса, что даже слабости актеров он превращал в достоинства…
«Есть у Эдгара такие слова: „Я ленив, как свинья, / Я хитер, как лиса, / Я зол, как пес“.
Задача Гертнера-Эдгара разыграть притворное безумие. Гертнер при слове „свинья“ — хрюкает, при слове „лиса“ ловко переворачивается, иллюстрируя движением хитрость, „извилистость лисы“, а при слове „пес“ — начинает лаять.
Но парадокс заключается в том, что в роли Эдгара этот прием оказался более уместным и удачным».
О Зускине в статье написано особенно тепло:
«…Особняком в этой нашей работе над Шекспиром стоит Зускин — актер с исключительно ярким дарованием. Природа дала ему бесконечно много…
В творчестве Зускина преобладающее значение всегда имеет не разум, а интуиция. Внутренний мир, мир чувствований и ощущений играет для него решающую роль. И именно это качество очень часто делает его искусство чрезвычайно народным… Первое, что он замечает в человеке, это то, что в нем трогательно. Второе — то, что в человеке смешно и что делает его живым. Смешное, пожалуй, по мнению Зускина, отличает живого человека от мертвого. Вообще чувство юмора чрезвычайно сильно в Зускине, но его юмор почти всегда окрашен в лирические тона. Он редко прибегает к острому оружию сатиры. Это происходит не потому, что Зускин обладает большой терпимостью по отношению к человеку вообще. Будучи актером с головы до ног, он социальное всегда персонифицирует. На месте явлений, абстрактной идеи у него всегда вырастает конкретный образ человека. Часто это человек очень маленький, с ограниченными требованиями и крошечными целями. А для обрисовки такого человека пользоваться огнем сатиры было бы так же неуместно, как стрелять из пушек по воробьям. Вполне достаточно здесь довольствоваться уютным игрушечным „пугачом“ юмора.
В беседе с Радловым Зускин очень часто останавливался на вопросе о национальном колорите Шута — в этом образе он хотел подчеркнуть национальные еврейские черты. Для Зускина такое желание было более чем естественно, ибо лучше всего он знал еврейскую среду. Самые острые, самые важные впечатления он вынес из своего детства — из своего родного города, из родной семьи.
Сергей Эрнестович Радлов считал, что Шут должен создавать двойное впечатление. Это должен быть не только английский шут, лучше всего сделать его английско-еврейским шутом. На том и порешили».
Работать с Радловым актерам ГОСЕТа было интересно и привычно, но путь театра к Радлову на сей раз был длинным и сложным.
Михоэлс когда-то думал поставить этот спектакль вместе с Лесем Курбасом, основателем и руководителем киевского театра «Березиль», изгнанным из Киева за «национализм». О знакомстве с Курбасом Михоэлса сохранились воспоминания О. Мандельштама:
«На днях в Киеве встретились два замечательных театра: украинский „Березиль“ и Еврейский камерный из Москвы. Великий еврейский актер Михоэлс на проводах „Березиля“, уезжающего в Харьков, сказал, обращаясь к украинскому режиссеру Лесю Курбасу: „Мы братья по крови“… Таинственные слова, которыми сказано нечто большее, чем о мирном сотрудничестве и сожительстве народов.
Между тем оба театра совершенно непохожи, даже полярны. Еврейский камерный, приехавший в Киев на шестинедельные гастроли, прикоснулся к родной почве: здесь он у себя дома и бесконечно выигрывает, когда кругом кипит еврейская толпа, звучат еврейские голоса, царит еврейский вкус: покрой одежды, жест».
Пригласить в Государственный еврейский театр опального режиссера, гонимого за украинский национализм, — поступок воистину отважный. От Курбаса отвернулись и театральные деятели, и многие бывшие его друзья. Хотя, разумеется, не только желание помочь талантливому человеку побудило Михоэлса пригласить Леся. Он знал прежние работы Курбаса, и не исключено, что, как предположил искусствовед В. Семеновский, Курбас больше, чем кто-либо другой, напоминал Михоэлсу Грановского. В ГОСЕТе Курбасу довелось проработать совсем недолго — во время репетиций «Лира» его арестовали (он погиб в ГУЛАГе в 1942 году).
Первым за постановку «Лира» в ГОСЕТе взялся Волконский. В его мыслях о Лире было немало интересного. Он первым предположил, что Лир, деля государство на части, экспериментирует. Лир так велик в своих деяниях, что может себе позволить и это. (Эта мысль Волконского импонировала Михоэлсу, он считал, что существует параллель между судьбой Лира и Толстого.)
Вслед за Волконским за постановку «Короля Лира» взялся немецкий режиссер Эрвин Пискатор. Он хотел перенести действие пьесы в Палестину, в далекие библейские времена. Михоэлс сам сближал историю Лира с библейскими сюжетами, «но насилия над пьесой» Шекспира он не допускал даже в мыслях, и переговоры с Пискатором вскоре прервал.
Михоэлс допускал, что с Радловым ему будет работать непросто: во-первых, Радлов жил в Ленинграде; во-вторых, Михоэлсу казалось, что Радлов не представлял себе тех трудностей, которые могли возникнуть в процессе работы. Он не предвидел, как трудно будет работать над «Лиром» труппе, никогда раньше не прикасавшейся к Шекспиру, и какую сложную работу нужно будет проделать, чтобы поставить Шекспира на еврейском языке.
Но главная опасность заключалась в том, что в трактовке «Короля Лира» Михоэлс с Радловым находились, по его словам, «на разных позициях».
(После выступления Михоэлса в Коммунистической академии, в котором он изложил свою концепцию постановки «Короля Лира», Радлов написал Михоэлсу письмо и в нем, в частности, сообщил: «Чувствую, что мы расходимся настолько глубоко и ты выступаешь настолько самостоятельно, что мне не придется, очевидно, работать…»)
Письмо Радлова было написано резко и определенно. Но Михоэлс, памятуя, что «лучше с умным потерять…», ответил Сергею Эрнестовичу, что расставаться с ним не собирается.
«Перед тем как окончательно решить вопрос о постановке „Лира“ в нашем театре, я прочел множество книг и статей о Шекспире вообще и о „Короле Лире“ в частности…
И пусть не покажется удивительным, если я признаюсь, что на специальное изучение Лира, на аналитическую и синтетическую работу мысли мною было потрачено свыше года. Но эта работа было отнюдь не только рациональной.
Серьезным препятствием для меня было незнание английского языка. Оно сделало для меня недоступным изучение Лира в подлиннике. Специально изучить английский язык я не мог. Для этого потребовалось бы слишком много времени. Поверхностное же, формальное знание языка не дало бы мне настоящего представления о произведении…» Казалось, продумано все: концепция спектакля, состав актеров. С. Э. Радлов приступил к репетициям. Но… «должен заметить, что, приступая к работе над образом Лира, я испытывал огромное недоверие к своим физическим данным. Обладая низким ростом, я не мог передать образ королевского величия ни при помощи гордо поднятой головы, ни при помощи монументально-величавых движений».
Творческие муки, колебания, размышления изводили Михоэлса, порой наступало отчаяние. В такие минуты художник театра Александр Григорьевич Тышлер незаметно подходил к нему с просьбой попозировать: «Понимаешь, Миха, когда я рисую тебя, я просто учусь, я становлюсь как художник лучше, я лучше рисую, я очень много приобретаю»… Михоэлс с улыбкой и глубоким вздохом усаживался…
«Споров с Тышлером в процессе работы было очень много. Он относится к разряду тех художников, которые больше всего доверяют своему, правда, чрезвычайно изощренному, но и чрезвычайно субъективному внутреннему ощущению. Пьесу он, очевидно, прочитывает только один раз и затем всецело отдается первому впечатлению. Мне кажется, что при чтении он в пьесе даже не видит слов…
Сразу перед ним возникает сценический объем, он как бы читает пространство.
…Первый эскизный набросок декораций к „Королю Лиру“, принесенный Тышлером, был чрезвычайно похож на его же эскиз к „Ричарду III“, появившийся в печати значительно позже. Очевидно, и в „Лире“, и в „Ричарде III“ (работал он над этими трагедиями одновременно) Тышлер видел главным образом „Шекспира вообще“. Набросок напоминал нечто чрезвычайно далекое от нас, нечто легендарно-сказочное. Но где-то и в чем-то набросок этот перекликался с тем, что я продумал и что было мне близко…
Должен признаться, что эскиз этот в одинаковой мере озадачил и меня и Радлова. Устремления Сергея Эрнестовича и мои в конце концов были различны только в понимании проблематики трагедии. Но мы с Радловым уверенно сходились в желании создать спектакль глубоко реалистический. Эскиз Тышлера никак не соответствовал этому намерению. Настолько не соответствовал, что это могло повлечь за собой разрыв между театром и художником.
Когда Тышлер спросил Радлова, что именно, по мнению режиссера, должно стать лейтмотивом оформления спектакля, Сергей Эрнестович уверенно и твердо сказал, что для него главное — это ворота замка, закрывающиеся перед Лиром».
Однако расхождения между Михоэлсом и Тышлером, неизбежные для талантливых людей, удалось преодолеть, так что и декорации, и костюмы к спектаклю делал именно Тышлер, по собственному признанию, мобилизовав весь свой творческий потенциал. Михоэлс и Тышлер проработали вместе более 10 лет, их творческий союз не был случайным. Михоэлс не побоялся пригласить в театр Александра Григорьевича сразу после выхода в свет печально знаменитой книги О. Бескина «Формализм в живописи».
Тышлеру «всегда казалось, что он (Михоэлс. — М. Г.) репетирует слишком долго», и когда терпение Александра Григорьевича иссякало, он «посылал ему записку без слов с изображением папиросы с крылышками».
Перевод «Короля Лира» на идиш Михоэлс предложил сделать Самуилу Галкину. Это решение вызвало немало суждений — ведь еще совсем недавно находились еврейские «литературоведы», которые считали библейское начало в его поэзии явлением реакционным. Вот отповедь, данная Михоэлсом по этому поводу: «Наивно было думать, что Галкин — поэт реакционный по той причине, что в его творчестве находят свое продолжение лучшие традиции еврейской литературы. Это свойство его таланта я считал необычайно ценным для перевода „Короля Лира“.
Следует заметить, что Галкин осуществил свой перевод на идиш с имеющихся русских переводов, но ему своими советами помог С. Э. Радлов, который к тому времени „уже неплохо справлялся с еврейским языком… Радлов очень быстро и умело ориентировался в тексте и неоднократно подсказывал переводчику пути использования тех или иных очень характерных для Шекспира приемов“» (Михоэлс).
«…Стиль Галкина-поэта оказался удивительно соответствующим стилю шекспировской трагедии. Особенно удалась Галкину та сцена, где Лир произносит проклятия. Эти проклятия по форме перекликаются с разделом Библии, который называется по-древнееврейски „Той-хо-хо“ и в котором перечисляются проклятия, адресованные вероотступникам.
Лир, в чем-то, безусловно, напоминающий Иова, извергает проклятия, обобщенность и образность которых удивительно напоминают „Той-хо-хо“.
Большую пользу принесла мне, как актеру, и работа с композитором (Л. М. Пульвером. — М. Г.).
Основные музыкальные моменты спектакля — это охотничьи рожки, фанфары, церемониальный марш, музыка поединка, музыка погони за Эдгаром, песенка шута, упомянутая в тексте, музыка, звучащая во время пробуждения Лира. У Шекспира есть тут специальная реплика в сторону оркестра. „Снова играй“, — говорит врач, ожидая с минуты на минуту пробуждения короля.
Я был убежден, что звуковая и шумовая имитация бури будет противоречить стилю всего нашего спектакля. Для меня сцена бури является высшим моментом философского прозрения Лира, высшей точкой трагедии. Мне казалось, что шумовая имитация дождя, грома, а также световые эффекты молнии отвлекут зрителей, помешают им воспринять центральную идею этой сцены. Что же касается музыкального „изображения“ бури, то поначалу я склонен был на это пойти, но потом решил, что Шекспиру подобные приемы в принципе чужды. Возможно, я и ошибался.
Настоящая буря разыгрывается лишь в воображении Лира, который страстно взывает к ветру, мечтает, чтобы ветер все смел на своем пути, чтобы дождь затопил всю землю, чтобы в бурных потоках погибло самое зло».
О «Лире», поставленном и сыгранном Михоэлсом, написано много. Сохранились кинофрагменты, рецензии, воспоминания зрителей. Все сошлись во мнении, что такого Лира, такой концепции спектакля еще не было:
«Под звуки церемониального марша торжественно шествуют придворные. Когда все собираются, музыка замолкает. И тогда в полной тишине, откуда-то сбоку, незаметно появляется старый король. Съежившись, запахнувшись в мантию, как в простой плащ, Лир скромно направляется к трону. Он идет, ни на кого не глядя, погруженный в свои думы. Подойдя к трону, замечает взобравшегося туда Шута, ласково берет его за ухо и стаскивает вниз. Только после этого король поднимает глаза и обводит взглядом склоненные головы придворных. Наконец видно его лицо, отрешенное и ласковое, лицо самоуверенного пророка и скептического философа. Тут кончался придворный церемониал и начиналась притча…
Сев на трон, король начинает пересчитывать собравшихся, по-хозяйски тыча в каждого пальцем. Кого-то он пропустил, и счет начинается снова.
Лир безуспешно ищет глазами Корделию и неожиданно находит ее, спрятавшуюся за спинкой трона. Тогда раздается интимный, добрый старческий смешок.
Мудрый и проницательный Лир настолько убежден в абсолютном превосходстве над окружающими, что может позволить себе пренебречь торжественными эффектами. Впрочем, иногда старый король принимает величественные позы, но для того только, чтобы их спародировать, показать, как мало придает им значения…
…Безучастным михоэлсовский Лир перестает быть, когда очередь доходит до Корделии. Его руки становятся мягкими и ласковыми; он снимает с головы корону и протягивает ее любимой дочери. Но Корделия оказывается скупой на слова. Тогда из уст Лира второй раз вырывается короткий старческий смешок. Только теперь задавленный, изумленный и недобрый, Лир думал слегка поиронизировать над дочерьми, заставив их заплатить за земли и власть признаниями в любви. И вдруг шутка оборачивается против него самого. Тогда король становится серьезным, надевает корону себе на голову, тяжело кладет руки на подлокотники трона и сурово предупреждает: „Из ничего не выйдет ничего“» (Б. Зингерман).
«Раньше он был король — „король с головы до ног“. Он спрашивал у Освальда (дворецкого Гонерильи): „Кто я такой?“ И когда Освальд отвечал: „Вы отец моей леди“, — он бил его, потому что это унижало его королевское достоинство. А теперь Лир сам приходил к выводу, что он двуногое животное. Таков путь, который он проделал, и на этом пути он пришел к новому ощущению своей отцовской любви к Корделии. И самое страшное для него заключается в том, что из-за своей ложной идеологии он потерял самое любимое, самое дорогое, самое ценное, что было для него на земле, — Корделию» (Михоэлс).
Лир проносит на руках мертвую Корделию перед стоявшими в безмолвии воинами и тихо восклицает: «Горе! Горе! Горе!» Он, прощаясь с умершей дочерью, шепотом произносит слова: «Собака, лошадь, мышь — они живут, а ты, ты не живешь, не дышишь!»
И снова Лир безумен: он напевает свою охотничью песенку, которая постепенно переходит в смех со стоном. Лир ложится рядом с умершей Корделией, прикладывая палец к ее губам, тихо шепчет: «Уста, уста, уста!» Слова эти Михоэлс произносит как благодарность человеку, из уст которого он услышал правду.
«…Плач его над трупом Корделии — почти библейское прощание с телом… (У Михоэлса умерла молодая жена, он провожал ее, шел за гробом и разговаривал все время… и теперь играет это отчаяние над трупом дочери.)… Он кричит тонким голосом, тихим от того, что напряжение слишком велико… о-о-о-о… кричит и ложится около дочери, а руки ему оправляют уже служители…» (Афиногенов).
«Шекспир всегда дает любовь как нечто огромное, величественное, что возвышается над всеми страстями мира. Любовь всегда побеждает, она побеждает даже смерть, ибо у Шекспира любовник никогда не может пережить любовницу, так же как и любовница всегда погибает одновременно с ним.
Так погибают Ромео и Джульетта, так гибнут Гамлет и Офелия, Отелло и Дездемона… И даже отцовская любовь — безмерна. Лир и Корделия умирают вместе… И именно через любовь проходит ревность — в этом не только образ Отелло, в этом и дыхание самого Шекспира, и подлинно шекспировское понимание любви и страсти» (Михоэлс).
Надо отметить, что Шекспиру Михоэлс был верен всегда. Он не раз подчеркивал, что при всей любви к Толстому не разделял его мнения о том, что гениальность Шекспира — это легенда. Не понимал он, как Толстой не верил Шекспиру, считал, что страсти его героев театральны, слезы глицериновые, люди и их речи неестественны. Михоэлс не раз повторял: «Шекспир независимо ни от кого, ни от театроведов, ни от самих театров, останется навсегда, и это говорю я, человек, не знающий английского языка». В своем выступлении на шекспировских чтениях в 1940 году (Шекспировский сборник за 1958 год) Михоэлс задался вопросом: «Что же такое безумие?» И ответил на него так: «Это хаос разрушения старых воззрений на жизнь и вихрь становления каких-то новых представлений о жизни. Хаос, мировой хаос». (Будем помнить: в ту пору, когда Михоэлс приступил к репетициям «Короля Лира», фашизм в Германии уверенно пришел к власти, а Сталин расправился с Кировым, проложив тем самым путь к террору 1937 года. И время было шекспировское, и герои тоже.)
Исполнение Михоэлсом короля Лира, несомненно, заслуживает самых высоких похвал, а может быть, оно выше всяких похвал. И все же главное достижение видится в том, что тогда, в 1935 году, тема Лира была раскрыта им как современная, сегодняшняя, он показал, к каким последствиям ведет обожествление собственной личности.
Михоэлс был восхищенным современником изумительного русского Серебряного века. Цветущее время, но, по словам вспоминавшей молодость Ахматовой, «… всегда в глухоте морозной жил какой-то будущий гул». В 1913 году Федор Сологуб написал дивный сонет о Шекспире:
Мудрец мучительный Шекеспеар,
Ни одному не верил ты обману,
Макбету, Гамлету и Калибану.
Во мне зажег ты яростный пожар.
И я живу, как встарь король Леар,
Лукавых дочерей моих, Регану
И Гонерилью, наделять я стану,
Корделии отвергнув верный дар.
В мое, труду послушливое тело
Толпу твоих героев я вовлек.
И обманусь, доверчивый Отелло,
И побледнею, мстительный Шейлок.
И буду ждать последнего удара,
Склонясь над вымыслом Шекеспеара.
В этих стихах идет речь как бы только о личной судьбе. Но вечно шекспировское несут в себе и целые народы. «Иудаизм испытал трагическую судьбу короля Лира» (слова еврейского историка С. Дубнова). Михоэлсу было суждено создать величественный и страдальческий образ «еврейского» короля Лира. Здесь, пронзенный трагической болью, он достиг высшей достоверности. Эта актерская работа Михоэлса получила мировое признание, вызвала восторг и поклонение актеров многих стран и зрителей разных национальностей. Часто эти поклонники Михоэлса не знали ни слова по-еврейски… И здесь кажется уместной маленькая притча о цадике, приведенная в «Хасидских преданиях» М. Бубера: «Однажды, когда раввин Пинхае читал вечернюю молитву и дошел до слов „Хранящий Израиль“, из глубин его души вырвался крик. Случилось, что в это время мимо синагоги проходила графиня, владелица тех мест. Она подошла, наклонилась, пытаясь заглянуть в низенькое окошко, и прислушалась. Затем сказала свите: „Как истинен этот крик! В нем нет и тени фальши“. Когда об этом рассказали равви Пянхасу, он, улыбнувшись, заметил: „Все народы мира узнают правду, когда слышат ее“».
Вот что писал искусствовед и мыслитель С. Н. Дурылин о подлинных истолкованиях мировой драматургии, о роли не переводчиков, но великих актеров: «…есть еще Шекспир, Мольер, Шиллер. Не Н. Полевой, не Кронеберг и Жуковский были их переводчиками для России, а Мочалов, Щепкин, Ермолова…»
Для еврейского зрителя таким подлинным истолкователем — лучшим и, пожалуй, единственным — несомненно был Михоэлс. И не только для еврейского…
Как сказал, побывав на спектакле, Гордон Крег: «Теперь мне ясно, почему в Англии нет настоящего Шекспира на театре. Потому, что там нет такого актера, как Михоэлс».
Постановкой «Короля Лира» ГОСЕТ отметил свое пятнадцатилетие. Оно отмечалось пышно и широко.
Газета «Вечерняя Москва» от 26 февраля 1935 года поместила перечень «мероприятий»:
«Организован юбилейный комитет по чествованию Государственного еврейского театра в связи с исполнившимся 15-летием.
Торжественное заседание, посвященное юбилею, состоится вечером 5 марта. Все заседание будет проведено в театрализованной форме.
Из Грузии, Белоруссии, Украины, с Урала приезжают специальные делегации.
Союзкинохроника посвящает юбилею театра очередной номер звукового киножурнала „Советское искусство“.
Гослитиздат выпускает книгу о Еврейском театре.
Художественный альбом постановок ГОСЕТа издается Изогизом.
В фойе театра открыты две выставки: „15 лет ГОСЕТа“ и „„Король Лир“ на мировой сцене“.
2 марта ВОКС устраивает встречу коллектива ГОСЕТа с иностранными журналистами, находящимися в Москве».
Торжественное заседание по случаю юбилея состоялось 5 марта 1935 года. В этот же день Михоэлсу присвоили звание народного артиста РСФСР. Среди участников юбилея были Книппер-Чехова и Барсова, Козловский и Качалов, Хмелев и Садовский, Яблочкина и Штраух, Охлопков и Завадский, Бергельсон и Маркиш.
Юбиляров приветствовали все театральные коллективы Москвы, Академия имени Жуковского, шефство над которой осуществлял ГОСЕТ.
«Воздушная Академия, борющаяся под руководством своего железного наркома т. Ворошилова за передовое место среди военных академий, гордится своим культурным шефом — коллективом Еврейского театра, завоевавшим высоты культуры» (Красная звезда. 1935. 6 марта).
В своих дневниках К. И. Чуковский написал, что Никита Богословский назвал Михоэлса «депутатом Ветхого Завета». Разумеется, тонкий и колкий юмор всегда был свойствен Н. Богословскому, тем более что слова эти произнесены в 1942 году. Но есть в них что-то жестоко точное: именно так воспринимали власти предержащие Михоэлса — «еврей при царе»…
До поздней ночи длился юбилейный вечер, а ночью актеры и гости собрались в фойе, и Михоэлс, провозглашая тост, сказал: «ГОСЕТ мне всегда представлялся театром трагических комедиантов. Путь к „Королю Лиру“ — вершине мировой драматургии — был очень трудным. Мне сейчас вспоминается многое, обо всем не сумею рассказать, но не могу не вспомнить о том, как в январе 1919 года была основана первая в мире еврейская театральная студия.
В 1921 году театр открывается в Москве спектаклем одноактных пьес еврейского классика Шолом-Алейхема…
Но уже в 1926 году театр все чаще обращается к современной теме. Замелькали новые имена. Шолом-Алейхема и Переца сменили советские драматурги. Зажили герои в новой обстановке… Шесть лет упорного труда над современной темой дали театру возможность осознать интернациональный его характер…
К своему 15-летнему юбилею театр показывает шекспировского „Короля Лира“… Шекспир нам близок: благодаря этому мы можем многому и многому научиться у него для того, чтобы, в свою очередь, полнее и ярче запечатлеть образ нового человека нашего времени.
Снова обращусь к Шекспиру. Помните, что сказал Гамлет, обращаясь к комедиантам?
„Что он Гекубе? Что она ему? / Что плачет он о ней? О! если б он, / Как я, владел призывом к страсти, / Что б сделал он? Он потопил бы сцену / В своих слезах и страшными словами / Народный слух бы поразил, преступных / В безумство бы поверг, невинных — в ужас, / Незнающих привел бы он в смятенье. / Исторг бы силу из очей и слуха…“ Мне думается, что Шекспир дал нам, актерам, программу на века».
Много добрых слов было сказано актерам ГОСЕТа в тот вечер. Однажды после спектакля в уборную к Михоэлсу зашел Михаил Аркадьевич Светлов. «Мой дед, — сказал он Соломону Михайловичу, — внушил мне, что мудрым может быть человек только легкомысленный. Я уверен, что к такому „гениальному“ заключению дед мой пришел не сам — он где-то его вычитал. Но я с этой мыслью согласен и хочу, Соломон Михайлович, подтвердить ее легендой о Шауле. В конце XVI века из Италии в Польшу (подумайте, какое легкомыслие!), кажется, в Брест-Литовский, переехал обычный еврей по имени Шауль (я думаю, что Шауляй назван не только в честь него!). Так вот, он был так умен и удачлив, что король Сигизмунд III присвоил ему звание „слуга короля“. Существует предание, что после смерти Стефана Батория на „должность“ короля было много кандидатур. И кого, вы думаете, избрали? Не улыбайтесь так насмешливо, Соломон Михайлович! Целую ночь королем Польши был еврей-талмудист Шауль. Да, да! И лишь наутро королем избрали шведского принца Сигизмунда, и, как оказалось, он пробыл на этой должности почти пятьдесят лет. Так вот, я хочу пожелать вам, чтобы вы были нашим королем столько же лет. И чтобы никто не имел повода повторить пословицу, которую так часто произносил мой дед: „Счастье более хрупко, чем царствование Шауля, а несчастье продолжительнее, чем диаспора…“»
В этой связи мне вспомнился рассказ замечательного актера, друга Михоэлса, Семена Михайловича Хмары: «После „Короля Лира“ Михоэлс стал человеком, признанным властями, и пятнадцатилетний юбилей театра, называемого уже „Театром Михоэлса“, отмечали по „первому классу“. Помню, были выпущены изумительные буклеты, книга. Где это все сейчас? Но все же нашелся какой-то журналист, написавший об этом юбилее статейку, непочтительную и к театру, и к этому юбилею. Михоэлс в таких случаях откровенно переживал. И самое нелепое, статья эта была напечатана в день рождения Михоэлса». (Действительно, в газете «Советское искусство» от 17 марта 1935 года в статье «О юбилейном словословии», автор которой не подписался, были не очень лестные слова не столько о театре — Михоэлс в ней вообще не упоминался — сколько о статье Ц. Фридлянда «Театр трагических комедиантов», опубликованной в «Литературной газете».) Но вернемся к рассказу Семена Михайловича Хмары: «Мы сидели с Михаилом Аркадьевичем Светловым в подвале у Домового — так прозвали Б. М. Филиппова, директора ЦДРИ. Светлов достал из бокового кармана сложенную газету, ту самую, с сакраментальной статьей, и сказал: „Все это чепуха, давай лучше выпьем за трио „Козмиледию““. Увидев мое удивление, Семен Михайлович объяснил, что так называлось „трио“ „Козловский — Михоэлс — Утесов“ („Ледя“). До войны один раз в году это „трио“ выступало с номером по случаю дня рождения. Все они родились в марте с разницей в пять лет. Поэтому Михоэлса они называли „дед Соломон“ (он был старше), Утесова — „папа Ледя“, Козловского — „сын Иван“. Когда они исполняли свой номер на общем „дне рождения“, народу собиралось уйма. Они пели этакие попурри на украинско-одесско-еврейский лад. Лучше всего у них получалось „Распрягайте, хлопцы, коней“ на трех языках. Помню, в марте 1935 года Светлов произнес такой тост: „Принято считать, что гении рождаются, в лучшем случае, раз в столетие. В нашей стране все делается по плану, пятилетнему. Вот и гении у нас рождаются раз в пятилетку. Подтверждением этому наши сегодняшние юбиляры“». (Михоэлс родился в 1890 году, Утесов — в 1895-м, Козловский — в 1900-м.)
Промежуточный, не круглый, юбилей ГОСЕТа (15 лет редко отмечают, да еще «по первому разряду») был отмечен не просто торжественно, но подчеркнуто помпезно. Значительность работ ГОСЕТа положительно отмечена советской печатью. Были, правда, и другие отзывы: «Однако для всякого внимательного наблюдателя творческой жизни Еврейского государственного театра совершенно очевидно, что он пришел к своим последним достижениям, пришел к реалистическому зрелищу весьма сложным путем. На этом пути Еврейскому гостеатру пришлось преодолеть и националистические моменты, и сильнейшие формалистические перегибы, которые в первый период существования театра давили на него тяжелым грузом… При всем формальном блеске спектаклей Еврейского театра, живописавших местечковый быт, большинство этих спектаклей было проникнуто романтизацией этого быта. Даже самый факт чрезвычайно длительной задержки театра на ограниченной тематике еврейского местечка — тематике прошлого — свидетельствовал о наличии националистических моментов в творчестве театра. Этим же объясняется и поздний переход на советский репертуар (общеизвестно, что Еврейский театр позже многих наших театров перешел на тематику советской действительности)» (Советское искусство. 1935. 17 марта).
К своему пятнадцатилетнему юбилею коллектив театра и его руководитель Михоэлс поняли, что завоевать высоты культуры без мировой классики невозможно. «Серьезное внимание начинает уделять театр общечеловеческому репертуару. Пора покончить с косной точкой зрения, будто бы еврейский театр должен заниматься исключительно еврейской темой. Это первый мотив, в силу которого театр взялся за произведения мировой драматургии — за шекспировского „Короля Лира“. Шекспир — реалист, величайший в мировой истории. Он, как никто иной, может многому научить, особенно сейчас, когда речь идет о сценическом воплощении рождающегося на глазах нового человека» (Рабочая газета. 1935. 5 марта).
Менялись люди. Сам Михоэлс ко времени постановки «Короля Лира» не был похож на Михоэлса 1929 года. (В 1929 году он защищал от нападок Грановского, называя его основоположником ГОСЕТа, а в 1935 году воспринял как должное, когда прочел в газете «Советское искусство» от 5 марта 1935 года лозунг: «Привет основоположнику и художественному руководителю театра, одному из лучших актеров современности С. М. Михоэлсу».)
Читал ли эти слова Грановский? Едва ли. В это время он, уже тяжелобольной, несправедливо забытый, усердно работал вместе с Р. Фальком над франко-английским фильмом по сюжету «Тараса Бульбы» Н. В. Гоголя (фильм вышел на экраны в 1936 году). Алексей Михайлович умер в 1935-м (по другим источникам — в 1937-м.). Дошли ли до него слухи о блистательной постановке «Короля Лира» в ГОСЕТе? Об этом мы уже никогда не узнаем. Но, к счастью для себя, Грановский не прочел слова своего Ученика о том, что Учитель «обманул доверие партии и правительства». Что означали эти слова? Попытку перебороть собственный страх? Или поворот взглядов на 180 градусов? Всего 15 лет тому назад Михоэлс восхищался Грановским: «Наш руководитель… мы видим полную жертв и самоотречения работу, мощную силу любви к искусству и народу, богатую идейным содержанием деятельность его, не прерывающуюся ни на один миг в течение дня». А в конце 30-х, уже после триумфа «Короля Лира» Михоэлс произнесет об Учителе совсем иные слова: «Кстати, Сергей Эрнестович (Радлов. — М. Г.), говоря о нашем театре, заявил, что он находит яркий пример выражения формализма в актерской игре в целом ряде спектаклей Грановского. Я должен иначе расставить силы. Грановский, который явился постановщиком целого ряда спектаклей у нас, сегодня является человеком, который подлежит категорическому осуждению и не только с точки зрения того, что он делал в театре. В первую голову и больше всего он подлежит осуждению, потому что он обманул доверие партии и правительства, обманул свой собственный коллектив. Я вынужден был об этом сказать, несмотря на то, что Грановский владел, по моему мнению, высоким мастерством, и отнять у него это было бы смешно. Спутать эти две карты нельзя».
Тема «Учитель — ученик» извечна. Во всяком случае, она имела место еще во времена библейские. Есть в книге Брода «Реубейни — князь иудейский» такая притча: «Жил в Иерусалиме мастер-ремесленник, который однажды был вынужден взять деньги у своего ученика и послал за ним свою жену. Ученик оставил красивую женщину у себя и при помощи всевозможных хитростей заставил мастера развестись с нею. Когда затем мастер не сумел заплатить долг, разбогатевший ученик сказал ему: приходи и отработай у меня твой долг. Ученик и жена сидят за обедом, а мастер прислуживает им обоим, и, когда он им наливает вино, слезы льются из глаз его и падают в бокалы. В тот день совершился суд над евреями». Эта притча не имеет прямого отношения к теме Грановский — Михоэлс, но все же…
В одной из публикаций Михоэлс писал: «Что же, однако, такое Грановский с точки зрения его работы? Его работы были формальными, ибо в их основе лежала предпосылка, которая делала их формальными. Ибо человек, который сумел в определенный момент уйти и порвать с нашей советской действительностью — это человек, очевидно, скрывающий в себе предпосылки для того, чтобы не отображать нашей действительности. Я знаю, что основной чертой Грановского является страх».
Но страх неминуемо вползал в жизнь самого Михоэлса. Когда он возвращался поздно после спектаклей, ночные беседы в доме продолжались до утра. К нему приходили Качалов, Москвин, Зускин… Ночи 30-х годов! Длинные, страшные… Михоэлс однажды признался Анастасии Павловне, что испытывает страх перед каждой предстоящей ночью — не меньший, чем перед выходом на сцену… Ведь людей арестовывали обычно ночью или под утро. Утром, выпив крепкого кофе, он уходил в театр. И так сутки за сутками… Что еще мог делать Соломон Мудрый, Король Лир, Король еврейской сцены? Лидер, признанный, любимый лидер советских евреев. Уйти из театра? В пятидесятилетием возрасте, в расцвете творческих возможностей бросить все (и всех: ведь за ним уже коллектив, созданный, взращенный им). Его уход стал бы творческой гибелью для актеров театра. Михоэлс не мог уйти от бурлящей вокруг жизни, творить в тиши кабинета, стать затворником. Увы! Он был Актером, ему нужен был зритель сегодня, сейчас. И он творил… Ничего не поделаешь. «Что было, то и будет, и что творилось, то и творится», — сказал Екклезиаст.
Старый, ставший уже хроническим вопрос: «Что ставить?» — после «Короля Лира» возник с новой остротой. Театр, да еще национальный, сумевший так поставить трагедию Шекспира, одну из самых высоких в этом жанре, стал уже не просто заметным явлением национальной культуры, но мировым театром. И кризис репертуара становился от этого еще опаснее…
Снова вернуться к Гольдфадену и Шолом-Алейхему? Поставить что-то из Гоголя или Мольера? Но ставить Шекспира в то время «рекомендовали» свыше, а Мольер мог не соответствовать духу времени… Перед страной встали новые задачи: «Кадры решают все», «Нужны люди, владеющие техникой». Шел 1936 год, суливший советскому народу новую Конституцию, самую демократическую в мире. В статье «За высокую производительность труда» (Советское искусство. 1935. 17 октября) Михоэлс писал: «Товарищ Сталин говорил о том, что не овладевшие техникой отстают. Это предупреждение вождя полностью применимо к театру. Мне могут возразить, что не приходится говорить об отставании советского театра, одержавшего крупные победы и являющегося лучшим театром в мире…» В статье «По адресу драматургов» Михоэлс пишет: «По идейному содержанию советская драматургия обогнала не только русскую, дореволюционную, но и западноевропейскую».
В то время наибольшую трудность представлял правильный выбор: свои произведения ГОСЕТу предлагали не только еврейские драматурги, но и Вс. Вишневский, Ал. Гладков и др. В интервью газете «Советское искусство» (1935. 11 ноября) Михоэлс сообщает о готовящейся постановке «Герман Фридберг» по пьесе изгнанного из Германии драматурга Льва Зискинда. «В этом же году мы приступаем к работе над „Закатом“ Бабеля. Я буду режиссером и исполнителем роли Менделя Крика. Образ Менделя примыкает к этой же серии Лир-Фридберг; в этом сезоне я буду его строить. Сейчас еще преждевременно легализовать мое отношение к этому образу, но, быть может, он станет для меня самым любимым из всего сыгранного мною на подмостках театра».
Планы планами, а случай, как это нередко бывает, меняет многое, если не все. Однажды, в январе 1936 года, возвращаясь домой после спектакля, Михоэлс обнаружил, что какой-то «тип» шел за ним через сквер Тверского бульвара. Когда Михоэлс уже подошел к двери своего подъезда, человек тихо окликнул его: худой, черноглазый, очень милый и застенчивый, он достал из портфеля папку и сказал: «Прошу вас, прочтите это. Только прочтите, о большем не мечтаю и ни на что не рассчитываю». «Незнакомец» показался Михоэлсу очень знакомым… Это был известный еврейский поэт Моисей Кульбак, а в папке была его пьеса «Разбойник Бойтре».
Уже в марте, отложив «Закат» Бабеля, Михоэлс приступил к работе над этой пьесой. «В момент обсуждения великой Сталинской Конституции особенно остро должен прозвучать материал, положенный в основу пьесы. Преследования евреев в мрачную эпоху Николая I, тяжкие законы о рекрутчине и выселении евреев из деревень, скитания бесприютных, вымирающих от голода и болезней бедняков по лесам и дорогам, — все это образует исторический фон пьесы М. Кульбака. На этом фоне автор воспроизводит легенду о народном разбойнике-мстителе Бойтре, беглом рекруте, ставшем вожаком бедняков.
В противовес своим некоторым старым постановкам, идеализировавшим прошлое, рисовавшим его в мягких, лирических тонах, театр в этой постановке стремится показать нарастание в еврейских массах гнева и ненависти к своим угнетателям.
Строя свою работу на внимательном изучении истории, мы хотим дать советскому зрителю кипящий социальными страстями народный исторический спектакль, глубоко национальный по форме, пронизав его еврейской народной песней и музыкой. Спектакль „Разбойник Бойтре“ воскрешает на нашей сцене мрачные страницы истории еврейского народа. Тем ярче выступает наше прекрасное сегодня, тем сильнее и беззаветнее звучит наша любовь к отечеству всех трудящихся — нашей великой социалистической Родине…» (Михоэлс. Известия. 1936. 9 октября).
Многие критики тогда (не говоря уже о теперешних) склонны были обвинить Михоэлса, да и не только его — Маркиша, Фефера, Квитко — в неискренности, даже в конформизме, их считали трубадурами тех дней. К Михоэлсу 20-х и первой половины 30-х годов обвинения эти отношения не имеют. И он, и Маркиш, и Квитко, и Фефер действительно верили в то, что Великая Октябрьская революция принесла равноправие евреям России, избавила их от черты оседлости. Без нее не было бы ни ГОСЕТа, ни еще 12 еврейских театров в нашей стране. И если Михоэлс в 1936 году, в год провозглашения «великого сталинского закона», решил напомнить людям о жизни своего народа в прошлом, о тысячах его обездоленных сыновей и дочерей, то делал это, несомненно, искренне. Образ мстителя, ставшего народным героем, не нов в литературе — достаточно вспомнить Робин Гуда или шиллеровского Карла Моора, — но «Разбойник Бойтре», в отличие от них, — борец-одиночка.
Спектакль полюбился зрителям и критикам: «„Разбойник Бойтре“ есть знамение решительной перестройки московского ГОСЕТа, свидетельство его непрерывного творческого подъема, необычайной жизненной силы этого великолепного по своей самобытности и своеобразию художественного организма».
«В конце осени или начале зимы 1937 года Соломон Михайлович пришел после спектакля „Разбойник Бойтре“ в убийственном настроении. Таким я его видела впервые. До утра он просидел в кресле, курил, пил кофе, но не сказал ни слова. Ни я, ни дочери не могли вывести его из этого состояния. Он даже не стал разговаривать по телефону с М. М. Тархановым, который позвонил во втором часу ночи. Только утром, уходя в театр, он сказал мне: „А ты говоришь — не верь снам. Вчера всю ночь кошки снились; а вечером на спектакль пришел главный еврей страны (я сразу поняла, что речь идет о Л. М. Кагановиче). После второго действия „вызвал“ меня и Зускина в мой кабинет и такого наговорил, что не знаю, как тот доиграл спектакль до конца! Но он сыграл! А потом Зуса зашел ко мне и сказал: „Жаль его, он не только ничего не понимает в искусстве, но совсем не знает, не любит свой народ““» (А. П. Потоцкая).
В 1939 году в статье «В партийной организации ГОСЕТ» (Советское искусство. 1939. 14 февраля) спектакль «Разбойник Бойтре» получил совсем иную оценку: «Всего несколько лет назад в ГОСЕТе был один коммунист. Трудно было говорить в то время об ощутимом партийном влиянии на творческую жизнь театра. Вдобавок, в дирекции долго орудовал враг (директор театра Ида Лашевич, очередная жертва репрессий. — М. Г.)…В результате в репертуар театра проникли такие постановки, как „Разбойник Бойтре“, пьеса, представляющая в уродливом свете богатую революционную историю народа.
Советская тематика в репертуар не допускалась; прилагались все усилия, чтобы изжить из театра советских драматургов (автор статьи явно забыл о спектаклях „Спец“, „Суд идет“, „Земля“, „137 детских домов“, „Четыре дня“, „Мера строгости“, поставленных по пьесам советских драматургов в конце 20-х — начале 30-х годов. — М. Г.).
Вражеские действия сказались в попытках внести раздор и смуту в творческий коллектив, умалить и снизить роль актера как центральной фигуры в театре. Партийная организация в тесном содружестве с лучшими непартийными большевиками по-боевому принялись за дело. Лживый спектакль „Разбойник Бойтре“ сменили героические спектакли „Суламифь“, „Бар-Кохба…“. Небольшая партийная организация, состоящая главным образом из административно-технических работников, помогает художественному руководству в сложном процессе создания спектакля. Обсуждать вместе с коммунистами и комсомольцами пьесы, режиссерские планы уже стало традицией ГОСЕТа…»
Немногим спектаклям ГОСЕТа выпали на долю такие различные отзывы: «…бесспорная творческая победа ГОСЕТа», «…Лживый спектакль „Разбойник Бойтре…“»
Жизнь продолжалась. В ГОСЕТе готовили новые постановки. В плане подготовки стояли пьесы «Профессор Полежаев» И. Ратханова, «Семья Овадис» и «Пир» П. Маркиша, «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема.
Но Михоэлс временно «нарушил» эти планы. На заседании совета театра в январе 1937 года он предложил к постановке пьесу «Суламифь» поэта С. Галкина (по А. Гольдфадену). Многие «испугались» новой постановки больше, чем в свое время «Короля Лира». Не лучшее время для библейской темы выбрал Соломон Мудрый.
Кто-то из актеров во время обсуждения пьесы воспринял предложение ставить «Суламифь» как авантюрную шутку. Но Михоэлс не сдавался. Он настойчиво убеждал актеров, что после трудных, трагических спектаклей («Король Лир», «Разбойник Бойтре») постановка легенды о Суламифи очень своевременна. И убедил.
Своими замыслами о постановке спектакля «Суламифь» Михоэлс поделился с Евгением Шварцем еще в 1935 году, и тот сказал ему: «Все думают, что вы, Соломон Михайлович, великий актер. Может быть, это и так, но я в вас вижу прежде всего настоящего поэта». (Более чем через тридцать лет после этих слов Е. Шварца писатель И. Андроников, едва ли подозревавший об этой беседе, назвал свою статью о Михоэлсе «Поэт и аналитик».)
«Михоэлс обладает высоким даром поэтического мышления. Печать этого дара лежит на всех его работах и с большой силой сказалась в „Суламифи“. Легенду о пастушке Суламифи и ее возлюбленном — предводителе пастухов Авессаломе — ГОСЕТ сумел рассказать по-своему. „Суламифь“ — спектакль об огромной всепоглощающей любви, о людях, которые были одинаково мужественны и в любви, и в борьбе с врагами родной земли. Эта тема поднимается из самых глубин народных сказаний и легенд. То, что мы видели на сцене ГОСЕТа, гораздо богаче старой гольдфаденовской „Суламифи“. И Михоэлс — автор сценария и постановки, и поэт Галкин, написавший новый прозрачный и лаконичный текст, много поработали над тем, чтобы приблизить спектакль к народным истокам. Они не стали на путь мнимого псевдонародного упрощения. Священная любовь Суламифи, героизм и мужество Авессалома, великая сила их любви — черты глубоко народные, они требуют сложных и своеобразных средств сценического воплощения» (Красное знамя. 1939. 20 июня).
Непросто было после популярной «Суламифи» Гольдфадена ставить спектакль по новому сценарию и в совсем иной музыкальной редакции. Решив поставить «Суламифь», Михоэлс прикасался к величайшему и, быть может, самому чарующему творению еврейской поэзии «Песни песней», переведенной на языки многих народов мира. На русский язык отрывки из «Песни песней» переводили Пушкин, Фет, Мей, Кузмин, Лохвицкая, Эфрос… Миф о любви царя Соломона к пастушке Суламифи христиане истолковывали как любовь небесную, как любовь и ревность самого Господа Бога.
Фабула пьесы такова. Враги нагрянули на долины и холмы Иудеи. Все мужчины деревни, среди них и отец Суламифи, уходят на войну. Пастух Авессалом становится во главе вооруженного народа. В пустыне он встречается с Суламифью и спасает ее от смерти. Они полюбили друг друга. Но Авессалом спешит на бой с врагом, а Суламифь возвращается домой. По-новому рассказано и о препятствиях на пути влюбленных. Показана война, которая их разъединила, беззаветная и ожесточенная борьба сынов еврейского народа за свою родину, которую хотели поработить, уничтожить. Пастухи Земли иудейской — старики и юноши выходят на поле брани, изгоняют врага за пределы страны и радостно празднуют победу. И тогда празднуют победу своей любви Авессалом и Суламифь.
Даже в рецензиях на «Суламифь» критики не упускали случай задеть Грановского: «Ушла со сцены мистика, которую насаждал покойный Грановский, и ей на смену пришли радостные и бодрые мотивы, слова и песни народа, познавшего плоды завоеванной свободы» (Н. Ж. Известия ЦИК и ВЦИК. 1937. 18 апреля).
Судебные процессы захлестывали друг друга, в справедливость советского суда поверил сам Л. Фейхтвангер, а Михоэлс в газете «Советское искусство» от 10 марта 1938 года писал: «Кто они такие? Роешься в памяти, вспоминаешь всю историю человечества, мысленно перебираешь произведения величайших мастеров художественной литературы и живописи. Ищешь аналогии. Но что Каин, Яго, Азеф, Гапон, имела которых стали символом предательства и братоубийства, злобы, зависти, ненависти к народу? Все они ничто по сравнению с право-троцкистскими бандитами, представшими перед советским судом. Смрад злодеяний, совершенных Бухариным, Рыковым, Ягодой и их приспешниками, отравляет воздух нашей страны. Злодеяния этих царских охранников, платных агентов фашистских разведок, убийц и отравителей кошмарны. Бухарин, Рыков, Ягода, Черной, Розенгольц и их сообщники предавали и продавали нашу родину. Вот главный шеф-бандит, именующий себя „теоретиком“ предательства и подлости, — матерый негодяй Бухарин. Нельзя без содрогания слушать страшный рассказ о „собраниях“, „встречах“, „заседаниях“, на которых бандиты цинично обсуждали планы убийства товарища Кирова, способы умерщвления товарищей Менжинского, Куйбышева и того, чье имя дорого всему культурному и мыслящему человечеству, — великого русского писателя Максима Горького. На человеческом языке нет слов и выражений, которыми можно было бы достойно заклеймить подобные преступления. Преступления право-троцкистских убийц омерзительны. Сами имена этих прожженных мерзавцев будут стерты и преданы проклятью».
Какое сложное, противоречивое, «шекспировское» время! В одном городе, в одном году разыгрываются такие несхожие спектакли: продуманно театрализованные процессы над оклеветанными людьми, суды-расправы и светлый, мажорный спектакль на сцене ГОСЕТа о «завоеванной свободе народа». Да, Михоэлс, вместе со многими нашими соотечественниками, был «у времени в плену», и у него оставалась одна возможность сказать правду о своем времени — играть Шекспира. Наверное, поэтому он так неудержимо, так страстно стремился сыграть Гамлета и Ричарда. Пытаясь сейчас проникнуть во внутренний мир Михоэлса, я думаю, что в те годы им двигала не одна святая любовь к искусству и тем более не «академический» интерес к Шекспиру, естественный для образованного, интеллектуального актера, но потребность к исповеди.
Друг Михоэлса, актер С. М. Хмара, знал обо всех перипетиях, связанных с постановкой спектакля «Суламифь». Он рассказал мне, как однажды они с Москвиным пришли к Михоэлсу. Иван Михайлович признался Соломону Михайловичу, что «Суламифь» ему понравилась больше, чем «Колдунья», которую он смотрел лет 15 тому назад. «Это спектакль не на сезон, — сказал Москвин, — а на десятки лет. Береги его, Соломон, не обращай внимания на статьи в газетах, всегда тверди себе: Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца».
Вопреки официальному мнению, спектакль сохранялся в репертуаре ГОСЕТа до его эвакуации в Ташкент: успех «Суламифи» был ошеломляющим. Это радовало Михоэлса, ведь он с таким трудом «пробил» этот спектакль, считая, что постановка «была необходимым этапом нашей работы, полезным этапом, и пусть эта постановка не разрешила целого ряда проблем, все же она была важной потому, что приблизила нас к подлинным богатствам фольклора, научила нас понимать и выражать новые для нас эмоции и страсти».
Сразу же после «Суламифи» театр взялся за спектакль по пьесе С. Галкина «Бар-Кохба» (режиссер Г. А. Кроль) о восстании израильтян против иноземных завоевателей. Ни в «Суламифи», ни в «Бар-Кохбе» Михоэлс не играл, а жажда актерской работы томила его. Вскоре в репертуаре театра появилась драма П. Маркиша «Семья Овадис», в ней Михоэлс сыграл главную роль.
Через четыре дня после премьеры, состоявшейся 1 ноября 1937 года, Михоэлс так писал о своей новой работе: «В спектакле должна быть выражена красота, сила, могущество народа, который ощутил, наконец, твердую почву под ногами. Таким должен быть спектакль… Я убежден, что Овадис откроет новую галерею сильных людей, героев, которые, наконец, заиграют у нас на сцене и в первый раз должны заиграть по-настоящему к двадцатилетию Октябрьской революции».
Вот как писала о спектакле «Ворошиловская правда»: «В семье сгонщика плотов Зайвла Овадиса, председателя национального еврейского колхоза в Биробиджане, разворачиваются события, очень похожие на памятные всей стране события в семье Котельниковых. Патриот родины Петр Котельников заменил на далекой пограничной заставе погибшего брата — героя Валентина.
Калмев Овадис, сын Зайвла, заменяет на границе погибшего в боях с японскими самураями брата Шлеймку. Весь колхоз принимает горячее участие в постигшем семью горе, окружает ее заботой и вниманием. Пьеса знакомит советского зрителя с бытом людей Биробиджана, с их обычаями, хорошо и правдиво передает чувство коллективизма, которым проникнуты все их поступки. Выбор этой пьесы для постановки, безусловно, удачен» (1939. 5 августа).
«Для Московского ГОСЕТа, многие годы показывавшего старый еврейский быт, „людей воздуха“, беспочвенных мечтателей, этот спектакль на современную волнующую тему крупная удача, новый и значительный шаг вперед в деле овладения советской тематикой, отхода от старых позиций. Постановщик спектакля, народный артист СССР тов. С. М. Михоэлс в этом спектакле показал себя еще и еще раз как крупный мастер. „Семья Овадис“ — прекрасный волнующий спектакль, большая удача ГОСЕТа» (Советская Украина. 1939. 6 июля).
Михоэлс, безусловно, знал цену этой «большой удачи»… Понимал, как далека правда жизни от «правды» поставленного спектакля: один из сыновей Зайвла Овадиса, Шайка, уехал в Палестину, второй сын работает секретарем райкома партии, а сам Зайвл, председатель колхоза, называет уехавшего сына чужаком и отщепенцем. Можно догадываться, какие чувства обуревали Михоэлса, когда он писал в газете «Советское искусство» от 17 ноября 1937 года: «Роль Зайвла Овадиса даст мне возможность по-новому осмыслить и показать подлинного сына еврейского народа старого поколения, которое приходит к пониманию новой исторической правды». Что поделаешь, оказывается, «правда» бывает разной, в том числе — «новой»!..
Но Михоэлс уже вжился в роль, и не только Овадиса. «Михоэлс отчетливо видел на горизонте мрачные тучи фашизма и войны. Он понимал, что одно только искусство немногое способно противопоставить близящимся грозным событиям. И артист стал оратором, общественным трибуном… Его речи, как и его роли, были своего рода притчами… Актер и оратор говорили об одном» (К. Рудницкий). И если роль Зайвла явилась для Михоэлса «новым творческим достижением», то его участие в фильме Г. Л. Рошаля «Семья Оппенгейм» (по роману Л. Фейхтвангера) было самой жизнью: он ненавидел фашизм и вступил с ним в борьбу задолго до начала Великой Отечественной войны.
В 1938 году Михоэлсу не было еще и пятидесяти. Сегодня мы бы сказали «восходящий возраст». А Михоэлс все больше спешил. Четыре роли, четыре образа, им не сыгранных, не давали ему покоя, в их числе Гамлет: он утверждал, что не понимать Гамлета — значит не понимать Шекспира. «В Гамлете соединено абсолютно все. Мне иногда представляется, что „Гамлет“ — произведение почти автобиографическое. В Гамлете есть многое, что Шекспир узнал, изучая самого себя».
Михоэлс был убежден: подвиг Гамлета состоит в том, что он раскрыл страшную правду ценой жизни. После Овадиса играть Гамлета? Нет, он уже стар. Гамлет навсегда останется для него юностью, непроходящей любовью, символом человеческой чистоты. Гамлета Михоэлс не сыграет…
А Ричарда III? По убеждению Михоэлса, роль эта не была так актуальна в нашей стране, как в конце 30-х годов. «Я хочу попытаться психологически разгадать природу, характер, душевный строй врага — врага всего человечества, всего прекрасного, врага морально устойчивого и сильного, нашего сегодняшнего врага. Однако, мне кажется, что сводить вопрос только к оправданию или осуждению „злодея“ в Ричарде III — слишком маленькая задача. Конечно, его следует показать таким, как его задумал Шекспир. Но на советской сцене Ричарда надо играть не как „автономное“ проявление пусть и свихнувшегося „человеческого духа“, а как уродливое и тусклое порождение социальной среды его эпохи» (Михоэлс С. Мечта о роли // Литературная газета. 1939. 20 апреля).
Он понимал, что, если Лир ему «сошел», то Ричард III может стоить жизни. И все же приступил к работе над этой ролью в конце 1938 года.
Михоэлс разработал детально не только свою роль, но и весь спектакль. О Ричарде он думал повсюду: дома и в театре, на заседаниях и наедине с собой. Чуть позже, в 1941 году, Михоэлс написал в своей записной книжке: «Работа над Ричардом в первый же момент должна отталкиваться от противоположности Ричарда всему окружающему миру. Пир, празднество огромного скопления богатых, красивых, могущественных и одаренных природой людей — еще больше подчеркивает уродство, обездоленность и полное одиночество Ричарда. В этом столкновении праздника и одиночества, красоты и уродства, могущества и кажущейся никчемности — есть начало пьесы.
Встреча с Анной решает судьбу Ричарда, судьбу его силы воли. Неимоверное напряжение, с которым Ричард захватывает в свои руки все тончайшие нити, ведущие к полновластию, ничто по сравнению с той силой воли, с которой он яростно бросается в борьбу за обладание Анной. Мысль об уродстве и хромоте никогда не покидает его.
На вершине своей власти, на вершине славы и победы он потихоньку униженно подглядывает и подслушивает окружающих, подозревая их в насмешках над его уродством. Случайно встречая уродство, напоминающее его собственное, он делается беспомощным и жалким и вместе с тем загорается дикой яростью, так как он почти уверен в том, что встреченный им уродливый человек нарочно косит и дразнит его хромотой (встреча со слугой). Ричард создает себе богов, наделяет их своей хромотой, своим уродством и пытается поклоняться этим богам. Но однажды, постигнув, что и уродливые боги побеждают как символ прекрасного, Ричард отбрасывает богов с присущей ему яростью. Походка Ричарда идет как бы от горба, от которого он всегда стремится уйти. Ричард отождествляет свое уродство со злом. Он навсегда прикован к нему. Его походка — Менахем-Мендель с обрезанными крыльями. Менахем-Мендель стремится вверх, ввысь, вперед. Ричарда как бы удерживает его собственный горб, подрезающий его полет. Попытка возвеличить зло не удается, и он остается способным лишь мстить и уничтожать прекрасное».
Роль Ричарда III была настолько созвучна времени в конце 30-х, что сыграть ее Михоэлс решил немного позже. А пока вернулся к еще одной из четырех несыгранных ролей, к Тевье-молочнику.
Племя иудино переселяется по причине бедствия и тяжкого рабства, ищет пристанища между народами и не находит покоя…
К постановке спектакля «Тевье-молочник» Михоэлс приступил еще в 1937 году, сразу же после «Суламифи» и «Семьи Овадис». Инсценировку по книге Шолом-Алейхема написали И. Добрушин и Н. Ойслендер, оформление спектакля Михоэлс предложил И. М. Рабиновичу. Годы 1937–1938 — не лучшие для постановки этого спектакля, но Михоэлсу было к этому не привыкать. Михоэлс понимал, что без Вениамина III, Менделе Мойхер-Сфорима и Тевье Шолом-Алейхема еврейский театр, дающий спектакли на идиш, не выполнит своего назначения. Помнил он и о том, что ГОСЕТ, по сути, начал с Шолом-Алейхема, и без Тевье-молочника этот творческий союз окажется неполноценным.
Среди образов, созданных Шолом-Алейхемом, Тевье, по убеждению Михоэлса, — самый трагический и самый народный. Приступая к работе над ролью, Михоэлс учитывал и то, что к концу 30-х годов исчезло не только сочетание «черта оседлости», но и понятие «местечко» с его печальным юмором и нищетой, с его трудовыми буднями и тихими субботними вечерами, ушла навсегда философия его обитателей (то, о чем так прозорливо предупреждал Михоэлса молодой Юзовский еще в 1927 году).
В 1938-м, когда Михоэлс ставил «Тевье-молочника», он был убежден, что еврейский вопрос не может быть решен путем активной ассимиляции. Он знал в то время многих евреев, которые гордились тем, что забыли не только иврит — язык Библии, но и идиш. Нередко Ройтеры становились Красновыми, Зисеры — Сладковыми. (Что поделаешь — не все читают Шекспира, а он давно предупредил: «Крестя евреев, мы набиваем цену на свинину».) Михоэлс понимал, что если не поставить спектакль сейчас, то очень скоро не будет зрителей, которые смогут понять и воспринять философа из Анатовки, так ненавязчиво учившего окружающих мудрости веков.
«Да, образ Тевье глубоко народен, в его чертах мы узнаем облик народа, в его мудрости — мудрость народа. И поэтому столь органичным кажется оптимизм его финальной фразы: „Пока душа в теле, езжай дальше, вперед, Тевье!“» — писал Михоэлс в журнале «Огонек» (1938. № 35) незадолго до премьеры спектакля. И одна из главных мыслей, которую Михоэлс хотел донести до зрителей, заключена в словах Тевье: «Ибо что такое еврей и нееврей? И зачем им чуждаться друг друга?»
Кто только и как не пытался ответить на этот вечный вопрос! В 1916 году американский еврей, юрист по образованию, Мейер Сульцбергер в одной из своих публикаций заявил: «Евреи — это факт, и он нуждается в определении». Еще лаконичнее сказал немецкий поэт Готхольд Лессинг: «Еврей есть еврей». Вроде бы просто. Но Тевье задавал себе этот вопрос и мучился им. Ему вторили и Тевье-Михоэлс, и, много позже, Тевье-Ульянов, столь блистательно сыгравший эту роль в телеспектакле.
Михоэлс был уверен, что для того, чтобы евреи остались как нация, необходимо прежде всего сохранить язык и хотя бы элементы самобытной культуры. Поэт Семен Израилевич Липкин рассказывал, вспоминая об одной из своих встреч с Михоэлсом: «Однажды я спросил Соломона Михайловича, почему в репертуаре его театра нет спектакля о евреях, которые не знают языка, истории своего народа, то есть об евреях ассимилировавшихся, но не отрицающих не только своего еврейского происхождения, но и причастности своей к еврейству». Михоэлс не задумываясь ответил мне: «Эти люди меня не интересуют». Рассуждая сегодня о Тевье, явленном Михоэлсом, надо помнить, что спектакль этот ставился в той же стране и в ту же эпоху, когда снимался знаменитый кинофильм «Цирк», где рефреном проходила мысль: «за столом никто у нас не лишний». Правда, к тому времени подавляющее число евреев России уже считали своим родным языком русский, были закрыты еврейские школы (в Ленинграде последняя еврейская школа закрылась в 1937 году). Государство тем самым как бы отвечало на вопрос Тевье, что такое еврей и нееврей… Что такое еврей без языка, без традиций, не говоря уже об иудаизме.
Михоэлс, не раз во всеуслышание отрекавшийся от веры в Бога, исподволь, играя Тевье, воплотил мысль английского ученого Монтефиоре: «Израиль — народ религии». И еще, как ни покажется парадоксальным, путь к Тевье в значительной степени шел через «Лира». Приступить к постановке «Тевье-молочника» Михоэлсу в некоторой степени помогли и позволили два предстоящих юбилея: близилось 80-летие со дня рождения Шолом-Алейхема и 20-летие ГОСЕТа.
Что думал сам Михоэлс о Тевье? Вот отрывок из его интервью:
«Глава большой семьи Тевье борется с окружающей его тяжелой действительностью. Вырос Тевье в условиях старорежимной обстановки, где извне жизнь душила царская „тюрьма народов“, а изнутри — религиозно-патриархальный уклад. Дочери же росли, и через них стучалась в двери дома Тевье революция 1905 года, вторгались совершенно новые социальные идеи, строились новые формы отношений людей нового поколения. А у Тевье в запасе для объяснения так грозно надвигающейся на него действительности имелись лишь обломки старого еврейского, синагогального знания.
Но в глубине у Тевье мудрость народная. Постепенно он убеждается в том, что нельзя уложить все многообразие противоречий жизни в прокрустово ложе библейских изречений. Все ярче и отчетливее формируются в его мозгу новые понятия, входят новые представления о жизни, возникают новые мотивы поступков. Глаза его от неба переводятся на землю, где Тевье находит не отвлеченных, а конкретных врагов. Врагов своих, врагов трудового человека, врагов народа» (Декада Московского зрителя. 1938. № 34).
Какие расхожие слова для тех дней. И произнес их Михоэлс не в кругу друзей и даже не на репетиции, а для печати. Была ли необходимость Михоэлсу представлять Тевье этаким чекистом конца 30-х годов, который находит вокруг себя совершенно конкретных врагов, «врагов народа»?
Отдавал ли он себе в этом отчет? А может быть, решил, что бумага не краснеет?
Ответить на эти вопросы можно лишь зная истинное положение вещей. Негласным «куратором» и главным цензором ГОСЕТа, его «идеологическим направляющим» считал себя «главный еврей» страны Л. М. Каганович. Актеры, бывшие участниками и свидетелями работы над спектаклем, прекрасно помнили, как лихорадило театр, и говорили, что от той постановки, которую задумал и осуществил Михоэлс, к моменту премьеры если что и осталось нетронутым, то только замечательная музыка Пульвера и блистательные декорации Исаака Рабиновича. Вот что говорил на суде Вениамин Зускин: «Лазарь Моисеевич указал Михоэлсу на то, что он показывает евреев в таком уродливом состоянии. В 1938 году, когда эта пьеса („Тевье-молочник“. — М. Г.) была поставлена, она уже выглядела по-другому»…
В своем интервью Михоэлс произнес те слова совершенно осознанно, во имя спасения спектакля. К тому же играл Михоэлс в «Тевье-молочнике» нечто совсем иное.
Низенькие, покосившиеся дома местечек, длиннобородые сгорбленные старики в ермолках, полуголодные дети, загоняемые в хедер, и конечно же погромы, под угрозой которых проходила жизнь евреев черты оседлости, — все это Михоэлс хорошо знал с детства. Играя Тевье, он воспроизводил историю российского еврейства конца XIX — начала XX века. «Тевье-молочник, отец пяти дочерей — родоначальник пяти различных житейских судеб». У каждой дочери своя доля. В условиях старого времени судьбы всех дочерей оказались трагическими. Только Михоэлс, видевший в детстве таких людей, как Тевье, мог понять, что под влиянием политико-экономической обстановки в России конца XIX века многие талмудические законы, еще недавно принимавшиеся на веру, стали вызывать вопросы и недоумения. Быть может, самые правдивые и жестокие слова, произнесенные Тевье, сказаны им были тогда, когда он провожал свою дочь в Сибирь за мужем (свои княгини Волконские были и среди дочерей иудейских): «Зря утешаешь меня, будто идут новые времена, будто телега старой жизни уже трещит: что-то не слышно треска телеги; слышно лишь щелканье хлещущих бичей».
Во время «кабинетных» репетиций, когда он беседовал с актерами о предстоящем спектакле, Михоэлс однажды признался актрисе С. Ротбаум, что, работая над «Тевье-молочником», он все чаще обращается к Торе: «Тевье меня восхищает тем, что в нем неистребимо сохраняется святая любовь к жизни и к людям, между тем Тора утверждает, что в рабстве любить нельзя, можно только ненавидеть… И еще: кто-то из пророков говорил: „Душа моя жаждет Бога живого. Слезы мои стали для меня хлебом днем и ночью…“» Признания такого рода он делал, разумеется, с оглядкой, понижая голос до шепота, ибо всегда помнил, что над головой в его кабинете висел огромный портрет Сталина…
Шолом-Алейхем, а за ним и Михоэлс уловили в образе Тевье главное: хотя люди, подобные ему, понимают и истолковывают Священное Писание по-своему, живут они по этой великой книге и всегда помнят талмудическое: народ можно только тогда побить, когда побиты его боги, то есть его нравственные идеалы, его лучшие стремления. Михоэлс, играя Тевье, как бы обращался к зрителям: «Евреи, оставайтесь евреями, не отвергайте самих себя!..» Должно быть, Михоэлс рассчитывал играть Тевье долго, полагая тем самым напоминать своим зрителям о том, что еврейский народ достоин уважения…
«На спектакле „Тевье-молочник“ публика плачет. Скажем без лишнего стеснения — мы тоже плакали. Мы, взрослые и даже немолодые люди, которые покинули институты благородных девиц очень давно, а может быть, и вовсе там не учились, а если и бывали, то лишь как солдаты на постое, мы, которые видели человеческие страдания не в театральной ограниченности, а в беспредельности живой жизни, — мы плакали. Но плакали мы слезами волнения и благодарности великому автору и изумительному артисту, которые силой искусства подняли нас до высот подлинного восторга.
Все внешнее в спектакле — и национальная, и классовая обстановка, и время действия, то есть то, из чего иные драматурги делают основную ткань своих пьес, в „Тевье-молоч-нике“ играет роль атрибута, случайного сосуда. А самое главное — внутри. Это теплота, лиризм, способность сносить страдания и не терять надежды, широкое сердце, великодушие. Это — вечное, человеческое. Страшновато иной раз говорить большие слова. Но, кажется, что в „Тевье“ Михоэлс доходит до гениальности» (Финк В. // Литературная газета. 1938. 5 декабря).
Такого отзыва удостаивается не каждый актер. Мало любить, мало понимать своего героя, сочувствовать ему, — чтобы сыграть Тевье, как это удалось Михоэлсу, необходимо любить народ, воплощением которого явился Тевье. «Среди героев Шолом-Алейхема, среди неувядающих искателей счастья, фантазеров и мечтателей образ Тевье-молочника, пожалуй, самый значительный и вдохновенный. Бедняк, обремененный большой семьей, Тевье обречен на жалкое существование. „Ни минуты хорошей, нищета, нужда, одни неудачи, куда ни сунься“.
„На болячке болячка, а на болячке волдырь“. Но удары судьбы и нищета не могут сломить дух старого Тевье» (Правда. 1938. 26 декабря).
По мнению П. И. Новицкого, «образ Тевье — это самое значительное, что создал Михоэлс. Значение этой работы, может быть, полностью еще не оценено». И это после Вениамина III, Лира…
Семен Михайлович Хмара рассказывал: «После премьеры „Тевье-молочника“ я зашел к Михоэлсу за кулисы, и у меня, потрясенного его игрой до глубины души, вырвалось: Не обижайтесь, Соломон Михайлович, но думаю, что это ваша вершина даже после „Лира“. И даже если Тевье окажется вашей лебединой песней, то петь ее еще можно долго-долго, много лет и много раз! Соломон Михайлович еще был в гриме и в костюме Тевье. Он смачно, как только он умел, затянулся папиросой и сказал: „Семен Михайлович, неужели у вас уже склероз и вы забыли моего Бадхена из „Ночи на старом рынке“ и Вениамина из спектакля „Путешествие Вениамина III““. Я сказал Соломону Михайловичу, что остаться в истории мирового театра у спектакля „Ночь на старом рынке“ больше шансов, чем даже у „Короля Лира“. Но Тевье он сыграл с той же силой, как десять с лишним лет тому назад сыграл Бадхена и Вениамина. А позже, когда мы остались с Соломоном Михайловичем в кабинете одни, он вдруг сказал мне: „Ты знаешь, Семен, ты прав, и „Ночь“, и „Вениамин“, возможно, войдут в мировой театр. Но не моя в том заслуга, а гениального Алексея Михайловича (Грановского. — М. Г.) и Роберта Рафаиловича (Фалька. — М. Г.). А ведь не очень они ладили между собой, а какие сделали спектакли!“ Я сказал Соломону Михайловичу (знал это от своего брата, жившего в Париже), что уже там, за границей, в Берлине, когда Грановский ставил в „Габиме“ „Уриэля Акосту“, а Роберт Рафаилович оформлял спектакль, они работали очень дружно и слаженно. Что-то они еще потом делали вместе, кажется, фильм „Тарас Бульба“»…
Возможно, Семен Михайлович не знал, что говорил Соломон Михайлович о Грановском совсем-совсем недавно, на юбилейных торжествах в 1935 году.
Образ Тевье, сыгранный Михоэлсом, дошел до нас лишь в воспоминаниях зрителей, видевших его. (В отличие от других спектаклей ГОСЕТа не сохранился даже киноролик.) И все же сегодня уже трудно представить себе Тевье Шолом-Алейхема без Тевье Михоэлса, а это, быть может, высшая награда актеру.
Приведем еще один отзыв. В своей речи на вечере по случаю столетнего юбилея Шолом-Алейхема «вождь» советских писателей Александр Фадеев сказал: «…Гуманизм пронизывает все творения Шолом-Алейхема. Вспомним… незабываемый цикл рассказов о Тевье-молочнике, образ которого был так великолепно воплощен на сцене Михоэлсом». Возвращаясь к Шолом-Алейхему, Михоэлс тем самым возвращал театр к своим истокам. В Писании сказано: «Кто в огне, кто в воде», а Тевье истолковывает это по-своему: «Судьба людей различна: кто ездит верхом, а кто ходит пешком». Думается мне, эти мысли Тевье были близки самому Михоэлсу. Нет, это не то же самое, что было начертано на воротах Бухенвальда: «Каждому — свое»… Главное в мысли Тевье, да и самого Михоэлса-Тевье: «Судьба людей — различна». Людей! Судьбы театров также несхожи. ГОСЕТ конца тридцатых годов, ГОСЕТ Михоэлса — совсем не тот, что был при Грановском. Михоэлс и весь прекрасный ансамбль спектакля (Л. Ром, С. Ротбаум, Е. Эпштейн, А. Шмаенок, А. Пустильник, Э. Карчмер) не снижали трагедии до чувствительной мелодрамы. Чтобы выжить, Тевье ищет поддержки в мудрости, переводя древние изречения на язык житейский и даже бытовой. Это уже не «маленький человек» (Менахем-Мендель, реб Алтер). Тевье — человек огромной силы, подтверждающий своими рассуждениями, деяниями, что он представитель народа жизнеспособного. Страх, внушавшийся предкам Тевье на протяжении двух тысяч лет, не сломил волю и дух лучших его сыновей. На репетициях «Тевье-молочника» Михоэлс обращал внимание актеров на то, что еврейский народ, обреченный в пору Средневековья на гонения, покидая обжитые места, всегда хранил верность вере предков и понимание, как тщетно благополучие в сравнении с Торой. Не забвение, а осознание своего прошлого помогло выжить предкам Тевье. Понимание того, что добро и зло, счастье и несчастье во все века нераздельны, даже обязательны (как здесь не вспомнить хасидские корни Михоэлса!), придавали философу из Анатовки силы пережить так много трагического в своей жизни. «Судьба людей — различна…», но «всю жизнь Тевье должен мыкаться, носом землю рыть, детей растить — и все для того, чтобы они взяли и одним махом оторвались, как шишки с дерева, чтобы ветром их унесло в разные стороны» — что может быть тяжелее такой судьбы? «Растет в лесу дуб. Приходит человек с топором, обрубает ветвь, еще ветвь и еще… А куда такое дерево без ветвей… Зачем дереву голому в лесу торчать?»
Даже в трагические минуты бытия Тевье продолжает верить в справедливость: «Скажи мне, дорогой мой Феферл, выходит, стало быть, по сумасшедшему твоему разумению, что все на свете творится не по справедливости? И то, что моя корова доится, и то, что лошадь в упряжи ходит, тоже несправедливо?»
Что еще помогло выжить Тевье? Знание Священного Писания, придающего ему веру и истинно библейскую гордость в самые трагические дни жизни. Любимые молитвы Тевье: «Ты пошли нам лекарства, ибо болезнь у нас у самих имеется», «Жизнь моя разворошена, и сам я разворошен…» Вот почему Михоэлс, отложив работу над «Ричардом III», сыграл в 1938 году Тевье.
После одного из спектаклей «Тевье-молочник» Михоэлс вышел на бис 24 раза. Когда зрители вызвали его в 25-й раз, он произнес слова из любимой молитвы Тевье: «Погляди, как мы мучаемся, и защити нас от неправды. — И, прощаясь со зрителями, произнес: —…не дождутся враги мои, чтобы я перед кем-нибудь плакался».
Вениамин Александрович Каверин, не раз видевший Михоэлса в роли Тевье, в своей статье «Два артиста» писал: «Весь спектакль (телефильм „Тевье-молочник“ с М. Ульяновым в главной роли. — М. Г.) совершенно независим от того, каким поставил бы его Михоэлс. А между тем он производит не меньшее впечатление. Ульянов не стремится, как это делал и Михоэлс, возбудить жалость к Тевье». Заканчивает свою статью Каверин словами: «На старости лет я чувствую: как было бы хорошо снова услышать из уст Михоэлса речь Тевье-молочника! Но Ульянов дал мне полную компенсацию этого желания». Понятно, что такая компенсация очень условна, ибо, вообще говоря, невозможна. Давно известно, что истинный актер подобен скульптору, ваяющему свои статуи из снега…
Генрик Ибсен, задаваясь вопросом, почему евреи сохранились как нация, почему сохранили свою индивидуальность, свою поэзию, находил ответ в том, что еврейскому народу не пришлось «возиться» с государственностью, ибо, если бы он остался в Палестине, давно был бы раздавлен ее тяжестью. Даже если Михоэлс знал об этих мыслях Ибсена, то едва ли разделял их. Ведь великое повествование Шолом-Алейхема заканчивается главой «Тевье едет в Палестину». И не столь важно, каков финал спектакля, поставленного Михоэлсом в 1938 году (впрочем, как и финал замечательного фильма «Тевье-молочник» с Михаилом Ульяновым). Всего важней последние слова Тевье: «Даст Бог, приеду благополучно на место… Первым долгом отправлюсь на могилу праматери Рахили. Помолюсь я там за своих детей, которых, наверное, никогда больше не увижу, помолюсь… обо всех евреях…»
Вот о чем была молитва, поставленная Михоэлсом в 1938 году. И с этой точки зрения она не имеет ничего общего с «Поминальной молитвой», блистательно поставленной Марком Захаровым спустя почти четыре десятилетия после михоэлсовского «Тевье-молочника».
Именно в роли Тевье Михоэлс последний раз вышел на сцену. Это было 3 октября 1943 года.
Близился пятидесятилетний юбилей Михоэлса. К тому времени все важнейшие события в театральной жизни Москвы проходили при его активном участии. Он выступал перед различными аудиториями по Всесоюзному радио в 1938 году произнес речь «Ложь религии». В 1939 году выступил с лекцией «О поэзии в творчестве актера»; на собраниях активов работников театрального искусства произнес речь «С чего начинается полет птиц» и т. д.
Новую свою роль вне сцены Михоэлс играл так же превосходно и искренне. Свидетельство тому — его доклад (основной) «Роль и место режиссера в советском театре» на Всесоюзной режиссерской конференции в Москве. Михоэлс полемизировал с МХАТом, с самим Станиславским! Он протестовал против нивелировки в искусстве.
Ему возражали. Режиссер Л. М. Литвинов обвинял его в том, что он, Михоэлс, противопоставил себя Станиславскому. Б. А. Бабочкин, выступая в прениях по докладу Михоэлса, заявил: «Совершенно неожиданный, вредный для советского театра вывод о недопустимости единого метода сделан С. М. Михоэлсом».
В заключительном слове на конференции Михоэлс еще раз объяснил свою основную мысль: «Нельзя систему Станиславского превращать в догму, в азбуку». Система Станиславского, по мнению докладчика, — прежде всего творчество, в противном случае постановки в различных театрах будут отличаться лишь названием, ибо поставленные «единым методом» «Бронепоезд 14–69» и «Тевье-молочник» станут близнецами.
Тогда же Михоэлс написал статью «Драма и театр» (опубликованную лишь в 1961 году), в которой резко выступил против штампа, той страшнейшей болезни, «борьбе с которой посвятил всю свою жизнь в искусстве К. С. Станиславский». Статья заканчивалась словами: «Еще совсем недавно некоторые снобы от театра и драматургии резко отделяли идеологию от театра. Им казалось, что можно спокойно работать над Шекспиром, Грибоедовым и другими и спасаться в драматургии прошлого от „навязываемых“ и, по их мнению, чуждых искусству отступлений в сторону идеологии. Не приходится говорить, насколько подобная точка зрения является свидетельством нищеты и убогости мысли. Наша современность на каждом шагу доказывает теснейшую связь, функциональную зависимость роста искусства от роста сознания. Наш советский зритель, приходящий в театральные залы, вправе ожидать от мастеров сцены и от авторов драматургических произведений полноценного раскрытия яркого, пышущего здоровьем и полнокровием жанра. В нем расцветают богатые образы, в нем открываются сложные и яркие миры художников. В нем раскрывается богатейшая игра современной нам советской эпохи и неповторимая индивидуальность советского человека, творящего будущее».
31 марта 1939 года Михоэлс был награжден орденом Ленина, 16 апреля в здании филиала МХАТа состоялось собрание работников театра. Выступление Михоэлса в печати было охарактеризовано как «блестящее». Он сказал: «Моему народу плохо жилось в прошлом. С моим народом за рубежом советской страны жестоко расправляются. И не удивительно, что сыны моего народа не хотели служить царю. При царе немыслимо было существование еврейского театра. Теперь появился театр, название которого состоит из сочетания ранее невозможных слов: „Государственный еврейский театр“. Да, здесь, в стране социализма, каждый из нас, сынов еврейского народа-скитальца, обрел чувство родины, чувство социалистического отечества.
Я призываю Вас подчинить свое искусство огромным требованиям этой невиданной замечательной эпохи — эпохи Сталина, эпохи братства народов, эпохи вступления в обетованный мир коммунизма.
Мы должны выкорчевать у себя, в своей среде, в области искусства схематизм и штампы. Пример тому, как нужно бесстрашно дерзать и идти вперед, показывает наш великий вождь народа, поэт свободы товарищ Сталин».
Естественным продолжением всех этих событий явилась постановка в 1939 году (премьера 16 ноября) пьесы Переца Маркиша «Пир». (Вот уж воистину «пир во время чумы».) Перец Маркиш в январе 1939 года был награжден орденом Ленина вместе с А. Фадеевым и М. Шолоховым, в то время как Л. Леонов, Ф. Панферов и К. Федин были удостоены тогда всего лишь ордена Красного Знамени. В эти дни в репертуар ГОСЕТа была принята еще одна пьеса П. Маркиша «Клятва» — «о тяжелой судьбе еврейской семьи, бежавшей из фашистской Германии в Палестину. Эмигранты и там не находили себе пристанища. Один из сыновей уезжает в республиканскую Испанию, где вступает в ряды интернациональной бригады. Ставит „Клятву“ народный артист С. Михоэлс… Премьера намечена на май 1939 года» (Советское искусство. 1939. 6 января).
Одухотворенный и революционно-романтический талант Маркиша, его искренность не вызывали сомнений, но пьеса «Клятва» так и не была поставлена в ГОСЕТе, а отмечать 20-летний юбилей постановкой одного «Тевье-молочника» в те годы было бы странно. «Пьеса Маркиша „Пир“ — это произведение большой идейной насыщенности и драматического напряжения. Героическая эпоха гражданской войны дала драматургу благодатнейший материал для разработки темы бессмертия народа. Он показывает, какие могучие силы таятся в народных массах и как проявляются эти силы в дни опасности, когда контрреволюция пытается повернуть вспять историю человечества» (Московский большевик. 1939. 12 декабря).
Еще свежо было в памяти празднование 20-летия ГОСЕТа, а за этим юбилеем шел другой, быть может, более значимый. 15 марта 1940 года в ЦДРИ праздновали 50 лет со дня рождения С. М. Михоэлса.
«О большом пути замечательного артиста говорили вчера на вечере в Центральном доме работников искусств.
Народный артист СССР М. М. Тарханов, народные артисты РСФСР В. Л. Зускин и В. Г. Сахновский, И. Я. Судаков и заслуженный деятель искусств, профессор И. Н. Берсенев подчеркнули большие художественные заслуги народного артиста СССР Михоэлса, внесшего неоценимый вклад в сокровищницу советского искусства» (Московский комсомолец. 1939. 16 марта).
«С театральными приветствиями выступили В. Барсова, А. Бакурин, С. Образцов, Э. Каминко, Центральный театр Советской Армии, театры Сатиры и „Ромэн“, цирка и эстрады» (Вечерняя Москва. 1939. 16 марта).
Свою статью в «Комсомольской правде» о Михоэлсе И. Добрушин озаглавил «Большой художник», а И. Розенфельд и Е. Гельфанд — «Великий актер».
Приветствие юбиляру прислал В. И. Качалов:
«Дорогой Соломон Михайлович!
Примите от меня сердечный привет. Поздравляю Вас, прекрасного талантливейшего актера, одного из самых любимых и уважаемых мною товарищей по искусству со всеми Вашими вполне заслуженными наградами… Глубоко сожалею, что болезнь моя лишила меня возможности присутствовать вчера на юбилейном празднике ГОСЕТа, крепко обнимаю Вас, дорогой Соломон Михайлович, и прошу передать мой привет Вашим товарищам по театру».
«Заслуги Михоэлса как художественного руководителя Еврейского театра: под руководством Михоэлса Еврейский театр в Москве становится (заметим — становится! — М. Г.) передовым советским театром» (И. Я. Судаков). Словом, Михоэлс был постановщиком «Пира» в своем театре. А «пир» в честь юбилея Михоэлса и по случаю двадцатилетия ГОСЕТа ставили другие режиссеры.
«Михоэлс — актер постоянно ищущий. В своих творческих исканиях он неутомим и никогда не удовлетворяется найденным, как бы ни было оно совершенно и законченно. На протяжении двадцати лет Михоэлс как актер прошел путь, отмеченный необычайным разнообразием творческих приемов. Его актерской палитре известны были и крайняя условность, и сочность реалистических красок. Зритель видел его и блестящим комедийным актером, и характерным изобразителем быта, и создателем высоко трагического образа…
В творчестве Михоэлса много национального. В богатстве красок и приемов, которыми он пользуется, сильнейшим образом представлен национальный колорит родного ему народа. Но Михоэлс как актер принадлежит всему советскому искусству, всей советской сцене. Михоэлс художник интернациональный.
Михоэлс замечателен не только как актер. Его постановки… отмечены печатью большого таланта, высокой режиссерской культурой» (Судаков И. Юбилей С. М. Михоэлса // Правда. 1940. 15 марта).
Юбилеи позади, дела всегда впереди. Давно мечтал Михоэлс поставить спектакль о Маймоне — самом выдающемся после Спинозы еврейском мыслителе XVII века, которую он предложил написать М. Даниэлю. После длительного перерыва в ГОСЕТ возвратился Р. Фальк, фактически став соавтором постановщика.
Едва ли обращение Михоэлса к образу Маймона было случайным. В этом образе его, несомненно, привлекал не только ум, но и поступки Маймона, восставшего против Бога и земных господ.
«Маймон родился в 1754 году в одной из деревень князя Радзивила. Тьма средневековья царила в тогдашней Польше.
Рожденный в крайней бедности, Маймон получил религиозное воспитание и уже в одиннадцать лет имел аттестат на право занятия должности раввина. Но это его не удовлетворяет. Он задыхается в окружении рабства, нищеты и ханжества. Его пытливый ум ищет выхода, требует ответа на волнующие вопросы; он ищет знаний. Тайком от близких и окружающих его религиозных фанатиков он изучает все, что ему попадает в руки, все, что может ему помочь познать природу, ее законы, ее сущность. Это восстанавливает против него все темные силы, он подвергается преследованиям и лишениям. Пробиваясь сквозь крайнюю нужду и преследования, он проделал путь от замученного религиозной схоластикой юнца до философа с еврейским именем» (Квитко Л. // Комсомольская правда. 1940. 26 декабря).
Михоэлс дважды, оба раза неудачно, сыгравший Акосту, сам за роль Маймона не взялся.
«Перед актером стояла очень трудная задача. В этой роли по воле автора много пауз, многоточий. Редко-редко прорывается взволнованная сила борца. Зускин все-таки сумел поднять образ Маймона, показав его не только кабинетным мыслителем, но и страстным агитатором, обличающим клерикализм и мракобесие, человеком сильной воли» (Риклин Г. // Правда. 1940. 4 ноября).
В этой постановке Михоэлсу удалось воплотить главную мысль Маймона о том, что «человек хозяин всего, а разум человеческий — создатель Создателя».
«Спектакль обращен к будущему. И в этом главная заслуга режиссера. Он читает историю как наш современник. Михоэлс любит говорить, что его занятие режиссурой вынужденное. Но с каждым новым спектаклем он все больше входит во вкус. В „Маймоне“ он выступает как режиссер умной и оригинальной выдумки. Она открывает нам безусловное в условном и жизненное в сочиненном. Михоэлс не прочь сгустить краски, чтобы рисунок стал жестче. Условность для Михоэлса — естественное средство обобщения. Жаль только, что многие актеры ГОСЕТа не умеют, как следует, пользоваться этими средствами, довольствуются раз навсегда выученным».
«Уже давно, давно пора определить основные особенности режиссерского мастерства С. М. Михоэлса, для этого уже накопилось много интереснейшего материала. В „Соломоне Маймоне“ Михоэлс снова блеснул великолепной режиссерской фантазией, истинной театральностью, в которой мысль и эмоция сочетаются в одно целое. Михоэлс простыми театральными средствами создает на сцене „настроение“.
Он втягивает зрителя в атмосферу переживаний актеров, он как бы окружает их игру „эмоциональной средой“, в которой их творческие усилия достигают максимального эффекта. Михоэлс — режиссер, несмотря на свою большую активность, не „вмешивается“ в игру актера своей фантазией, он действует вместе с актером и через актера» (С. Заманский).
Ученое звание профессора Михоэлсу было присуждено 12 апреля 1941 года, его талант режиссера-педагога был широко признан театроведческой общественностью, актерами и деятелями искусства того времени.
Жизнь в стране на первый взгляд была спокойной, люди работали, ходили на демонстрации, дружно распевали: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Угрозу предстоящей войны, ее неминуемость предрекали немногие. В конце 1940 года, после постановки «Маймона», Михоэлс окунулся в работу над одним из самых мирных и светлых в истории ГОСЕТа спектаклей «Блуждающие звезды» (по роману Шолом-Алейхема, инсценировка И. Добрушина).
В интервью «Вечерней Москве» (10 февраля 1941 года) Михоэлс рассказывал о задуманном: «По своему лирическому и романтическому обаянию „Блуждающие звезды“ поднимаются до высот лучших пьес, которые написаны на тему любви, на тему весеннего порыва молодой жизни. И вечный мотив Ромео и Джульетты получает неожиданное разрешение в романе Шолом-Алейхема, где Лейб и Рейзл через пропасть препятствий, через социальное неравенство, через алчность и хищность окружения тянутся друг к другу с распростертыми руками.
Песнь песней. Эта тема всегда волновала Шолом-Алейхема. Ей он посвятил свой знаменитый роман о музыканте Стемпеню, о ней он пел в своей вдохновенной повести „Страница из „Песни песней““, об этом он повествует в романе „Блуждающие звезды“, где герои живут и действуют в среде еврейских актеров».
В статье о спектакле «Блуждающие звезды» (Советское искусство. 1941. 18 сентября) театровед И. Бачелис справедливо заметил, что «Михоэлс в большей мере, чем Шолом-Алейхем, автор этого интересного спектакля».
В канун войны, в мае 1941 года, ГОСЕТ выезжал на гастроли в Ленинград, где и показал свою премьеру. Весь спектакль «Блуждающие звезды» звучит как призыв к творчеству, свободному проявлению своих талантов, к радости труда.
Про себя Михоэлс к тому времени уже твердо решил: по-еле роли Тевье он сыграет только Ричарда III — и конечно же Реубейни.
В ту пору его лоб мудреца уже был изборожден глубокими и печальными морщинами, глаза по-прежнему излучали доброту и печаль, а полная скрытой горечи улыбка и выразительная, сильно выпяченная нижняя губа лишний раз подчеркивали эту вечную библейскую скорбь, вечное страдание.
Жили здесь мы долгие века.
Час пришел. Пылят опять дороги.
Бет га мидраш. Ветер и закат.
И в крови израненные ноги.
В небесах провидческие звуки.
Глас судьбы. Диаспора вечна.
Кладбища протягивают руки.
Нету сил. Но в путь велит она.
(Моисей Цетлин)
Михоэлс всегда в пути, он говорит об оптимистической силе гения Шолом-Алейхема, однако спектакль получился по-чеховски печальным.
«Когда я думаю об основной мысли спектакля „Блуждающие звезды“, которая вдохновила режиссера и актеров, мне вспоминается выступление Михоэлса на митинге представителей еврейского народа 24 августа 1941 года. Обращаясь к евреям всего мира, Михоэлс говорил о том, что в свободной советской стране выросло новое поколение еврейского народа, „поколение, которое до конца поняло, что такое родина, ибо Советский Союз оказался родиной, любимой, дорогой родиной для всех советских народов. Это поколение не знает страха“» (Заманский С. // Вечерняя Москва. 1941. 16 декабря).
На протяжении всего своего творчества Михоэлс пытался опровергнуть мысль о том, что человек, познавший страх хотя бы раз в жизни, не может избавиться от него. Во время репетиции спектакля «Блуждающие звезды» он сказал актерам: «Характерно, что Шолом-Алейхем с вершин своего дарования, рисуя все испытания своих героев, не впал в пессимизм, и, несмотря на то, что повесть его не менее печальна, чем повесть о Ромео и Джульетте, он все же помнит, что „звезды не падают, звезды блуждают“. Следуя по орбитам этого блуждания, он как бы верил, что где-то во время пути „блуждающие звезды“ неминуемо встретятся, чтобы дальнейший путь совершать вместе, в порыве радости и счастья».
Блуждающие звезды… Их собирали вокруг себя из местечек черты оседлости Грановский и Михоэлс, и на театральном небосводе русского еврейства засияли таланты таких непохожих и замечательных актеров, как В. Зускин и М. Штейман, С. Ротбаум, Э. Карчмер и Д. Финкелькраут. Последней «приблудшей» звездой ГОСЕТа суждено было стать Этель Ковенской. Шестнадцатилетней девочкой она приехала из Западной Белоруссии в Москву, к Михоэлсу (слух о замечательном еврейском театре в столице дошел до местечка Дятлово). Обаятельную, застенчивую девочку показали Михоэлсу. Он вручил ей белый платочек и, как всегда в таких случаях, предложил станцевать «сюжет». Очарованный Михоэлс, не скрывая своего восторга, воскликнул: «Лучшей Рейзл нам не найти!» Позже, уже выступая в 1943 году в США, Михоэлс скажет: «Нам нужна была молоденькая, обворожительная девушка. Мы не хотели никаких компромиссов в отношении этой центральной роли и искали молоденькую особу, которая воплотила бы сценически этот образ и… нашли на первом курсе нашей студии. У нас была юная студентка Этель Ковенская, ей было всего 16 лет и ей мы доверили центральную роль в „Блуждающих звездах“, и мы не ошиблись». Девочка умела не только музыкально, но и артистично «станцевать сюжет». Судьба распорядилась так, что Этель Ковенская менее десяти лет была актрисой ГОСЕТа. После его закрытия ее пригласил в театр Моссовета Юрий Александрович Завадский. В этом великом театре она сыграла несколько ведущих ролей, четыре из них — из шекспировского репертуара. Потом она стала актрисой театра «Габима» в Израиле. Но в памяти ее всегда живы ГОСЕТ, ее учитель по театральному техникуму — Вениамин Львович Зускин, а более всего — великий учитель Соломон Михоэлс. Из воспоминаний Натальи Соломоновны Вовси: «С первых же репетиций (1940 год. — М. Г.) Этель проявила свое необыкновенное дарование. Она на лету схватывала любое указание режиссера — ставил спектакль Михоэлс — и понимала его с полуслова.
Но все трудности были впереди. Неопытная девочка могла поначалу играть только для Михоэлса. Если она не видела его, то сразу пугалась, путалась и сбивалась с текста.
Кончилось тем, что во время спектаклей Михоэлс усаживался в оркестровой яме, рядом с дирижером, и ободрял Этель своей улыбкой. Она же в роли Рейзл была совершенно обворожительна и необыкновенно хороша собой.
В дальнейшем Э. Ковенская стала одной из ведущих актрис театра».
Спектакль «Блуждающие звезды», премьера которого состоялась в Ленинграде в мае 1941 года, шел с большим успехом. В конце мая, завершив гастроли, театр возвратился в Москву.
После короткой передышки в Москве в середине июня 1941 года ГОСЕТ отправился на гастроли в Харьков. В день приезда труппу неожиданно собрали в фойе гостиницы «Интернациональ» и прочли лекцию о международном положении. Барабанный оптимизм лекции («Советское правительство не допустит войны, а если ее навяжут, мы разобьем любого врага») соседствовал с предостережением — в Германии есть силы, готовые нарушить Договор о дружбе с СССР.
Гастроли театра шли в здании Дома офицеров. Успех превзошел все ожидания. После вечерних спектаклей зрители подолгу не отпускали актеров и вместе пели любимые еврейские мелодии. 22 июня днем шел спектакль «Два Куне-Лэмла» по Гольдфадену.
«Мы с Михоэлсом в это время были в гостинице. Во время завтрака к нам подошел Д. Л. Чечик и сказал, что по радио ожидается очень важное правительственное сообщение.
— Что это может быть? — спросил Михоэлс.
Мы тут же, без секундного промедления, поднялись в номер и услышали речь Молотова. Сразу после выступления Молотова мы пошли на спектакль. Михоэлс прервал его, вышел в темный зал на авансцену и сообщил зрителям о начавшейся войне. Свою краткую и очень страстную речь Михоэлс закончил словами: „Уничтожить гада!“
Вечером в почти неосвещенном зале шел спектакль „Блуждающие звезды“, а утром следующего дня вся труппа выехала в Москву» (из рассказа М. С. Беленького).
Ужели братья наши пойдут на войну, а вы останетесь здесь?
Братья тех, кто уничтожен в гитлеровских фабриках смерти, кто сожжен в гетто!
Длительным и трудным оказалось возвращение ГОСЕТа из Харькова в Москву. Бессонные ночи в переполненных вагонах, беседы, полные тревог и надежд… Кто-то из актеров говорил: «Когда вернемся в Москву, мы услышим сообщение о том, что враг уже разбит». Неудивительно, ведь еще совсем недавно распевали песни:
Если завтра война, если завтра в поход,
Если темная сила нагрянет,
Как один человек наш советский народ
За свободную Родину встанет.
Ровно через месяц со дня начала войны в Москве была объявлена первая воздушная тревога… В августе 1941 года бомбежки стали частыми.
Беспокойство людей, окружавших Михоэлса, возрастало с каждым днем. Соломон Михайлович оставался самим собой: он верил в победу и веру эту внушал всем, иногда прибегая к своему испытанному средству — юмору. Не дожидаясь команды сверху, Михоэлс «назначил» Зускина старшим пожарником, а себя его заместителем. Михоэлс и Зускин раздобыли противопожарное снаряжение и нередко в одеянии пожарников разгуливали по двору, вызывая улыбку. Актеры оставались актерами, но при объявлении тревоги оба с неимоверной скоростью «взлетали» на крышу, и тут уж было не до игры.
Каждый день приносил новые тревоги, новые заботы. В августе 1941 года было принято решение об эвакуации из Москвы детей.
В эти дни Михоэлс написал докладную записку заместителю Председателя СНК СССР Швернику: «Вследствие… вероломного разбойничьего нападения фашистских бандитов на нашу родину ряд наших областей оказался временно занятым врагом. Вместе с другими учреждениями и гражданским населением эвакуированы были также и многие театры и другие художественные учреждения. Вместе с театрами эвакуировано было большое количество актеров, режиссеров, художников и других работников искусства. Из театров, естественно, лишь немногие могли быть устроены в новых условиях. Часть театров прекратили свое существование и очень небольшое количество театров законсервировано. Большая армия работников искусства оказалась совершенно без средств и работы. В силу этого большая масса работников искусства, несмотря на чрезвычайно высокую их квалификацию, оказалась в чрезвычайно тяжелом положении.
В связи с изложенным мы просим разрешения:
1) Устраивать периодически спектакли и концерты с целью собрать средства для пострадавших от беженства работников нашего советского искусства.
2) Организовать среди работников искусства Москвы сбор теплых вещей с этой целью.
С другой стороны, мы считаем нужным поставить перед Вами вопрос о выделении определенной суммы из средств ВЦСПС для той же цели.
Быть может, окажется верным поставить вопрос об использовании части фонда Соцстраха для оказания помощи людям, составляющим основные кадры нашей художественной интеллигенции».
15 октября 1941 года ГОСЕТ эвакуировался: «Разрешить Комитету по делам искусств при СНК СССР эвакуировать МГЕ театр в гор. Ташкент… Обязать Совнарком Уз. ССР принять, разместить работников МГЕ театра и предоставить помещение для работы театра…»
Михоэлс не уехал вместе с актерами; в то время он уже был утвержден председателем АЕК, о чем свидетельствует документ: «Вы утверждаетесь Председателем Антифашистского еврейского комитета. Просьба держать с нами непосредственную повседневную связь. Председатель Совинформбюро Лозовский».
Не однажды в истории возникали события, вынуждавшие политиков разыгрывать «еврейскую карту». Так случилось и в начале Великой Отечественной войны. Наряду с образовавшимися тогда антифашистскими комитетами (женским, славянским, молодежным) в августе 1941 года возникла идея создания Антифашистского еврейского комитета (АЕК).
На АЕК возлагались большие надежды: вовлечение еврейского населения США, Англии и других стран в сбор финансовых средств, поставок продовольствия, вооружения, амуниции для СССР. О значении, придаваемом этому комитету, говорят имена людей, привлеченных в его актив. Среди них были известные политические деятели С. Лозовский и М. Бородин, писатели И. Эренбург и Д. Бергельсон, поэты С. Маршак и П. Маркиш, музыканты Д. Ойстрах и Э. Гилельс, актер В. Зускин, генералы Я. Крейзер и А. Кац, академик Л. Штерн… Председателем его был назначен «еврей номер один» — Соломон Михоэлс.
24 августа 1941 года в Москве был созван митинг «представителей еврейского народа». На этом митинге выступили С. Михоэлс, И. Эренбург, Д. Бергельсон. Они призывали «братьев-евреев во всем мире» оказать действенную помощь советскому народу в борьбе с фашизмом.
Призыв возымел действие. Сотни писем с предложениями помощи Красной армии пришли по адресу: «Москва, народному артисту Михоэлсу». В США был образован Еврейский совет по оказанию помощи России, его президентом стал А. Эйнштейн. Поддержку комитету оказали Ч. Чаплин, Л. Фейхтвангер, С. Льюис, М. Шагал, Ш. Аш, Поль Робсон. Подобные организации были созданы в Англии, Палестине, Мексике. Вскоре помощь России начала поступать из многих стран мира.
28 августа 1941 года в газете «Советское искусство» Михоэлс опубликовал свою первую со дня начала войны статью:
«…Наш фронт — это фронт великой идеи, справедливости, народной правды; наши танкисты, летчики, бойцы — великие ратоборцы за свободу и культуру. Вместе с ними мы убеждены в нашей победе, потому что никому не повернуть историю вспять.
…Наше искусство должно раскрывать перед зрителем, читателем, слушателем всю силу нашего советского оптимизма, всю веру и всю непреклонность нашей воли к победе».
Вскоре Михоэлс уехал в Куйбышев, где в то время находилось руководство Совинформбюро.
В Куйбышеве АЕК разместился на углу улицы Венцека и площади Революции. 7 июня 1942 года вышел первый номер газеты «Эйникайт» («Единение»). Важно заметить, что газета выходила на языке идиш, то есть круг ее читателей был четко определен. В адрес редакции и АЕК приходило много писем и телеграмм со всего мира. Из Тель-Авива, Сиднея евреи сообщали о своих вкладах на нужды Красной армии: в Австралии купили тулупы, а в Тель-Авиве белье. Вот телеграмма от Альберта Эйнштейна: «Сбор в Нью-Йорке в пользу Красной Армии уже дал двести тысяч долларов. Приблизительно столько же собрали другие города. Энтузиазм американских евреев очень велик. Сбор продолжается». Интересно, что в здании на улице Венцека, где разместился АЕК, в 1892–1893 годах работал помощником присяжного поверенного в Самарском суде Владимир Ильич Ульянов-Ленин.
«В войну, в Куйбышеве, у меня на квартире в обществе Толстого, Шостаковича, Альтшуллера он был грустен, трагичен, и это все звучало в его песнях. Но тут же он блистательно изображал с Алексеем Толстым мимическую сцену двух плотников, конечно, под соответствующую музыку и при нашем старательном участии. Позже, в Ташкенте, они выступали с этим номером в открытом концерте перед многотысячной аудиторией и потрясали своим юмором» (И. Козловский).
Сценка двух плотников, конечно, «потрясала» своим юмором, но настроение Михоэлса было далеко не юмористическим: к тому времени он уже понимал, в какую большую политическую игру был втянут.
Сталин, политик дальновидный, беспощадно расчетливый, делал на вновь созданный комитет большую ставку. Он учитывал, что после окончания войны неминуемо возникнет вопрос о создании еврейского государства на территории Палестины. Это было тем более вероятно, что положение Англии на Ближнем Востоке становилось все более зыбким, хотя правительство Англии едва ли хотело видеть новое еврейское государство на территории Палестины. Истинный политик, Сталин мог предложить не только Англии, но и своим западным союзникам решить «еврейский вопрос» на мировом уровне в пределах СССР путем создания еврейской автономии на его территории. Вождь знал, что создание еврейской автономной области в Биробиджане было скорее вопросом тактическим, даже военным, чем политическим или национальным. В пору создания Еврейской автономной области для Сталина было важно укрепить этот район переселенцами, и с этой точки зрения ЕАО была скорее не национальным округом, а укрепленной пограничной территорией.
Еще и сегодня трудно ответить на вопрос, почему до Михоэлса для руководства комитетом были выбраны Генрих Эрлих и Виктор Альтер, люди с богатым революционным прошлым, но давно покинувшие Россию. Можно предполагать, что воскрешение этих имен (они были арестованы органами НКВД в октябре 1939 года во время «освобождения» Западной Белоруссии, а выпущены из тюрьмы в сентябре 1941 года, когда идея создания АЕК воплощалась в жизнь) связано с расчетом на их авторитет в политических кругах Запада. Л. П. Берия, стоявший у истоков АЕК, намеревался назначить главой комитета Генриха Эрлиха, а ответственным секретарем — Виктора Альтера; Михоэлсу в этом комитете предназначалась символическая должность заместителя Эрлиха. Но вскоре создатели комитета решили, что и Эрлих, и Альтер — кандидатуры с «большим изъяном»: опытные политики, они быстро поймут хитроумные цели отцов-основателей комитета, и не было никакой уверенности в том, что они не раскроют их, попав в США и другие западные страны. И с этой точки зрения кандидатура Михоэлса, человека, не слишком разбиравшегося в политике и малоизвестного на Западе, в особенности в США, оказалась предпочтительнее, а назначение его помощником И. Фефера и ответственным секретарем Эпштейна, людей проверенных и сотрудничавших с органами, отцам-основателям комитета казалась наиболее удачным решением. После короткого пребывания на свободе Альтер и Эрлих были вновь арестованы в декабре 1941 года «за предательство»; их жизненный путь завершился трагически: Эрлих покончил жизнь самоубийством в мае 1942 года, Альтер был расстрелян в феврале 1943-го, то есть незадолго до поездки Михоэлса и Фефера в США.
Все это произошло в том же Куйбышеве, откуда на весь мир вещал АЕК, взывая о помощи СССР, самой гуманной стране в мире… Об этом едва ли в точности знал Михоэлс, однако о многом все же догадывался и делал свои выводы — наивным человеком он не был. Догадывался Михоэлс (или знал наверняка!), почему с ним вместе послали не Маркиша или, скажем, Галкина, которого он особенно любил, а Ицика Фефера. В своем письме к Анастасии Павловне, написанном незадолго до отъезда, он скажет о Фефере: «Ибо мой второй коллега, который едет вместе со мной, вряд ли может явиться опорой мне…»
В конце 1942 года Михоэлс приехал в Самарканд. Он застал актеров ГОСЕТа в очень тяжелом положении. В городе не было ни условий для существования еврейского театра, ни его зрителей.
Вот цитата из письма (от 2 октября 1942 года) художника Фалька, в котором говорится о Самарканде тех дней: «К началу лета положение весьма ухудшилось… Продукты начали резко удорожаться… Начало все более увеличиваться недоедание. Болезнь моя (бруцеллез. — М. Г.) разрушила мой организм…»
Если так тяжело жилось Р. Р. Фальку, всемирно признанному художнику, каково было другим…
Михоэлс добился выполнения постановления правительства № 1212 о переводе ГОСЕТа в Ташкент. Театру был предоставлен зал Ташкентской консерватории, актеров расселили в общежитии.
Михоэлс и его семья поселились в центре, на Пушкинской улице, дом 84, квартира 21. Просторная большая комната на первом этаже какого-то бывшего учреждения чем-то напоминала комнату на Тверском бульваре в Москве. Сюда приходили старые и новые друзья, вскоре здесь начали проводить репетиции спектаклей.
Он нужен был всем, к нему обращались с просьбами, люди готовы были оказать помощь фронтовикам… Семья, мать и две дочки, из Житомира на крестьянской телеге уезжала на восток, спасаясь от захватчиков. В пути во время бомбежки погибли обе дочери. Мать в течение всей жизни копила для них приданое. «Возьмите эти деньги и передайте их нашей Красной Армии. Это будет лучший памятник моим девочкам». Еще письмо: «Эти деньги я отложила на тахрихем (саван. — М. Г.). Если я доживу до победы, меня похоронят по обычаю, если не доживу — пусть хоронят, как угодно. А мои сбережения передайте в фонд антифашистского комитета…» А вот еще одно письмо:
«Уважаемый т. Михоэлс!
Я еврей, член ВКП (б) с 1919 года, старый дальневосточный партизан.
В период гражданской войны на ДВ я был военным Комиссаром 1-й Иркутской дивизии. Сейчас я нач. состава запаса и работаю в частях Всеобуча.
С чувством громадной радости слушал я Ваше и другие выступления на еврейском митинге. Но пока я, к сожалению, не слышу, чтобы это политическое выступление было бы как-либо организационно закреплено.
Многие национальности — чехи, поляки, греки и другие оформляются в специальные воинские части. Положение нашего народа, разумеется, совершенно иное, и мы, конечно, должны сражаться в рядах нашей доблестной Красной Армии. — Но наряду с этим я полагаю, что было бы целесообразным создание нескольких еврейских дивизий. Мне кажется, что наш народ в этой великой битве должен особо проявить себя военной доблестью.
В Советском Союзе мы впервые за два последних тысячелетия получили абсолютно равные гражданские права, в том числе права и обязанности военной службы во всех рангах. Поэтому нужно, чтобы мы в специальных частях оправдали это право. Нужно, чтобы гитлеровское зверье было избиваемо и истребляемо также и особыми еврейскими частями Красной Армии.
Кровавый гитлеризм причинил исключительные страдания нашему народу. Он культивирует небывалое презрение к нам. Гитлеризм может быть уничтожен только военной силой. А у многих людей во всех странах, в том числе и среди самих евреев, существует тысячелетний предрассудок о якобы органической неспособности нашего народа к военному делу.
Все это, как мне кажется, дает нам право на то, чтобы доказать, что в Стране Советов вновь возродилась былая военная доблесть нашего народа, на разгром которого Старый Рим, покоривший весь мир, когда-то бросил 2/з своих вооруженных сил. Мы должны доказать, что обученные при братской помощи великого русского народа военному искусству евреи могут разбивать нацистов на поле брани.
Я обращаюсь с этим письмом к Вам как к одному из представителей еврейской общественности в Союзе.
Если бы Вы разделили мое мнение, и оно бы получило одобрение партии и Правительства, я глубоко убежден, что в кратчайший срок можно было бы создать боеспособные воинские части, которые получили бы громадную моральную и материальную поддержку братьев-евреев во всем мире.
Я надеюсь, Вы не откажете в кратком ответе на это письмо.
Колманович Иосиф»
Ответил ли Михоэлс Колмановичу? В архивах Михоэлса ответа И. Колмановичу нет, а вот актерам ГОСЕТа Шехтеру и Гукайло Михоэлс написал:
«Дорогие и нетерпеливые мои Шехтер и Гукайло! Не писал Вам только потому, что сильно болел, не говоря уже о том, что по приезде нашего театра, далеко не в блестящем положении. Хворал я месяца три, три с половиной из тех шести, с тех пор, как я приехал. Вопрос Ваш совсем не так прост, как Вы себе это представляете, а главное — никто толком не знает, от кого зависит решение.
Указанные Вами лица ничего не могут сделать. 28 числа я должен повидать подполковника Царицына — возможно, добьюсь какого-либо решения.
Хотел бы только, чтобы Вы знали, что Ваша судьба мне отнюдь не безразлична. Наоборот, я чрезвычайно практически заинтересован в Вашей работе.
И в театре все идет худо из-за недостатка людей: из всех ушедших в армию наших актеров, из 11 человек вернулся лишь один Лурье. Нового притока нет. Отсюда и затруднения, и отсюда еще большая заинтересованность в Вас.
С другой стороны, театр вправе гордиться Вами в сознании, что он воспитал из Вас людей боевого искусства. Ваша работа полезна и нужна армии, следовательно, полезна и нужна театру.
Я надеюсь, по окончании войны издадут книжечку об актерах наших — участниках войны, и Вы займете там одно из видных мест.
Мне понятно такое Ваше стремление на фронт. Надеюсь, мне удастся Вам помочь. Если добьюсь, немедленно сообщу.
После 28 сообщу дополнительно. Пришлите сведения о Вашей работе: новые программы, свежие отзывы, снимки. Они нужны по многим причинам.
Обнимаю и целую Вас, мои родные. Ваш Михоэлс».
Год 1942-й, Михоэлс в Ташкенте. Не зная отдыха, он работал днем и ночью. Его полюбили актеры Узбекского драматического театра им. Хамзы. Михоэлс вместе с Уйгуром поставил в этом театре спектакль «Мукана» по пьесе X. Алимджана. Об этой постановке много писали, пресса отмечала бережность, с которой Михоэлс отнесся к традициям национального узбекского театра. Уже через две недели после начала репетиций Михоэлс «понимал» по-узбекски (он находил в этом языке много общего с ивритом). Актеры узбекского театра так полюбили Михоэлса, что ждали его на репетиции по ночам, после окончания спектаклей в своем театре. Не всем было понятно, зачем при такой занятости Михоэлса в своем театре ставить спектакли в театре узбекском.
«Люди поделились с нами не только кровом и хлебом, они отдали нам свое сердце. В беде познается человек, хозяева-узбеки разделили с нами горе, беду. Всегда я помню библейское изречение: „Давайте — и воздастся вам“».
Михоэлс нашел высшую форму благодарности: по его инициативе в ГОСЕТе на идиш был поставлен спектакль узбекских авторов К. Яшена и А. Умари «Хамза».
Борьба с фашизмом была для Михоэлса не игрой, но самой жизнью. Он был выдающимся человеком своего времени, и его громкое, такое еврейское имя придавало особую значимость его деяниям. Соломон Михоэлс против Адольфа Гитлера! Может быть, во имя этой схватки, если уж так решила судьба, стоило жить всю предыдущую жизнь.
«Много-много передумал я за эти дни. Очевидно, так и должно быть. Готовишься к чему-то целую жизнь, а когда, наконец, наступает необходимость это что-то совершить, ты оказываешься и неподготовленным, все кажется неожиданным и даже ненужным.
Впрочем, все было бы, конечно, иначе, если бы я уехал из Москвы или из Ташкента, наладив все. Осталась ты, мое родное, любимое, бесконечно дорогое существо. Нужная моя. И ребята. Надо ведь вам и жить, и работать, и налаживать. И все это без меня.
Остался театр. Почти без планов. Без перспектив, фактически без руководства. Остались мои узбеки, и повисла в воздухе неоплаченная мною и реализованной ответственностью моею обязательность перед ними за доверие и за ласку. Кроме того, здесь выявилась картина весьма тяжелая и сложная той обстановки, в которой мне придется очутиться фактически одному. Ибо мой второй коллега (Ицик Фефер. — М. Г.), который едет вместе со мной, вряд ли может явиться опорой мне. А сложность растет там с каждым днем. Придется нырять. Но ведь это не роль. Здесь провал немыслим — это значит провалить себя самого, обезглавить себя.
Любимая, мне тяжело и тоскливо.
Впрочем, должны победить и жизнь, и правда, и любовь. И должен победить народ».
Порой из писем можно узнать намного больше (и вернее), чем из мемуаров и официальных документов. Человек в письмах к близким, друзьям бывает особенно искренним.
Письма Михоэлса к Анастасии Павловне написаны уже после разлуки с ней, но еще до прибытия в США. В них прежде всего особый аромат восприятия жизни. Это относится в равной мере и к графине Потоцкой, и к потомку литовских хасидов Михоэлсу. Не умение жить в сегодняшнем понимании этого слова, а умение жить талантливо…
Разумеется, в этих письмах — состояние души Михоэлса в те дни, но не только…
«Моя дорогая, моя чудная, моя любимая жена, моя Асика! Сегодня, 21-го, девятый день, как я разлучен с тобой. Разлучен и угнетен разлукой и мыслью о предстоящем. Никогда я так неожиданно не разлучался с тобою.
До сих пор не могу оправиться от этого. У меня образовалась травма. Меня пугает самая форма для начала того дела, на которое я направляюсь, облеченный доверием и партии, и правительства, и народа. Ведь не меня будут там встречать, а гражданина Советского Союза, и не на меня будут смотреть, а на представителя советской интеллигенции, и не меня будут слушать, а представителя Еврейского антифашистского комитета в СССР, и не обо мне идет речь, а о сыне еврейского советского народа.
Это все вместе стоит ста ролей — тем страшнее не справиться, не суметь сделать то, что на меня возложено, разочаровать тех, кто облек меня, кто честь оказал своим доверием и надеждой на мои возможности и силы.
Возможна ли неудача?
Возможна! Об этом здесь говорят все и предупреждают, и гадают все, какие вопросы могут там возникнуть, какие ответы должны быть даны. Как себя вести, как и с кем говорить. Устал я, слишком устал и перенапряжен, чтоб попасть на столь ответственный и рискованный участок работы. Рискованный в смысле того, чтобы не сорвать главного и основного — объединить все для борьбы, с фашизмом, поднять еврейские массы на эту борьбу, создать движение помощи тамошних еврейских масс нашей Красной Армии в ее святом и страшном бое с фашизмом.
Робею дико.
А там сейчас ситуация не из легких. Сейчас, когда я знакомлюсь с тамошней прессой, я убеждаюсь, до чего далеки они от нас, до чего отстали, до чего мишура личного, стяжательного затмевает главное, ослепляет людей, и они перестают видеть, какие пропасти зияют у самых их ног, какие западни расставлены и подстерегают их вместе с их мишурным, неверным, неустойчивым „благополучием“.
Прости, что я так долго тебя этим занимаю. Но все это вдруг стало мною. Все это стало личным, все это посвящаю тебе и детям. Тоска моя по тебе достигла предела…»
Еще одно письмо:
«Итак, мы в Тегеране. Особое издание Ташкента… Мы едем дальше к цели нашего путешествия, которая волнует своим содержанием, ответственностью. Несмотря на это, все полно тем, что я оставил.
Но именно здесь, в этом далеко-недалеком „далеке“, чувствуешь с необыкновенной силой, еще ярче, еще глубже, еще взволнованнее то, что принадлежит нам с тобою вместе, любимая, вместе и нераздельно, чувствуешь свою родную страну, свою Москву, дом свой, родину, вот все то, к чему мы так привыкли и к чему не следует „привыкать“, как нельзя и невозможно привыкнуть к любви. И как ты неправа была, когда утверждала, что ты у меня на четвертом месте после народа, театра и Талки!
В день отъезда я понял, что все неразрывно и слито воедино и одно без другого пустеет, теряет свой смысл. И народ, и театр, и Талка-Нинка-Варька — все это мы с тобою, мы вместе, в каком бы порядке ни перечислять всего. Дома за диваном найдешь пакетик. Я пытался скрасить минуту, когда войдешь в комнату впервые без меня.
Совсем твой Миха».
Прошло всего две недели:
«Асика, любимая, родная!
Судьбе было угодно, чтобы я вместе с моим спутником проторчал здесь, в Тегеране, целых 18–19 дней в ожидании самолета, который наконец отправляется завтра. Я здесь чуть с ума не сошел от досады. Нервничал и думал, что придется, подобно Вениамину III, кружась вокруг да около, вернуться. Я шучу, конечно. Меня мучило сознание долга. Необходимости выполнить то, что доверено, исполнить дело совести, а мы сидим и бездействуем! Это было ужасно!..»
Одно из писем, посланных Анастасии Павловне, заканчивалось словами: «У меня чувство, что я состарился лет на 10». И было это еще до прибытия в США.
В марте 1943 года С. Михоэлс и И. Фефер уезжают в США, Англию, Канаду и Мексику как посланники Антифашистского еврейского комитета. В ночь перед отъездом Михоэлс писал Анастасии Павловне:
«Моя родная, моя любимая, нежно-нежно любимая!..
Я полон горечью разлуки… Я знаю, что еду на фронт, очень серьезный, очень ответственный, что он серьезнее всего, что я за всю жизнь сделал… Помнишь этого еврея-врача, который перед насильственной смертью, причиненной ему немецкими мерзавцами, воскликнул единственное еврейское слово, которое он знал, и это слово было „Братья!“. Быть может, именно с этого я начну свою первую речь».
«Братья евреи! Братья тех, кто уничтожен в гитлеровских фабриках смерти, кто сожжен в гетто!
Братья тех, чьи кости немецкие фабриканты раскупают по 30 марок за человеческий комплект и варят из них мыло, они называют это „еврейское мыло“, так написано на этикетке (это было в 1942 году во Львовской области. — М. Г.).
Братья тех, кого немецкие бандиты десятками тысяч закапывают в землю — это в Киеве. Часами шевелилась на их могилах земля…
Здесь часто говорят — мы знаем, что Гитлер — убийца, что у евреев с ним свои особые счеты, мы знаем, что это наша общая война, и мы знаем, что благодаря Красной Армии спасено больше половины еврейского населения всей Европы.
Мы знаем это сами. Не напоминайте нам об этом. Мы можем обидеться. Обидеться? На кого?
На тех, кто нас направил сюда, чтобы призвать Вас объединиться в борьбе против немецких мыловаров?.. Может быть, на тех, чьи руки, мозг и черепа превратились в мыло, чей стон и слезы благословили на вечную ненависть к врагу?
…Война не кончена! Мы верим в победу!..
Плакать и рыдать сейчас бесполезно. Это не поможет. Каленым железом надо выжечь позор, называемый фашизмом» (из выступления на митинге в Нью-Йорке 22 июня 1943 года).
В 1973 году Марк Шагал был в Москве. Он рассказал Анастасии Павловне Потоцкой о своих встречах с Михоэлсом в США: «Я видел постановки, которые ставили на площадях, на стадионах, на аренах цирка крупнейшие режиссеры нашего времени. Но такой спектакль, как антифашистский митинг в Нью-Йорке в 1943 году, мог поставить только Михоэлс. „Заставить“ Морриса, председателя Нью-Йоркского муниципального совета, говорить хвалебные слова о русских, требовать от правительства — не просить, требовать! — открытия второго фронта — этого не позволил бы себе сам президент. А Соломон Михайлович выступил так, что Моррис со слезами на глазах перед десятками тысяч американцев сказал о том, что Россия ведет великую народную войну и помочь ей надо не словами, а делами…»
Шагал не раз встречался с Михоэлсом и Фефером во время их визита в США. Разумеется, воспоминания о прошлом присутствовали в их беседах. «Минуло более двадцати лет… И когда сюда прибыл мой давний друг великий актер Соломон Михоэлс, а с ним Фефер, то мы увидели истинного, от рождения, еврея-революционера и истинного поэта…» — эти слова из выступления на вечере, состоявшемся 30 апреля 1944 года. На этом же вечере Шагал представил книгу стихов Фефера, которую он блистательно оформил. И еще он сказал в тот день: «Почему, почему мы спохватываемся только на баррикадах или уже в гетто, перед смертью? Почему не пока мы живы…»
Наступает пора, давно пришло уже время действий. В этих словах чувствуется суть Шагала, во многом древнееврейская: «Не будь я евреем (в том смысле, который я вкладываю в это слово), я бы не был художником или был бы совсем другим…»
Шагал сделал немало для сбора средств в помощь воюющей с фашизмом России.
Знакомясь с материалами о пребывании Михоэлса в США, Канаде, Англии и Мексике в 1943 году, невозможно не прийти к заключению, что он буквально совершил переворот в сердцах и умах американцев. Как ни покажется странным сегодня, тогда далеко не все американцы знали о существовании Майданека и Освенцима, о неслыханной силе мужества и самопожертвования советского народа, боровшегося с фашистами. Сохранилось письмо П. Робсона о его встречах с Михоэлсом в США. «Что касается фотографии, то она была сделана в 1943 году, когда мы встретились с Михоэлсом в Нью-Йорке. Это было огромное дело, организованное очень широким комитетом, в который входили писатели, артисты, музыканты, руководители общественных организаций. Я помню, что там было несколько удобных случаев встретиться с Михоэлсом. Это был сердечный, богатой и тонкой души человек. Михоэлс произвел на меня неизгладимое впечатление, и я вспоминаю о своих встречах с ним в Соединенных Штатах с любовью, восхищением и уважением».
Сила воздействия Михоэлса такова, что вчерашние недруги под влиянием его обаяния и убежденности становились друзьями нашей страны. Выступая на митинге в Нью-Йорке 8 июля 1943 года, председатель Всемирного еврейского конгресса Уайз сказал: «Разве мы должны относиться к СССР как к своему товарищу и союзнику сегодня с оговоркой, что он станет нашим врагом завтра?» Мало того, председатель Всемирного еврейского конгресса буквально громил тех, кто призывал к сдержанности в восхищении подвигами советского народа; он требовал, чтобы США и Англия «не завтра, а сегодня открыли второй фронт».
На митинге были представлены все крупные еврейские организации: Всемирный еврейский конгресс, Американский еврейский конгресс, «Бнай брит», крупные профсоюзы США, присутствовали виднейшие американские политические деятели, ученые, писатели, художники, артисты. С яркими речами выступили Уайз, Ньюболд Моррис — заместитель мэра города Нью-Йорка, Гольдман — председатель административного комитета Всемирного еврейского конгресса и многие другие… Ряд ораторов в своих выступлениях заклеймили позорную деятельность меньшевистско-бундистского «Форвертса» и троцкистов во главе с Истменом.
«Михоэлс и Фефер получили сообщение из Чикаго, что специальная конференция общества еврейской помощи постановила начать кампанию по сбору средств для покупки и посылки в СССР для нужд Красной Армии 1000 санитарных автомобилей» (Правда. 1943. 16 июля).
По случаю приезда Фефера и Михоэлса в США был выпущен журнал (альбом) «Евреи всегда сражались за свободу». Эпиграфом к этому изданию поставлены слова: «Посвящается единству евреев всех стран, борющихся с фашизмом» и на второй странице: «В честь профессора Соломона Михоэлса и Ицика Фефера». На следующей странице читаем обращение евреев СССР к евреям Америки: «Сегодня перед нами общий враг». Есть в этом журнале и материал, рассказывающий об издевательствах гитлеровцев над евреями Европы (напомним, в США не все хотели знать об этом), рассказывается и об участии евреев мира в вооруженной борьбе с фашизмом. Помещена статья видного деятеля «Джойнта» Дж. Розенберга, который в ту пору уже стал председателем консультативного комитета Еврейского совета за военную помощь России. Свою статью, проиллюстрированную фотографиями о счастливой жизни советских евреев, Розенберг озаглавил: «Страна, где антисемитизм является преступлением». Парадоксально, но в приговоре, вынесенном членам АЕК, есть такой пункт: «Находясь в США, Михоэлс и Фефер установили связь с представителями еврейских националистов: миллионером Розенбергом, Будишем, лидером сионистов Вейцманом и другими, которым сообщили ряд клеветнических сведений о положении евреев в СССР».
А вот воспоминание о пребывании Михоэлса в США Олимпиады Григорьевны Корневой: «На жизненном пути любого человека бывает много встреч с разными людьми. Со временем их облик стирается, и часто даже забываются их лица и имена. Но бывают встречи с такими людьми, воспоминания о которых сопровождают вас всю жизнь и согревают вашу душу.
Для меня таким человеком является Соломон Михайлович Михоэлс, с которым меня свела судьба сорок шесть лет назад в Америке.
Прибыла я туда в августе 1942 года в составе группы советских студентов, которых послали в Нью-Йорк заниматься в Колумбийском университете по программе обмена студентами между СССР и США (идея о таком обмене исходила от американской стороны, ведь мы были союзниками в войне против общего врага).
Весной 1943 года в США с миссией мира от Еврейского антифашистского комитета прибыли Соломон Михайлович Михоэлс и Ицик Фефер.
Поскольку ни Михоэлс, ни Фефер не знали английского языка, мне довелось помогать им с переводом. Сначала это были технические переговоры, выработка плана мероприятий, маршрутов поездок по стране и пр.
…С. М. Михоэлса, конечно, интересовал американский театр. Он посетил в США несколько спектаклей. Всякий раз я ему на ухо шептала перевод того, что говорят актеры на сцене. Как правило, ему нравилась игра актеров, но он поражался содержанием пьес и жалел актеров, что им приходится играть всякую мистику, убийства и прочее. Исключением была пьеса „Хэрдиэт“ — о жизни американской писательницы Бичер Стоу и истории написания романа „Хижина дяди Тома“. Ему понравились и пьеса, и постановка, а особенно актриса в заглавной роли — Хэлен Хэйз. Любил Соломон Михайлович ходить в Америке в кино.
Несмотря на большую занятость, Михоэлс захотел встретиться с группой советских студентов. На встречу был приглашен также Поль Робсон. Он пришел со своим сыном-студентом Полем Робсоном-младшим. Встреча происходила в домашних условиях и была очень интимной и приятной. Говорили о разном. Много шутили, смеялись.
Помню, Соломон Михайлович сказал:
— Давайте поговорим о литературе. Я профессор в этой области. Посмотрим — кто кого!
Смеясь над самим собой, Михоэлс рассказал о том, как в Нью-Йорке ему попалась аптека, в которой с помощью электрической соковыжималки в присутствии клиента в один миг приготовляют апельсиновый сок:
— Бжик, и стакан готов!
И он туда регулярно ходил, хотя это и довольно далеко от гостиницы. Лишь позже он обнаружил, что таким же образом делают сок во всех аптеках, в том числе и рядом с гостиницей. (В Америке в аптеках продают не только лекарства, но там можно купить и книжку, и газету, выпить чашку кофе и даже пообедать.)
С первых же встреч с Михоэлсом меня поразили его необыкновенная эрудиция в вопросах искусства и литературы, величайшая культура, огромный жизненный опыт и при всем этом — необычайная простота и обаяние. Но когда я услышала его выступления перед многочисленными аудиториями, я была просто потрясена его блестящим ораторским искусством. Михоэлс не просто „владел“ аудиторией, он ее полностью захватывал, словно гипнотизируя.
Однажды, кажется, в Чикаго, он настолько разволновал аудиторию и вызвал в ней такой энтузиазм, что после его выступления толпа бросилась поближе к импровизированной деревянной платформе, с которой он выступал, и в этой давке Михоэлс провалился сквозь треснувшие доски и сломал ногу.
Позже он с юмором рассказывал, что первая медицинская помощь ему была оказана в ближайшем роддоме, откуда затем его перевезли в больницу в Нью-Йорке.
В этой больнице его постоянно навещали сотрудники советского консульства и советские студенты.
Передо мной любительская фотография, на которой запечатлен Михоэлс в белом халате, сидящий на больничной койке. А глаза излучают необыкновенное тепло и нежность, и любовь.
Такие встречи с ним в больнице располагали к душевным разговорам. Он рассказывал о своем детстве, о том, как он пожаловался своей маме на то, что его брат был стройным, красивым, хотя ему, врачу, совсем не обязательно быть красивым, а он, актер, родился таким маленьким и некрасивым.
Помню, как Соломон Михайлович сказал:
— Я давно мечтаю сыграть Ричарда III. Теперь, со сломанной ногой, самое время это сделать.
Пока он находился в больнице, каждый день к нему выстраивались длинные очереди посетителей — кто с солеными огурчиками, кто с селедочкой, кто с национальным еврейским блюдом, кто с письмом родным в Россию…
Долго в больнице он не мог находиться — не такой он человек! Нужно было продолжать программу выступлений.
Его вид с забинтованной ногой особенно драматизировал его выступления.
Запомнился мне один эпизод во время его выступления перед огромной многотысячной аудиторией. Все ждут появления Михоэлса, и вдруг на сцену ввозят кресло-коляску, на которой сидит он с вытянутой вперед ногой в гипсовой повязке.
Все взоры устремлены на Михоэлса. Говорит он в микрофон на идиш. Начинает едва слышно. Видно, как аудитория, словно один человек, наклоняется вперед, чтобы слышать каждое слово. Постепенно Михоэлс „расходится“, начинает говорить все громче и громче, очень выразительно жестикулируя.
Я не знаю ни одного слова на идиш. Понимала лишь: Сталинград, Бабий Яр, фашизм… Но и все остальное было мне понятно. Я все читала на лицах присутствовавших. То все вдруг плачут, то раздаются стоны. А Михоэлс все нагнетает и нагнетает эмоции.
Коляска под ним начинает „ходить“. Те, кто находился с ним рядом, в том числе и я, стали крепко держать коляску, чтобы она не свалилась со сцены. Могла ведь произойти новая беда. Что творилось по окончании его выступления, трудно передать словами.
Проделанная Михоэлсом гигантская работа, его пламенные выступления, многочисленные встречи с политическими деятелями, деятелями культуры, бизнесменами, детьми вызвали такой отклик в стране, особенно среди еврейского населения, что повсеместно стали возникать многочисленные комитеты, ассоциации, организации по оказанию помощи нашему народу и нашей армии. Собирались деньги, драгоценности, одежда, медикаменты, и все это в огромных количествах направлялось в Советский Союз.
А для меня встреча с Михоэлсом была незабываемым эпизодом в моей жизни.
Перед его отъездом из США я попросила Соломона Михайловича написать пару слов на память на фотографии, сделанной в больнице. Я думала — он присядет к столу и напишет пару слов. А он сказал:
— Нет, Адочка! Это дело серьезное. Я так не могу.
И положил карточку в карман пиджака.
Дело происходило в советском консульстве в Нью-Йорке, где я к этому времени уже работала.
На следующий день я услышала этажом ниже стук костылей. Поняла — идет Соломон Михайлович. Он не желал пользоваться лифтом, тренировался.
Стук все ближе и ближе. И вот на стене коридора показалась тень — искаженный силуэт Михоэлса. Согнутая над костылями фигура, знаменитые курчавые хохолки волос, выпяченная нижняя губа.
Я подбежала к нему. И он торжественно вручил мне фотографию с незабываемой надписью: „Адочка, о том, что Вы чудная, очаровательная, и о многих иных Ваших молодых чертах Вам скажут люди помоложе меня. Но вот о том, что в Вас есть чудное напоминание о нашей замечательной стране, об этом хочется мне говорить Вам. Берегите эту свою, пожалуй, лучшую черту, лучшее качество свое. Ваш С. Михоэлс. 21.10.43 г. Нью-Йорк“».
Еще задолго до этой поездки Михоэлс как председатель Антифашистского еврейского комитета вел большую работу, вовлекал в борьбу с фашизмом передовых людей за рубежом. В сентябре 1941 года он писал в своем письме (скорее — послании) к Лиону Фейхтвангеру: «Пусть Ваше слово форсирует сознание у наших американских братьев. Мысль о ненависти к фашистам они должны постигнуть до конца: нельзя — это безумие — оставаться только жертвой. Позорно только стонать, жаловаться и искать утешения…
Пусть стоны превратятся в оружие, а плач и жалобы — в рокот моторов, несущих смерть фашизму и избавление его жертвам…»
Яков Ротбаум, брат Сарры, актрисы ГОСЕТа, жил в те годы в США. По его словам, многие американцы не знали, не хотели знать, не хотели верить сообщениям о звериной жестокости немцев. Были и такие, кто утверждал, что русские и немцы одинаковы, и пусть убивают друг друга.
При всей занятости Михоэлс все же интересовался жизнью американских актеров, театром в США. Я. Д. Ротбаум устроил ему «тайную» встречу с одним из руководителей еврейского театра в США Рувимом Гускиндом, с режиссером Морисом Шварцем. Шварц приглашал Михоэлса на «чоунд». Во время их встречи он спросил Михоэлса: «Сколько времени вам дают на подготовку спектакля?» — «Сколько мне надо. Я видел ваши постановки, г-н Шварц. Ваше „блюдо“ очень вкусное, в нем тысячи привкусов, но оно не совсем готово…» — «Вам будет смешно, — сказал Шварц, — но мне дают на подготовку нового спектакля ровно 24 дня, и все. Если актер не сумеет подготовиться, его заменяют сотни других… Я вам скажу, что думаю, и не обижайтесь на меня, Михоэлс: очень большая разница между нами и в жизни, и в условиях работы актеров и с актерами. Если бы я приехал в Москву, может быть, стал бы Михоэлсом, а вот в США Морисом Шварцем вы бы не стали».
Шварц предложил ему поставить спектакль с актерами его труппы за шесть недель, но Михоэлс шутя ответил, что для этого он «еще не созрел».
Однажды Михоэлса в больнице навестили русские князья, эмигрировавшие из России после революции. Они приветствовали его на еврейском языке: «Шолом алейхем, реб Михоэлс. — И затем по-русски сказали: — Мир вам, господин Михоэлс, мир всей борющейся России, всем ее народам. Сейчас не время вспоминать зло. Мы передаем для спасения России все, что можем. Не знаем, ступит когда-нибудь наша нога на родную землю, но сделайте все, чтобы ее не топтали враги. И мы готовы помочь всем, что в наших силах». Об этом в советской прессе не сообщалось.
В советской прессе поездка Михоэлса вообще освещалась скупо, односторонне. Читая заметки в газетах, складывалось впечатление, что Михоэлс как триумфатор переезжал из города в город и легко добивался всего: от симпатии американцев до огромной материальной помощи, которую они предоставили для нашего народа. Увы! Всякое бывало.
А. Шустергейм публично заявил, что делегация из СССР приехала, чтобы ослабить то гнетущее впечатление, которое произвели на всех американцев, за исключением, быть может, коммунистов, расстрел в СССР двух бывших руководителей Бунда Эрлиха и Альтера; смерть в советской тюрьме старого историка и литератора Израиля Цынтера; насильственное водворение в психиатрическую больницу молодого поэта и драматурга М. Кульбака. А. Шустергейм уверял, что Михоэлс и Фефер приехали в США по приглашению Комитета еврейских писателей, во главе которого стояли коммунисты.
Нередко на встречах задавали вопросы, ответить на которые было непросто:
— Есть в СССР какая-либо еврейская организация, кроме Еврейского антифашистского комитета?
— Нет ли искусственной ассимиляции евреев?..
Из еженедельника «Эль диарио Израелита» (Буэнос-Айрес, 1943. 30 августа): «Русское еврейство не имеет самостоятельной общественной организации, нет никакой реальной связи между евреями СССР и за границей. Поэтому разговор с этими двумя евреями, которые говорят от имени всех русских евреев, — фальсификация».
На все вопросы Михоэлс отвечал со свойственной ему дипломатичностью: «Когда горит дом, нужно в первую очередь думать, как погасить пожар, а уж потом думать о том, как вставить окна и двери».
На вопрос журналиста И. П. Таллера, что думают представители СССР о будущем еврейства, о необходимости создания своего государства, И. Фефер ответил: «В борьбе против фашизма объединены люди самых различных политических ориентаций. Если мы сегодня будем решать послевоенные вопросы, то мы снова расчленим еврейство на бесчисленные группировки…»
М. Ошерович спросил: пойдут ли еврейские коммунисты и после войны по тому же пути, по которому они шли до сих пор, то есть продолжат ли беспощадно попирать еврейские традиции, еврейскую историю и уверять каждого, что все раввины были агентами царской охранки и, более того, что многие из них агенты империализма? Ответа не последовало, в зале возник «местечковый базар». Все это было… Но Фейхтвангер, Драйзер, Чаплин, Эйнштейн, Шолом Аш приветствовали Михоэлса как представителя не только советского еврейства, но всего советского народа. Михоэлс знал, какие трудности его ждут во время этой поездки. Об этом в уже цитированном письме к А. П. Потоцкой: «Меня пугает сама форма для начала того дела, на которое я направляюсь, облеченный доверием и партии, и правительства, и народа! Ведь не меня там будут встречать, а гражданина Советского Союза, и на меня будут смотреть как на представителя советской интеллигенции, и не меня будут слушать, а представителя Еврейского антифашистского комитета в СССР, и не обо мне идет речь, а о сыне еврейского советского народа. Все это вместе стоит ста ролей, тем страшней не справиться, не суметь сделать то, что на меня возложено, разочаровать тех, кто облек меня, кто честь оказал своим доверием и надеждою на мои возможности и силы…»
Те, кто оказал доверие Михоэлсу, в нем не ошиблись, Король еврейской сцены сыграл свою роль, стоящую «ста ролей», блестяще.
Тысячи простых американцев жертвовали свои средства на борьбу с фашистами. В конце 1943 года Михоэлс вернулся в Москву. Он много и подробно рассказывал о своей поездке, о жизни в США, Англии и других странах, где ему довелось побывать. Перечитал вопросы, на которые ему пришлось отвечать:
— Были ли вы в Сталинграде?
— Как воюют советские женщины?
— Верно ли, что немцы убивают детей?
— Пострадала ли Москва от бомбежек?
— Откуда Красная Армия черпает свои силы и мощь?
— Можно ли свободно молиться в СССР?
— Что такое «таран»?
— Имеют ли у вас все народы школы на своих языках?
— Имеют ли у вас негры такие же права, как все?
— Есть ли миллионеры в СССР?
Он рассказывал об укладе жизни в США и о существующем там антисемитизме, о многом просто предпочел умолчать. Но в своей статье «Одноэтажна ли Америка» (написанной совместно с И. Фефером) он сказал о главном:
«Пробыв в США свыше трех месяцев, посетив четырнадцать крупнейших городов, мы простились с американскими друзьями на банкете в гостинице „Коммодор“, где присутствовали около двух тысяч человек, представителей различных слоев населения. На этот банкет прибыли делегации из разных городов США, где мы побывали. И в выступлениях, и в приветственных телеграммах Альберта Эйнштейна, Чарли Чаплина, Лиона Фейхтвангера, Шолома Аша и многих других звучал призыв к максимальному напряжению сил для выигрыша не только антифашистской войны, но и антифашистского мира, звучал призыв к укреплению дружественных связей и в грозные дни войны, и в солнечные дни послевоенных бурь».
Михоэлс был искренним борцом против фашизма, и во время поездки по США не только не соглашался со своими собеседниками, даже если это были такие выдающиеся люди, как А. Эйнштейн, Ч. Чаплин, но вступал с ними в спор, переубеждал их:
— Вы, мистер Чаплин, не вполне правы. Если вы на протяжении фильма «Новые времена» изображаете человека, который несколько раз попадает в тюрьму и каждый раз не хочет выходить из тюрьмы на волю, потому что на воле страшнее, то как, по-вашему, это политика или нет? Если вы изображаете человека, у которого нет никаких дурных намерений, но который тем не менее через каждые сто метров пленки снова попадает в тюрьму, то, спрашивается, кто этот человек, окруженный со всех сторон пропастями? Что это — политика или нет? А если вы изображаете человека, который делает добро только в пьяном виде, а когда трезвеет, даже не помнит этого, это политика или нет? Это сплошная политика!
Возвратясь на Родину, Михоэлс продолжал активно работать в АЕК. Сотни просьб, писем по-прежнему шли к нему со всего мира.
В 1944 году профессор Ан из Оксфордского университета с благодарностью вспоминал о пребывании Михоэлса в Англии, о встречах с ним, приглашал приехать в Англию, «когда все мы одержим великую победу». Михоэлсу стали вверять тайны большой политики:
«Председателю Антифашистского комитета СССР товарищу Михоэлсу.
В ответ на Ваше письмо от 15.02. с. г. сообщаем, что с 17.02.44 Вам будет высылаться наш информационный бюллетень. Послать Вам бюллетень с 01.01.44 г., к сожалению, не сможем.
Обращаем Ваше внимание на то, что бюллетень не подлежит оглашению и должен храниться, согласно существующего положения, в документах Н. П. О.
Директор Научно-исследовательского института № 205 16.02.44 г. (Б. Теминдер)».
В апреле 1944 года состоялся Третий пленум Антифашистского еврейского комитета СССР. 2 апреля в Колонном зале Дома союзов состоялся созванный АЕК митинг представителей еврейского народа. Со вступительным словом на митинге выступил Михоэлс, после него выступали Герои Советского Союза Р. Мильнер («Убей немца, пока он не убил тебя») и Л. Бубер («Любовь к Родине и ненависть к фашистским палачам окрыляет нас в бою»), писатели И. Эренбург («Они отомстят за все. Горе тому, кто простит»), Л. Квитко («День гибели фашизма станет праздником для всего свободолюбивого человечества»), выступили также академик Л. Штерн («Красная Армия защищает науку всех свободолюбивых народов»), раввин Московской еврейской общины Ш. Шлиффер («Выполнять святой завет мести врагу!»).
Как обычно, на митинге было принято приветствие товарищу Сталину:
«Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы, представители еврейского народа, шлем Вам, родному отцу и вождю народов… наш пламенный привет и провозглашаем Вам нашу народную здравицу „Яшер-коах“… Плечом к плечу со всеми другими советскими народами, во главе с великим русским народом, в решающие бои за счастье Родины… идет и наш еврейский народ, полный энтузиазма и самоотверженности…
Народ, веками слывший „народом книги“, в грозные дни Великой Отечественной войны доказал, что в душе его все время жила и закалялась также сила меча, сила воинской доблести, как сказано в древней еврейской Агаде: „Свиток ниспослан был на землю, а меч был внутри его“» (эта фраза дана и на иврите, правда, написана русскими буквами, а вот что такое «Агада» вождю не разъяснили, видимо, пребывая в уверенности, что слово это ему знакомо!).
Среди подписавших обращение к Сталину немало и тех, кто в недалеком будущем будет казнен: Д. Бергельсон, И. Фефер, Л. Квитко, П. Маркиш, Б. Шимелиович, В. Зускин, С. Спивак; умер в тюрьме, не дожив до приговора, И. Добрушин, по нескольку лет провели в заточении Л. Штерн, С. Галкин, Ф. Эрмлер. Но первой жертвой был председатель АЕК Соломон Михоэлс. Процитируем еще один фрагмент из этого послания: «…Примите, дорогой Иосиф Виссарионович, чувства глубочайшей любви и благодарности еврейского народа, который в Советском Союзе возродился к новой свободной жизни, обрел неограниченные возможности для развития своей национальной культуры и строительства своей советской государственности как полноправный член великой семьи братских народов…»
На этом пленуме АЕК были подведены некоторые итоги миссии Михоэлса в США, Англии, Канаде и Мексике. Вот несколько примеров: в США комитетом помощи России в войне собрано 16 миллионов долларов; в Чикаго собран 1 миллион комплектов одежды, 100 тысяч часов для воинов Красной Армии. В докладе ответственного секретаря АЕК Ш. Эпштейна отмечалось, что «самым важным событием в деле помощи эвакуированному населению СССР является успешный исход переговоров тт. Михоэлса и Фефера с „Джойнтом“, который приступил к осуществлению своего решения о помощи эвакуированному населению без различия национальностей через Красный Крест. По полученным сведениям, „Джойнт“ для этой цели выделил на 1944 год несколько миллионов долларов». (Напомним, что в январе 1953 года Михоэлса в газете «Правда» назовут «известным буржуазным националистом… членом международной сионистской организации „Джойнт“».)
Большую поддержку Красной армии оказал Фонд помощи России в войне имени госпожи Черчилль (15 миллионов долларов).
«Палестина собрала около 750 тысяч долларов и отправила в Советский Союз несколько прекрасно оборудованных амбулаторий, а также транспорты с ценными медикаментами для Красной Армии» (Еврейский народ в борьбе против фашизма. М.: ОГИЗ, 1945).
Один миллион долларов был собран для Красной армии в Мексике.
Не менее значительным, чем экономический, был политический итог: миллионы американцев требовали открытия второго фронта. Михоэлс не добился бы такого результата, если бы не был искренне убежден в великой правоте своей миссии. Ему верили все. Учительница американской школы писала ему: «Мой дорогой профессор Михоэлс, эти письма, написанные девочками моего класса, красноречиво говорят о том влиянии, которое произвело на них Ваше выступление в Таун Холле (ратуше. — М. Г.). Возможно, Вам будет интересно узнать, что в этой маленькой группе были девочки негритянского, пуэрториканского, польского, еврейского и итальянского происхождения.
Я очень счастлива сообщить Вам, что их интерес к детскому дому „Серебряные пруды“ под Сталинградом очень серьезен. Разрешите мне присовокупить мою собственную благодарность за то вдохновение, которое вселила в меня Ваша блестящая речь. Ваша Сара Корнис».
Из писем американских школьниц: «Отныне я буду стараться делать все, что в моих силах, чтобы помогать через комитет „Серебряные пруды“ детям России» (Дороханна Мазопуст).
«Ваша речь была очень волнующей, и хотя мне не довелось быть лично с Вами знакомой, я испытываю такое чувство, будто Вы мой близкий друг. Пожалуйста, передайте детям России, что дети Америки полностью осознают, какие страдания приходится переносить детям России, и что мы с ними в их борьбе с фашизмом» (Элли Лебран).
«Мне посчастливилось присутствовать на русском фестивале в Таун Холле, где Вы были почетным гостем. Мне чрезвычайно понравился Ваш рассказ о героическом народе России. Меня потрясли рассказы о Зое Космодемьянской… Я слышала, что Вы скоро возвращаетесь в Россию. Я искренне надеюсь, что Бог поможет Вам благополучно вернуться домой, где вы будете бороться за свободу и создание такого мира, в котором Бог хотел бы видеть своих детей» (Флоренс Кричлоу).
«Пока у нас есть воля и способности бороться, мы будем помогать Вам бороться за свободу и мир. Следует напомнить о том, что дети Америки едины в этом стремлении. Разрешите мне так же считать себя Вашим другом. Я надеюсь, Вы вскоре вновь приедете в Америку» (Айрани Чекера).
Третий пленум АЕК получил большой политический резонанс. Приветствия в адрес пленума прислали Альберт Эйнштейн, Шолом Аш: «Американские евреи горды героической борьбой своих братьев в СССР, которые рука об руку со всеми советскими народами борются против общего врага — нацизма…» Розенберг: «По случаю вашего третьего митинга и Третьего пленума шлю свой привет и обязуюсь напрячь все силы к ускорению победы и оказанию помощи жертвам фашистских захватчиков». Быть может, самым примечательным было приветствие председателя Американского всеславянского конгресса Кржицкого: «Мы уверены, что решения вашего пленума помогут укреплению дружбы и единства между США, СССР и остальными объединенными нациями… Вперед к победе в 1944 году!»
С годами вопросы, связанные с миссией Михоэлса и Фефера в США, не получили четких ответов. Если раньше можно было лишь предполагать о политической и дипломатической направленности этой миссии, то после опубликования книги «Неправедный суд (последний сталинский расстрел)» можно утверждать, что именно эти направления были главенствующими. И, конечно, не только Лозовский направлял действия еврейских миссионеров от СССР. Более всего идеология определялась не в Совинформбюро. Сейчас доподлинно известно, что Михоэлс и Фефер встречались с Вейцманом, в ту пору — лидером мирового сионизма, человеком влиятельным в политике США и Великобритании. И это при том, что, согласно официальной версии, встречи с политическими деятелями в программу поездки не входили. Предполагались встречи с финансовыми магнатами, руководителями прессы, но не с политиками, во всяком случае сионистского толка. Инициатива встречи Михоэлса и Фефера с Вейцманом исходила от последнего. Разумеется, о ней доложили Громыко, который был послом СССР в США. «Громыко вызвал Михоэлса в Вашингтон и сказал, что есть указание встречаться с Вейцманом, хотя разрешение из Москвы было получено две недели спустя после встречи с Вейцманом», — говорил Фефер на суде. На самом деле в этом много неясного. Во-первых, не мог молодой, недавно назначенный посол, человек крайне осторожный, Андрей Андреевич Громыко дать добро на разрешение встречи Михоэлса и Вейцмана без согласия по крайней мере главы МИДа В. М. Молотова. Во-вторых, Громыко знал, что Михоэлс приехал не один, однако пригласил его на беседу без Фефера, полагая, видимо, что можно решить этот вопрос без ведомства, с которым сотрудничал И. Фефер, человек, в юности «прикоснувшийся» к Бунду, а позже причастный к троцкизму. Фефер стал легкой «добычей» Лубянки задолго до поездки в США. Писатель Варлен Стронгин, сын бывшего директора издательства «Дер Эмес» Л. И. Стронгина, человека, по долгу службы связанного с деятельностью АЕК, пишет в своей повести «Обреченный Михоэлс»: «…Первые данные о создаваемой американцами атомной бомбе привез из Америки в 1943 году… И. Фефер… Он заявил (на суде — 16 июня 1952 г. — М. Г.), что сразу же по прибытии в США был вызван представителем КГБ при советском посольстве Скрябиным… Известно другое — Михоэлс в посольство к генералу Скрябину не вызывался…» На одном из допросов в суде Ицик Фефер скажет: «С Вейцманом мы недолго беседовали, встречались мы с ним один раз, он интересовался отношением евреев Советского Союза к сионизму. Мы сказали, что советские евреи в Палестину не поедут… Вейцман просил нас об одном, если у нас будет встреча с представителями советского правительства, сказать, что если в Палестине будет создано еврейское государство, а не арабское, то оно никогда никаких вражеских выступлений против Советского Союза не допустит. Материалов мы никаких Вейцману не давали».
В этой связи становится яснее, почему СССР так активно поддержал в ООН создание на территории Палестины еврейского государства. И конечно же не случайны трогательные слова Громыко (под ними мог бы расписаться любой истинный сионист), произнесенные им в ООН 27 декабря 1947 года при обсуждении вопроса о создании государства Израиль: «Это решение отвечает законным требованиям еврейской нации, сотни тысяч представителей которой до сих пор не имеют ни земли, ни дома…» Уместно напомнить, что против создания государства Израиль выступали не только арабские страны, но и ряд европейских государств.
Политические вопросы во время пребывания Михоэлса и Фефера в США решались и обсуждались даже тогда, когда речь шла о чисто экономических делах. В официальных установках, данных Михоэлсу и Феферу, рекомендовалось встречаться лишь с теми организациями, которые будут оказывать эту помощь без политической подоплеки. И с этой точки зрения встреча с руководителями «Джойнта», видимо, в Москве не предусматривалась. Но финансовые проблемы могут изменить многое. В своем выступлении на третьем пленуме АЕК в апреле 1944 года И. Фефер сказал: «Мы рады сообщить вам о том, что наши переговоры с руководителями „Джойнта“, господами Полем Бертольдом, Деймсом Розенбергом… увенчались успехом, что, несомненно, приведет к новому подъему в смысле более активного участия наших зарубежных братьев и сестер в этой беспримерной войне, а также в смысле нашего дальнейшего сотрудничества и в послевоенные годы». В конце выступления И. Фефер заверил участников пленума в том, что «наши братья и сестры, живущие в США, Англии… готовы объединить с нами усилия не только в героические дни борьбы против заклятого врага, но и в дни, когда мы будем залечивать свои раны, продолжая строительство нашей общей культуры». Длинную, любопытную и оптимистическую речь произнес в тот день И. Фефер. На суде он вспомнил совсем другие фрагменты из беседы с Розенбергом: «Розенберг в одном из переговоров заявил, что „вы все требуете, а сами ничего не делаете, вот если вам удастся поставить вопрос о заселении Крыма евреями, мы будем вам оказывать материальную помощь“. Он сказал, что „…Крым интересует нас не только как евреев, но и как американцев, поскольку Крым — это Черное море, Балканы и Турция“. Относительно превращения Крыма в плацдарм прямого разговора не было. Не пройдет и десяти лет после этой встречи, и в приговоре суда по делу АЕК это станет едва ли не самым главным обвинением: „Розенберг потребовал от Михоэлса и Фефера взамен оказания материальной помощи добиться у Советского правительства заселения евреями Крыма, создания там Еврейской республики…“» Эти обвинения были не совсем голословными. Сегодня уже известен текст письма, адресованного Председателю Совета Народных Комиссаров Сталину и подписанного 15 февраля 1944 года С. Михоэлсом, Ш. Эпштейном, И. Фефером. Вот это письмо:
«ЕВРЕЙСКИЙ АНТИФАШИСТСКИЙ КОМИТЕТ СССР
г. Москва, ул. Кропоткинская, 10
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР товарищу СТАЛИНУ И. В.
Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!
В ходе Отечественной войны возник ряд вопросов, связанных с жизнью и устройством еврейских масс Советского Союза. До войны в СССР было до пяти миллионов евреев, в том числе в западных областях Украины, Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии, Буковины, а также из Польши. Возвращение еврейского населения, эвакуированного в глубь страны, в места их прежнего проживания не разрешит в полном объеме проблему устройства еврейского населения в СССР в послевоенный период.
Необходимо признать, что опыт Биробиджана вследствие ряда причин, в первую очередь недостаточной мобилизованности всех возможностей, а также ввиду крайней его отдаленности от места нахождения основных еврейских масс, не дал должного эффекта. Но невзирая на все трудности, еврейская автономная область стала одной из самых передовых областей в Дальневосточном крае, что доказывает способность еврейских масс строить советскую государственность. Еще более эта способность проявлена в развитии созданных национальных еврейских районов в Крыму.
В силу вышеизложенного мы считали бы целесообразным создание еврейской советской республики в одной из областей, где это по политическим причинам возможно. Нам кажется, что одной из наиболее подходящих областей явилась бы территория Крыма, которая в наибольшей степени соответствует требованиям как в отношении вместительности для переселения, так и вследствие успешного опыта развития там еврейских районов.
Создание еврейской советской республики раз навсегда разрешило бы по-большевистски, в духе ленинско-сталинской национальной политики, проблему государственно-правового положения еврейского народа и дальнейшего развития его вековой культуры. Эту проблему никто не в состоянии был разрешить на протяжении многих столетий, и она может быть разрешена только в нашей великой социалистической стране.
Такое решение проблемы перестало бы давать пищу различным сионистским козням о возможности разрешения „еврейского вопроса“ только в Палестине, которая будто бы является единственно подходящей страной для еврейской государственности.
Идея создания еврейской советской республики пользуется исключительной популярностью среди широчайших еврейских масс Советского Союза и среди лучших представителей братских народов.
В строительстве еврейской советской республики оказали бы нам неоценимую помощь и еврейские народные массы всех стран мира, где бы они ни находились.
…Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем:
1. Создать еврейскую советскую социалистическую республику на территории Крыма.
2. Заблаговременно, до освобождения Крыма, создать правительственную комиссию с целью разработки этого вопроса.
Надеемся, что Вы уделите должное внимание этому вопросу, от которого зависит судьба целого народа.
Председатель президиума Еврейского антифашистского комитета СССР С. МИХОЭЛС
Ответственный секретарь Ш. ЭПШТЕЙН
Заместитель председателя президиума И. ФЕФЕР
15 февраля 1944 г. г. Москва»
Все добрые деяния Михоэлса и Фефера в США на суде над АЕК превратились в обвинения. И встреча с Хаимом Вейцманом — тем более. «Находясь в США, Михоэлс и Фефер установили (так сами и установили! — М. Г.) связь с представителями еврейских националистов, с лидером сионистов Вейцманом и другими, которым сообщили ряд клеветнических сведений о положении евреев в СССР».
Вот рассказ об этой встрече Натальи Соломоновны Михоэлс: «Однажды, когда Михоэлс остался один, так как Фефер отправился на какое-то выступление (даже в госпитале Фефер норовил за ним приглядывать)…, Вейцман приехал за Михоэлсом и, заплатив дежурной, выкрал его на целую ночь… В начале вечера он был очень напряжен, мало говорил, видимо опасался, что его исчезновение может быть обнаружено, но постепенно как-то отошел, успокоился, и у них состоялся весьма знаменательный разговор. Во время этой встречи Михоэлс произнес фразу, которая может показаться крамольной: „У еврейской культуры в России нет будущего. Сейчас нелегко, но будет еще хуже. Мне многое известно, а еще больше я предвижу…“ Наутро похищенный был доставлен обратно в больницу. Разумеется, об этом эпизоде отец умолчал, зато он подробно рассказал, как пришли его навестить в госпитале несколько русских князей…»
Но ничто уже не могло остановить исполнителей злой воли вождя народов, среди которых было немало евреев. Обвиняемых Гольдштейна и Шимелиовича допрашивали и пытали Шварцман, Броверман, Райхман — не только Рюмин, Комаров, Гришаев…
4 апреля 1952 года в МГБ стало известно, что Политбюро, ознакомившись с обвинительным заключением следствия, приняло решение о расстреле всех обвиняемых. Исключение сделали лишь для Лины Штерн, которую осудили на длительную ссылку.
На следующий день, то есть 5 апреля, генерал Китаев, заместитель главного прокурора Красной армии, утвердил обвинительное заключение, вот его резолюция: «Дело направить на рассмотрение Военной Коллегии Верховного Суда СССР без обвинения и защиты». Кратко. Четко. Решительно. Такие они, сталинские орлы.
Во времена советской власти могущественная коммунистическая пропаганда внушала нам мысль о жестокости, несправедливости царского суда. В этой связи мне хочется процитировать воспоминания Александра Федоровича Керенского о «деле Бейлиса»: «23 октября 1913 года, за пять дней до того, как присяжные признали Менделя Бейлиса невиновным в совершении преступления, Коллегия адвокатов Санкт-Петербурга единогласно приняла следующую резолюцию: „Пленарное заседание… считает своим профессиональным и гражданским долгом поднять голос протеста против нарушения основ правосудия, выразившегося в фабрикации процесса Бейлиса, против клеветнических нападок на еврейский народ… Такое грубое попрание основ человеческого сообщества унижает и бесчестит Россию в глазах всего мира, и мы поднимаем наш голос в защиту чести и достоинства России“». Через пятьдесят лет в России не нашлось людей, которые выступили бы за ее честь и достоинство.
Вернемся к третьему пленуму АЕК, который стал для этой организации трагическим шагом в пропасть. Михоэлс в своем докладе поведал о том, как ему удалось убедить «генералов» из «Джойнта», что помощь этой организации, оказывающей помощь лишь евреям, в данном случае должна распределяться «эвакуированному населению СССР без разницы национальности». Как мы помним, 13 января 1953 года в газете «Правда» Михоэлса назвали «агентом „Джойнта“», буржуазным еврейским националистом, организатором и вдохновителем «убийц в белых халатах». И еще из выступления Михоэлса: «Дружба народов стала положительным идеалом антифашистского знамени». Слова эти истолковывались теми, кто следил за работой третьего пленума АЕК, вовсе не как синоним фразы «За столом никто у нас не лишний». Но самую опасную фразу Михоэлс произнес в конце своей речи, перед здравицей великому вождю: «Лозунги единения и дружбы начинают претворяться в дело, что получило отражение в постановлении „Джойнта“ или в выступлении раввина Герца». Этой фразой, сам того не предполагая, Михоэлс вынес приговор и себе, и АЕК.
Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать.
После очередного просмотра спектакля «Фрейлехс» великая Галина Уланова сказала: «Этот спектакль — шедевр гармонии и ритма».
Михоэлс слыл этаким Донжуаном. Действительно, в него влюблялись, его любили многие женщины.
Из рассказа Е. М. Абдуловой: «Я была свидетелем разговора Фаины Наумовны и Анастасии Павловны:
— Как Вы все это терпите, графиня? Я сижу у вас десять минут, а уже было сто звонков, и все — от женщин.
— Никогда ни к кому не ревновала, кроме Улановой: он не умел, даже не пытался скрыть свою влюбленность в нее. Когда в 1940 году он выступал с речью в Комитете по сталинским премиям, доказывая, что Уланова достойна этой награды, многие были против. Но он так сказал о ней, о ее искусстве, что премию ей присудили».
Вот отрывок из этого выступления Михоэлса 24 ноября 1940 года:
«Уланова — это болезнь моей души. Не могу о ней говорить спокойно. Дело не в том, что она неповторима. Конечно, она неповторима. Но я бы сказал, что она — божественна.
Уланова мне напомнила Комиссаржевскую. А что было в ней? Выходил человек на сцену, не произнося еще ни единого слова. Но вы сразу же ощущали появление целого мира.
Я не случайно говорю, что она божественна. После „Ромео и Джульетты“ в зале осталась даже, так называемая „галошная“ часть публики, — осталась та публика, которая обычно, не дожидаясь конца, бежит к вешалке. Есть предел аплодисментам и вызовам, можно вызвать десять-двенадцать раз. Но нет, ее вызывали без конца. В чем дело? От того ли, что хотелось высказать ей свою благодарность? Нет, хотелось лишний раз посмотреть на Уланову. Вот впечатление, которое она произвела.
Станцевать Шекспира и так, чтобы об этом потом говорили, что это действительно шекспировский образ, что такой Джульетты не было даже в драме, — значит открыть новую страницу балетного искусства. Это и сделала Уланова».
Еще в трагически тревожном сорок первом году, зимой, в гостинице «Москва», Михоэлс сказал писателю В. Лидину: «Когда снова откроются театры, надо будет начать с чего-нибудь шумного, веселого, чтобы люди встряхнулись. Довольно этого мрака».
О постановке «веселого» спектакля, совсем другого, чем те, которые ставились в ГОСЕТе в начале двадцатых годов, Михоэлс мечтал давно. Если бы не война, он бы, наверное, поставил такой спектакль, как потомок хасидов, помня слова Бешта: «Кто живет в радости, выполняет волю Создателя».
Надо сказать, что идея постановки «веселого» спектакля не всеми была принята восторженно. Можно ли говорить о веселье, когда земля еще стонет от бабьих яров, от печей Освенцима, и хотя сценарий «веселого» спектакля «Фрейлехс» был готов (его написал ученик Михоэлса Леонид Окунь), приступить к его постановке было непросто. Во всех театрах, в том числе и в ГОСЕТе, ставились спектакли на военную тематику. В ГОСЕТе шли «Восстание в гетто» Переца Маркиша, «Леса шумят» А. Брата и Г. Лынькова. А в это время Михоэлс уже мечтал о двух непохожих, даже противоположных спектаклях. Это «Принц Реубейни» и «Фрейлехс». Сценарий «Фрейлехса» был уже готов, и Михоэлс тайно договорился с Пульвером. Партийному функционеру, еврею по национальности, настоятельно рекомендовавшему Михоэлсу не ставить веселый спектакль в такое трудное время, он ответил словами Шолом-Алейхема: «Смеяться полезно». Партийный функционер фыркнул: «У вас же не местечковый театр, а еврейский государственный». Михоэлс промолчал, а придя домой, рассказал об этом Анастасии Павловне. Она ему напомнила слова И. Бабеля: «У каждого глупца хватает причин для уныния, и только мудрец разрывает смехом завесу бытия».
Немногие в Москве знали, что спектакль «Фрейлехс» в тяжелые военные годы был поставлен Вениамином Зускиным в Ташкенте. Конечно, это был совсем не тот спектакль, который увидели зрители в театре на Малой Бронной. И хотя в нем все было, по существу, сделано сызнова, ташкентские спектакли «Фрейлехса» не прошли бесследно, и свою первую репетицию Михоэлс начал с пословицы, как он нередко это делал: «Плакаться нужно перед Богом, а перед людьми — смеяться».
Михоэлс понимал, что память людская, и актеров театра в том числе, еще переполнена горькими воспоминаниями о недавно закончившейся войне. Каждый второй еврей СССР погиб в годы Великой Отечественной войны. Освенцим, Майданек, гетто на территории Украины и Белоруссии унесли жизни шести миллионов евреев, и эту трагедию по-настоящему понять могли только те, кто все это пережил. С этой точки зрения в будущем спектакле зрители и актеры были едины. О многом хотел Михоэлс напомнить своим спектаклем. В гетто расстреливали стариков — хранителей вековой мудрости еврейского народа; детей — наследников, надежду, будущее. Простить? Забыть? Горькая память о прошедшей войне стала для евреев СССР не только «Черной книгой», но и самой жизнью. Знаток Священного Писания, Соломон Михоэлс всегда помнил слова из Второзакония: «Только берегись… чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и поведай о них сынам твоим…» Он понимал, что в заповеди этой историческое таинство судьбы еврейства.
Убеждать зрителей в том, что самое страшное позади, нечестно и негуманно. Никогда нельзя думать, что существует простой путь положить конец горьким воспоминаниям, так же как невозможно простить людскую ненависть, злодеяния. Но вера в то, что надежда жива, пока жива память человека, должна оставаться в людях. Вот почему так вдохновенно работал Михоэлс над постановкой «Фрейлехса».
«Фрейлехс» — не только свадьба… В начале спектакля звучал кадиш, вечный кадиш, сопровождающий евреев в течение многовековой истории. «Фрейлехс» — спектакль с трагедийными мелодиями, но трагедия даже целого поколения не должна, не может остановить жизнь: извечная библейская мысль о любви к жизни пронизывает весь спектакль. Обряд поминания и замечательно показанное свадебное торжество в спектакле естественно сочетаются; в нем органически уживаются танец бывшего рекрута царской армии, рассказавший зрителям об изуродованных судьбах тысяч юношей черты оседлости, и виртуозно исполненный народный танец фрейлехс. «Нужно, чтобы весь человек пел, тогда заиграет скрипка», — говорит на свадьбе бадхен.
Первоначально Михоэлс выстраивал «Фрейлехс» иначе. Вот заметки из архива:
«I. Общий вихревой танец.
Музыка доносится как бы издалека, постепенно притихающая. Появляются мелькающие вдали фигуры, которые постепенно занимают арьерсцену, а потом подвигаются на авансцену. Темпы растут, и музыка ширится.
В момент, когда музыка и танец достигли… бадхен, реб Екл как бы загораживает общее движение собой. Платком он загораживает занавес. Музыка обрывается. Реб Екл один на сцене.
II. Остановись, мгновение, ты прекрасно.
Дай запомнить мне пляс отцов и матерей. Танец — это разговор».
Тема скрипки, еврейской скрипки, звучит в спектакле постоянно, ибо этот тончайший инструмент может прочувствовать только человек, познавший многовековую грусть народа, грусть, ставшую естеством. Люди, недавно пережившие Катастрофу, поняли глубокий гуманный смысл спектакля, зал театра в течение сезона 1945/46 года снова был переполнен, как в лучшие времена.
Один из зрителей, Г. Гольденберг, написал в письме Михоэлсу 2 апреля 1946 года: «Меня угнетала мысль, что будет с нашим народом, — сумеет ли он вынести муки пережитого, воскреснет ли он вновь, как в те далекие годы, когда полчища Тита разрушили Храм Соломона — или не хватит сил больше, и усилится процесс ассимиляции. И я сижу в театре, в нашем родном театре. И на своем родном языке слушаю призыв, и каждый в зале говорит то же самое: „Не будем стесняться своей крови“. Больше того, в нашей стране мы, евреи, не бедные родственники. В этот момент крепло убеждение — жил, живет и вечно будет жить Израиль. И на глазах появляются слезы. Это не слезы горя, а радости, Гитлер пропал без вести, Геббельса нет в живых… но яд их продолжает действовать…»
Немного раньше Д. А. Драгунский писал Михоэлсу о том, что Антифашистский еврейский комитет должен уделить больше внимания увековечению памяти евреев, погибших в годы войны: «Мне кажется, что эти мероприятия явятся фактором, ослабляющим отдельные моменты антисемитизма, внедренные геббельсовской пропагандой в дни оккупации. Поставьте этот вопрос перед соответствующими организациями. В этом деле обязуюсь оказать всяческую поддержку. С приветом, уважающий Вас дважды Герой Советского Союза полковник Драгунский».
Следует заметить, что, став в 80-е годы во главе Антисионистского комитета, Д. А. Драгунский словно забыл о своих словах, написанных после войны, и уж менее всего склонен был признать причастность сионизма к национально-освободительному движению в Палестине. Скорее наоборот. Он разделял мнение тех, кто отождествлял сионизм с фашизмом. Можно было бы сказать по этому поводу: «Генералу — виднее», но среди оппонентов Давида Абрамовича оказался даже Мейер Вильнер, генеральный секретарь коммунистической партии Израиля, который в своей статье в «Литературной газете» (декабрь 1989 года) заявил: «Я не считаю, что сионизм — это фашизм».
Сотни писем, полных благодарности и восторга, получал Михоэлс в те годы. Люди писали ему о своей жизни, обращались с самыми различными просьбами, просили приехать к ним в Бердичев, Винницу, Шполу, Бершадь и показать «Фрейлехс» у них в местечке, чтобы все оставшиеся в живых посмотрели этот «спектакль о человеческом сердце, впитавшем в себя события разных времен, события большой жизни…». Все они были наслышаны о «Фрейлехсе», спектакле «о неугасимой душе, неиссякаемой воле к счастью, о мечте человеческой и народной» (Ю. Головащенко).
5 июня 1946 года за постановку «Фрейлехса» Михоэлсу была присуждена Сталинская премия.
Здесь уместно вспомнить два эпизода, ярко характеризующих Михоэлса тех лет. Михоэлс был выдвинут на соискание премии еще в 1945 году. Но тогда возникла еще одна кандидатура — А. М. Бучмы за исполнение роли Задорожного в «Украденном счастье». Михоэлс как член Комитета по сталинским премиям ратовал за присуждение премии Бучме, даже «показывал» куски из спектакля, и премию Бучме присудили. Таков был человеческий дар Михоэлса.
Второй эпизод имел место на заседании Комитета по сталинским премиям незадолго до присуждения ее Михоэлсу. Приводим отрывок из стенограммы:
«
В словах Михоэлса не было и тени ложной скромности, кокетства тем более. Вполне вероятно, что он любил награды, успел привыкнуть к почестям, но понимал, какова может быть расплата.
7 января 1949 года, выйдя из комнаты и прощаясь с Анастасией Павловной, суеверный Соломон Михайлович, не решившись вернуться, сказал: «Запиши, Асенька, мой маленький рассказ „Скрипка“; я хотел его поместить в сценарий „Фрейлехса“, но не успел, а сейчас боюсь, что не сумею рассказать никогда».
Вот этот рассказ.
«Бывало так, что в жизни накопится столько, что словом не выскажешь, тогда и появилась песня. А уж если и голос не выскажет всего, тогда человек обращается к ней, к скрипке.
Древнейший виртуоз с весьма неважным социальным положением, прямо скажем, подмоченным, царь Давид, к ней обратился, на ней псалмы слагал, Всевышнему похвалы посылал, на ней песню любви сложил и послал эту песню прелестной Батшеве. Он-то и открыл нам секрет своего искусства, он-то и утверждал, что когда он песню слагает на скрипке, все кости его разговаривают.
Нет нужды в костях сегодня! Печи Майданека и Треблинки их создали вдоволь. Если эти кости заговорят, скрипок на свете не хватит.
Можно сыграть образ молчаливого человека. Человека, который всегда молчит. Если он и может говорить, то разве только петь скрипкой.
Женщина, зовущая к жизни, и женщина его мечты встречаются на его пути. Он безумно любит и тянется к первой, а второй говорит: „Говорить не могу и играть не могу, все загрязнено на пути, чистым остался только снег“. И женщина мечты ответила: „Тогда играй снег“. Но снег играть не пришлось. Позвали играть на свадьбу. И скрипка была настроена, и песня была готова. Но, придя на свадьбу, он увидел невестой другого ту женщину, которую любил и к которой тянулся…
И скрипка была разбита: „Надоело играть на чужих свадьбах! На своей играть хочу, а своей свадьбы нет!“
И народу надоело играть на чужих свадьбах. Только надо ли разбивать скрипку?..»
Однажды эту притчу он уже читал Елизавете Моисеевне Абдуловой в Ташкенте. Со свойственным ей оптимизмом она сказала: «У нас, Соломон Михайлович, еще будут свои свадьбы».
В журнале «Театр» (1946. № 9) опубликована речь Михоэлса по поводу постановления ЦК ВКП(б) о фильме «Большая жизнь». На каком-то высоком совещании по идеологическим вопросам он выступил после Храпченко, тогдашнего «командира» в вопросах искусства, и Фадеева, «вождя» писателей. Возможно, это была очередная «дань» за будущий спектакль.
В те же дни он выступал и перед актерами своего театра — читал им новую пьесу Д. Бергельсона «Принц Реубейни».
Почему перед отъездом в Минск Михоэлс навещал, звонил давним друзьям, с которыми подолгу не встречался… Вопросительный знак снял в своей статье «Посмертная автокатастрофа» журналист Евгений Жирнов: «Обласканный советским государством артист не мог не чувствовать, что его затягивает водоворот какой-то странной кремлевской интриги. А уж то, что убийцы с Лубянки ходят за ним по пятам, Михоэлс знал совершенно точно».
Одним из самых близких друзей Михоэлса был академик Капица.
Из воспоминаний А. П. Потоцкой: «Перед самым отъездом в Минск, в январе 48-го года, неизвестно почему, без всякого предлога Михоэлс позвонил Петру Леонидовичу по телефону и сказал ему свои последние приветственные слова. Повторяю: без всякого предлога и повода.
Может быть, просто Михоэлс не мог выбрать другой формы оплатить свой долг — не состоявшийся на русском языке спектакль „Гамлет“ — и выразить неиссякающее уважение, теплоту и восторженный интерес к тому, чем живет и над чем работает Петр Леонидович…
Вспоминается заздравный тост Михоэлса за Петра Леонидовича Капицу на банкете в честь его пятидесятилетия. Соломон Михайлович поднял бокал и сказал: „Дорогой Петр Леонидович! Моя жена всегда говорит…“ Здесь он сделал паузу, от которой у меня побежали мурашки, физик справа налил рюмочку водки, а физик слева — бокал белого вина…
„Так вот, — продолжал удовлетворенный всем этим Михоэлс, — моя жена говорит, что никогда не надо пить всю рюмку разом. Если пить ее глотками, то в одной рюмке можно уложить несколько тостов. Поэтому разрешите мне разделить этот бокал на три глотка и три тоста…
Я никогда не забуду ваше замечательное выступление на антифашистском митинге, бесконечно перед вами в долгу, и хотя я немало приложил сил для того, чтобы развеять версию о том, что вы — еврей, и добился этой цели, остаюсь вашим должником. Счет, предъявленный вами, — спектакль „Гамлет“ на русском языке — оплачу!
Второй мой тост… Дорогой Петр Леонидович! По опыту своему говорю вам: из-за пятидесяти лет не грустите! Выпьем лучше за то, что настоящая молодость приходит с годами.
И, наконец, третий мой глоток-просьба!.. Пожалуйста, создавайте тяжелую воду, переводите жидкость в газ, в твердое тело, во что хотите, только оставьте нам нормальные спиртные напитки!“»
Когда в середине 30-х годов Соломон Михайлович и Анастасия Павловна поселились в большой комнате на первом этаже старого дома на Тверском бульваре — Михоэлс уважительно называл ее «кабинетом», а хозяйка дома бесцеремонно окрестила «книгоплощадью» — Петр Леонидович Капица, недавно вернувшийся из Англии, стал наряду с А. А. Вишневским, Л. С. Штерн, академиком Тарле, Браунштейном частым гостем Михоэлсов. («…Талантливые люди самых разных профессий, разного возраста всегда тянутся друг к другу», — заметила в своих воспоминаниях А. П. Потоцкая.)
Когда перед роковой поездкой в Минск, прощаясь с близкими людьми и сотрудниками в театре, Соломон Михайлович позвонил Петру Леонидовичу, звонок этот несколько озадачил Капицу, особенно когда он узнал, что Михоэлс уезжает ненадолго. Он думал, что Соломон Михайлович звонит, чтобы пригласить его в гости. А тут вдруг: «…скоро приеду, Гамлет — за мной».
13 января 1978 года Петр Леонидович со своей женой Анной Михайловной пришел к Анастасии Павловне в ее «купе» — маленькую комнатку в доме на Ленинском проспекте. В тот день исполнилось тридцать лет со дня гибели Михоэлса. Капицы и Потоцкая долго беседовали, вспоминали друзей, общих знакомых, юбилеи. Кроме Петра Леонидовича и его жены к Анастасии Павловне никто в тот день не пришел. Звонили, правда, многие.
Среди близких друзей Михоэлса был поэт Самуил Яковлевич Маршак. 14 ноября 1947 года в Колонном зале помпезно отмечалось шестидесятилетие Маршака. Председательствовал на вечере Фадеев, что свидетельствует о степени значимости события. Выступил на нем и Михоэлс. Он со свойственным ему юмором выразил сожаление по поводу того, что для ГОСЕТа Маршак еще ничего не создал. Вот цитата из его выступления: «Самуила Яковлевича называют здесь детским писателем, поэтом, драматургом, переводчиком. Я думаю, у него есть еще более общее качество и более высокое. О царе Соломоне (да простит мне Самуил Яковлевич это сравнение), которого, однако, называли мудрецом, несмотря на то, что он был царем, говорят, он был знатоком семидесяти языков. Он знал все языки мира. Кроме того, он знал язык птиц, язык зверей, язык животных. Нет, Маршак не переводчик — Маршак знаток языков. Мало того, что он знает свой русский язык, знает английский язык, французский язык, блестяще владеет ими, — он еще знает язык детей, знает язык советских детей и умеет разговаривать с врагами нашей Родины, умеет остро оттачивать слово, как стрелу».
Михоэлс звонил Маршаку в новогоднюю ночь 1948 года. Самуил Яковлевич тогда был в больнице, и свои поздравления и объяснения в любви Соломон Михайлович передал через Иммануэля Самойловича — сына поэта. Уже спустя время, когда погиб Михоэлс и Маршак узнал об этом звонке в новогоднюю ночь, он с обидой в голосе сказал сыну: «Элик, почему ты не дал ему мой больничный номер телефона?!»
Вскоре после гибели Михоэлса Маршак написал проникновенные стихи «Памяти Михоэлса»:
…Вот он лежит, неподвижный и суровый.
Но этой смерти верится с трудом!
Здесь много лет я знал его живого,
Но как переменился этот дом!
Не будь афиш, расклеенных у входа,
Никто бы стен знакомых не узнал.
Великая трагедия народа
Вошла без грима в театральный зал…
Ты, сочетавший мудрость с духом юным,
Читавший зорко книги и сердца, —
Борцом, актером, воином, трибуном
С народом вместе шел ты до конца…
Не на поминках скорбных, не на тризне
Мы воздаем любимому почет.
Как факел, ты пылал во славу жизни,
И этой жизни смерть не оборвет!
Когда готовился сборник воспоминаний о Михоэлсе, Анастасия Павловна обратилась к Самуилу Яковлевичу с просьбой, чтобы и он написал заметки об этой книге. Вот отрывок из его письма Анастасии Павловне: «Вы знаете, как глубоко я чту Соломона Михайловича — великого художника, истинного поэта и безупречного, с большой буквы человека. Мы с ним нежно любили друг друга, радовались друг другу и находили общий язык, но встречались мы, к сожалению, мало и редко — ведь времена-то были какие! — и поэтому деталей, необходимых для того, чтобы не ограничиваться в воспоминаниях чувствами, у меня мало. Да и чувства, связанные с его прекрасной жизнью и трагическим концом этой жизни, не так-то легко еще предать тиснению. А писать общо, отвлеченно я не умею. Все же, как я сказал уже в этом письме, постараюсь…»
Сделать этого Самуил Яковлевич не успел. Письмо написано в Ялте 27 июля 1963 года. Самуил Яковлевич в ту пору был уже тяжело болен. 4 июля следующего года он умер.
О великих актерах, Соломоне Михайловиче Михоэлсе и Фаине Георгиевне Раневской, написано немало статей, книг. И все же есть малоизвестная общая страница их биографий, оставшаяся за пределами исследований и публикаций — дружба этих двух замечательных людей. Дружба не в том общепринятом понятии, которое сводится к частым встречам, постоянному общению, беседам… Скорее, это была та редкая истинная дружба, которая возникает между людьми, на первый взгляд далекими друг от друга и по образу жизни, и по ее восприятию, но в основе которой таится что-то непостижимое, позволяющее скрашивать горести и умножать радости.
«Дорогой, любимый Соломон Михайлович! Очень огорчает Ваше нездоровье. Всем сердцем хочу, чтобы вы скорее оправились от болезни, мне знакомой… Мечтаю о дне, когда смогу Вас увидеть, услышать, хотя и боюсь докучать моей любовью. Обнимаю Вас и милую Анастасию Павловну. Душевно Ваша Раневская».
Ниже я приведу еще один отрывок из этого письма, написанного в 1944 году. Пока же хочу рассказать о другом.
В марте 1965 года в ВТО был проведен вечер, посвященный 75-летию Михоэлса. Это был особый вечер и по содержанию (достаточно сказать, что на нем выступили Ю. А. Завадский, А. Г. Тышлер, И. С. Козловский, П. А. Марков), и по царящей на нем атмосфере. Все ожидали выступления Ф. Г. Раневской, но его так и не было.
— Я, как, впрочем, и многие, была не только в недоумении, но даже расстроена, — рассказывала Анастасия Павловна. — Попыталась встретиться с Фаиной Георгиевной, но поговорить с ней не удалось — она, видимо, ушла сразу же после окончания вечера. Надо ли вам объяснять состояние моей души?.. Конечно же заснула только под утро, да и то сидя в кресле. И тут звонок: «Анастасия Павловна, милая, замечательная моя! Не спала всю ночь после вчерашнего. Думала о Михоэлсе. Счастью моему не было предела. И волнению тоже… Боялась, что не выдержит сердце, так была взволнована. Простите, что звоню в такую рань — это не в отместку за звонок, который сделал мне Соломон Михайлович в два часа ночи после спектакля „Капитан Костров“… Так вот, дорогая Анастасия Павловна, я вчера не выступала не только из-за волнения, но помешало что-то еще: моя излишняя застенчивость и очень яркие выступления на этом вечере… Я хотела после вечера отдать вам свои записи — наброски к выступлению, но вы были окружены людьми, а у меня не было сил еще ждать… Я непременно передам вам эти свои записи».
К сожалению, Фаина Георгиевна свои записи о Михоэлсе так и не передала. Но, по счастью, в архиве Раневской сохранилось ее письмо к Анастасии Павловне: «Дорогая Анастасия Павловна! Мне захотелось отдать Вам то, что я записала и что собиралась сказать в ВТО на вечере в связи с 75-летием Соломона Михайловича. Волнение и глупая застенчивость помешали мне выступить. И сейчас мне очень жаль, что я не сказала, хотя и без меня было сказано о Соломоне Михайловиче много нужного и хорошего для тех, кому не выпало счастья видеть и слушать его.
В театре, который теперь носит имя Маяковского, мне довелось играть роль в пьесе Файко „Капитан Костров“, роль, как я теперь вспоминаю, я обычно играла без особого удовольствия, но, когда мне сказали, что в театре Соломон Михайлович, я похолодела от страха, я все перезабыла, я думала только о том, что Великий Мастер, актер-мыслитель, наша совесть — Соломон Михайлович смотрит на меня.
Придя домой, я вспоминала с отчаянием, с тоской все сцены, где я особенно плохо играла. В два часа ночи зазвонил телефон. Соломон Михайлович извинился за поздний звонок и сказал: „Ведь вы все равно не спите и, наверное, мучаетесь недовольством собой, а я мучаюсь из-за вас. Перестаньте терзать себя, вы совсем неплохо играли, поверьте мне, дорогая, совсем неплохо. Ложитесь спать и спите спокойно — совсем неплохо играли“. А я подумала, какое это имеет значение — провалила ли я роль или нет, если рядом добрый друг, человек — Михоэлс. Я перебираю в памяти всех людей театра, с которыми сталкивала меня жизнь, нет, никто так больше и никогда так не поступал. Его скромная жизнь с одним непрерывно гудящим лифтом за стеной. Он сказал мне, знаете, я получил письмо с угрозой меня убить. Герцен говорил, что частная жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям. Когда я думаю о Соломоне Михайловиче, мне неизменно приходит на ум это точное определение, которое можно отнести к любому художнику. Его жилище — одна комната, без солнца, за стеной гудит лифт денно и нощно. Я спросила Соломона Михайловича, не мешает ли ему гудящий лифт. Смысл его ответа был в том, что это самое меньшее зло в жизни человека. Я навестила его, когда он вернулся из Америки. Он был нездоров, лежал в постели, рассказывал о прочитанных документах с изложением зверств фашистских чудовищ. Он был озабочен, печален… Я спросила Соломона Михайловича, что он привез из Америки? „Жене привез подопытных мышей для научной работы“. А себе? „А себе кепку, в которой уехал…“».
Письмо это не закончено, а уж почему Фаина Георгиевна к нему не вернулась, нам сегодня остается только гадать.
Вот письмо Потоцкой, написанное Раневской 6 января 1979 года, по возвращении со спектакля «Дальше — тишина»: «А ведь Вы — действительно удивительная, дорогая Фаиночка! Вы дороги тысячам людей, дороги поколениям актеров! Вы бесконечно дороги Михоэлсу и мне, и сегодня я не могу не написать Вам. Спектакль „Дальше — тишина“ я смотрела трижды и каждый раз уходила с ощущением огромного нового дыхания, того самого, которое так нужно, чтобы жить и быть человеком. Это то дыхание, украденное зрителем от таланта актера, которое помогает не существовать, а жить, жить, думать и работать.
Меня иногда упрекают в том, что о ком бы, о чем бы я ни писала — я обязательно „свожу все к Михоэлсу“. Это не так плохо, Фаиночка, если в этом письме я напомню Вам о том, каким Михоэлс был провидцем, как он умел предвидеть. В день его 75-летия Вы позвонили мне и сами напомнили о поразительном звонке Соломона Михайловича, свидетелем которого я была. Это было в три часа утра (или ночи — как хотите). Он звонил Вам, я пыталась удержать его: „В три часа!“ „Нет, — сказал Михоэлс, — она поймет, что я рядом, и ей станет легче, а разве лучше, если она будет метаться в одиночестве?!“ И тогда состоялся этот самый телефонный разговор: „Фаиночка, я знаю, что ты не спишь. Ты сегодня играла не так, как ты умеешь! Ну и что? Я тебе говорю очень серьезно — это все ничего не значит. Подумаешь — „Капитан Костров“! Ведь ты такая актриса, которая… ну обязательно, обязательно… словом, ты сыграешь, и сыграешь не одну роль. И сыграешь замечательно! Да, это я — Михоэлс. Обнимаю“. Мне к этому прибавить нечего. Вы играете замечательно, как и обещал Соломон… Спасибо! Обнимаю, целую Вас, Фаиночка, очень-очень Вас люблю „одна за двоих“».
14 июня 1978 года, в день памяти Осипа Наумовича Абдулова, в его доме обычно собирались его друзья. Все, кто бывал в квартире Абдуловых после смерти Осипа Наумовича, непременно отмечали особое умение Елизаветы Моисеевны, вдовы актера, сохранить ту атмосферу, которая была при жизни хозяина. В небольшой комнате справа от прихожей, где собралось много людей, особо выделялся Ростислав Янович Плятт. Он был еще статен, выпивал и курил. Он бурно приветствовал появление Анастасии Павловны, и тут же произнес тост в память о тех, кто всегда жив в этом доме: «Я и сегодня не мыслю, что нет среди нас двух гостей, Осипа Наумовича и Соломона Михайловича. Мне кажется, сейчас они войдут в эту дверь и обнявшись споют свой любимый дуэт „Распрягайте, хлопцы, коней“»:
Распрягамо хлопщ конев
Тай сидаймо водку пить.
Я до дому не пойду —
Дуже жiнка будет быть.
Застолье было в разгаре, когда раздался длинный, требовательный звонок. «Это наверняка Фаина Георгиевна», — уверенно сказал Ростислав Янович. И она вошла быстро, шумно, заполнив собой всю комнату:
— Я поднимаю тост за Елизавету Моисеевну, сумевшую сохранить неповторимую абдуловскую ауру в этом доме.
Тут слово попросила Анастасия Павловна:
— Как старшая за этим столом, я прошу разрешения на второй тост.
— Вы делаете мне комплимент, графиня Потоцкая, — бархатно прозвучал низкий голос Раневской. — Но старшая за этим столом, безусловно, я!
— Извините, дорогая Фаина Георгиевна! Меня «старшей» назначил сам Соломон Михайлович. Он сказал мне в первые месяцы нашего знакомства, что мы с ним родились «старшими», то есть ответственными за многих и за многое. А сейчас, знаете, что мне вспомнилось? Наши встречи в Ташкенте, и как мы все жили там во время войны, и какую веру, надежду в нас поддерживали и Осип Наумович, и Соломон Михайлович. Всех нас, собравшихся здесь, объединяет память о прошлом, о людях, которых нет сегодня с нами; я предлагаю тост за память — единственную возможность победить время…
И она напомнила о том, как в Ташкенте, в Театре оперы и балета, 4 и 5 апреля 1942 года была организована благотворительная акция «Работники искусств эвакуированным детям», в которой принимали участие Б. Бабочкин, Н. Черкасов, М. Штраух, Л. Свердлин, Т. Макарова, X. Насырова, В. Зускин и О. Абдулов… На вечере 5 апреля выступили и А. Толстой, С. Михоэлс, Ф. Раневская. Об этом же Анастасия Павловна написала в своих воспоминаниях о Михоэлсе:
«Последним номером поистине великолепной программы вечера была небольшая пьеса, написанная А. Толстым и поставленная Протазановым и Михоэлсом.
Перед самым началом мы с Людмилой Ильиничной Толстой пробрались за кулисы, запасшись буханкой черного хлеба, так как знали, что наши актеры с утра ничего не ели.
Хлеб очень пригодился. Нашелся какой-то немыслимый нож из тех, которые бывают только у мясников!.. С его помощью огромные ломти буханки быстро исчезли, несколько подкрепив силы актеров.
И вот занавес открыт.
На сцене шумно, беспокойно, волнительно. „Костюмерша“, Ф. Г. Раневская, судорожно прижав левой рукой авоську с драгоценными новыми галошами, мылом и зеленым луком („реквизит“, взятый на время из самых главных, самых соблазнительных выигрышей лотереи, которая была организована в большом фойе театра), наспех что-то исправляет в костюмах уже одетых, загримированных актеров.
Звучит ее низкий необыкновенный голос, и зрители смеются при каждом ее движении, от каждого ее слова…
И тут появляются два плотника.
Впереди Михоэлс, за ним Толстой.
Михоэлс в сплющенной кепке, Толстой в рваном берете. Оба в рубахах, в передниках, из карманов торчат поллитровки. Молчаливый проход по авансцене (почти марш). Движения, абсолютно совпадающие и повторяющие друг друга…
К великому счастью сохранился изумительный фотоснимок „плотников“.
Копию этого снимка, подаренного Л. И. Толстой, Михоэлс свято хранил».
В 1944 году Я. Л. Леонтьев, заместитель директора Большого театра, близкий друг семьи Булгаковых, пытаясь помочь вдове М. А. Булгакова Елене Сергеевне, написал обращение, которое передал С. М. Михоэлсу для того, чтобы он по своему усмотрению собрал под ним подписи видных деятелей культуры.
Вот что говорит об этом в своем письме Михоэлсу Раневская: «Тяжело бывает, когда приходится беспокоить такого занятого человека, как Вы, но Ваше великодушие и человечность побуждают в подобных случаях обращаться именно к Вам. Текст обращения, данный Я. Л. Леонтьевым, отдала Вашему секретарю, но я не уверена, что это именно тот текст, который нужен, чтобы пронять бездушного и малокультурного адресата! Хочется, чтобы такая достойная женщина, как Елена Сергеевна, не испытала лишнего унижения в виде отказа в получении того, что имеют вдовы писателей меньшего масштаба, чем Булгаков. Может быть, Вы найдете нужным перередактировать текст обращения. Нужна подпись Ваша, Маршака, Толстого, Москвина, Качалова…»
Много, очень много общего было в отношении к жизни, к искусству и к себе у Раневской и Михоэлса. Михоэлс привез из Америки только кепку, в которой уехал… Раневская же, когда ее спросили, почему она так скромно, почти бедно живет, не задумываясь ответила: «Мое богатство в том, что оно мне не нужно!..» И еще об этом же: «У актера в кармане должна быть только зубная щетка, чтобы он свободно мог передвигаться, смотреть, видеть, изучать жизнь». Михоэлс однажды сказал Анастасии Павловне: «Знаешь, что меня беспокоит? Что я оставлю в наследство тебе и детям? Разве что мой юмор и следы моего обаяния!»
Путь на сцену у Раневской и Михоэлса начинался во многом похоже: «В театральную школу я не была принята ПО НЕСПОСОБНОСТИ» — Раневская; «Я мечтал стать актером… Но мой первый учитель актерского мастерства заявил, что актера из меня не выйдет, так как у меня для этого нет достаточных данных» — Михоэлс; «Училась в таганрогской казенной гимназии, по окончании которой вынуждена уйти из семьи, которая противилась моему решению идти на сцену…» — Раневская; «…Мои родители отнеслись бы к подобному решению отрицательно: в среде, к которой принадлежала моя семья, профессия актера считалась зазорной» — Михоэлс.
Отношение к искусству в России во многом определяется отношением к Пушкину. «Я боюсь читать Пушкина… Я всегда плачу. Я не могу без слез читать Пушкина… Мне так близок Пушкин. Я прихожу с репетиций, кидаюсь без сил, на кровати лежит пушкинский том открытый. Даже читаю то, что знаю наизусть… Все думаю о Пушкине. Пушкин — планета» — из записей Раневской о Пушкине разных лет.
Михоэлс прожил всю жизнь с оглядкой на Пушкина. Он много говорил о Пушкине в своих лекциях, писал в статьях. Есть у него в записных книжках мысль, представляющая особый интерес: «Пушкин всю жизнь черпал огромное богатство не только в русской культуре, но и вне ее… Но, черпая все эти богатства, Пушкин, обогащенный, снова и снова возвращался в русскую культуру, отдавая ей все свои силы и все накопленное им. Пушкин был как бы бумерангом русской культуры. Вылетающий с огромным размахом из русской культуры, он к ней же возвращался и в нее вносил новые свои вклады».
Из записок Раневской об Ахматовой: «Когда появилось постановление („О журналах „Звезда“ и „Ленинград““. — М. Г.), я помчалась к ней. Открыла дверь Анна Андреевна. Я испугалась ее бледности, синих губ. В доме было пусто. Пунинская родня сбежала. Молчали мы обе… Она лежала, ее знобило. Есть отказалась. Это день ее и моей муки за нее и страха за нее…»
Из воспоминаний А. П. Потоцкой: «Михоэлс никогда… не мог оставаться зрителем, если друг был в беде. Он не мог быть просто гостем на празднике друга. В дни так называемых разгромных статей по телефону звучали слова: „Это я, Михоэлс, просто подаю голос…“»
«Самый прекрасный подарок, сделанный людям после мудрости, — дружба» — эта мысль Ф. Ларошфуко более всего отражает суть отношений Раневской и Михоэлса — кроме истинной мудрости, свойственной и Фаине Георгиевне, и Соломону Михайловичу, Бог наградил их даром большой человеческой Дружбы. Кстати, и после смерти они оказались рядом — и Михоэлс, и Раневская похоронены на кладбище крематория около Донского монастыря.
Давно известно: «Кто умер, но не забыт — бессмертен». На панихиде по Михоэлсу Раневской не было. Но вскоре после похорон она позвонила Анастасии Павловне:
— Я собираюсь к Вам, графиня Вовси (такое могла придумать только Раневская, — усмехнувшись, заметила Анастасия Павловна). Мне кажется, когда бываю у Вас, в Вашем «книгохранилище», чем-то напоминающем мою «книгоплощадь», когда общаюсь с книгами, которые так любил Михоэлс, — беседую и с ним, с Соломоном Мудрым.
Незадолго до конца войны, в 1944 году, когда над Шостаковичем уже сгустились тучи, Михоэлс выступил на заседании Комитета по сталинским премиям с такой речью: «Я глубоко убежден в том, что музыке Шостаковича принадлежит ближайшее будущее. Настаиваю: ближайшее!..
Говорят, что главным критерием в оценке музыкальных произведений должна быть доступность. Я этот критерий признаю и принимаю, но не безоговорочно. Прежде всего, я считаю, что единственным критерием доступность служить не может. Многим недоступны Бетховен и Чайковский — это означает только, что слушатели не обладают достаточной культурой. В музыкальном смысле они неграмотны. Им предстоит еще многому научиться, прежде чем они поймут величие Бетховена…
Современники не понимали Бетховена, Стендаля, Маяковского… Можно было бы назвать и много других имен.
Мы, строители будущего, должны быть особенно внимательны к тем художникам, которые умеют чувствовать будущее, опережают время. Шостакович — именно такой художник…»
Пройдет несколько лет, и о музыке Шостаковича заговорят совсем по-иному. 13 января 1948 года в здании ЦК партии под председательством Жданова проходило совещание. На нем шла речь о музыке современных композиторов — Прокофьева, Мясковского, Шостаковича. На этом заседании, длившемся более 5 часов, вершители судеб советской музыки пришли к выводу, что Шостакович и иже с ним «искажают нашу действительность, не отражая наших побед, работают на руку врагу». Надо же было такому случиться: в то время, когда бушевали музыкальные страсти в ЦК, тело убитого Михоэлса, так высоко ценившего музыку Шостаковича, вскрывали в морге одной из минских больниц.
В ночь с 13 на 14 января 1948 года — в эту бесконечно длинную январскую ночь — двери квартиры Михоэлса не закрывались. Дмитрий Дмитриевич Шостакович был среди тех близких друзей, которые пришли в дом Михоэлса выразить соболезнования Анастасии Павловне, дочерям актера.
«В какой-то момент меня окликнули, и я увидела Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и подошла к нему. Возле него стоял мой муж, молодой композитор М. Вайнберг. Дмитрий Дмитриевич молча обнял нас, подвел к книжному шкафу и с несвойственной ему медлительностью, тихо и внятно произнес: „Я ему завидую…“ Больше он не сказал ни слова, только долго недвижно стоял спиной ко всем, крепко обняв нас за плечи» (из воспоминаний Н. С. Вовси-Михоэлс).
Кто знает, быть может, именно в эту трагическую зимнюю ночь Дмитрию Шостаковичу пришла мысль о цикле еврейских песен, которые он создал в конце 40-х годов.
Не знаю, звонил ли Михоэлс Шостаковичу перед отъездом в Минск, но что мысленно общался с ним — не сомневаюсь.
Все, знавшие Михоэлса, даже случайно встречавшиеся с ним в последние дни его жизни, отмечали, что в глазах его была обреченность. Были ли у Михоэлса, кроме предчувствий, причины или хотя бы поводы для такого настроения?
Пожалуй, лучше всего о настроении Михоэлса в то время рассказал Л. О. Утесов Анастасии Павловне в 1973 году: «Поздней осенью 1947 года я встретил Соломона Михайловича. Михоэлс сказал мне: „Не понимаю, что делается вокруг, не понимаю людей. Театр погибает. Даже на „Фрейлехс“ зал пустовал… Не ходят евреи в свой театр. Знаете, я по-прежнему люблю ходить в зоопарк. Многие дикие животные размножаются в неволе, а вот обезьяны, по данным, имеющимся у смотрителя Феди, ни в какую.
Разные бывали в еврейской истории времена. Неволи хватало, но все же наши предки и в плохие времена проявляли больше мужества, вели себя достойнее“. И Михоэлс рассказал мне об ученом конца XIII века Иухане Матлене, которого в Труа вместе с беременной женой и двумя сыновьями казнили, поскольку они отказались креститься взамен на помилование. „Творец даровал нам жизнь, и мы считаем для себя благом отказаться от нее во имя верности Всевышнему“, — сказал перед казнью глава семьи».
В ту пору Соломон Михайлович репетировал «Реубейни» и взахлеб рассказывал мне о своем герое, о котором я, к стыду своему, знал очень мало. Помню, Михоэлс вздохнул и продолжил свой рассказ: «Да, евреи Средневековья, бывало, вынужденно отрекались от своей веры. Но если и отрекались, то ночами, тайно молили Бога простить их слабость. И, начиная Судный день — главный праздник иудеев, — замаливали свои грехи пением молитвы „Кол-Нидре“».
Подавленным было настроение Михоэлса в 1947 году. Еще одно подтверждение тому — рассказ О. Г. Корневой:
«Был ясный, солнечный день. Мы с сестрой и ее ребенком гуляли по Тверскому бульвару. Вдруг вижу, идет Соломон Михайлович, опирается на палку. Прихрамывает. Глаза красные. Губы трясутся. От него сильно пахнет вином.
Соломон Михайлович подошел к детской коляске, нежно погладил мальчика по головке (ему было тогда около трех месяцев) и проговорил:
— Желаю тебе вырасти счастливым… Но он меня не понимает! Он сейчас в таком возрасте, когда понимает только маму.
Потом мы отошли в сторону.
— Что с вами, Соломон Михайлович? Вы нездоровы? — спросила я.
— Адочка! Очень тяжело мне жить стало…
И Соломон Михайлович рассказывает мне такой эпизод. Накануне он был в Сокольниках. Выходил из метро. Какой-то парень толкнул его сумкой. Соломон Михайлович обратился к нему:
— Ну, вы хоть извинитесь, молодой человек!
А тот:
— Ха! Извиняться! Старый жид порхатый! Буду я еще перед тобой извиняться!
— Адочка! Что же это делается? Что это такое? Завершить бы мне работу над спектаклем „Принц Реубейни“ — и больше ничего делать в театре не буду, не могу, не хочу.
Мы распрощались. И Михоэлс сказал:
— Иду к Таирову.
Могла ли я подумать, что вижу живого Михоэлса в последний раз».
Из показаний В. Зускина на суде: «…Когда мы готовились к 30-летию Октября, в три часа ночи, когда все уже разошлись и собирался уходить я, Михоэлс мне сказал — останьтесь. Я остался. Он пригласил меня к себе в кабинет и показал мне театральным жестом Короля Лира место в своем кресле. „Скоро ты будешь сидеть вот на этом месте“. Я ему сказал, что я меньше всего желаю занимать это место. Далее Михоэлс вынимает из кармана анонимное письмо и читает мне. Содержание этого письма: „Жидовская образина, ты больно высоко взлетел, как бы головка не слетела“.
Это было письмо, которое он мне показал и о существовании которого я никому не говорил, даже собственной жене. Михоэлс разорвал письмо и бросил. Это было при мне. Вот как было дело до 1948 года».
На заседании Комитета по сталинским премиям 5 января 1948 года Михоэлс сообщил: «…В Минск я выезжаю с академиком Волгиным». 6 января шли разговоры о том, что в Минск с Михоэлсом поедет Р. Симонов, а 7-го с ним поехал В. Голубов.
Почему так внезапно менялись решения? Поговаривали, что Р. Н. Симонову не поехать в Минск помогли высокопоставленные друзья (А. И. Микоян). Кандидатура Волгина отпала сама по себе, так как наиболее подходящим спутником Михоэлса в этой поездке мог быть только Голубов-Потапов. Тогда это решение казалось непонятным: Голубов не был театральным критиком в буквальном смысле этого слова. В 1937 году в газете «Советское искусство» была опубликована его статья «Прошлое и настоящее ГОСЕТа», далеко не уважительная по отношению к Михоэлсу, к театру, несправедливо беспощадная к Шагалу: «Помните замысловатую роспись в фойе театра? Его вычурные панно?» После этой статьи, говорят, Михоэлс с Голубовым не общался, но тех, кто искал Михоэлсу попутчика, это, видимо, не смущало. Сегодня, когда опубликована книга А. Борщаговского «Обвиняется кровь», стало ясно — Голубов-Потапов был внештатным сотрудником МГБ.
Из театра 7 января 1948 года Михоэлс уходил очень медленно, как бы нехотя…
В 15 часов к нему в кабинет зашел актер Д. Л. Чечик и сказал:
— Анастасия Павловна решила, что домой до отъезда вы уже не зайдете, и передала вам билет и деньги на поездку.
— Действительно, я многое не успел сделать.
— Вы же не навеки уезжаете, Соломон Михайлович, — с улыбкой сказал Чечик.
— Не знаю, не знаю! А Маня Котлярова в театре? Пригласите ее ко мне.
Мария Ефимовна Котлярова так рассказывала об этой встрече:
«Приглашение было для меня неожиданным. Я вошла в кабинет Михоэлса. Он был чем-то очень взволнован.
— Мария, вы не напомнили мне о письме в исполком, я уеду, не выполнив своего обещания, и вы останетесь без жилья.
Тут же Михоэлс позвонил председателю Фрунзенского исполкома. Телефон не отвечал. Он звонил еще кому-то, а потом на бланке театра написал ходатайство. Как жаль, что у меня нет сейчас этого письма! И без того трудно разбирать почерк Михоэлса, на сей раз он не поддавался прочтению. Вручив мне чистый бланк со своей подписью, Михоэлс сказал: „Завтра отпечатайте и отнесите в райисполком“.
— А почему такая спешка, Соломон Михайлович? — спросила я.
— Бывают случаи, когда дела лучше не откладывать».
Многие, видевшие в тот день Михоэлса, отмечали, что лицо его было «гиппократовым» (отмеченным печатью смерти. — М. Г.). Может быть, это фантазия, домысел…
Много лет спустя Фаина Георгиевна Раневская напишет Анастасии Павловне об угрозах, которые он получал, а Анастасия Павловна в своих воспоминаниях расскажет, что «последние годы много раз его преследовал сон о том, что его разрывают собаки».
До Тверского бульвара Михоэлса проводила Эльша Моисеевна Безверхняя. Прощаясь, он сказал: «Эльшуня, загибайте пальцы».
Неожиданно, перед отъездом на Белорусский вокзал Михоэлс зашел домой. «Ты знаешь, — сказал он Анастасии Павловне, — а я ведь с тобой не попрощался!» — «Ну и что, скоро мы встретимся», — сказала Анастасия Павловна. «Думаешь?» — Соломон Михайлович улыбнулся. Бесконечная грусть и печаль были в этой улыбке. Предчувствия Анастасии Павловны и Соломона Михайловича оказались роковыми… Он ушел в тот день из своей квартиры на Тверском бульваре навсегда.
На вокзал его провожали дочери, писатели Гроссман, Борщаговский, Липкин. Настроение было плохое, и скрыть этого Михоэлс не мог. Причин тому было немало… «Прежде всего ему срочно поменяли попутчика… В тот же вагон сели два боевика. Они отвечали за то, чтобы Михоэлс не попытался сойти с поезда по пути. В Минске решили за жертвой не следить. Ликвидаторы хотели, чтобы он почувствовал себя в безопасности. К тому же о каждом шаге Михоэлса в МГБ сообщал Голубов» (Е. Жирнов).
Поздним морозным вечером 7 января 1948 года поезд «Москва — Минск» медленно отъезжал от перрона Белорусского вокзала, а когда хвост поезда был уже не виден, у всех провожавших на глазах были слезы.
Когда наступает великая смерть, осуществляется великая жизнь.
В морозный день 8 января 1948 года Михоэлс с Голубовым вышли из поезда на заснеженный перрон вокзала в Минске. Согласно протокольному предписанию, их встречали начальник Республиканского управления по делам искусств Люторович и группа актеров разных театров. Михоэлсу предстоял просмотр двух спектаклей, выдвинутых на соискание Сталинской премии: «Константин Заслонов» в Русском драматическом театре (10 января) и «Алеся» в Оперном театре (11 января).
Михоэлс любил Минск, знал этот город. Вместе с Голубовым он остановился в люксе гостиницы «Белорусская». В планах Михоэлса среди прочего было посещение бывшего минского гетто и первого в СССР памятника, на котором на идиш была надпись: «Евреям — жертвам нацизма». Среди встречавших были и актеры БелГОСЕТа — театра, в котором было много его учеников и друзей. Вечером 9 января он побывал в этом театре на спектакле «Тевье-молочник».
Вот как вспоминала об этом актриса Юдифь Арончик: «То был в истории нашего театра последний праздничный день. Мы, конечно, этого не знали, что последний. Но что праздничный — было на лицах у всех моих товарищей. Большой актерской компанией повели Соломона Михайловича после спектакля ужинать в ресторан. А из ресторана, под полночь, „заведшись“, отправились ко мне домой пить кофе, благо до нашего обиталища в отстроенной части театрального здания идти было недалеко.
Что навсегда врезалось в память и осмысливается теперь иначе, чем в момент, когда увиделось, так это странная группа из четырех-пяти мужчин, пробежавшая, протопавшая тяжелыми сапогами мимо нас, когда мы вдвоем, Михоэлс и я, чуть поотстали от остальной компании и между нами и спутниками образовался небольшой интервал. В этот интервал и рванули громыхавшие сапогами субъекты. Мы даже отпрянули, Михоэлс схватил меня за руку. Очень уж неприятные ассоциации вызвала экипировка пробежавших: все в сапогах, в одинаковых шляпах и одинакового силуэта плащах. Человек импульсивный, очень впечатлительный, Соломон Михайлович не сразу успокоился, не сразу пришел в прежнее состояние».
Интервью Юдифи Самойловны Арончик было опубликовано в минском журнале «Родник» (1990. № 3); дальше в нем подробно рассказывается и о последних днях Михоэлса в Минске, и о поведении его спутника — подневольного и, конечно, не догадывавшегося о собственной участи:
«Голубов тепло встретился в фойе, даже обнялись они с каким-то человеком, одетым в форму железнодорожника высокого ранга. Видели еще, как после короткого радушного разговора между ними железнодорожник написал что-то Голубову на программе спектакля. Наши мужчины полюбопытствовали, спросили у Голубова, кто этот встреченный, и он ответил, что это приятель студенческих лет, с которым они давно, лет пятнадцать уже, не виделись. Два дня спустя, когда страшное, чему предстояло случиться, случилось, я в гостиничном номере Михоэлса и Голубова среди оставшихся от них вещей увидела ту программку. Авторучкой на ней было написано: „Белорусская улица, дом на горке“».
Это было на просмотре «Константина Заслонова», а на следующий день Юдифь Арончик, специально пришедшая в оперный театр, чтобы пригласить Михоэлса к себе, натолкнулась на резкое противодействие Голубова, который настаивал на том, что Соломон Михайлович должен идти с ним на день рождения его приятеля. Вышло так, что Ю. С. Арончик и ее муж М. М. Моин (люди очень гостеприимные), сами того не ведая, на один день продлили Михоэлсу жизнь. «На спектакль приехал ко второму акту секретарь ЦК партии Белоруссии, ведавший вопросами идеологии, М. Т. Иовчук, и сообщено было, что сразу по окончании спектакля состоится его обсуждение расширенным художественным советом. Михоэлс с улыбкой повернулся ко мне (мы сидели все в директорской ложе): „Видишь, Юдифочка, теперь пойду только к тебе!..“ Обсуждение затянулось почти до двух ночи. Но я с двумя друзьями терпеливо ожидала. Потом Иовчук и Люторович в своих машинах подвезли всех к зданию нашего театра, хотя Голубов снова сказал, что Михоэлсу и ему следует идти не ко мне, а в гостиницу. Мол, их наверняка поджидают. Я предложила ему сходить в гостиницу самому, ходьбы-то до нее считаные минуты, удостовериться, что в третьем часу ночи никто там в ожидании его не сидит, и возвратиться к нам. Не скрывая неудовольствия, Голубов быстрым шагом направился в сторону гостиницы и назад уже не пришел.
Через полтора суток, стоя оглушенная жутким известием среди собравшихся знакомых и незнакомых в люксовском гостиничном номере, куда должны были вернуться и не вернулись Михоэлс и Голубов, я слышала, как живший в номере вместе с ними Барашко рассказывал, что вечером и за полночь в часы затянувшегося просмотра и обсуждения „Алеси“ в номер многократно звонили по телефону. Понимая, что это не ему, Барашко даже перестал снимать трубку. Когда же звонившим ответил, наконец, Голубов, то раздраженно бросил: „Куда я пойду, если у меня забрали Михоэлса!..“ На другом конце провода, очевидно, сильно огорчились, потому что Голубов смягчился: „Что ж, перенесем день рождения на завтра…“»
Эти воспоминания свидетельствуют о том, что версия с «автомобильной катастрофой» не встретила доверия у минчан, как видно, наученных горьким опытом. Были и поразительные по откровенности реплики: «… тогдашний прокурор республики Ветров, ни к кому конкретно не адресуясь, вполголоса замечает: „Знаем мы и такие убийства: сначала пуля, потом под колеса!..“»
Не так давно с мемуарной книгой выступил претерпевший испытания долгих тюремных лет видный работник бериевско-абакумовского ведомства, профессиональный организатор политических убийств Павел Судоплатов. В ней он пишет: «Известие о гибели Михоэлса пробудило в моей душе подозрения, о которых я никому не стал говорить. Однако я не мог себе представить, что Огольцов сам отправится в Минск, чтобы лично руководить операцией. Убийство совершил, как я считал, какой-нибудь антисемитски настроенный бандит, которому заранее сказали, где и когда он может найти человека, возомнившего себя выразителем еврейских интересов». Годы развеяли многие иллюзии Судоплатова, но он, как видно, остался высоким профессионалом, предлагавшим правительству свои (принимавшиеся к рассмотрению) рекомендации даже из Владимирского централа. Впечатляет произнесенная со вздохом облегчения фраза: «К моему счастью, к этой операции я не имел никакого отношения».
Один из ветеранов спецслужб рассказал журналисту Евгению Жирнову, что видел в архиве КГБ стандартный листок бумаги, на котором от руки было написано, что в связи с установлением Михоэлса как американского шпиона его предлагается ликвидировать в автокатастрофе. Подпись на документе была «П. Судоплатов». И далее: «В левом верхнем углу листа — галочка карандашом, „птичка“, как называл знак своего согласия Сталин».
«Его (Михоэлса. — М. Г.) зверски убили, убили тайно, а потом наградили убийц», — писал в своих воспоминаниях Н. С. Хрущев. 28 октября 1948 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о «награждении орденами генералов и офицеров Министерства государственной безопасности СССР» за успешное выполнение специального задания: орденом Красного Знамени — генерал-лейтенанта Цанаву Лаврентия Фомича; орденом Отечественной войны I степени — старшего лейтенанта Круглова Бориса Алексеевича, полковника Лебедева Василия Евгеньевича, полковника Шубнякова Федора Григорьевича; орденом Красной Звезды — майора Косырева Александра Харлампиевича, майора Повзуна Николая Федоровича. Внимательный читатель заметит, что среди награжденных нет фамилии Огольцова — генерала, возглавившего операцию по ликвидации Михоэлса. Это не ошибка — ему в тот же день вручали высокую награду в Кремле за другие заслуги.
В своей документальной повести «Обвиняется кровь» А. М. Борщаговский рассказывает о послевоенных антисемитских кампаниях Сталина, о судьбе Антифашистского еврейского комитета. Первые страницы книги, естественно, посвящены убийству Михоэлса. Написанное Борщаговским особо ценно и потому, что кроме документов и свидетельств в книге есть и личные впечатления Александра Михайловича, хорошо знавшего и Михоэлса, и его окружение, и всю обстановку последних дней великого артиста. Да и сам Борщаговский попал под каток кампании против театральных критиков-«космополитов» и выжил чудом. Он был знаком и с провокатором Владимиром Голубовым, знал его как «талантливого литератора, автора первой книги об Улановой, в прошлом минчанина, окончившего в Белоруссии Институт инженеров железнодорожного транспорта». Борщаговский пишет: «Не подозревая своего славного, пьющего коллегу Володю Голубова в сотрудничестве с органами госбезопасности, оплакивая его как случайную жертву убийц, я не мог не подумать о том, зачем его едва ли не силком принудили ехать в Минск». Следует поздний вывод: «Организаторам убийства нужен был зависимый, сломленный человек и непременно бывший житель Минска, оставивший там какие-то корни, давние знакомства и связи».
В книге «Обвиняется кровь» впервые полностью воспроизводится извлеченный из архивов документ исключительной важности: датированное 2 апреля 1953 года письмо Л. П. Берии Г. М. Маленкову, отосланное в Президиум ЦК КПСС под грифом «Совершенно секретно», в котором констатируется без комментариев, что (согласно показаниям Абакумова) срочное задание об устранении Михоэлса дал лично «глава Советского правительства И. В. Сталин». Нельзя не процитировать здесь фрагменты этого поразительного документа: «Огольцов, касаясь обстоятельств ликвидации Михоэлса и Голубова, показал: „…Поскольку уверенности в благополучном исходе операции во время „автомобильной катастрофы“ у нас не было, да и это могло привести к жертвам наших сотрудников, мы остановились на варианте провести ликвидацию Михоэлса путем наезда на него грузовой машиной на малолюдной улице. Но этот вариант, хотя был и лучше первого, но также не гарантировал успех операции наверняка. Поэтому было решено через агентуру пригласить в ночное время в гости к каким-либо знакомым, подать ему машину к гостинице, где он проживал, привезти его на территорию загородной дачи Цанава Л. Ф., где и ликвидировать, а потом труп вывезти на малолюдную (глухую) улицу города, положить на дороге, ведущей к гостинице, и произвести наезд грузовой машиной. Этим самым создавалась правдоподобная картина несчастного случая наезда автомашины на возвращавшихся с гулянки людей, тем паче, подобные случаи в Минске в то время были очень часты. Так и было сделано“».
Цанава, подтверждая показания Огольцова об обстоятельствах убийства Михоэлса и Голубова, заявил: «…Зимой 1948 года, в бытность мою министром госбезопасности Белорусской ССР, по „ВЧ“ позвонил мне Абакумов и спросил, имеется ли у нас возможность для выполнения одного важного задания И. В. Сталина? Я ответил ему, что будет сделано. Вечером он мне позвонил и передал, что для выполнения одного важного решения правительства и личного указания И. В. Сталина в Минск выезжает Огольцов с группой работников МГБ СССР, а мне надлежит оказать содействие.
…При приезде Огольцов сказал нам, что по решению Правительства и личному указанию И. В. Сталина должен быть ликвидирован Михоэлс, который через день или два приезжает в Минск по делам службы… Убийство Михоэлса было осуществлено в точном соответствии с этим планом… примерно в 10 часов вечера Михоэлса и Голубова завезли во двор дачи (речь идет о даче Цанавы на окраине Минска. — Г. М.). Они немедленно с машины были сняты и раздавлены грузовой автомашиной. Примерно в 12 часов ночи, когда по городу Минску движение публики сокращается, трупы Михоэлса и Голубова были погружены на грузовую машину, отвезены и брошены на одной из глухих улиц города. Утром они были обнаружены рабочими, которые об этом сообщили в милицию».
Упомянутое письмо Берии было со значительными и тенденциозными сокращениями опубликовано газетой «АиФ» в мае 1992 года. Но воспоминания о дне убийства Михоэлса появлялись в печати и раньше.
Аркадий Исаакович Кольцеватый, известный кинооператор, заслуженный деятель искусств так говорил об обстоятельствах гибели Михоэлса: «В январе 1948 года я был в Минске… Тогда же в Минске находился Михоэлс и еще ка-кой-то писатель. Приехали они на просмотр спектакля, представленного театром к Сталинской премии. Как мне потом рассказывали, в антракте к Михоэлсу подошли двое, все втроем они весело разговаривали, а после спектакля Михоэлс уехал с ними. По-видимому, это были сотрудники КГБ. На какой-то квартире они замучили Михоэлса, затем выбросили из машины, и следующий за ними грузовик проехал по его трупу».
После смерти Сталина«…Берия положил конец антисемитским преследованиям. 4 апреля „Правда“ выступила с осуждением „провокаторов“ из бывшего МВД, которые „разжигали национальную рознь и подрывали единство советского народа, спаянного воедино идеями интернационализма“. Все арестованные по „делу врачей“ были объявлены невиновными, а тех, кто их преследовал, призвали к ответу. Бывший председатель Еврейского антифашистского комитета Михоэлс, которого сотрудники МВД толкнули под грузовик, был посмертно реабилитирован и вновь признан „выдающимся советским актером“» (из книги о КГБ К. Эндрю и О. Гордиевского. М., 1992).
В 1968 году Анастасия Павловна Потоцкая вдруг предложила автору этих строк побывать на месте трагедии. Может быть, что-то удастся разузнать двадцать лет спустя. В июне 1968 года я поехал в Минск «расследовать» обстоятельства убийства Михоэлса. Поддержали меня в этой несколько авантюрной поездке материально и морально И. С. Козловский и Ю. А. Завадский. Никогда не забуду эту поездку. Выйдя с перрона вокзала, я глазами выискивал людей еврейской внешности и пожилого возраста. Пытался с ними заговорить о Михоэлсе — некоторые пожимали плечами, иные от меня шарахались. В Минске я был впервые, и ни одного знакомого там у меня не было. Анастасия Павловна, правда, снабдила меня несколькими телефонами, я звонил по ним, но, когда на том конце провода узнавали о цели моего приезда, разговор прекращался. Единственного человека, которого мне удалось «разговорить», я встретил на еврейском кладбище. Неказистый, пожилой, в грубых кирзовых сапогах и, несмотря на летний день, старой барашковой шапке, он ходил от могилы к могиле и произносил заупокойную молитву. Я отважился и спросил его, не помнит ли он день 13 января 1948 года, когда в Минске погиб великий еврейский актер Михоэлс. Обратился я к нему на идиш, он как будто не слышал меня и продолжал обходить могилы, читая кадиш; я шел за ним. И только когда мы подошли к кладбищенской калитке, он неожиданно обернулся, пронзительно глянул на меня и сказал: «Молодой человек, зачем вам все это знать?.. Уезжайте себе на здоровье обратно домой, здесь никто с вами об этом разговаривать не будет. Мне терять нечего, если хотите, я вас подведу к дому, где живет человек, который должен помнить все лучше, чем я». Это оказался фотограф, сделавший последние снимки Михоэлса 11 января 1948 года. Звали его Исаак. Фамилию точно не запомнил — Аронов или Ароцер. С виду ему было лет пятьдесят. Доброе лицо, черные грустные еврейские глаза. Он охотно принял меня и от разговора не уклонился. Из его рассказа я узнал, что у всех людей, видевших в Минске Михоэлса, осталось от этой встречи грустное впечатление. В тот день он сделал много замечательных снимков Михоэлса, однако его не покидало ощущение, что он фотографирует человека обреченного: «Их об гефилд аз их портретл а мес…» («Я чувствовал, что фотографирую мертвеца»). Среди минских номеров телефонов, которыми меня снабдили в Москве, были и телефоны актеров бывшего БелГОСЕТа, театра, который Михоэлс хорошо знал и любил. Я позвонил по одному из них, но, получив очень вежливый, но четкий отказ принять меня, больше звонить не стал. Что поделаешь — страх, страх, страх!
Надо ли рассказывать сегодняшним читателям, что ни в Минске, ни в ночном поезде из Минска в Москву я ни на миг не заснул… Много лет до этого я перестал писать стихи… А здесь, в поезде, написал:
Мне снится по ночам Михоэлс,
Я с ним беседую во сне.
И той январской ночи холод
Навек застыл, застыл во мне.
Я вижу, как его убийцы
Трусливо правят ремесло…
И окровавленные лица
Кровавым снегом замело.
И в вечность канули герои
Когда-то явленные им…
И вечный плач Иеремии
Из Минска плыл в Ерусалим…
Прошли годы, и когда в канун столетия со дня рождения Михоэлса вокруг его имени поднялся шум, когда его стали произносить все те, кто боялся, чурался этого еще совсем недавно, я вспомнил последние строки этого своего стихотворения:
Но это горе не утешить
На юбилейных вечерах.
Горят в сердцах печали свечи,
А ум охватывает страх.
Будучи редактором «Международной еврейской газеты» в Москве, в 1995 году я получил потрясшее меня письмо от журналиста Ильи Резника. Оно пришло в редакцию из Минска и было озаглавлено: «Сорок семь лет тому…» Привожу его полностью.
«Эти горестные заметки написались бессонной ночью с двенадцатого на тринадцатое января. В ту ночь, сорок семь лет назад, на минской мостовой — угол Ульяновской и Белорусской — умирал король Лир-Михоэлс. О том, как это было, буднично рассказывал в своих показаниях еще один палач, еще один Лаврентий с ненастоящей фамилией Цанава… Еще один великий актер-мученик Вениамин Зускин на „суде“ по „делу“ Еврейского антифашистского комитета приведет слова академика Збарского о том, что смерть Михоэлса последовала вследствие автомобильного наезда и если бы ему оказали сразу помощь, „то, может быть, можно было бы кое-что сделать. Но он умер от замерзания, потому что лежал несколько часов в снегу“».
Журналистский поиск привел меня в архив литературы и искусства Беларуси. Передо мною четыре машинописных листа с пометкой в описи: «Воспоминания. Неопубликованное. На еврейском языке». Я, к великому сожалению и стыду, не умею читать на идиш. Но, слава богу, в Минске еще есть люди, умеющие это делать! Репортаж из морга, так я окрестил его для себя, привожу в переводе кинохудожника, заслуженного деятеля искусств Беларуси Евгения Ганкина:
«В это утро весь мир был завален снежным потопом и, казалось, что люди спасались в ковчеге, только что из него вышли и теперь делают свои первые шаги по заснеженной земле… У театрального сквера, сквозь белую пелену, я увидел идущих мне навстречу актеров минского еврейского театра. Они были взволнованы, в глазах ужас. Без всяких предисловий они мне сразу выпалили: „Михоэлса убили!“ Потом мы пошли в морг. Было нас немного: я, старый актер Наум Трейстман и несколько молодых артистов — бывших воспитанников московской Еврейской театральной студии, которые теперь работали в Государственном еврейском театре БССР. Молодой санитар, которого нам удалось разыскать на заснеженных дорожках, открыл перед нами дверь. Сразу же у входа первым лежал Соломон Михоэлс. Он был в шубе, одна пола наброшена на другую. Из-под шубы торчали ноги: одна в ботинке с калошей, вторая — в одном носке, рядом лежала вторая калоша (был ли второй ботинок — не помню). В воротнике шубы покоилась непокрытая голова Михоэлса. Нижняя губа, хорошо знакомая по фотографиям, была опущена, будто он чем-то недоволен, обижен. Левая щека опухшая, заплыла кровоподтеком, как после кровоизлияния… Санитар, молодой человек в белом халате, вдруг выпалил плачевным голосом, будто ища справедливости у кого-то: „Автомобиль? Нате, смотрите!“ И он двумя руками приподнял голову Михоэлса, немного повернул ее к нам. На середине черепа была глубокая дыра размером с пятерню и глубиной в три пальца… Нам велели покинуть морг, а врачи приступили к вскрытию…»
Не так-то легко было установить автора репортажа «Последняя роль Михоэлса». Им оказался известный еврейский поэт Исаак Платнер.
В этом же архиве хранился ответ Главной военной прокуратуры при Прокуратуре СССР от 17 февраля 1956 года за № 12–37789-49: «Сообщаю, что дело в отношении Вашего мужа Платнера И. X. 30 января 1956 года пересмотрено и за недоказанностью обвинения производством прекращено. По этому делу он реабилитирован и из-под стражи подлежит освобождению, о чем указания даны.
Военный прокурор отдела ГВП подполковник юстиции Шадринцев».
Исаак Хаимович умер в Минске в 1961 году.
Мне посчастливилось познакомиться с Валентиной Ивановной Карелиной, кандидатом медицинских наук, известным в республике судмедэкспертом. Первым делом попросил прочесть репортаж поэта. Как она его критиковала! Во-первых, никто, кроме экспертов, санитара и представителя правоохранительных органов, в секционный зал морга не допускается. В санитары идут обычно люди немножко опустившиеся, почти все пьющие. Правда, если это был Борис Янчевский, то он парень неплохой. Но не думаю, говорила Валентина Ивановна, чтобы для него имя Михоэлса что-то значило, что он переживал чуть ли не со слезой. Это уже немножко фантазия поэтическая. Автору хотелось, чтобы все окружающие относились к Михоэлсу так же, как он сам. Хотя, когда кругом стоят родственники и плачут, санитар тоже ж человек… Если ему еще заплатили, то он, нетрезвый, мог, допускаю, впустить в морг и Михоэлса показать.
Вот какой рассказ Валентины Ивановны записан на магнитофонную ленту:
«В толпе не только плакали и молились.
Наум Трейстман: — Помните его Тевье-молочника, его золотые слова: „Знаете ли вы, что есть Бог на свете? Я не говорю мой Бог или ваш Бог, я говорю о том Боге, об общем нашем Боге, который там наверху сидит и видит все подлости, что творятся здесь, внизу…“
Первый голос: — Наум, умоляю вас! Говорите шепотом.
Второй голос: — Вы нас всех погубите!
Третий голос: — А что, разве уже нельзя читать Шолом-Алейхема?
Наум Трейстман: — А его великий король Лир: „Нет, не дышит! Коню, собаке, крысе можно жить, но не тебе. Тебя навек не стало, навек, навек, навек, навек, навек! Мне больно…“ Эдгар: „Он умер“. Кент: „Удивительно не то, а где он силы брал, чтоб жить так долго“. Лир: „Боги, в высоте гремящие, перстом отметьте ныне своих врагов! Преступник, на душе твоей лежит сокрытое злодейство. Опомнись и покайся! Руку спрячь кровавую, непойманный убийца!“
Второй голос: — Эти актеры всех нас погубят.
Снежная буря усиливается. И у всех в толпе, стоящей неподвижно, уже по две шапки: своя и снеговая. Бешеный порыв ветра сносит корону из снега с головы короля Лира — Михоэлса — Трейстмана…»
Илья Резник написал еще несколько писем в редакцию. В одном, коротком и трогательном, он сообщал, что пришел с цветами на место гибели Михоэлса. То ли это место? Видимо, окончательной истины мы никогда не узнаем. А версии все множатся… Уже новые поколения лепят их, как соученики Пастернака: «Из валящихся с неба единиц и снежинок, и слухов, присущих поре». Мысленно вижу метель в Минске, утоптанный и разутюженный тяжелыми колесами грузовиков снег, сыплющий хлопьями с небес…
Москва. Январь. День тринадцатый.
«13 января в начале десятого два актера, срочно приехавшие за мной на работу, — рассказывает Анастасия Павловна Потоцкая, — бормотали что-то об автомобильной катастрофе и о том, что мне нужно немедленно лететь в Минск. Они привезли меня на Белорусский вокзал, где рыдающий и заикающийся Зускин тоже что-то говорил…
Они все не знали одного… Когда у выхода из здания института я увидела выражение лица шофера ГОСЕТа Николая Федоровича, я узнала правду.
Пока я ждала сведений о том, летит ли самолет в Минск или нет, я вспомнила почему-то сентябрьскую ночь сорок первого года, когда академик Н. Збарский вез нас на Тверской бульвар. Во время этой поездки Михоэлс вдруг произнес: „Если мне придется умереть до смерти Гитлера — считайте мою смерть преждевременной“».
«13 утром раздался страшной силы междугородный звонок в кабинете Михоэлса. Я вбежал туда, — рассказывает Б. А. Гиршман, в то время заведовавший репертуарной частью. — Я снял трубку и услышал знакомый голос. Это звонил из Минска Исаак Фефер и прокричал в трубку: „Старик умер!“. Не помню, что было со мной, но очнулся я от крика Зускина: „Что ты орешь на весь театр, мешаешь репетировать?!“»
«13 утром мы начали репетицию в театре и вдруг услышали страшный крик в кабинете Михоэлса. Разговаривал по телефону директор: „Кто? Что? Погиб! Оба? Михоэлс? Кто говорит?“ Мы вбежали в кабинет, и он нам сказал, что в 7 часов утра шли рабочие на работу и в снежном сугробе нашли, вернее обнаружили, два трупа, которыми оказались Голубов и Михоэлс. Затем директор позвонил в соответствующие инстанции и там узнал, что оба эти человека погибли в результате автомобильной катастрофы», — говорил Зускин на суде 6 июня 1952 года. И еще на этом заседании он сообщил: «11 января меня вызвал директор театра и сказал, что звонил Михоэлс из Минска и просил меня, чтобы я внимательно проследил за постановкой предстоящего спектакля, так как на нем будут присутствовать важные лица. Директор мне сказал, что Михоэлс будет в Москве 14-го числа».
«13 января я вела урок французского языка в театральной студии Еврейского театра.
— Вас срочно вызывают в дирекцию.
Беленький сидел за столом растрепанный, страшный, как серая замазка.
— Погиб Старик, — сказал Беленький. — Попал под машину. Подробностей нет…
Не успела я прийти домой, как зазвучал непрерывный зуммер междугородного телефонного вызова. Звонила из Минска Ирина Трофименко.
— Все правда, — сказала Ирина, — Михоэлс погиб» (Э. Лазебникова-Маркиш).
«Узнав о его гибели в Минске, — вспоминает С. В. Гиацинтова, — мы ночью помчались на московскую квартиру к жене Соломона Михайловича. Там было много людей, они приходили, уходили, сидели, плотно прижавшись друг к другу, и никто не произносил ни слова. Эта противоестественная при таком скоплении людей, никем не нарушаемая тишина была странной, как ночной кошмар. Мне казалось, что я глохну или вижу все это во сне».
«Двери дома были открыты днем и ночью для всех. Незнакомые и знакомые лица. С. В. Образцов, И. Г. Эренбург, актеры ГОСЕТа, вижу академика Браунштейна. Узнав о смерти Михоэлса, он пешком прошел путь в 20 км (электрички в ту морозную ночь не ходили). Запомнила высокого роста девушку, которая долго о чем-то беседовала в коридоре с Талой (позже я узнала, что это была племянница Л. М. Кагановича, который передал свои соболезнования и просил нас не интересоваться подробностями смерти Михоэлса). Не могу сказать, сколько людей приходили к нам в эти дни, сколько слез пролито на моих плечах, на плечах дочек…» (воспоминания А. П. Потоцкой).
«14 утром в Москву прибыл гроб с телом Михоэлса, — рассказывал на суде Зускин. — Перед этим нам позвонил академик Збарский, который был дружен с Михоэлсом, и сказал, что, как только прибудет гроб с телом в театр, чтобы позвонили ему, так как он хочет осмотреть, в каком состоянии находится тело и можно ли его выставлять для прощания. И в 11 часов, как только прибыло тело, прибыли академик Збарский, Вовси (брат Михоэлса), Зускин и художник Тышлер.
Когда раскрыли оцинкованный гроб, около гроба мы были впятером, мы увидели проломанный нос, левая щека сплошной кровоподтек, и тогда мне академик Збарский заявляет, что он заберет труп к себе в институт, где обработает лицо, чтобы можно было выставить. В 6 часов вечера академик Збарский приехал вместе со своими ассистентами и привез гроб с телом Михоэлса. Гроб поставили на пьедестал. Зажгли все прожектора и, в общем, создали такую обстановку, при которой он должен был лежать».
Рассказ Зускина не во всем верен, но если вспомнить, что говорил он это после четырех лет пыток и бессонницы, неудивительно, что дату прибытия гроба с телом Михоэлса в Москву он назвал неточно — это случилось 15 января.
«15 января гроб с телом Михоэлса привезли на Белорусский вокзал. На площади вокзала необычная тишина. Десятки тысяч людей, собравшихся на вокзале, не нарушают ее. Гроб привезли к театру, но неожиданно для всех его не вносят туда… Мороз. Слезы замерзают на щеках… Около театра все время была толпа. Наконец началась гражданская панихида. Перед самым ее началом в наступившей тишине подошла к гробу маленькая женщина с седой головой. Она положила лилии у ног Михоэлса, и я вдруг увидела ее лицо и ее слезы… Это была Екатерина Павловна Пешкова…
Вел панихиду И. Н. Берсенев. Весь текст гражданской панихиды хранится у меня, но я помню не всех и не все. Помню, как рыдающий Зускин назвал Михоэлса именем Алексея Михайловича (Грановского). Помню, что пел И. С. Козловский, играл Эмиль Гилельс, и последнее, что я вспоминаю, — это худенькую фигуру человека, стоявшего на крыше двухэтажного дома напротив ГОСЕТа, играющего на скрипке! В такой мороз!
Когда я несколько лет спустя открыла подаренную мне книгу Шагала, была потрясена репродукцией его картины „Похороны“, датированной 1908 годом. На крыше соседнего дома над похоронной процессией стоит человек, играющий на скрипке!
…Глядите, там на крыше домика
Появился седой скрипач.
…И взвилось синее пламя волос!
И запела скрипка —
Золотая рыбка!
Плачь, рыбка, плачь.
Над лицом короля — тайной тайн…
Этот старый скрипач.
Был великий Эйнштейн.
Но шуты не ведали этого.
Шуты
Несли
На своих
Плечах
Прах
Короля
Лира…
(Овсей Дриз)
В крематории в густой толпе я была рядом с Берсеневым. Дочери были здесь. Актеры были здесь, родные и друзья были здесь. И нельзя было сосчитать, сколько человек заполнило зал крематория и его двор. С моего согласия Берсенев не дал снова открыть гроб. Я боялась истерики толпы.
Последние слова, крики, рыдания, чьи-то речи… и все это как во сне. „Нет! Мы не могли похоронить Михоэлса!“» (А. П. Потоцкая).
Над гробом говорили последние слова.
Народный артист РСФСР Зускин: «Общественное служение его и жизнь его в искусстве настолько переплетались, что даже трудно было отделить одно от другого. Он нас учил жить, он нас учил любить жизнь. Поэтому мы себе никак не можем представить нашего дорогого Соломона Михайловича вот лежащим здесь… Он был весь — жизнь, и не может быть такого сочетания — Соломон Михайлович и — смерть…»
Генерал, граф Игнатьев: «Восстает передо мной впервые в жизни образ не ветхозаветного библейского пророка, вдохновившего великого писателя на одно из лучших его творений, а образ современного, ушедшего от нас, и, увы, навеки, мыслителя, мастера слова и друга человечества Соломона Михайловича Михоэлса.
Пушкина пленила та уходящая в глубь веков еврейская культура, которая дала нам в наши дни этого достойного наследника мудрых мыслителей, выходивших с незапамятных времен из среды еврейского народа. Впрочем, они принадлежали не ему, а всему человечеству, и потерю Михоэлса оплакивает не один еврейский народ, а все гордившиеся им народы Советского Союза и его зарубежные друзья и единомышленники».
Народный артист СССР Зубков: «Михоэлс излучал из себя свет, все его существо светилось теплом, участием, дружбой, лаской. Он был нам добрым другом и верным товарищем. И этого мы никогда не забудем…
Малый театр поручил мне сказать, что он никогда не забудет его творческой помощи в построении трудного спектакля „Ивана Грозного“. По нашей просьбе он пришел к нам и помогал решать труднейшие задачи».
Генеральный секретарь Союза писателей Фадеев: «Ушел от нас прекраснейший художник, осиянный славой, величайшей славой, выпадающей на долю немногих избранных, на долю тех мастеров, о вдохновенном творчестве которых будут написаны книги, чьи имена будут долго, века, быть может, живы для всех, кому дорого искусство.
Но Михоэлс был не только большим художником, он был человеком большой души и исключительной цельности. В нем сочеталось огромное жизнелюбие с необычайной душевной чистотой. Потому-то и был он непререкаемым авторитетом для всех работников искусств.
…Мы должны всегда помнить о его любви к искусству, о его любви и преданности народу, мы должны сберечь этот священный огонь и высоко поднять знамя нашего искусства».
Из воспоминаний А. В. Зускиной: «Через несколько дней в театре устроили вечер памяти. В первом отделении — речи; во втором — концерт, разумеется, в минорных тонах.
Меня в этой концертной программе потрясла прима-балерина Большого театра Галина Уланова. Как оказалось, не меньше меня были потрясены и отец, и даже мама, привыкшая „разбирать по косточкам“ все, что связано с хореографией.
Уланова танцевала „Умирающего лебедя“ Сен-Санса. Танцевала на темной сцене, внутри светового круга, „брошенного“ на сцену прямо под огромным портретом Михоэлса; движения ее рук были рассчитаны так, чтобы они все время были протянуты к портрету, и как бы у подножия портрета в конце танца Лебедь „умирал“. Это было то высокое искусство, от которого становилось страшно».
«Он погиб для всех внезапно и, как все внезапное, эта смерть на какое-то время остановила дыхание людей его знавших и любивших, изменила ритм их сердец, нарушила нормы поведения живых, живущих», — написала Анастасия Павловна уже много лет спустя после смерти Михоэлса, когда готовила второе издание книги «Михоэлс. Статьи. Беседы. Речи. Воспоминания о Михоэлсе».
Летом 1981 года я принес Анастасии Павловне гранки своей книги. Ей уже трудно было читать, но она, просматривая гранки, сказала: «В моих воспоминаниях нет многого, о чем хотелось бы рассказать. Еще не время. Я уже написать не успею. То, о чем я вам сейчас расскажу, не знает никто… Запомните мой рассказ. Вот все вырезки (или почти все) с некрологами Михоэлса. Просмотрите их!»
В некрологах, в большой статье С. В. Образцова «Слава актера-гражданина» не было слов «трагически погиб» («умер» — в «Известиях», «смерть вырвала из рядов» — «Правда Украины», «ушел из жизни», «остановилась жизнь»).
«Когда я узнала об автомобильной катастрофе, — продолжала свой рассказ Анастасия Павловна, — я вспомнила о том, что попытки „убрать ненужных людей“ этим способом уже были (Фрунзе в 1925 году, С. М. Киров в 1934-м в Казахстане — попадали в автокатастрофы, но с „благополучным“ исходом).
Много лет спустя я прочла у С. И. Аллилуевой: „В одну из тогда уже редких встреч с отцом у него на даче я вошла в комнату, когда он говорил с кем-то по телефону. Я ждала. Ему что-то доказывали, а он слушал. Потом, как резюме, он сказал: „Автомобильная катастрофа“. Я отлично помню эту интонацию, это был не вопрос, а утверждение, ответ. Он не спрашивал, а предлагал это, автомобильную катастрофу. Окончив разговор, он поздоровался со мной, а через некоторое время сказал: „В автомобильной катастрофе разбился Михоэлс“. Но когда на следующий день я пришла на занятия в университет, то студентка, у которой отец долго работал в еврейском театре, плача, рассказала, как злодейски был убит вчера Михоэлс, ехавший на машине. Газеты же сообщали об „автомобильной катастрофе““. Для меня в ее воспоминаниях не было никаких „открытий“. Я, узнав о смерти Михоэлса, сразу поняла, что убийство совершено намеренно, с заранее обдуманной целью».
В газетах об автомобильной катастрофе писали осторожно. Рассказала мне Анастасия Павловна и о том, что гроб с телом Михоэлса до панихиды повезли в лабораторию академика Збарского. Когда гроб открыли, кто-то, увидев «неповрежденное» тело Михоэлса (кажется, Зускин или Маркиш), крикнул: «Посмотрите, какая ссадина на правом виске! А как сжаты кулаки! Это убийство!»
«Был цинковый гроб. Этот цинковый гроб с большим трудом раскрыли, и представилась ужасная картина изуродованного лица Михоэлса с выколотыми глазами. Впоследствии был приглашен знаменитый — не знаю, как они называются, эти реставраторы лиц, — Герасимов, который работал над Михоэлсом и восстановил лицо, кроме глаз. И гроб открытый был поставлен на сцену…
После этих похорон, на которых присутствовала и конная милиция — невероятное количество народу, были почти все знаменитости театра, — была панихида в театре назавтра. Ночь он провел в театре на сцене. Потом увезли гроб в крематорий, где Михоэлс был кремирован».
«Уже после двенадцати Маркиш стремительно взбежал по лестнице в зал, где профессор Збарский, бальзамировавший когда-то Ленина, что-то делал с Михоэлсом (в книге Э. Лазебниковой-Маркиш неточность — гроб с телом Михоэлса в действительности повезли в лабораторию академика Збарского. — М. Г.).
Малое время спустя Маркиш вернулся в фойе. Он был бел, как снег.
— Не подымайся туда! — Маркиш указал на закрытую дверь зала. — Ничего общего со Стариком…
До пяти часов вечера Збарский „чинил“ разбитую голову Михоэлса, стараясь придать ей человеческий вид…» (Э. Лазебникова-Маркиш). Маркиш уединился в комнате на втором этаже театра и вскоре написал:
…Разбитое лицо колючий снег занес.
От жадной тьмы укрыв бесчисленные шрамы.
Но вытекли глаза двумя ручьями слез,
В продавленной груди клокочет крик упрямый:
— О Вечность? Я на твой поруганный порог
Иду зарубленный, убитый, бездыханный.
Следы злодейства я, как мой народ, сберег.
Чтоб ты узнала нас, вглядевшись в эти раны…
В сороковую годовщину со дня смерти С. М. Михоэлса на его могиле, как всегда в этот день, собрались близкие, друзья, актеры ГОСЕТа. Александр Евсеевич Герцберг, в прошлом актер ГОСЕТа, рассказал мне в тот день: «Не помню точно, но, кажется, в 1947 году я был свидетелем разговора между академиком Збарским и С. М. Михоэлсом. Збарский: „Люблю я этого еврея“. Михоэлс: „Не дай мне бог попасть в твои руки. Ты из меня сделаешь красавца!“. Черный юмор Михоэлса оказался пророческим».
Вскоре после похорон Михоэлса начались массовые аресты: взяли Гофштейна, Маркиша, Квитко, Беленького, Шимелиовича, тяжелобольного Зускина забрали ночью из больницы. Анастасия Павловна решила, что настал ее черед: «Не помню точно, в феврале или марте 1948 года ко мне пришли двое мужчин, очень похожих друг на друга (позже мы этот день назвали днем близнецов): стального цвета габардиновые плащи, велюровые шляпы и выражение лица между этими одеяниями оставили неизгладимое впечатление. Они интересовались моим материальным положением, спрашивали, вернули ли мне вещи погибшего мужа. Ушли буквально через 5–7 минут, а 16 марта, в день рождения Михоэлса, мне преподнесли истинный „подарок“: звонок в дверь. Я поняла — это за мной (существовал для своих условный звонок — один длинный, два коротких, а в тот день раздался обычный звонок). Я быстрым шагом подошла к двери (а в голове мысль: иду на эшафот. Что будет с детьми?). За дверью стоял пожилой человек в форме милиционера. Он, не переступая через порог, поставил на пол чемодан и дал мне расписаться в какой-то книге. Отдал честь и ушел. Я позвала Талу и Нину (дочерей Соломона Михайловича), мы открыли чемодан. Как же мы удивились: в первую же минуту мы увидели бумагу, на которой почерком человека, окончившего ликбез в зрелом возрасте, было написано: „Список вещей, найденных у убитого Михоэлса“. Мне казалось, что люди этих служб не допускают промахов ни в прямом, ни в переносном смысле. Увы! „Убитого Михоэлса“ (Дмитрий убиенный! — вдруг вспомнилось мне). Нервный плач и смех охватили меня… Когда я пришла в себя, мы начали вынимать вещи из чемодана. Сложены они были аккуратно, но явно по-мужски: сверху лежала шуба. Вдруг я увидела на воротнике след застывшей крови. Все поплыло перед глазами, только мелькал шарф Михоэлса, на котором я тоже заметила след запекшейся крови. О Боже! Да, с бдительностью у палачей дела плохи. Впрочем, может быть, они все просчитали: нас предупредил об „обете молчания“ сам член политбюро Каганович! А если мы „возникнем“, есть возможность предъявить нам обвинение „за клевету“. Может быть, таков их расклад!
Из вещей, найденных в чемодане, помню: палка сломана (она до сих пор хранится у меня), часы остановились в 8.40. Смотрим содержимое карманов. Чего только нет в них! (Я шутя называла карманы Соломона Михайловича „лавкой древностей“.) И среди всего содержимого в карманах талисманы. Слезы навернулись на глаза, когда мы брали в руки очередной талисман. Порой суеверный, как ребенок, верил Михоэлс в их всемогущество! Документы: командировочное удостоверение, свидетельство о смерти. Паспорта нет. Почему? И вдруг замечаем: в свидетельстве о смерти фамилия „Михоэлс“. Но ведь в паспорте — Вовси. Значит, свидетельство о смерти было выписано без паспорта (паспорт забрали как „свидетельство“ о выполненном задании), а свидетельство о смерти выписали на основании командировочного удостоверения. Снова „прокол“ у сотрудников служб».
Многим позже в своих воспоминаниях Э. Лазебникова-Маркиш расскажет некоторые новые подробности об убийстве Михоэлса. Жена генерала Трофименко, командовавшего в то время Белорусским военным округом, рассказала ей о том, что Трофименко не разрешили даже послать телеграмму соболезнования, которую он хотел отправить Анастасии Павловне. В МГБ знали, что Трофименко дружил с Михоэлсом. Знали прекрасно и о том, что последний день своей жизни он провел в доме Трофименко (кто знает, может быть, Михоэлс в тот день решил следовать любимому латинскому изречению «лови день»…). Из дома Трофименко он пошел в театр на просмотр спектакля, которому суждено было стать последним в его жизни. В 1956 году Ирина Трофименко рассказала Э. Маркиш, что убийство Михоэлса организовал генерал Цанава, в то время министр госбезопасности Белоруссии, выполняя приказ Берии. А телеграмму генералу Трофименко «категорически» не советовали посылать, видимо, из-за того, что не были уверены до конца, какова будет реакция на убийство Михоэлса «наверху» и, главное, какая версия случившегося будет одобрена.
Летом 1980 года мы с Анастасией Павловной были на Новодевичьем кладбище. Увидев памятник Льву Шейнину, она сказала: «Здесь хранится, и, наверное, уже навсегда, тайна убийства Михоэлса».
«Один из известнейших советских следователей, — пишет в статье „Заслуженный деятель“ (ЛГ. 1989. 15 марта) Аркадий Ваксберг, — рассказывал мне, что в бериевском ведомстве существовал особый отдел для подготовки и проведения таких операций. Во главе стояла тщательно законспирированная супружеская чета. Именно этот отдел и организовал убийство Михоэлса. В начале 1953 года, по словам моего собеседника, было подготовлено и убийство П. Л. Капицы, но смерть Сталина помешала осуществлению этого плана…»
Организаторы и исполнители убийства Михоэлса рассчитывали, что им удастся подвести это злодеяние под обычное уголовное дело. Но и «обычное» убийство является фактом уголовным и возбуждение уголовного дела неминуемо. А это влечет за собой расследование, которое нашли нужным поручить (другого не нашли) Льву Романовичу Шейнину, человеку, причастному к АЕК, куда его рекомендовал С. Л. Брегман, старый большевик, заметный политический деятель. Непонятно, что заставило Шейнина заняться этим расследованием, а главное, не в том ключе, как кому-то хотелось. Позже это ему будет стоить долгих лет тюрьмы, и даже его показания на суде о националистической направленности работы АЕК и его руководителей, в особенности Лозовского, и самобичевание по поводу собственной «националистической деятельности» не спасли его от тюрьмы.
Вскоре после убийства Михоэлса со свойственной тому времени помпезностью были организованы вечера его памяти в здании ГОСЕТа, в помещении ВТО, с участием Эренбурга, Москвина, Храпченко, Козловского, Таирова. А спустя немного времени началась кампания против «безродных космополитов», за ней — «дело врачей». Направленность «дела врачей» не вызывала сомнений: большинство арестованных были евреи, их обвиняли в злоумышленном убийстве руководящих советских работников. Собственно, само по себе такое обвинение старо: еще в пору раннего Средневековья придворного врача, еврея Цидкино, обвинили в том, что он умышленно неправильно лечил короля Франции Карла Лысого, а через 100 лет других еврейских лекарей обвинили в убийстве короля Гуго Капета. Были такие случаи и в России, при Иване Грозном и позже. Почему же такую грозную значимость придали «делу врачей» в 1952 году? Многим в ту пору показалось, что убийство Михоэлса, кампания против космополитов, «дело врачей» — звенья одной цепи. Поползли слухи о строящихся где-то в Сибири бараках для переселения туда советских евреев.
Писатель Каверин в своих мемуарах подробно рассказывает о том, как зимой 1952 года его пригласили в редакцию газеты «Правда» и предложили «познакомиться с письмом, которое… уже согласились подписать многие видные деятели культуры и не только культуры, армии и флота». Примечательно, что некоторые из подписавших восприняли это письмо как направленное против антисемитизма; «говорили, что генерал-лейтенант Драгунский, вдохновленный этой надеждой, даже устроил в „Национале“ банкет». Правда, Каверин сомневался в том, что это так и было, хотя тут же добавлял, что, по словам Всеволода Иванова, «этот отважный офицер… никогда не был Сократом»… По словам Каверина, в письме речь шла не только о «суровом наказании убийц в белых халатах» — этими призывами были полны все газеты — вопрос ставился гораздо шире, он сводился к интересам всех евреев, живущих в СССР. «Многие из них успешно работают… и тем не менее в массе они заражены духом буржуазного воинствующего национализма, и к этому явлению мы, нижеподписавшиеся, не можем и не должны относиться равнодушно». Письмо было подписано видными писателями, среди которых были В. Гроссман и П. Антокольский. Были, однако, и неподписавшие — генерал Я. Крайзер, актер ГАБТа М. Рейзен. Л. Б. Либединская рассказывала мне, что отказались от подписи Ю. Либединский, Е. Долматовский, И. Эренбург и сам Каверин. Правда, по каким-то причинам письмо это так и не было опубликовано.
13 января 1953 года, в пятую годовщину со дня гибели Михоэлса, в передовой статье газеты «Правда» сообщалось: «По показанию арестованного Вовси, он получил директиву об истреблении руководящих кадров СССР из США. Эту директиву от имени шпионско-террористической организации „Джойнт“ ему передали врач Шимелиович и известный буржуазный националист Михоэлс, долгое время носивший личину советского артиста. Теперь ни у кого не остается сомнений насчет тех „благотворительных“ целей, которые ставит перед собой международная еврейская сионистская организация „Джойнт“».
Приговор уже убиенному Михоэлсу был вынесен 18 июля 1952 года. В нем, этом приговоре, имя Михоэлса упоминалось десятки раз: «Лозовский привлек в качестве председателя АЕК Михоэлса… ярого еврейского националиста… Перед отъездом в Америку Михоэлс… по указанию Лозовского собрал ряд материалов о промышленности СССР, которые передали американцам». И главнейшее из обвинений: «В беседах с националистами (в США. — М. Г.) Михоэлс и Фефер договорились о мероприятиях по усилению националистической деятельности в СССР, причем Розенберг потребовал от Михоэлса и Фефера взамен оказания материальной помощи добиться у Советского правительства заселения евреями Крыма и создания там еврейской республики… Выполняя задание Розенберга, Михоэлс, Фефер, Эпштейн и Шимелиович… составили письмо в адрес Советского правительства, в котором поставили вопрос о заселении Крыма евреями». Отвергнуть эти лживые обвинения Михоэлс уже не мог…
Именно после «второго убийства» Михоэлса готовилась публикация письма, в котором евреи СССР открыто обвинялись в воинствующем национализме, массовом вредительстве. Как уже было сказано, это письмо подписали многие видные деятели искусства, культуры, науки еврейской национальности. Письмо стало бы безоговорочным приговором, к приведению в исполнение которого были готовы многие… Страх охватил миллионы советских евреев и всех честных людей страны.
События порой пытаются обогнать даже быстро убегающее время. Спустя три месяца в передовой статье газеты «Правда» о «деле врачей» и Михоэлсе можно было прочесть совсем иное: «…в этих провокационных целях они не останавливались перед оголтелой клеветой на советских людей. Тщательной проверкой установлено, например, что таким образом был оклеветан честный общественный деятель, народный артист СССР Михоэлс» (Правда. 1953. 4 апреля). Но обо всем этом Михоэлс уже никогда не узнает. А леденящий страх сковал уста многих, так что невольные свидетели событий боялись проронить хоть слово.
Но пришли иные времена, языки развязались. Журналисты, перебивая друг друга, стали писать небылицы о тайне убийства Михоэлса. Так, известный московский журналист в «Вечерке» заявил, что убийство Михоэлса совершилось на территории бывшего минского гетто. О гибели Михоэлса написаны романы, почти детективные. Конечно, с появлением книги Борщаговского «Обвиняется кровь» и выходом книги «Последний сталинский расстрел» многое прояснилось, но, увы, далеко не все. Будем надеяться, что завеса этой шекспировской тайны когда-нибудь будет поднята. Может быть, не совсем прав мудрый Дизраэли, полагая, что все вокруг — тайна, но «именно тот оказывается рабом, кто не пытается ее развеять». Сказано в Писании: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы; и тайного, что не стало бы явным». И еще сказано: «Все прощается, пролившим невинную кровь не прощается никогда».
Если справедливо, что искусство имеет своих самовластных Цезарей, то сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что Соломон Михоэлс был одним из них. Убийство Цезаря еврейской сцены повлекло за собой — что, несомненно, входило в планы убийц — гибель ГОСЕТа, центра еврейской культуры. 12 августа 1952 года были расстреляны ведущие еврейские писатели и поэты: П. Маркиш, Д. Бергельсон, Л. Квитко, Д. Гофштейн и многие другие. Расстрелян был движущий дух советского еврейства. Михоэлс, несомненно, являлся выразителем этого духа, был для советского еврейства, как точно написал Перец Маркиш, «и утешением, и эхом, и упреком». Ему свойственны были и ошибки, и слабости («Ибо праведника нет на земле такого, чтобы благотворил и не погрешил бы»), но и они, скорее, свидетельствовали о его мудрости и человечности, не затемняли образ. Михоэлс был истинным сыном своего времени, сыном народа, его породившего. На русскую сцену Михоэлса звали не только Юзовский, но и Л. Леонов, И. Козловский, Ю. Завадский. Его прекрасную русскую дикцию, знание русского театра отмечали многие выдающиеся современники. Его учитель Грановский мог ставить все, от Софокла до Третьякова, в любом театре и на любом языке.
Книгу о Михоэлсе мне хочется закончить стихами любимого мною поэта Моисея Цетлина:
«Они восстанут, мертвецы твои!» —
Сказал пророк Исаия. Я верю:
Вновь оживут Михоэлс и Шагал
В холодном воздухе страны моей, ненужно
Жестокой, но любимой до конца.
И вспомнить слова великого артиста, друга Михоэлса И. С. Козловского: «Жизнь его в искусстве является примером для грядущих поколений… Трагичным он был в искусстве, трагедию всколыхнул и своей смертью. Но духовное его значение и величие живут».
Гибель Михоэлса не только «всколыхнула трагедию», но в значительной мере изменила историю евреев России, сделала ее иной. Как известно, когда в мае 1948 года было провозглашено государство Израиль, Михоэлса уже не было в живых. Первый посол нового государства Голда Меир прибыла в Москву летом 1948 года. Близился праздник Рош-Ашана, и она решила посетить синагогу. Незадолго до этого в газете «Правда» появилась явно заказная статья Ильи Эренбурга, в которой он, в частности, писал, что в СССР нет антисемитизма и уж тем более не существует еврейского вопроса, а государство Израиль, если и нужно, то только «для евреев капиталистических стран, где процветает антисемитизм».
Десятки тысяч евреев, вопреки логике и здравому смыслу, плотной толпой заполнили узкую и крутую улицу Архипова перед синагогой, куда направлялись Голда Меир и другие члены израильского посольства. А в толпе бурлила «радость со слезами на глазах» и возгласы «Живи и здравствуй наша Голда, наша гордость» заглушили крики: «Нет, мы не поедем в Израиль!» Вполне понятно, что встречавшие Голду Меир читали не только статью Эренбурга, но и речь А. А. Громыко в ООН, о которой упомянул Михоэлс в своем выступлении в Политехническом музее в декабре 1947 года. Выступление Громыко — одна из самых гуманных проповедей в истории XX века, не иудея, не еврея, но воинствующего атеиста и коммуниста…
Мне думается, что история евреев советской эпохи делится на два периода и границей этих периодов стала трагическая ночь с 12 на 13 января 1948 года. С той ночи прошло более пятидесяти лет. Жизнь продолжается, но след, оставленный в ней Михоэлсом, вечен. Это не то же самое, что тень пролетевшей птицы. Это вечный свет, излучаемый добрым и мудрым сердцем Михоэлса. Легенды, воспоминания, мифы о Михоэлсе давно переплелись воедино, а, как известно, еврейские сказания, истории обречены на вечность. Свидетельством тому — Священное Писание, Библия — Вечная Книга, в которой отражена и история еврейского народа, и его будущее.
С русскими князьями, посетившими Михоэлса в больнице в США. 1943.
Абдулова-Метельская Е. М. Осип Наумович Абдулов. М., 1969.
Азарх-Грановская А. В. Беседы с В. Д. Дувакиным // Гешерим. М.; Иерусалим, 2002.
Алешин С. И. Михоэлс // Театр. М., 1993. № 6.
Арбатский П. Пушкинские вечера в ГОСЕТе // Советское искусство. 1937. 17 февр.
Ардов В. Е. ГОСЕТ. 200 000// Зрелища. 1923. № 64.
Беленький М. С. Душа и грим: История в судьбе // Вечерняя Москва. 1990. 15 марта.
Беленький М. С. Ученик ангела // Театральная жизнь. 1990. № 10.
Бескин Э. М. Дон-Кихот из Тунеядовки: «Путешествие Вениамина Третьего» в ГОСЕТе // Вечерняя Москва. 1927. 29 апр.
Блейман М. Ю. «Колдунья»: (Гос. евр. театр) // Ленинградская правда. 1926. 22 авг.
Блок Ж,-Р. Если бы Лабиш был в Москве // Правда. 1934. 21 дек.
Вовси-Михоэлс Наш. С. Мой отец — Соломон Михоэлс: Воспоминания о жизни и гибели: [Гл. из кн.] // Новый мир. 1990. № 3.
Волков Н. Д. «Труадек»: (Гос. евр. театр) // Труд. 1927. 14 янв.
Галахова О. И. Михоэлс спорит со Станиславским // Театральная жизнь. 1990. № 10.
Гвоздев А. А. «200 000»: (Моск. гос. евр. театр) // Красная газета.
1926. 20 авг.
Гвоздев А. А. «137 детских домов»: (Моск. гос. евр. театр) // Красная газета. 1926. 26 авг.
Гейзер М. М. Графиня и Король //Лит. газета. 1989. 8 февр.
Гейзер М. М. Имя, утвержденное временем // Труд. 1990. 15 марта.
Гейзер М. М. Король ГОСЕТа // Московская правда. 1990. 15 марта.
Гейзер М. М. Лебединая песня не спета // Театральная жизнь. 1990. № 10.
Гейзер М. М. Михоэлс, Бабель и «Еврейское счастье» // Советский экран. 1990. № 4.
Гейзер М. М. Наши предки были умнее: (Михоэлс и Утесов) // Советский цирк. 1990. № 12.
Гейзер М. М. Параллели судеб // Театральная жизнь. 1990. № 10.
Гейзер М. М. Соломон Михоэлс. М.: Изд-во МГПИ им. В. И. Ленина «Прометей», 1990.
Гейзер М. М. Михоэлс. Жизнь и смерть. М.: Журн. агентство «Гласность», 1998.
Гейзер М. М. Лермонтов, Андроников, Михоэлс // Гейзер М. М. Семь свечей. М.; Иерусалим, 1999.
Гейзер М. М. Прошлого «не отредактируешь» // Литературная газета. 1999.
Голубов В. И. «Человек воздуха» // Красная газета. 1931. 19 мая.
Голубов В. И. «Король Лир»: Шекспир в Гос. евр. театре // Труд. 1935. 15 февр.
Голубов В. И. «Разбойник Бойтре» // Известия. 1936. 14 окт.
Гордон Крэг о «Короле Лире» // Вечерняя Москва. 1935. 31 марта.
Гусман Б. Е. «Уриэль Акоста» в Евр. камерном театре // Правда. 1922. 19 апр.
Грановский А. М. Еврейский театр: «Ночь на старом рынке» / Беседу вел Д. М. // Искусство трудящимся. 1924. № 3.
Грановский А. М. Жюль Ромэн на еврейской сцене // Вечерняя Москва. 1926. 15 окт.
Гринвальд Я. Б. Четыре дня: «Юлис» в евр. гостеатре // Вечерняя Москва. 1931. 17 нояб.
Гринвальд Я. Б. «Тевье-молочник»: В Гос. евр. театре // Вечерняя Москва. 1938. 2 дек.
Гринвальд Я. Б. Михоэлс. М., 1948.
Дейч А. И. «Доктор» в ГОСЕТе // Новый зритель. 1925. № 50.
Дейч А. И. Маски Еврейского театра: (От Гольдфадена до Грановского). М.: Изд-во Русского Театрального общества, 1927.
Дрейден С. Д. «200 тысяч»: Гос. евр. театр // Ленинградская правда. 1926. 21 авг.
Дрейден С. Д. Торжество жизни: («Фрейлехс» в театре им. С. М. Михоэлса) // Вечерний Ленинград. 1948. 21 июня.
Еврейский камерный театр: К его открытию в июле 1919 года. Пг.: Еврейское театральное общество, 1919.
Живов М. С. Мечты и страдания Тевье-молочника // Театр. 1939. № 1.
Жирнов Е. Посмертная автокатастрофа // Коммерсантъ-Власть. 1998. № 2.
Загорский М. Б. Два актера: [О творчестве С. Михоэлса и В. Зускина, об их Короле и Шуте] // Вечерняя Москва. 1935. 4 марта.
Зингерман Б. И. Россия, Шагал, Михоэлс и другие // Театр. 1990. № 4.
Зускина А. В. Путешествие Вениамина // Гешерим. М.; Иерусалим, 2002.
Иванов В. В. Петроградские сезоны Еврейского камерного театра // Искусствознание. 1998. 11 февр.
Иванов В. В. К вопросу о еврейских гастролях ГОСЕТа: (1928 г.) // Соломон Михоэлс: Исследования, архивы, библиография. М., 1999.
История одной любви / Публ. и коммент. М. М. Гейзера // Экран и сцена. 1990. 7 нояб.
Каверин В. А. Из воспоминаний // Знамя. 1987. № 6.
Козловский И. С. Воспоминания о друге // Новости недели. Тель-Авив, 1990. 21 марта.
Котлярова М. Е. Воспоминания еврейской актрисы // Соломон Михоэлс: Исследования, архивы, библиография. М., 1999.
Котлярова М. Е. Сталин знал цену Михоэлсу / Беседу вела Н. Платонова // Самарский курьер. 1999. 28 июня.
Крути И. А. «Глухой»: ГОСЕТ // Известия. 1930. 5 февр.
Крэг Э. Г. Три разговора с Гордоном Крэгом // Советское искусство. 1935. 5 апр.
Кушниров А. Д. «Колдунья» в Еврейском Камерном // Зрелища. 1922. № 17.
Левидов М. Ю. Михоэлс: Люди советского искусства // Советское искусство. 1935. 5 нояб.
Левидов М. Ю. Мысль и Страсть: Король Лир в ГОСЕТе // О советской литературе: Крит, статьи. М., 1936.
Либединская Л. Б. Кто не жил в эпоху террора — этого никогда не поймет: [Рец. на кн.: Гейзер М. М. Соломон Михоэлс. — М., 1990] // Литературная газета. 1990.
Литвинов М. М. Моск. гос. еврейский театр: (К его 10-летнему юбилею) // За Коммунистическое просвещение. 1931. 25 янв.
Литовский О. С. Студия Государственного еврейского камерного театра / Уриэль // Известия. 1921. 13 янв.
Литовский О. С. «Уриэль Акоста»: Евр. камер, театр / Уриэль // Известия. 1922. 20 апр.
Литовский О. С. «Король Лир» Шекспира // Известия. 1935. 12 февр.
Лошак М. Ц. Несколько слов о «Винницкой Иерусалимке»: Моя работа над граф. серией «Легенда о Винницкой Иерусалимке» // Народ мой. СПб., 1994. № 3.
Любомирский О. От Гольдфадена до Грановского: к 50-летию Еврейского театра // Вестник работников искусств. 1926. № 10.
Любомирский О. Путь Гос. Евр. театра: [О создании моек. ГОСЕКТа под рук. А. М. Грановского. Репертуар театра. Гастроли по Украине и Белоруссии] // Жизнь искусства. 1926. № 33.
Любомирский О. Михоэлс. М.; Л.: Искусство, 1938.
Мандельштам О. Э. Моск. Госуд. Еврейский театр // Красная газета. 1926. 10 авг.
Марголин С. А. Вечер Шолом-Алейхема: (Евр. камер, театр) / С. М. // Новый зритель. 1924. № 2.
Марголин С. А. Мастера еврейского театра: (А. М. Грановский и С. М. Михоэлс — заел уж. арт. евр. театра) // Вечерняя Москва. 1926. 7 мая.
Марголин С. А. Тема о Хлестакове в Московском Гос. Еврейском театре // Программы государственных академических театров. 1926. № 54.
Маркиш П. Д. Ощущения писателя / Пер. с евр. М. А. Шамбадал // Театр и драматургия. 1935. № 4.
Маркиш П. Д. Народный артист Михоэлс // Советское искусство. 1939. 2 апр.
Марков П. А. «Ночь на старом рынке» / П. М. // Правда. 1925. 14 февр.
Михоэлс // Большая советская энциклопедия. М., 1938. Т. 39.
Михоэлс С. М. Автобиография // Актеры и режиссеры. «Театральная Россия». М., 1928.
Михоэлс С. М. Как крепили международную связь… ГОСЕТовцы // РАБИС. 1929. № 31.
Михоэлс С. М. Письмо в редакцию // Рабочий и искусство. 1929.
Михоэлс С. М. Проблема расслоения интеллигенции: «Спец» — в ГОСЕТе // Советское искусство. 1932. 20 янв.
Михоэлс С. М. К героической драме: Беседа // Уральский рабочий. Свердловск, 1933. 21 июля.
Михоэлс С. М. Государственный Еврейский театр // Правда. 1934. 13 нояб.
Михоэлс С. М. Разоблаченный Лир: Мысли об образе шекспировского героя // Советское искусство. 1934. 5 февр.
Михоэлс С. М. XV лет Государственного Еврейского театра // Рабочая Москва. 1935. 5 марта.
Михоэлс С. М. За высокую производительность труда // Советское искусство. 1935. 17 окт.
Михоэлс С. М. К высотам социалистического искусства // Пролетарий. Киев, 1935. 6 авг.
Михоэлс С. М. Право на прием // Советское искусство. 1935. 11 дек.
Михоэлс С. М. Пятнадцать лет Еврейского театра // Ленинградская правда. 1935. 27 февр.
Михоэлс С. М. Слушайте голос жизни!: [Выступление на конференции ленинградских драматургов] *// Красная газета. 1935. 15 июня.
Михоэлс С. М. Король и шут: На докл. нар. артиста С. Михоэлса о «Короле Лире» // Литературный Ленинград. 1936. 18 мая.
Михоэлс С. М. Об образе вообще и Лире в частности // Театр. 1937. № 6.
Михоэлс С. М. Их имена прокляты навеки: [О право-троцкистах] // Советское искусство. 1938. 10 марта.
Михоэлс С. М. Театр, рожденный революцией // Декада московских зрелищ. 1938. № 31.
Михоэлс С. М. «Тевье-молочник» // Вечерняя Москва. 1938. 21 окт.
Михоэлс С. М. 20 лет Московского Государственного Еврейского театра //Советская Белоруссия. Минск, 1939. 30 марта.
Михоэлс С. М. Шолом-Алейхем и его образы: К 80-летию со дня рождения // Советское искусство. 1939. 16 апр.
Михоэлс С. М. Актерское призвание: Беседа с молодыми актерами // Советское искусство. 1940. 29 дек.
Михоэлс С. М. Наши премьеры // Известия. 1940. 28 сент.
Михоэлс С. М. Роль и место режиссера в советском театре: [Доклад] // Режиссер в советском театре: Материалы первой Всесоюзной режиссерской конференции М.; Л., 1940.
Михоэлс С. М. «Чарли Чаплин»: Доклад в Доме кино // Вечерняя Москва. 1940. 8 февр.
Михоэлс С. М. Беззаветная преданность делу Ленина — Сталина: В фонд обороны СССР // Вечерняя Москва. 1941. 5 авг.
Михоэлс С. М. «Испанцы» Лермонтова // Театральная неделя. 1941. № 16.
Михоэлс С. М. Мы победим! //Труд. 1941. 25 июня.
Михоэлс С. М. Образ большевика на советской сцене // Театральная неделя. 1941. № 8.
Михоэлс С. М. Великая дружба // Литература и искусство. 1944.
Михоэлс С. М. Время не ждет // Театр. 1946. № 9.
Михоэлс С. М. Служу советскому народу! // Огонек. 1947. № 44.
Михоэлс С. М. Статьи. Беседы. Речи. М., 1960.
Михоэлс С. М. Статьи. Беседы. Речи. Воспоминания о Михоэлсе. М., 1965.
Михоэлс С. М. [Письмо к А. В. Ахметели от 4 апр. 1931 г.] // Сандро Ахметели: Сборник. Тбилиси, 1977.
Михоэлс С. М. [Из статьи «Уланова— Джульетта»]: К 70-летию Г. С. Улановой // Советская музыка. 1980. № 1.
Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
Михоэлс С. М. Письма о любви: [К А. П. Потоцкой-Михоэлс] // Театральная жизнь. 1990. № 10.
Михоэлс С. М. «Руки» // Московский комсомолец. 1990. 16 марта.
Михоэлс С. М. Письма С. Михоэлса к С. Радлову: [1929–1935] / Публ. В. Б. Левитиной // Континент. 1991. № 68.
Млечин В. М. «Глухой»: ГОСЕТ // Вечерняя Москва. 1930. 20 янв.
Млечин В. М. Путь творческой перестройки: «Юлис» в ГОСЕТ // Советское искусство. 1931. 25 нояб.
Млечин В. М. «Мера строгости»: Новый спектакль ГОСЕТ // Советское искусство. 1933. 2 нояб.
Млечин В. М. Убийство Михоэлса // Млечин Л. М. Председатели КГБ: Рассекреченные судьбы. М., 1999.
Муссинак Л. Французский водевиль в ГОСЕТ // Известия. 1934. 24 окт.
Нельс С. М. Тема Михоэлса // Театр. 1939. № 2/3.
Непомнящий С. Три еврейских изюминки: Гос. евр. камер, театр // Вечерняя Москва. 1924. 7 апр.
Нусинов И. М. Проблема Шекспира на театре: «Король Лир» в ГОСЕТе // Театр и драматургия. 1935. № 6.
Палатник С. А. Пятнадцать лет ГОСЕТ // Комсомольская правда. 1935. 5 марта.
Потапов В. И. Прошлое и настоящее ГОСЕТ // Советское искусство. 1937. 11 июня.
Радек К. Б. Большая победа советского театра // Известия. 1935. 27 февр.
Радлов С. Э. Моя встреча с ГОСЕТом // Рабочий и театр. 1935. № 8.
Рост Н. Грановский и его комедианты: Пер. с гол. // Зрелища. 1924. № 89.
Рост Н. Грановский и его комедианты // Программы государственных академических театров. 1926. № 50.
Ройзман М. Д. Нос. евр. театр: «Доктор» // Искусство трудящимся. 1925. № 52.
Рыклин Г. Е. «Еврейское счастье»: (Вместо рецензии) // Известия.1925. 15 нояб.
Рошаль Г. Л. «Семья Оппенгейм» // Декада московских зрелищ. 1938.
Рыклин Г. Е. «Десятая заповедь»: Гос. евр. театр // Известия. 1926. 26 янв.
Рыклин Г. Е. «Сто тридцать семь детских домов»: новая постановка Гос. евр. театра // Известия. 1926. 2 окт.
Рыклин Г. Е. Путешествие Вениамина Третьего: ГОСЕТ // Известия. 1927. 1 мая.
С. М. Михоэлс: Краткая биография // Мастерство актера: Хрестоматия. М., 1935.
Соболь А. Новый день еврейского театра // Театр и музыка. 1922. № 12.
Соболь А. Молодой театр: Михоэльс // Театр и музыка. 1923. № 11.
Стронгин В. Л. Обреченный Михоэлс и другие: Повесть // Стронгин В. Л. Актерские истории. Обреченный Михоэлс и другие. М., 1996.
Токарь X. К. «Товарищ из центра»: (Письмо из Киева) // Правда.1926. 2 июля.
Токарь X. К. Два театра: 1. Путь ГОСЕТа; 2. За собственным катафалком: ГАБИМА // Современный театр. 1928. № 23.
Турчанинова Е. Д. Шекспир в Еврейском театре: [О спектакле «Король Лир»] // Советское искусство. 1935. 11 февр.
Файль И. Д. Жизнь еврейского актера. М., 1938.
Фрейдкина Л. М. Король Лир в Московском государственном еврейском театре. М.: Дер Эмес, 1935.
Хащеватский М. Тевье-молочник: Гастроли моек. ГОСЕТа // Красное знамя. Харьков, 1941. 5 июня.
Эфрос А. М. Перед раскрывающимся занавесом: (К открытию сезона в Евр. театре) // Театр и музыка. 1922. № 11.
Юзовский И. И. «Король Лир» в ГОСЕТ / Ю. // Литературная газета. 1935. 15 февр.
Юзовский И. И. Образ и этика. М., 1947.
Автор выражает благодарность ЦГРАЛИ, РГБИ, ЦТБ за предоставленные материалы.
1890, 16 марта — Родился в Двинске.
1899— Написал текст и сыграл единственную роль в спектакле по собственной пьесе «Грехи молодости».
1903 — Окончил хедер в Двинске. «Лишь в тринадцать лет начал обучаться систематически светским наукам и русскому языку».
1905, весна — Семья Вовси переезжает из Двинска в Ригу. Поступил в реальное училище.
1906 — Знакомство с Иегудой Кантором, ученым и литератором, отцом будущей жены.
1907–1908 — Участвует в художественной самодеятельности, выступает с концертами в гимназиях. В это же время приобщается к политической деятельности.
1908 — Окончил реальное училище.
1909–1910 — Занимается репетиторством в Риге, готовится к поступлению в институт.
1911 — Поступил в Киевский коммерческий институт. Смерть отца.
1915 — Поступил на юридический факультет Петроградского университета.
1918 — Уходит с четвертого курса университета. Принят в Еврейскую школу сценических искусств А. М. Грановского.
1919, 23 января — Первый вечер Еврейской студии в Петрограде. Роль Первого слепорожденного в спектакле «Слепые» по Метерлинку и Старого еврея в спектакле «Грех» по Шолому Ашу.
Конец января — Принял сценический псевдоним Михоэлс.
1919, июль — Второй вечер Еврейской студии в Петрограде, роль Иона-дава в спектакле «Амнон и Томор» по Шолому Ашу, роль Духа былого в спектакле «Строитель» по пьесе, написанной Михоэлсом.
1919, июль — Третий вечер Еврейской студии в Петрограде, роль Уриэля Акосты в спектакле «Уриэль Акоста». Широко отмечен прессой.
1920 — Переезд студии в Москву.
1921, 1 января — Вечер Шолом-Алейхема (постановка А. Грановского, художник М. Шагал, композитор И. Ахрон), роль Менахема-Менделя в спектакле «Агенты» и реба Алтера в спектакле «Мазлтов».
1921 — Знакомство с Вениамином Зускиным.
1921, 13 февраля — «Перед рассветом» А. Вайтера (постановка и оформление А. Грановского, композитор И. Ахрон), роль Деда.
1921, 6 июня — «Бог мести» Ш. Аша (постановка А. Грановского, художник И. Рабинович), роль Шапшовича. По мнению М. Беленького — первая значительная роль Михоэлса.
1921, 24–26 июля — «Мистерия-буфф» Вл. Маяковского (на немецком языке в переводе Риты Райт) для делегатов III конгресса Коминтерна (постановка А. Грановского, один из режиссеров-ассистентов — С. Михоэлс), роль Интеллигента.
1922, 9 апрель — «Уриэль Акоста» К. Гуцкова (вторая редакция, постановка А. Грановского, художник Н. Альтман, композитор С. Розовский), роль Уриэля Акосты.
1922, 2 декабря — «Колдунья» — «еврейская игра» по А. Гольдфадену (постановка А. Грановского, художник И. Рабинович, композитор И. Ахрон), роль Гоцмаха исполнил Михоэлс, в роли Колдуньи — Зускин. Впервые возник дуэт «Михоэлс — Зускин». Об их игре в этом спектакле тепло отозвались Станиславский, Немирович-Данченко.
1923, 12 мая — «Карнавал еврейских масок» И. Добрушина, А. Кушнирова, Н. Ойслендера (постановка А. Грановского, художники И. Рабичев, А. Степанов, композитор Л. Пульвер), роль Вожака воровской ватаги.
1923, 2 октября — «200 000», музыкальная комедия по Шолом-Алейхему (обработка И. Добрушина, постановка А. Грановского, художники И. Рабичев и А. Степанов, композитор Л. Пульвер), роль Шимеле Сорокера. Об игре Михоэлса в этом спектакле много пишут в прессе. Среди рецензентов — О. Мандельштам.
1924, 29 марта — «Три еврейские изюминки» И. Добрушина и Н. Ойслендера (постановка А. Грановского, режиссеры П. Вульф, С. Михоэлс, художники И. Рабичев и А. Степанов), роль Лейбиша.
1925 — Фильм «Еврейское счастье» (сценарий по Шолом-Алейхему, режиссура А. Грановского и Г. Гринчер-Чериковера, художник Н. Альтман, композитор Л. Пульвер), роль Менахем-Менделя.
1925, 5 февраля — «Ночь на старом рынке», трагический карнавал по И.-Л. Перецу (постановка А. Грановского, художник Р. Фальк, композитор А. Крейн), роль Первого бадхена. Пресса снова отмечает дуэт «Михоэлс — Зускин» (статья П. Маркова в «Правде»),
1925, 15 ноября — «Доктор» Шолом-Алейхема (постановка А. Грановского, художник Н. Альтман, композитор А. Крейн), роль Свата реба Шолома.
1925 — Еврейский камерный театр преобразуется в ГОСЕТ — Государственный еврейский театр.
1926, 17 января — «Десятая заповедь», опера-памфлет по Гольдфадену (обработка И. Добрушина, постановка А. Грановского, художник Н. Альтман, композитор Л. Пульвер), роль Ахитойфеля (злого ангела).
1926, февраль — Присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.
1926— К 50-летию еврейского театра публикует статью «Еврейский театр и еврейский актер».
1926, 8 апреля — «137 детских домов», комедия А. Вевюрко (постановка А. Грановского, художник Н. Альтман, композитор А. Крейн), роль Шинделя.
1927, 9 января — «Труадек», эксцентрическая оперетта по Жюлю Ромену (постановка А. Грановского, художник Н. Альтман, композитор Л. Пульвер), роль Труадека.
1927, 20 апреля — «Путешествие Вениамина III», эпопея по Менделе Мойхер-Сфориму (постановка А. Грановского, художник Р. Фальк, композитор Л. Пульвер), роль Вениамина. О Михоэлсе, как о выдающемся актере, пишут во многих газетах.
1928, 20 февраля — «Человек воздуха» по Шолом-Алейхему (монтаж И. Добрушина, постановка А. Грановского, художник Д. Штеренберг, композитор Л. Пульвер), роль Менахем-Менделя.
1928, апрель — декабрь — Гастрольная поездка ГОСЕТа в Германию, Францию, Бельгию, Голландию, Австрию.
1929 — Назначен художественным руководителем ГОСЕТа.
1929, июнь — «Суд идет» по пьесе И. Добрушина — первый спектакль без Грановского.
1929, сентябрь — Публикует письмо в редакцию газеты «Рабочий и искусство», в котором смело выступает в защиту Грановского.
1930, 15 января — «Глухой» Д. Бергельсона (постановка С. Радлова, художник И. Рабинович), роль Глухого. Первая совместная работа с С. Радловым.
1931, январь — Михоэлс публикует в газете «Советское искусство» программную статью «Пути ГОСЕТа: Борьба за театр».
1931 — Открыт техникум при ГОСЕТе.
1931 — Начало преподавательской работы в техникуме ГОСЕТа.
1931, март — «Нит гедайгет» П. Маркиша (постановка С. Михоэлса, С. Радлова, художник И. Рабинович). Первый спектакль по пьесе П. Маркиша; с этого спектакля началось творческое содружество этих художников.
1931, 7 ноября — «Четыре дня» М. Даниэля (постановка С. Михоэлса и С. Радлова, художник И. Рабинович, композитор Л. Пульвер), роль Юлиуса.
1932, 12 марта — «Спец» И. Добрушина и И. Нусинова (постановка С. Михоэлса, художник А. Степанов), роль инженера Берга.
1932, июнь — Кончина Сарры Иегудовны Кантор, жены Михоэлса.
1932, декабрь — Кончина актрисы Евгении Левитас.
1933, 8 октября — «Мера строгости» Д. Бергельсона (постановка С. Михоэлса, художник М. Аксельрод, композитор Л. Пульвер).
1934, осень — Знакомство в Ленинграде с А. П. Потоцкой.
1934, 10 ноября — «Миллионер, дантист и бедняк» Э. Лабиша (постановка Л. Муссинака, художник А. Лабас, композитор Л. Пульвер), роль дантиста Гредана.,
1935, 5 марта — Присвоено звание народного артиста РСФСР.
1936, 22 марта — Выступление на собрании театральных работников в Клубе мастеров искусств. Тема: о формализме и натурализме. Михоэлс высказывает ряд смелых формулировок: «Формализм появляется тогда, когда форма отрывается от содержания и начинает жить сама по себе…», «Формализм — это „прокрустово ложе“…, в которое вкладывается любое содержание, причем, конечно, содержание приноравливается к форме…»
1936, 14 октября — «Разбойник Бойтре» М. Кульбака (постановка С. Михоэлса, художник А. Тышлер, композитор Л. Пульвер).
1937, 11 апреля — «Суламифь» С. Галкина (по А. Гольдфадену, постановка С. Михоэлса, художник В. Рындин, композитор Л. Пульвер). Впервые в ГОСЕТе поставлена опера. Михоэлс считал этот спектакль не только важным, но этапным.
1937, 7 ноября — «Семья Овадис» П. Маркиша (постановка С. Михоэлса, художник А. Тышлер, композитор Л. Пульвер), роль Зайвла Овадиса.
1938— Фильм «Семья Оппенгейм» (по роману Лиона Фейхтвангера, постановщик Г. Рошаль), роль доктора Якоби.
1938, 27 ноября — «Тевье-молочник» по Шолом-Алейхему (инсценировка И. Добрушина и И. Ойслендера, постановка С. Михоэлса, художник И. Рабинович, композитор Л. Пульвер), роль Тевье.
1939— Начал работать над ролью Ричарда III (постановка не была осуществлена).
1939, 9 марта — Вошел в состав Художественного совета Комитета по делам искусств при Совете Народных Комиссаров СССР.
1939, 31 марта — награжден орденом Ленина. Присвоено звание народного артиста СССР.
1939, 16 ноября — «Пир» П. Маркиша (постановка С. Михоэлса, художник А. Тышлер, композитор Л. Пульвер).
1940, 15 марта — Празднование 50-летия со дня рождения С. Михоэлса в ЦДРИ.
1940, 22 октября — «Соломон Маймон» М. Даниэля (постановка С. Михоэлса, художник Р. Фальк, композитор Л. Пульвер).
1941, 12 апреля — Присуждение ученого звания профессора.
1941, май — «Блуждающие звезды» по Шолом-Алейхему (инсценировка И. Добрушина, постановка С. Михоэлса, художник А. Тышлер, композитор Л. Пульвер).
1941, июль — Выступает в Москве на митинге с обращением «К братьям-евреям всего мира».
1941, август — Избран председателем Антифашистского еврейского комитета.
1941, октябрь — Эвакуация ГОСЕТа в Ташкент.
1942, 12 января — Спектаклем «Тевье-молочник» ГОСЕТ начал работу в Ташкенте.
1942, 4,5 апреля — Участвует вместе с Б. Бабочкиным, Н. Черкасовым, Л. Свердлиным, Ф. Раневской, Т. Макаровой, М. Штраухом, X. Насыровой, М. Турсунбаевой и В. Зускиным в концертах «Работники кино — эвакуированным детям».
1942, 22 августа — Выступает на сцене Ташкентского русского театра оперы и балета в программе антифашистского вечера и концерта. Собранные средства были переданы на производство танков и самолетов.
1942, октябрь-ноябрь — Консультирует постановку оперы А. Козловского «Улугбек» в Узбекском государственном театре оперы и балета.
1943, 23 августа — «Муканна» X. Алимджана в Узбекском театре драмы им. Хамзы (постановка С. Михоэлса и М. Уйгура, художник А. Тышлер, композиторы А. Успенский и А. Мушель).
1943, 11 сентября — Последний спектакль ГОСЕТа в Ташкенте — «Хамза» К. Яшена и А. Умари в постановке Э. Лойтера, декорации А. Тышлера.
1943 — Уезжает (вместе с И. Фефером) с Антифашистским еврейским комитетом в США, Канаду, Мексику, Великобританию.
1943, декабрь — Встречается в США со многими видными деятелями культуры и политики, в их числе — с Хаимом Вейцманом, будущим первым президентом Израиля.
1944 — Начинает работу над пьесой Д. Бергельсона «Принц Реубейни» в качестве постановщика и исполнителя главной роли. Спектакль не был осуществлен.
1945, 23 июля — «Фрейлехс» 3. Шнеера (Окуня) (постановка С. Михоэлса, художник А. Тышлер, композитор Л. Пульвер).
1946, 5 июня — Присуждение Государственной премии за спектакль «Фрейлехс».
1946, ноябрь — «Леса шумят» А. Брата и Г. Линькова (постановка С. Михоэлса, художник Р. Фальк, композитор Л. Пульвер).
1948, 5 января — Выступает в Комитете по сталинским премиям, сообщает о предстоящей поездке в Минск в качестве представителя Комитета по государственным премиям.
1948, 7 января — Репетиция пьесы «Принц Реубейни».
1948, 13 января — Трагическая гибель в Минске.
1948, 16 января — Гражданская панихида и похороны Михоэлса в Москве.
Абакумов Виктор Семенович (1908–1954), в 1946–1951 годах министр госбезопасности СССР.
Абдулов Осип Наумович (1900–1953), народный артист РСФСР.
Авессалом, третий из родившихся в Хевроне сыновей царя Давида.
Авраам, старший из израильских патриархов, прародитель еврейского народа.
Азарх Александра Вениаминовна (1892–1980), актриса, режиссер, педагог, жена А. М. Грановского.
Азеф Евно Фишелевич (1869–1918), эсер, секретный сотрудник Департамента полиции.
Ай, профессор Оксфордского университета
Акоста, да Коста Уриэль (ок. 1585–1640), философ-вольнодумец, автор книги «Исследования традиции фарисеев в сравнении с писаным Законом».
Алигер Маргарита Иосифовна (1915–1992), поэтесса, драматург.
Алимджан Хамид (Азимов Хамид Алимджанович) (1909–1944), узбекский поэт, драматург.
Аллилуева Светлана Иосифовна (1926), дочь Сталина, автор мемуаров.
Альтер Виктор (1890–1943), политический деятель, бундовец.
Альтман Йоган Львович (1900–1905), литературовед, театровед, руководитель литературной части ГОСЕТа.
Альтман Натан Исаевич (1889–1970), живописец, график, скульптор. Оформил ряд спектаклей в ГОСЕТе, среди них: «Уриэль Акоста», «Доктор» и фильм «Еврейское счастье».
Альтшуллер Александр Яковлевич (1870–1950), оперный певец, режиссер, педагог, засл. арт. РСФСР и УССР.
Амман, сановник персидского царя Артаксеркса (Ахашверона), затеявший уничтожение евреев, населявших персидскую державу. Его замыслы не осуществились, и враг евреев был низвергнут Мордехаем, одним из приближенных царя, и его племянницей Эсфирью, женой Артаксеркса, заступившейся за свой народ. В память о чудесном спасении евреев и их торжестве установлен праздник Пурим.
Амнон, старший сын царя Давида («и родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амнон…») (2 Царств, 3:2).
Анджапаридзе Вера (Верико) Ивлиановна (1897–1987), актриса, нар. арт. СССР.
Андреева (Юрковская) Мария Федоровна (1868–1953), актриса, политический деятель.
Андроников (Андроникашвили) Ираклий Луарсабович (1908–1990), писатель, литературовед, нар. арт. СССР.
Аркадьев (Бух) Лев Аркадьевич (1924–2003), писатель, кинодраматург.
Афиногенов Александр Николаевич (1904–1941), драматург.
Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (1889–1965), поэтесса.
Ахрон Иосиф Юльевич (1886–1943), скрипач, композитор.
Аш Шолом (1880–1957), прозаик, драматург.
Бабель Исаак Эммануилович (1891–1941), писатель.
Бабочкин Борис Андреевич (1904–1975), актер, режиссер, нар. арт. СССР.
Байрон лорд Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт.
Бар-Кохба («Сын Звезды», II в.), вождь антиримского восстания в Иудее.
Барсова (Владимирова) Валерия Владимировна (1892–1967), оперная певица, нар. арт. СССР.
Батурин Александр Иосифович (1904–1983), оперный певец, нар. арт. РСФСР.
Бачелис Илья Израилевич (1902–1951), театровед.
Безверхняя Эльша Моисеевна (1912), актриса ГОСЕТа.
Беленький Моисей Соломонович (1910–1997), профессор, директор театр, училища при ГОСЕТе.
Бейлис Менахем-Мендель Тевелев (1874–1934), приказчик, обвиненный в ритуальном убийстве и оправданный на судебном процессе.
Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич) (1880–1934), поэт.
Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873), поэт.
Бенуа Александр Николаевич (1870–1960), художник, искусствовед.
Бергельсон Давид Рафаилович (1884–1952), прозаик, драматург.
Берия Лаврентий Павлович (1899–1953), политический деятель, бывший нарком внутренних дел.
Берковская Эда Соломоновна, актриса ГОСЕТа, жена В. Л. Зускина.
Берсенев (Павлищев) Иван Николаевич (1889–1951), актер, режиссер, нар. арт. СССР.
Бескин Осип Мартынович (1892–1969), литературный и театральный критик.
Бешт (Баал Шем-Тов) Исраэль Бен-Элиазер (ок.1700-ок.1760), ребе, основоположник хасидизма.
Билль-Белоцерковский (Белоцерковский) Владимир Наумович (1885–1970), драматург.
Блок Александр Александрович (1880–1921), поэт.
Блок Жан Ришар (1884–1947), французский писатель.
Борщаговский Александр Михайлович (1913), прозаик, драматург, театральный критик.
Брагинский Иосиф Самуилович (1905–1989), востоковед.
Браунштейн Александр Евсеевич (1902–1986), биохимик, акад. АН СССР.
Брехт Ойген Бертольт Фридрих (1898–1957), немецкий поэт, драматург, режиссер.
Брокгауз Генрих Эдуард (1829–1914), издатель.
Бруштейн Александра Яковлевна (1884–1968), прозаик, драматург.
Буденный Семен Михайлович (1883–1973), маршал Советского Союза.
Бухарин Николай Иванович (1888–1938), партийный деятель, акад. АН СССР.
Бучма Амвросий Максимилианович (1891–1957), актер, режиссер, нар. арт. СССР.
Бялик Хаим-Нахман (1873–1934), поэт, прозаик.
Ваксберг Аркадий Иосифович (1927), прозаик, журналист.
Вандервельде Эмиль (1866–1938), бельгийский политический деятель, социалист.
Вахтангов Евгений Багратионович (1883–1922), режиссер, актер.
Вевьерко Авром (1887–1935), поэт, прозаик, драматург.
Вегенер Пауль (1874–1948), немецкий актер.
Вейцман Хаим (1874–1952), ученый, политический деятель, первый президент государства Израиль.
Велижев Александр Борисович (1877–1955), актер.
Вергелис Арон Алтерович (1917–1988), поэт, редактор журнала «Советиш геймланд».
Верхарн Эмиль (1855–1916), бельгийский поэт, драматург.
Вильнер Меир (1918—?), руководитель компартии Израиля.
Вишневский Всеволод Витальевич (1900–1951), драматург.
Вовси Аркадий Григорьевич (1899–1971), племянник Михоэлса, нар. арт. РСФСР.
Вовси Григорий Абрамович, племянник С. М. Михоэлса.
Вовси Ефим Михайлович (1890–1959), брат-близнец С. М. Михоэлса.
Вовси Зелман Гильевич (1921–1992), племянник С. М. Михоэлса.
Вовси Лев Михайлович, старший брат С. М. Михоэлса, прообраз героя спектакля «Грехи молодости», поставленного девятилетним Шлиомой Вовси..
Вовси Любовь Мироновна (1925), дочь профессора М. С. Вовси.
Вовси Мейер, дед С. М. Михоэлса.
Вовси Мирон Михайлович (1897–1960), акад. АМН СССР, двоюродный брат С. М. Михоэлса.
Вовси Михель Мейерович (?—1911), отец С. М. Михоэлса.
Вовси Наталья Соломоновна (1921), старшая дочь Соломона Михоэлса.
Вовси Нина Соломоновна (1925), младшая дочь Соломона Михоэлса.
Вовси Роман Моисеевич (1926), сын Моисея, брата С. М. Михоэлса.
Войтер (Вайтер) Айзик-Мейер (1878–1919), драматург.
Волгин Вячеслав Петрович (1879–1962), историк, акад. АН СССР.
Волконский (Муравьев) Николай Осипович (1890–1948), режиссер.
Воркель М., руководитель драматического кружка в Риге в начале XX века.
Воровская (урожд. Мамутова) Дора Моисеевна (?—1923), жена В. В. Воровского.
Воровский Вацлав-Феофил Вацлавович (1871–1923), партийный деятель, дипломат.
Галкин Самуил Залманович (1897–1960), еврейский поэт. Перевел на идиш трагедию Шекспира «Король Лир».
Гвоздев Алексей Александрович (1887–1939), театровед.
Гертнер Яков Давидович, актер ГОСЕТа.
Герцберг Александр Евсеевич (1917–2002), актер ГОСЕТа.
Гершман Борис Александрович (1917—?), заведующий репертуарной частью ГОСЕТа.
Гиацинтова Софья Владимировна (1895–1982), актриса, нар. арт. СССР.
Гилельс Эмиль Григорьевич (1916–1985), пианист, нар. арт. СССР.
Глебов (Котельников) Анатолий Глебович (1899–1964), драматург.
Глуз Михаил Семенович (1950), нар. арт. РФ, генеральный директор Международного культурного центра им. Михоэлса.
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель.
Гольдблат Моисей Исаакович (1896–1974), режиссер и актер, засл. арт. РСФСР, нар. арт. КазССР, засл. деят. иск. УССР.
Гольдман Нахум (1895–1982), один из лидеров сионистского движения.
Гольдфаден Авраам (1840–1903), драматург, поэт, основатель еврейского театра в России.
Гольдшмидт Альфонс (1879—?), профессор (Германия).
Горин Бернард (Гойда Ицхак) (1868–1925), прозаик, драматург, театровед.
Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868–1936), русский писатель.
Готорн Нэтэниэл (1804–1864), американский писатель.
Гофштейн Давид Наумович (1889–1952), поэт.
Грановский (Азарх) Алексей (Абрам) Михайлович (1890–1937), режиссер, основатель ГОСЕТа, заслуженный артист РСФСР.
Грибоедов Александр Сергеевич (1790–1829), драматург, дипломат.
Гринберг Зорах (1887–1949), публицист, общественный деятель.
Гринвальд Яков Борисович, театровед, автор книги «Михоэлс», изданной в 1948 году на идиш и на русском языке.
Гроссман Василий Семенович (Иосиф Соломонович) (1905–1964), писатель.
Грузенберг Оскар Осипович (Израиль Иосифович) (1866–1940), юрист, защитник на процессе М. Бейлиса.
Гуго Капет (?—996), основатель династии Капетов во Франции.
Гукайло Лев Израилевич, актер ГОСЕТа.
Гумилев Николай Степанович (1886–1921), поэт.
Гускинд Рувим, руководитель еврейского театра в США.
Гуцков Карл фон (1811–1878), немецкий прозаик, драматург.
Даниэль Мордехай Меерович (1890–1940), прозаик, драматург.
Дейч Александр Иосифович (1893–1972), литературовед, театровед, писатель.
Дизраэли Бенджамин (1804–1881), лорд, премьер-министр Великобритании, писатель.
Добрушин Иехескель Моисеевич (1883–1953), драматург, критик.
Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957), театральный художник, график.
Довгалевский Валериан Савельевич (Саулович) (1885–1934), политический и государственный деятель, дипломат, с 1928 по 1934 год посол СССР во Франции.
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель.
Драгунский Давид Абрамович (1910–1992), генерал-полковник танковых войск, дважды Герой Советского Союза, с 1983 года председатель АКСО.
Драйзер Теодор (1871–1945), американский писатель.
Дрейфус Альфред (1859–1939), офицер французского генерального штаба, невинно осужденный к пожизненной каторге, освобожден в 1906 году.
Дружинин Александр Васильевич (1824–1864), писатель, литературный критик.
Дункан Анджела Айседора (1877–1927), американская танцовщица.
Дьяконов Игорь Михайлович (1914/1915—?), востоковед, переводчик.
Егорова, секретарь Наркомата просвещения.
Есенин Сергей Александрович (1895–1925), поэт.
Жаботинский Зеев (Владимир Евгеньевич) (1880–1940), поэт, прозаик, общественный деятель.
Завадский Юрий Александрович (1894–1977), актер, режиссер, нар. арт. СССР.
Збарский Борис Ильич (Бэр Элиевич) (1885–1954), биохимик, акад. АМН СССР.
Зингерман Борис Исаакович (1928), театровед.
Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958), писатель.
Зубков Константин Александрович (1888–1956), режиссер, нар. арт. СССР.
Зускин Вениамин Львович (1899–1952), актер и режиссер ГОСЕТа, нар. арт. РСФСР и УзбССР.
Ибсен Генрик Юхан (1828–1906), норвежский драматург.
Иван IV (Грозный) (1530–1584), великий князь Московский и всея Руси, царь всея Руси.
Иванов А, проректор Петербургского, позднее — Петроградского университета.
Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963), писатель.
Иеремия, пророк периода Вавилонского плена. Его именем была названа книга. Последнее пророчество датируется 587 годом до н. э., то есть временем, когда он был насильно вывезен в Египет, где, согласно преданиям, в 580 году до н. э. был побит евреями, находившимися в изгнании, которые отвергали его пророчества.
Ицхоки Ева Давыдовна (1906), актриса ГОСЕТа.
Каверин (Зильбер) Вениамин Александрович (1902–1989), писатель.
Каверин Федор Николаевич (1897–1957), режиссер.
Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991), партийный и государственный деятель.
Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936), партийный и государственный деятель.
Каминка Эммануил Исаакович (1902–1972), артист, чтец.
Каминская (Каминьская) Эстер-Рахель (1868–1925), актриса, режиссер.
Кантор Лев Осипович (Иегуда-Лейб) (1849–1915), ученый, публицист, тесть С. М. Михоэлса.
Кантор Сарра Львовна (1900–1932), жена С. М. Михоэлса.
Капица Петр Леонидович (1894–1984), физик, акад. АН СССР, лаур. Нобелевской премии.
Карл II Лысый (823–877), император Священной Римской империи, король Западной Франции.
Карчмер Эсфирь Иосифовна (1899–1986), актриса петербургского ЕКТ и ГОСЕТа, засл. арт. РСФСР.
Качалов (Шверубович) Василий Иванович (1875–1948), актер, нар. арт. СССР.
Квитко Лев (Лейб) Моисеевич (1890–1952), поэт.
Кетчер Николай Христофорович (1806?—1886), переводчик, литератор.
Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886–1934), партийный и государственный деятель.
Климов Михаил Михайлович (1880–1942), актер, нар. арт. СССР.
Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868–1959), актриса, нар. арт. СССР.
Ковенская Этель (1926), актриса ГОСЕТа.
Козловский Иван Семенович (1900–1993), оперный певец, нар. арт. СССР.
Колумб Христофор (1451–1506), мореплаватель, открыл Америку.
Кольцов (Фридлянд) Михаил Ефимович (1898–1940), журналист, писатель.
Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910), актриса.
Корнева Олимпиада Григорьевна (1921—?), переводчик, преподаватель.
Короленко Владимир Галактионович (1853–1921), писатель.
Корш Федор Адамович (1852–1923), театральный деятель.
Котлярова Мария Ефимовна (1918), актриса ГОСЕТа, автор книги «Плечо Михоэлса».
Кроль Георгий Александрович (1893–1932), кинорежиссер.
Крути Исаак Аронович (1890–1955), театральный критик.
Крылов Иван Андреевич (1769–1844), баснописец.
Крэг (Крэйг) Генри Эдуард Гордон (1872–1966), английский режиссер, художник.
Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936), поэт.
Кузьмин Николай Васильевич (1890–1987), народный художник РСФСР, писатель.
Кульбак Моисей Соломонович (1896–1940), поэт, драматург.
Куприн Александр Иванович (1870–1938), писатель.
Курбас Лесь (Александр Зенон Степанович) (1887–1942), актер, режиссер, нар. арт. УССР.
Кушнер Александр Семенович (1936), поэт.
Кушниров Арон Давидович (1890–1949), поэт, прозаик, драматург.
Лабиш Эжен Марен (1815–1888), французский драматург.
Лаврентьев Андрей Николаевич (1882–1935), режиссер, актер, засл. деят. иск. РСФСР.
Лазебникова-Маркиш Эстер (1922), жена П. Маркиша, автор мемуаров.
Лахути Абулькасим (1887–1957), таджикский поэт.
Лашевич Ида Владимировна (?—1937), директор ГОСЕТа.
Леви-Ицхок из Бердичева (ок. 1740–1810), хасидский цадик и раввин.
Левидов Лев, председатель Еврейского театрального общества в Петрограде в 1916–1920 годах.
Левидов Михаил Юльевич (1891–1942), писатель, автор ряда статей о творчестве Михоэлса.
Левитас Евгения Максимовна (?—1932), актриса ГОСЕТа.
Леонов Леонид Максимович (1899–1994), писатель.
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт, прозаик, драматург.
Либединская Лидия Борисовна (1921), прозаик, литературовед.
Лидин (Гомберг) Владимир Германович (1894–1979), писатель.
Липкин Семен Израилевич (1911–2002), поэт.
Литваков Моисей Ильич (1880–1939), литературный критик, автор книги «Пять лет Государственного еврейского камерного театра».
Литвинов (Гуревич) Лев Маркович (1899–1963), режиссер, засл. деят. иск. БССР и ТатАССР.
Литовский Осаф Семенович (1892–1971), журналист, театральный критик.
Лозовский (Дридзо) Соломон Абрамович (1878–1952), государственный и партийный деятель.
Лойтер Эфраим Барухович (1888–1963), режиссер, засл. арт. УзбССР.
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), государственный и партийный деятель.
Лурье Исаак Григорьевич, актер ГОСЕТа.
Лыньков Григорий Матвеевич (1899–1961), Герой Советского Союза, соавтор пьесы «Леса шумят».
Любимов Юрий Петрович (1917), актер, режиссер, нар. арт. РСФСР.
Любомирский Иегуше (1884–1977), театральный критик.
Лямпе Григорий Моисеевич, актер ГОСЕТа, засл. арт. РСФСР.
Маймон Соломон (1754–1800), религиозный философ.
Макдональд Джеймс Рамсей (1866–1937), политический деятель Великобритании, лейборист.
Маккавей Иегуда, один из руководителей восстания иудеев против селевкидов (эллинская династия) во времена Антиоха IV. Восстание под руководством Маккавеев (II в. до н. э.) привело к созданию независимого Иудейского царства.
Максимов (Самусь) Владимир Васильевич (1880–1937), актер, засл. арт. РСФСР.
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938), поэт.
Манн Томас (1875–1955), немецкий писатель, лаур. Нобелевской премии.
Маргулян Арнольд Эвадьевич (1879–1950), дирижер, нар. арт. УССР и РСФСР, лаур. государственных премий.
Марджанов (Марджанишвили) Константин Александрович (1872–1933), режиссер, нар. арт. ГрузССР.
Маркиш Перец Давидович (1895–1952), поэт, прозаик, драматург.
Марков Павел Александрович (1897–1980), театровед, засл. деят. иск. РСФСР.
Маркс Карл (1818–1883), основоположник марксизма, философ, экономист.
Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964), поэт, переводчик.
Матлен Иухан (XIII в.), еврейский ученый во Франции.
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), поэт.
Медведев, театральный антрепренер в Двинске.
Межиров Александр Петрович (1923), поэт.
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940), актер, режиссер, нар. арт. РСФСР.
Метерлинк гр. Морис Полидор Мари Бернар (1862–1949), бельгийский драматург, поэт.
Минкова Юстина Яковлевна, актриса ГОСЕТа, засл. арт. РСФСР.
Мирский (Святополк-Мирский) Дмитрий Петрович (1890–1939), критик, историк литературы.
Млечин Владимир Михайлович (1901–1970), театровед, деятель культуры.
Моисей Сандро (Алессандро) (1880–1935), немецкий актер.
Мойхер-Сфорим Менделе (Абрамович Шолом Яков) (1836–1917), писатель, драматург.
Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986), партийный и государственный деятель.
Молхо Соломон (1500–1532), каббалист, соратник Реубейни.
Мольер (Поклен Жан Батист) (1622–1673), французский драматург, актер.
Монахов Николай Федорович (1875–1936), драматический и опереточный актер, нар. арт. РСФСР.
Моруа Андре (Эрзог Эмиль) (1885–1967), французский писатель.
Москвин Иван Михайлович (1874–1946), актер, нар. арт. СССР.
Мусоргский Модест Петрович (1839–1881), композитор.
Муссинак Леон (1890–1964), французский драматург, театровед.
Мухина Вера Игнатьевна (1889–1953), скульптор, нар. худ. СССР.
Мясковский Николай Яковлевич (1881–1950), композитор, нар. арт. СССР.
Надсон Семен Яковлевич (1862–1887), поэт.
Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858–1943), режиссер, драматург.
Нистер (Каганович) Пинхас (1884–1950), писатель.
Новицкий Павел Иванович (1888–1971), театровед.
Нолле-Коган (урожд. Нолле) Надежда Александровна (1888–1966), переводчица.
Нусинов Исаак Маркович (1889–1949), литературный критик, театровед.
Ньюболд Морис, заместитель мэра Нью-Йорка (1941–1945).
Образцов Сергей Владимирович (1901–1992), актер, режиссер, нар. арт. СССР.
Обухова Надежда Андреевна (1886–1961), оперная певица, нар. арт. СССР.
Ойслендер Наум Евсеевич (1893–1962), литературовед, поэт, драматург.
Орланд Герш (1896–1946), писатель, журналист.
Орленев (Орлов) Павел Николаевич (1869–1932), актер, нар. арт. РСФСР.
Орлов Дмитрий Николаевич (1892–1955), актер, нар. арт РСФСР.
Охлопков Николай Павлович (1900–1967), актер, режиссер, нар. арт. СССР.
Ошерович Мендель (1884–1965), американский писатель-публицист.
Палатник Шмуэль, публицист, деятель РАБИСа.
Палленберг Макс (1877–1934), немецкий актер.
Панферов Федор Иванович (1896–1960), писатель.
Перец Ицхок-Лейбуш (1852–1915), писатель.
Пешкова (урожд. Волжина) Екатерина Павловна (1878–1965), жена М. Горького, общественный деятель.
Пискатор Эрвин (1893–1966), немецкий режиссер.
Питовранов Е. П., генерал НКВД.
Платнер Исаак Хаймович (1895–1961), поэт.
Плятт Ростислав Янович (1908–1989), актер, нар. арт. СССР.
Попов Алексей Дмитриевич (1892–1961), режиссер, актер, нар. арт. СССР.
Пославский Борис Дмитриевич (1897–1951), киноактер, засл. арт. РСФСР.
Потапов-Голубов Владимир Иванович (?—1948), театровед, ответственный секретарь журн. «Театр»; погиб вместе с Михоэлсом.
Потоцкая (урожд. Воейкова) Варвара Васильевна, филолог, директор гимназии, мать А. П. Потоцкой.
Потоцкая-Михоэлс Анастасия Павловна (1907–1981), жена С. М. Михоэлса, ученый-биолог.
Пульвер Лев (Лейб) Михайлович (1883–1970), композитор, дирижер, скрипач, альтист; заведующий музыкальной частью ГОСЕТа, нар. арт. РСФСР
Пустыльник Абрам Соломонович, актер ГОСЕТа.
Пыжова Ольга Ивановна (1894–1972), актриса, педагог, засл. деят. иск. РСФСР, ТатАССР и ТаджССР.
Рабинович Исаак Моисеевич (1894–1961), театральный художник, засл. деят. иск. РСФСР. В ГОСЕТе с 1920 года оформил много спектаклей, среди них — «Бог мести» и «Тевье-молочник».
Радек (Собельсон) Карл Бернгардович (1885–1939), партийный деятель, публицист.
Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958), режиссер, засл. деят. иск. РСФСР.
Райт Рита, Ковалева Раиса Яковлевна (1898–1988), переводчица, писатель.
Раневская (Фельдман) Фаина Георгиевна (1896–1984), актриса, нар. арт. СССР.
Резник Илья Иосифович, минский журналист.
Резник Липе (1890–1944), поэт, драматург.
Рейнхардт (Гольдман) Макс (1873–1943), немецкий режиссер.
Реубейни (Реубени) Давид (1480?—1538), рук. мессианского движения евреев средневековой Европы.
Ричард III (1452–1485), английский король, последний король из династии Йорков.
Робсон Поль (1898–1976), негритянский певец США.
Рогаллер Илья Самойлович, актер ГОСЕТа.
Розина Лия Моисеевна, актриса ГОСЕТа, засл. арт. РСФСР.
Розовский Шломо (Соломон Беркович) (1878–1962), композитор, педагог.
Ром Либа-Рейза Иоселевна, актриса ГОСЕТа, засл. арт. РСФСР.
Ромен Жюль (1885–1972), французский писатель.
Россов (Пашутин) Николай Петрович (1864–1955), актер-трагик, засл. арт. РСФСР.
Ротбаум Анна Давыдовна, театровед, сестра С. Д. Ротбаум.
Ротбаум Сарра Давыдовна, актриса ГОСЕТа, засл. арт. РСФСР.
Ротбаум Яков Давыдович, брат С. Д. Ротбаум.
Рошаль Григорий Львович (1898–1983), кинорежиссер, нар. арт. СССР.
Рудницкий Константин Лазаревич (1920–1988), искусствовед, писатель.
Русланова Лидия Андреевна (1900–1973), певица, засл. арт. РСФСР.
Рыклин Григорий Ефимович (1894–1975), писатель.
Рыков Алексей Иванович (1881–1938), партийный и государственный деятель.
Садовский Пров Михайлович (1874–1947), актер, режиссер, нар. арт. СССР.
Сахновский Василий Григорьевич (1886–1945), режиссер, педагог, нар. арт. РСФСР.
Светлов (Шейнкман) Михаил Аркадьевич (1903–1964), поэт.
Сигизмунд III Ваза (1566–1632), король Речи Посполитой и Швеции.
Симонов Рубен Николаевич (1899–1968), актер, режиссер, нар. арт. СССР.
Скрябин Александр Николаевич (1871/1872–1915), композитор.
Соболь Андрей (Юлий Михайлович) (1888–1926), писатель.
Соколовский Александр Лукич (1837–1921), переводчик.
Софокл (ок. 496–406 до н. э.), древнегреческий поэт, драматург.
Спиноза, д’Эспиноза Бенедикт (Барух) (1632–1677), философ.
Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863–1938), актер, режиссер, нар. арт. СССР.
Стефан Баторий (1533–1586), король польский, полководец.
Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911), государственный деятель.
Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), журналист, издатель.
Судаков Илья Яковлевич (1890–1969), режиссер, актер, нар. арт. РСФСР.
Судоплатов П. А., генерал НКВД.
Табидзе Тициан Юстинович (1895–1937), грузинский поэт.
Таиров (Корнблит) Александр Яковлевич (1885–1950), режиссер, нар. арт. РСФСР.
Тарханов (Москвин) Михаил Михайлович (1877–1948), актер, нар. арт. СССР.
Тенеромо (Фейнерман Исаак Борисович) (1865–1925), журналист.
Тиссе Бианка Петровна (1921), жена Э. К. Тиссе.
Тиссе Эдуард Казимирович (1897–1961), кинооператор, засл. деят. иск. РСФСР и ЛатвССР.
Толстой Алексей Николаевич (1882/1883–1945), писатель, акад. АН СССР.
Тренев Константин Андреевич (1876–1945), драматург, прозаик.
Третьяков Сергей Михайлович (1892–1939), драматург, писатель.
Трофименко Ирина Дмитриевна (1906–1974), жена С. Г. Трофименко.
Трофименко Сергей Георгиевич (1899–1953), генерал-полковник, Герой Советского Союза.
Тур Леонид Давыдович (1905–1961), драматург, публицист.
Туровская Майя Иосифовна (1924), театровед, сценарист.
Турчанинова Евдокия Дмитриевна (1870–1963), актриса, нар. арт. СССР.
Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937), маршал Советского Союза.
Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943), писатель, литературовед.
Тышлер Александр Григорьевич (1898–1980), театральный художник, живописец, график, засл. деят. иск. УзбССР, оформил ряд спектаклей в ГОСЕТе: «Король Лир», «Фрейлехс» и др.
Тютчев Федор Иванович (1803–1873), поэт.
Уйгур (Маджидов) Манной (1897–1955), режиссер, актер, драматург, нар. арт. УзбССР.
Уланова Галина Сергеевна (1909–1990), балерина, нар. арт. СССР.
Ульянов Михаил Александрович (1927), нар. арт. СССР.
Умари Амин (1912–1942), узбекский поэт, драматург.
Унгерн фон Штернберг (? — 1924), режиссер.
Утесов Леонид Осипович (1895–1982), актер, певец, нар. арт. СССР.
Фадеев Александр Александрович (1901–1956), писатель.
Фальк Роберт Рафаилович (1886–1958), живописец, в ГОСЕТе оформил «Путешествие Вениамина III», «Леса шумят» и др.
Фейхтвангер Лион (1884–1958), немецкий писатель.
Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892), поэт.
Фефер Исаак Соломонович (1900–1952), поэт.
Филиппов Борис Михайлович (1903—?), театральный деятель, литератор.
Финк Лев Адольфович (1916–1998), литературовед, ученый.
Финкелькраут Даниил Моисеевич, актер ГОСЕТа, засл. арт. РСФСР.
Фихтенгольц (Каганович) Юлия Моисеевна (1919–1961), племянница Л. М. Кагановича.
Фруг Семен Григорьевич (1860–1916), поэт.
Фрумкииа Мария Яковлевна (1880–1943), член ВКП(б), член ЦБ Евсекции, принимала участие в издании Собрания сочинений Ленина на идиш, отстаивала ГОСЕТ в середине 20-х годов.
Хазак Тувье Иоселевич, актер ГОСЕТа.
Хмара Семен Михайлович (1901–1989), актер, друг Михоэлса.
Хмелев Николай Павлович (1901–1945), актер, режиссер, нар. арт. СССР.
Ходотов Николай Николаевич (1878–1932), актер, засл. арт. РСФСР.
Храпченко Михаил Борисович (1904–1986), литературовед, акад. АН СССР.
Цанава Лаврентий Фомич, генерал-лейтенант КГБ Белоруссии.
Цветаева Марина Ивановна (1892–1941), поэт.
Цемах Наум Лазаревич (1887–1939), актер, основатель театра «Габима».
Цетлин Моисей Наумович (1905–1995), поэт.
Цыбулевская Ольга Моисеевна, актриса ГОСЕТа.
Цыбулевский Яков Наумович, актер ГОСЕТа.
Цынтер Израиль, историк, ученый.
Чайковский Петр Ильич (1840–1893), композитор.
Чаплин Чарлз Спенсер (1889–1977), актер, кинорежиссер.
Чернов Михаил Александрович (1891–1938), нарком земледелия СССР.
Черчилль Клементина, жена Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании.
Чехов Михаил Александрович (1891–1955), актер, засл. арт. гос. акад. театров.
Чечик Давид Лазаревич, актер ГОСЕТа.
Шавердова Роксана Михайловна (1934–1999), редактор, литератор.
Шагал Марк Захарович (1887–1985), художник.
Шаляпин Федор Иванович (1873–1938), певец, нар. арт. РСФСР.
Шамфор Себастьен Рок Николя де (1741–1794), французский философ.
Шварц Евгений Львович (1896–1958), писатель.
Шварц Морис, режиссер (США).
Шверник Николай Михайлович (1888–1970), государственный и партийный деятель.
Шейнин Лев Романович (1906–1967), ответственный работник Прокуратуры СССР, литератор.
Шекспир Уильям (1564–1616), английский писатель.
Шехтер Марк Моисеевич, актер ГОСЕТа.
Шидло Б. Д., засл. арт. РСФСР, актер ГОСЕТа.
Шимелиович Борис Абрамович (1892–1952), главный врач Клинической больницы им. Боткина.
Шимелиович Юлиус Абрамович, участник Гражданской войны, прообраз героя пьесы «4 дня».
Шкловский Виктор Борисович (1893–1984), писатель.
Шмаенок Анна Борисовна, актриса ГОСЕТа.
Шнеер Александр Яковлевич (1893–1999), театровед.
Шнеер-Окунь Л. Я., писатель, драматург, автор пьесы «Фрейлехс».
Шнеурсон (Шнеуэр-Залман) Ребе (1747–1812), основоположник любавичского хасидского движения.
Шолом-Алейхем (Рабинович Шолом Нохумович) (1859–1916), писатель.
Шолохов Михаил Александрович (1905–1984), писатель, акад. АН СССР, лаур. Нобелевской премии.
Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975), композитор, нар. арт. СССР.
Штейман М., актер ГОСЕТа, засл. арт. РСФСР.
Штейнер Рудольф (1861–1925), немецкий философ-мистик.
Штраух Максим Максимович (1900–1974), актер, нар. арт. СССР.
Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948), кинорежиссер, засл. деят. иск. РСФСР.
Эйнштейн Альберт (1879–1955), физик, лаур. Нобелевской премии.
Эпштейн Евгений Борисович, актер ГОСЕТа.
Эпштейн Шахно (1883–1945), общественный деятель.
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), писатель.
Эрлих Генрих (1882–1942), политический и профсоюзный деятель.
Эфрос Абрам Маркович (1888–1954), искусствовед, литературовед, театральный критик.
Юзовский Ю. (Иосиф Ильич) (1902–1964), театральный и литературный критик.
Юнг (Шпиколицер) Клара Марковна (1883–1952), опереточная и эстрадная актриса.
Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948), актер, нар. арт. СССР.
Яблочкина Александра Александровна (1866–1964), актриса, нар. арт. СССР.
Ягода Генрих (Генох) Григорьевич (1891–1938), генеральный комиссар государственной безопасности.
Яковлева Варвара Николаевна (1884–1941), партийный и государственный деятель.
Яунзем Ирма Петровна (1897–1975), камерная певица, засл. арт. БССР, нар. арт. РСФСР.
Яшен (Нугманов) Камиль (1909), узбекский поэт, драматург, народный писатель УзбССР.
Агада (или Аггада) — собирательное название сказок, легенд, повествований, содержащихся в Талмуде и мидрашах в виде притч, нравоучений, проповедей. Сборники «Агада» неоднократно издавались в России в переводах С. Г. Фруга. Составителями этих сборников были X.-Н. Бялик и И. X. Равницкий.
Балагула — местечковый извозчик.
Бар-кохба — «сын звезды», возглавил (132–135) восстание против римского императора Адриана.
Бар мицве — праздничный ритуал, знаменующий окончание детства мальчика, его тринадцатилетие. С этого дня отец освобождается от ответственности перед Богом за поведение сына, мальчик сам отвечает за свои грехи.
Бет га мидраш — молитвенный дом, где изучается и истолковывается Тора и другая религиозная литература.
Галут (букв, «изгнание») — особого рода этническое явление, представляющее собой вынужденное пребывание еврейского народа вдали от исторической родины, вне Эрец-Исроэль. И хотя принято считать, что изгнание евреев длилось около 2000 лет, галут как явление, по существу, сопровождал евреев в течение всей их истории. Уже Аврааму — первому еврею на земле — было сказано: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей…» Потомки Авраама, рассеянные по разным странам, шли на лишения и страдания, чтобы сохраниться как народ, и не теряли веру в то, что в конце концов вернутся на свою землю, на родину своих предков.
Каддиш — молитва, читаемая во время литургии. В народном быту каддиш — главным образом поминальная молитва, и именно в этом качестве он встречается в произведениях разных поэтов, например Г. Гейне, А. Галича. Поминальный каддиш читается по близкому родственнику на протяжении одиннадцати месяцев после его смерти.
Кантор (или хаззан) — певец, ведущий богослужение в синагоге.
Клезмеры — еврейские музыканты, играющие на свадьбах или других торжествах в своем местечке. Нередко достигали высокой степени профессионализма. Их искусство отличалось экспрессивной манерой игры, виртуозной импровизационностью, прекрасным чувством ансамбля. Восхищался игрой клезмеров такой знаток фольклора, как великий русский композитор Н. Римский-Корсаков, неоднократно слышавший их у себя на родине, в Тихвине. Искусство клезмеров обычно было потомственной профессией; многие всемирно известные музыканты происходят из семей клезмеров — например, скрипач Яша Хейфец или основатель прославленной одесской скрипичной школы П. Столярский.
Кумран — местность у Мертвого моря, где в 1947 году были найдены рукописи на древнееврейском, арамейском и других древних языках, относящиеся ко II веку до н. э. — II веку н. э.
Марраны — евреи, жившие в средневековой Испании и Португалии, вынужденно принявшие христианство. Их называли «новыми христианами». Инквизиция не прекращала их преследовать и строго следила за теми, кто вызывал подозрения. Отступникам от христианства грозило сожжение на костре. Тем не менее многие из марранов продолжали втайне исповедовать иудейскую религию. Когда в 1494 году евреев изгоняли из Испании, марраны полностью разделили их участь.
Мацца — пресные лепешки, употребляемые вместо хлеба в течение пасхальной недели.
Мезуза — маленький свиток пергамента, содержащий два отрывка из Второзакония Моисея. Верующие евреи укрепляют мезузу на правом косяке двери и, входя в дом, целуют ее.
Меламед — учитель в хедере.
Менора (букв, «светильник») — обычно семисвечник (бывает и четырех-, шести- и девятисвечник), еще с библейских времен входящий в оснащение храма, где он горел всю ночь (Исход, 27:20). Со II века н. э., подобно тому, как крест становится символом христианства, менора становится символом иудаизма. Существовал обычай (особенно в диаспоре) украшать изображениями меноры стены гробниц, саркофаги. Менора в наши дни является распространенной еврейской эмблемой; она входит в качестве одного из основных элементов в государственный герб Израиля.
Мидраш — общее название сборников раввинистического толкования Библии.
Пасха (Песах) — иудейский праздник в память об исходе из Египта.
Пурим — веселый еврейский праздник в честь победы над Амманом (см. Краткие сведения об именах). Пурим сопровождается театрализованными представлениями и маскарадом, обменом подарками, раздачей вкусной еды и денег беднякам.
Сефарды — потомки евреев, изгнанных из Испании и Португалии в конце XV века.
Стена Плача — иудейская святыня в Иерусалиме. Единственная уцелевшая стена, сохранившаяся после разрушения римским императором Титом Второго храма.
Талмуд — (букв. «Учение») — собрание догматических, религиозно-этических и правовых положений иудаизма, сложившихся с IV века до н. э. по V век н. э., ставшее основой жизни верующих евреев. Основополагающей частью Талмуда, состоящего из Иерусалимского и Вавилонского кодексов, является Мишна — сборник многочисленных афористических изречений.
Танах — принятое в современном иврите название Библии (Пятикнижие, Пророки, Писание).
Тора — название свода законов, дарованных Богом евреям через Пророка Моисея. Моисей передал Тору в устном виде, а позже она была записана на свитках, священных для евреев. В узком смысле — Пятикнижие Моисея.
Фрейлехс — веселье.
Хасид — праведник, отличающийся строгим соблюдением религиозных законов и правил поведения. Хасидское движение возникло на Украине во второй половине XVIII века. Основоположником его был Бешт (см. именной указатель). Учение хасидов пронизано любовью к человеку и верой в близость человека к Богу.
Хедер — традиционная начальная религиозная школа.
Холокост (Шоа) — «всесожжение» (греч.), так именуется катастрофа, постигшая евреев Европы в годы Второй мировой войны.
Хупа (или Хуппа) — свадебный балдахин, который держат над женихом и невестой во время обряда бракосочетания. Имеет место в спектакле «Фрейлехс». Хупа символизирует семейное жилище, покров, не только для молодоженов, но и для их близких. Поэтому она открыта со всех сторон. Понятие дома так важно для евреев, что хупа нередко употребляется как синоним брачной церемонии.
Цадик (праведник) — термин, возникший в хасидском движении; глубоко набожный человек, проповедник. Цадики нередко вступали в борьбу с традиционными раввинами. Согласно преданию, знаменитый брацлавский цадик Нахман сказал: «Когда Сатана убедился, что ему одному не сбить с пути весь огромный мир, он прибег к помощи раввинов».
Шофар (в Библии) — рог (обычно бараний), в который трубили по поводу важнейших событий.
Яд ва-Шем — институт и музей в Иерусалиме (создан в 1957 году), посвященные катастрофе, постигшей евреев Европы в годы Второй мировой войны. На территории музея есть аллея Праведников народов мира, насаженная в честь людей разных национальностей, спасавших евреев от уничтожения, а также стела в память о героизме евреев в годы Второй мировой войны.