Анатоль Гидаш
Шандор Петефи
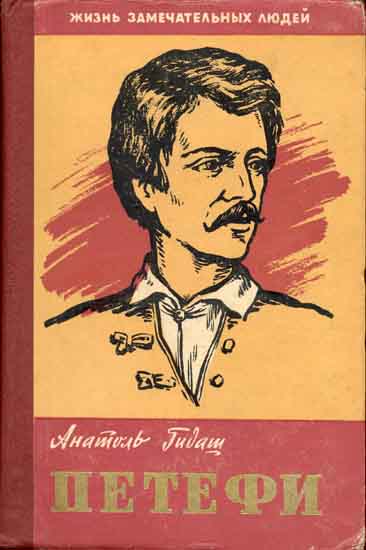
Степь, где летом раскачивались желтые пшеничные колосья, а осенью из-под багряных листьев выглядывали спелые гроздья песчаного винограда и поблекшие акации при малейшем ветерке начинали шелестеть о знойном летнем счастье, — эта степь теперь вся была застлана снегом. Просторы Большого Венгерского Альфельда[1], протянувшегося от Тисы до Дуная, побелели. Из серых, мешков тяжелых зимних туч падали крохотные, сцепившиеся в хлопья пушистые снежинки; они засыпали всю притихшую окрестность. Кругом было белым-бело. Изредка небо прояснялось и показывалось солнце, и тогда эта беспощадная белизна слепила глаза, вызывала слезы.
С Дуная мчались зимние ветры, кружились по всей пуште[2]; с разлету они подхватывали сверкающую снежную пыль и то рассыпали ее во все стороны, то завивали воронкой. Иногда ветер, ворча, останавливался, присаживался где-нибудь на сугробе, затем снова вскакивал, со свистом несся дальше и где-то в других краях взметал, раскидывал снег.
Деревеньки, прижавшиеся к земле, замирая, смотрели на сумасбродства ветра. Домишки крохотными глазами окон глядели на дорогу и на поле, расстилавшееся за ней. Когда было уже совсем темно, в оконцах иных лачужек загорался свет: зажигались сальные свечи. Но во многих хижинах окна не освещались никогда — бедность не позволяла людям зажигать даже сальную свечку или лампадку. Люди сидели во тьме, временами ворошили огонь в очаге, а когда догорал последний сноп соломы, приготовленной на день, ложились спать. Утром надо было снова тянуть тяжелую лямку подневольного крепостного труда.
Расположенные вокруг богатых дворянских поместий, эти карликовые крестьянские хозяйства влачили самое жалкое существование. Дворянам принадлежали чуть ли не все земли Венгрии, и сотни тысяч крепостных крестьян обрабатывали хозяйские угодья и свои наделы, свои участки, принадлежавшие им только до тех пор, покуда они сдавали десятину помещику, девятину церкви, отрабатывали барщину, платили различные налоги Габсбургам и вносили еще невесть какие подати. В календаре не было такого дня, когда бы за ними не числилось какой-нибудь повинности. Кроме этих крестьян, на барских землях гнули спины еще миллионы батраков, у которых земли было уже не больше того клочка, на котором умещались их босые ступни, или того, в который закапывали их худые тела.
Иногда по обледенелой дороге к деревне проносился всадник или, борясь с ветром, плелся пешеход; это искал себе пристанища солдат, бежавший из австрийской армии, или крепостной, скрывающийся от своего помещика. Летом эти беглецы, которых называли бетярами[3] собирались в лесах. Они угоняли коней из помещичьих табунов, останавливали на большой дороге роскошные кареты богачей, отбирали у богачей деньги, вещи, драгоценности, потом насмерть перепуганных помещиков и их разряженных жен и дочерей отпускали восвояси, сурово приказывая им не оглядываться до тех пор, покуда они не доберутся до какого-нибудь заранее назначенного места.
— Сударь, вы видите то дерево?
«Сударь» прищуривался, точно от солнца. Но как бы ни вглядывался он в степную даль, все равно не увидел бы там ни одного деревца. Да к тому ж разве отведешь глаз от атаманского пистолета, который уставился черной горошинкой дула?
— Вижу.
— Вот и хорошо, что видите… Бетяры смеялись:
— Этого можно отпустить: он уже и травинку за тополь принимает.
Часть своей добычи бетяры раздавали беднякам, которые их укрывали и предупреждали об опасности, когда для поимки наезжали в округу жандармы. Иногда бетяры вступали с жандармами в бой.
И если бетяр терпел поражение, его заковывали в кандалы и отправляли в сырую темницу.
А после приговора он чаще всего попадал на виселицу:
Беднота любила бетяров, восхищалась ими:
Зимой, когда холод выгонял их из лесов, бетяры, провожаемые карканьем ворон, летевших с опустелых нив, разбредались кто куда. Свистящие плети ветра стегали их по лицам. Ночами их окружали стаи воющих волков.
В эту пору бетяры находили себе приют в деревнях, в придорожных корчмах и ждали там наступления весны.
Когда стаивал снег, теплело, пробивались первые ручейки и удивленно, робко вылезала свежая молодая трава, в камышах и в лесах все снова оживало, бетяры перебирались в свое лесное пристанище. Если не случалось никакой другой пищи, они собирали журавлиные яйца и пекли их в золе костров. Но и в лесных чащах бетярский дозор оставался неусыпным: чутко прислушивался, не появятся ли откуда-нибудь жандармы, чтобы скрутить «виновников» и передать в руки судей. Если их «вина» была не больше того, что они удрали от «хозяев», судьи приговаривали их к батогам и возвращали в крепостное рабство или в австрийскую солдатчину.
По пештской дороге в те годы перегоняли огромные стада коров и овец — их гнали через Пешт в Вену, а там за бесценок сбывали немцам. Тянулись по шляху обозы, везущие шерсть, кожу, вино, пшеницу, овес, все это
Как будто ножом вспороли тело страны, так текла по дорогам живительная кровь за границу.
Пастухи, гнавшие стада, бранились. Они шли вслед за телегами, груженными разным добром и снедью. Солнце нещадно палило бедняг, но жажду свою они не могли утолить вином из бочек, громыхавших рядом; они только глотали слюну и шли дальше. Грустно звучала песня:
Крестьянство страдало под двойным гнетом. Всякий раз, когда Австрия подступала к Венгрии с новыми поборами, венгерские господа старались переложить их на крестьянина. Но у того уже нечего было брать. Да и что можно было взять у совсем нищих, босоногих крепостных и батраков? Таким образом, немецкий кулак, опустившийся на венгерский народ, задел и помещиков.
Даже скотопромышленники, которые обирали крестьян и погонщиков с такой же жестокостью, как обдирали попавший им в руки скот, — даже и они невесело подсчитывали свои доходы: если бы Вена не препятствовала им тяжелыми пошлинами промышлять за пределами Австрии, они могли бы продавать свое добро по двойной цене.
В начале прошлого века на Большом Венгерском Альфельде стоял славянский остров — городок Киш-Кереш. В нем было восемь тысяч жителей. В 1718 году после поражения антиавстрийского восстания Ракоци II[4] один венгерский помещик вселил в свое обезлюдевшее имение славянских крестьян. Впоследствии там же поселились и венгерские крестьяне, и в порывистую венгерскую речь сочный, гибкий словацкий говор проникал, как немолчный гул северных сосновых лесов.
В церквах служба шла на словацком и на венгерском языках, на этих языках распевались и грустные псалмы. Словаки рассказывали по вечерам о народном герое Яношике, который вовсе и не умер и однажды появится вновь, сойдет с высоких гор, чтобы вывести свой народ из нищеты, и настанет судный день, и тогда уже не посмотрят, кто словак, кто венгр, — на суде будет решающим только одно: был он бедняком или помещиком.
А венгерские крепостные рассказывали о том, как вернутся солдаты Ракоци и как они принесут счастье народу.
Вот уже пять лет как словацкая девушка, служанка Мария Хруз, вышла замуж за мясника Иштвана Петровича — венгерского дворянина, однодворца, славянина по крови.
Иштван Петрович был белокурый, широкоплечий, коренастый мужчина с открытым лицом и пристальным взглядом карих глаз. С юности была у него склонность к бродяжничеству. Он не любил подолгу жить на одном месте. Еще до женитьбы он побывал в различных селах и городах. О том, что видел и слышал, говорил красочно, занимательно, на прекрасном венгерском языке да еще вдобавок с сочным альфельдским выговором. Рассказывать он любил, и люди готовы были слушать его часами. Петрович был добрым человеком, но не терпел, чтобы ему перечили, особенно дома, а во время вспышек гнева не щадил даже свою жену.
Мария была черноволосая женщина небольшого роста. Тихая, нежная, грустная, она больше всего любила одиночество. Возможно, это была печать тяжелой юности, а может быть, ее никогда не покидала грусть из-за того, что любимый ею человек женился на другой.
Отец Марии, Янош Хруз, был бедным сапожником. Свою дочку Марию он отдал в услужение к богатым родственникам. Там, в деревне Маглод, познакомилась она с Иштваном Петровичем, подручным мясника, который сразу же полюбил маленькую служанку. Но Мария любила не его, а другого — сапожного подмастерья, за него и хотела выйти замуж. Однако судьба сложилась так, что ей пришлось уехать служить в Пешт. Когда же она вернулась на родину, то оказалось, что сапожный подмастерье, не дождавшись ее, женился на другой. Девушка нанялась к помещику в прачки. Она вновь встретилась с Иштваном Петровичем и теперь уже согласилась стать его женой.
Мария знала чудесные словацкие песни, и, когда она слабым, но чистым голосом запевала: «Тече вода, тече», пение ее напоминало журчание горных ручейков у подножия Карпат — вот Так же звенели они по ранней весне.
У мужа ее, кроме пары рук и дворянской грамоты, не было ничего. Петровичи жили в Киш-Кереше в хижине, крытой соломой, да и та принадлежала не им: они арендовали ее у местного цирюльника.
Это было 31 декабря, в канун нового, 1823 года. Худенькая маленькая Мария Хруз ждала ребенка. С радостной улыбкой мечтала она о будущем новорожденном. Приданое уже сшила ему и теперь все думала о том, каким будет ее дитя. Родит она девочку или мальчика? И каким станет ее ребенок, когда вырастет? Карие будут у него глаза, как у отца, или черные, горящие, как у нее?
Вечером, хотя на дворе стоял трескучий мороз, она побежала к соседке, накинув на себя только платок. С соседкой они заговорились. Было уже поздно. Мария вдруг почувствовала себя плохо и направилась домой. В темноте споткнулась, упала в сугроб и закричала. Выбежала соседка, взяла ее под руку и бережно перевела через дорогу домой, а муж схватил свою бекешу и бегом помчался за бабкой.
Когда в словацком евангелическом храме прозвонили полночь, загудели и колокола венгерской католической церкви. Они мирно переговаривались друг с дружкой, возвещая наступающий новый год. Иштван Петрович, сильный, коренастый мужчина, сидел на кухне и курил трубку. Даже от самого себя старался он скрыть свое волнение: мужчина не должен показывать его.
Но вдруг ему стало совсем невмоготу совладать с беспокойством. Он накинул на себя бекешу и вышел на улицу.
Колокола отгудели. Снегопад кончился. На дворе было тихо, только снег поскрипывал под ногами. Небо было черным-черно. Видно, покрывала туч только-только начали расползаться, потому что в вышине, как раз над головой Петровича, засверкала в небе одна-единственная звездочка. Петрович взглянул на нее и удивился: «Только одна звезда в небе, да как же это так?»
Вдруг из комнаты донесся крик, затем долгий, сдавленный стон: «Ой, мамка моя, мамка!», потом тишина и пронзительный детский крик. Отец, не выдержав, бросился в комнату.
Повитуха поднесла ему новорожденного:
— Сын у вас родился, Петрович, сын! Только сейчас уходите, я вас позову потом.
От радости Петрович чуть было не пустился в пляс, но потом послушно повернулся и вышел. Снова примостился на табуретке, набил трубку, достал уголек из печи, прижал его к табаку и глубоко вздохнул, будто он тоже освободился от родовых мук.
— Сын у меня родился, — пробормотал он.
В комнату нельзя было входить еще целый час. Наконец повитуха впустила Петровича, и жена даже не обиделась, когда муж сперва взглянул на новорожденного. Он покачал головой, взъерошил усы, потом шагнул к постели жены, наклонился и с нежностью поцеловал ее в лоб. Она улыбнулась ему и закрыла глаза.
— Ей спать надо! — сказала бабка.
Петрович растерянно оглянулся, еще раз посмотрел на ребенка, кашлянул и вышел. От волнения он не мог оставаться на кухне и выскочил во двор.
Он взглянул на небе. Где же та необычайная, единственная звезда? Но небо было уже безоблачно, и в нем сверкали мириады светил, словно столпившихся вокруг этой звезды. Они блестели так, будто вобрали в себя ее сияние, так; как должны были бы сверкать глаза у всех людей на земле. Уже нельзя было различить в блестящем море звездных глаз, которая же из них была та самая единственная звезда.
Новорожденный оказался хилым и слабеньким. Думали, что он и жить-то не будет. Мать после родов заболела, кормить не могла, и Петрович взял к ребенку венгерку Жужанну Куруи, которая вынянчила мальчика, а позднее, когда он уже стал ходить, учила его венгерским словам. Ребенок начал говорить сразу на двух языках. С матерью он разговаривал по-словацки, с отцом и с кормилицей — по-венгерски. Долгое время он путал оба языка: к венгерскому существительному прибавлял словацкий глагол, и глагол этот спрягал на венгерский лад.
Поначалу казалось, что все благоприятствует маленькому Шандору. Ему было два года, когда отец его переселился в Феледьхазу — шумный маленький городок с одним только венгерским населением. Там он арендовал мясную лавку, и семья вскоре разбогатела.
Петефи, вероятно, считал его своим родным городом, потому что попал в него двух лет от роду и провел там свои детские годы.
Там шестилетнего мальчика отец отдал в школу, но вскоре увез его в Кечкемет, где, кроме венгерского языка, Шандор изучал еще и латынь. Но и эта новая школа не удовлетворила Петровича, и он повез сына в другие края, выбирая для него самые лучшие училища.
Мальчику пошел только седьмой год, когда он уже начал скитаться по стране. Ни в одном городе не прожил он больше двух лет кряду. Отец, нетерпеливый, крутого нрава, вечно чем-то недовольный человек, таскал сына с места на место из самых добрых побуждений — он подыскивал для него все лучшие и лучшие школы. Можно себе представить, как трудна была для чувствительного семилетнего мальчика жизнь вдали от родного дома и родителей. Петефи никогда прямо не жаловался на это в своих ранних стихах, но много позднее, в замечательной поэме «Апостол», как бы невзначай возник у него образ сиротки, томящегося у чужих людей.
Быть может, как раз потому, что детство его проходило вдали от матери, и переросла его любовь к ней в восторженное, пылкое обожание. И недаром, уже будучи взрослым, женатым, когда его любовные песни распевала вся страна, Петефи сказал как-то одному из своих друзей: «Посмотришь, я напишу сейчас свои самые лучшие любовные стихи — целый том стихов, посвященных матери!»
Быть может, потому, что он тосковал по дому и по родителям, и был он с малых лет замкнутым и необщительным. «Когда ребята бегали во время переменки, он стоял, прижавшись к стене, и равнодушно смотрел на веселые шалости своих соучеников… Стоило же ему сказать: «Шандор, ступай поиграй и ты», как он грустно отвечал: «Я не люблю», — писал о Петефи один из его учителей.
В Пеште Шандор учил немецкий язык. Но оттуда отец вынужден был его увезти, потому что двенадцатилетний мальчик «все время шатался возле театра». В Задунайском крае, тринадцати лет, он уже начинал знакомиться с пятым (французским) языком.
Пока еще он был задумчивый смирный мальчик.
И только изредка бывал он упрямым. Даже учитель записал о нем в школьный журнал, что «его поведение никогда не давало поводов для строгих наказаний».
Но позднее, когда мальчик привык уже к жизни вдали от родных, он обнаружил и другие черты характера. Один из товарищей по школе рассказывал о маленьком Шандоре много любопытного и примечательного: «Он был ловким и гибким мальчиком, хорошо бегал и прыгал. Любил дружить со старшими, отважно брался за все, особенно если кто-нибудь сомневался в нем. Однажды ранней весной, когда лед на реке стал уже тонким, старшие ученики пошли искать такое место, где можно было бы покататься на коньках. Шандор, возглавив гурьбу младших школьников, отправился вслед за большими, но, когда подошли к реке, старшие позволили идти дальше только тем, кто сможет перепрыгнуть на другой берег. А речка была довольно широкой, и маленьким было не под силу ее перескочить. Но Шандор не сдавался. Он разбежался и прыгнул. Попал, однако, на середину замерзшей речушки; лед провалился под ним, и он с трудом вылез на берег. Но, упрямясь, не пошел домой и в мокрой одежде целый день оставался со старшими».
Однажды он ушел с мальчишками в поле. Вдруг бык, отделившись от стада, помчался прямо на них. Дети испугались, бросились врассыпную, только один Шандор остался на месте. Когда бык приблизился к нему, он хватил его палкой по передним ногам, и огромное животное сразу рухнуло на колени.
— Так делают мясники, — пояснил мальчик.
Черноглазый подросток теперь играл так же, как и его остальные товарищи: в беге, в игре в мяч он был всегда впереди. Всей душой предавался он тому, что делал, и если смеялся, то так громко, что даже старые стекла дребезжали в окнах школы, будто их рассмешили. В учении он тоже был первым. Если товарищам по школе бывало что-нибудь непонятно, они всегда обращались к нему, зная, что охотно поможет. Его так и прозвали — «Ученый». Но этот «Ученый» не только играл, учился и смеялся — нередко он и гневался. Честность, правдивость, верность данному слову он ценил выше всего. Ложь его сердила. Если же какой-нибудь подросток из старшего класса или более рослый мальчик из его же класса нападал на слабого, Шандор не только сердился, но попросу приходил в бешенство.
Однажды мальчишка из старшего класса, гораздо более сильный, чем Шандор, набросился на него и хотел швырнуть на землю. Шандор защищался, собрав всю свою силу и ловкость, так что в два счета положил более рослого противника на обе лопатки. Побежденный забияка оказался сыном одного из видных богачей города. Это был избалованный мальчишка, который ни во что не ставил товарищей и, если терпел поражение, сразу шел ябедничать.
Сейчас лицо у него горело от досады: его победил малыш! Он вскочил с земли и во весь опор помчался к своему отцу. Мальчишка превосходно знал, что у папаши-богатея достаточно сил для того, чтобы превратить поражение сына в победу. Папаша, выслушав жалобы сына, пыхтя, пошел в школу и, ворвавшись в кабинет директора, возмущенно заговорил:
— На моего сына напал какой-то сорванец, по фамилии Петрович, и бросил его на землю. Нечего сказать, господин директор, хорошенькие у вас порядки в школе!
Хотя директор очень ценил и любил маленького Петровича, но богатство почтенного родителя заставляло быть с ним подобострастным, и он пролепетал в ответ:
— Сию минуту, милостивый государь! Сию минуточку!
Он послал за Петровичем.
Петрович вошел в кабинет директора и встал рядом с мальчиком, на которого «напал», — тот был на голову выше его. Папаша мальчишки взглянул на маленького Петровича, который выглядел совсем щуплым и слабосильным рядом с его коренастым сыном. Наступила неловкая тишина. И Шандор очень серьезно обратился к отцу своего обидчика:
— Сударь, кто на кого напал, это сразу видно. А если вы считаете, что тот, кто моложе и слабее, не имеет права защищаться, то я в самом деле виноват. Только я знаю, что даже самые крохотные зверюшки и те не дают себя в обиду. А ведь я человек!
Пожилой мужчина с удивлением слушал мальчугана; директор отвернулся, закусив губу. А рослый парнишка вяло тянул: «Неправда, ты начал, ты задираешься!» Папаше стало вдруг стыдно, он повернулся и вышел из кабинета директора.
К тому времени, как мальчику исполнилось двенадцать лет, у его отца было еще достаточно средств, чтобы обучать сына в лучших школах и прилично одевать. Ведь в школах этих большей частью учились барчуки, и, если бы Шандор приходил плохо одетым, ему было бы и больно и обидно.
Благодаря заботам отца Шандор ребенком объездил пол-Венгрии и, кроме школьных познаний, везде успевал почерпнуть что-нибудь полезное для себя из самой жизни. Возможно, Петрович почувствовал, что у сына незаурядные способности, и решил во что бы то ни стало развить их. Но кем он хотел видеть сына: адвокатом, учителем, священником? Кто знает? Несомненно только, что не поэтом.
Шандору Петровичу пятнадцать лет (только позднее, двадцати лет от роду, принял он фамилию Пете-фи, точный перевод на венгерский язык фамилии Петрович). Он превосходный ученик, причем отличается не только успехами в школьных предметах, но и своей начитанностью, питая особое пристрастие к историческим сочинениям и к стихам латинских поэтов. Сам он тоже пишет стихи.
В его характере уже явственно обозначились такие черты, как трудолюбие, умение учиться, настойчивость в отношении принятых решений, боевой дух, глубокая честность и прямота, решимость в отстаивании убеждений и хотя еще не ясно определившееся, но страстное желание сделать что-то большое ради отчизны и человечества.
В эту пору в городок, где жил и учился Шандор Петефи, приехали актеры.
Кто не помнит своего первого посещения театра? Как жарок был воздух зрительного зала, как красочно озарялась сцена, какое волшебство царило кругом: битва между добром и злом, в которой герой либо побеждает в благородной борьбе — и тогда зрители бурно аплодируют, радуются победе, либо терпит поражение — и тогда ему сочувствуют, а лучшая часть зрителей решает в душе, что эту борьбу надо продолжать до тех пор, покуда доброе, человечное не восторжествует на всей земле.
Люди на сцене вырастают в великанов, каждое произнесенное слово звучит многозначительно и отдается в зрительном зале с удесятеренной силой.
Юный Петефи, душу которого заполняют мечты о великих деяниях, впервые попадает в театр. Он стоит на галерке. Глаза его горят воодушевлением, желанием действовать. В нем тут же созревает решение: он будет актером. Ведь актеры передают слушателям самые благородные идеи. И какая же у них прекрасная жизнь! Они вольны, как птицы. Объезжают всю страну, едут, куда захочется. Может ли быть призвание прекраснее этого!
Как голодали актеры в тогдашней Венгрии, как их травили, иногда даже избивали, Шандору было уже известно, но душа его, исполненная жаждой подвига, загоралась от этого еще более страстным желанием.
На другой день он явился к директору труппы:
— Сударь! Я хочу поступить актером в вашу труппу.
Директор театра оглядел его: перед ним стоял тонкий черноволосый юноша. Он был бледен, глаза у него блестели, и, чтобы скрыть свое волнение, юноша говорил громче обычного.
Пожилой, искушенный актер, сдерживая улыбку, любезно обратился к нему, как к взрослому человеку:
— А чем вы, сударь, занимались до сих пор?
— Я учился в школе.
— Давно это было?
— До нынешнего дня.
— Так…
И, не желая обидеть юношу, директор нашел выход.
— Ну что ж, сударь мой, принесите разрешение от своего учителя, и тогда я вас приму.
Петефи оторопел. Этого он не ожидал.
— От учителя? — пролепетал он растерянно.
Но мгновенно овладел собой и решительно ответил, как мужчина мужчине:
— Хорошо, сударь!
Каким он выглядел ребенком, когда повернулся и выбежал из театра, даже не раскланявшись с директором, ему самому было невдомек. Во весь дух помчался он к учителю. Буквально влетел к нему в комнату и, задыхаясь, выпалил:
— Я решил стать актером! Прошу выдать мне аттестат и разрешение для вступления в труппу.
Учитель сперва не понял ни единого слова. Петефи повторил свою речь. Он был полон такого нетерпения, что говорил, притопывая ногой чуть не после каждого слова. Казалось, он боялся, что если за пять минут не получит нужные документы, то актерская труппа уедет. Учитель сдвинул очки на лоб:
— Ты что, голубчик, с ума сошел?
— Нет. Вы, господин учитель, должны согласиться с тем, что актерское призвание самое прекрасное на свете.
Учитель тут же «согласился». Вместо того чтобы попытаться убедить разгоряченного мальчика, он выругал его и, следуя принципам «педагогики» того времени, избил и запер в классе.
«Мой учитель (благослови его господь!), — писал позднее Петефи в своих «Путевых записках», — счел нужным написать о моих чрезвычайно серьезных помыслах мужу, обладавшему весьма непохвальным свойством чертовски ненавидеть актерское искусство. Этим мужем, обладавшим столь редкостным свойством, был как раз мой отец. И он, как и надлежит добропорядочному отцу, услышав грозную весть, не медля ни секунды, кинулся спасать сына, гибнущего в адском водовороте». И на самом деле, старик, получив письмо, бросил все свои дела, сел на телегу и поехал к своему первенцу. Поначалу он поговорил с учителем, потом, разъярившись, вошел в комнату сына и запер за собой дверь.
— Гм!.. Кем же ты хочешь стать, сыночек?
— Актером.
Петрович не стал спорить, а, пользуясь отцовскими правами, «кинулся спасать сына» — как следует избил его. Шандор стоял, закинув голову; он вытерпел побои, не издав ни единого звука.
Отец, решив, что навсегда «выбил» из головы сына мечту об актерстве, отдышался и поехал домой.
Позднее Петефи вспомнил об этом в своем стихотворении «Первая клятва»:
Казалось, «урок» пошел Шандору на пользу. Мальчик снова взялся за ученье, прекрасно сдал экзамены, и ему поручили написать стихотворение, посвященное окончанию учебного года. Мы приведем из него несколько строк не только потому, что это первое известное нам произведение Петефи, но и потому, что уже в этом детском стихотворении звучит непосредственный голос поэта, пробиваясь через утомительный пафос гекзаметров тогдашней официальной поэзии. Уже в этом стихотворении чувствуется простота и ясность, которыми вообще будет отличаться поэзия Петефи.
В поте лица тот венок мы плели десять месяцев сряду,
Чтобы украсить он мог слабые наши умы.
Милые сердцу места! Сколько мы тут веселились!
Здесь мы садились в кружок, здесь мы играли мячом,
Или гонялись за ним, или же в сладостном круге
Радостно пели… Теперь, милые сердцу места,
Вас посетит тишина, мы вас покинем навеки. —
Ныне, друзья мои, труд десятимесячный кончен,
Пусть вас господь бережет…[5]
«Первая клятва» была написана через десять лет после этого стихотворения.
Подобно вихрю пронеслась в пятнадцатилетнем подростке мечта о свободе, но вихрь прошел, и пока еще поддавались усмирению и нрав юноши и его стихи.
Целый год Шандор не был у своих. Учебный год кончился. В кармане лежал хороший аттестат. Счастливый, ехал Шандор домой. Перед ним расстилалась равнина, где он родился, где слушал первые песни. Вот уже доехал до Дуная. Стояло жаркое лето. То здесь, то там слышался звон отбиваемых кос: скоро начнется жатва, пшеница поляжет ровными рядами. Цапля загляделась на мальчика. Долго смотрят они друг на друга. Потом птица взмахивает крыльями, поднимается и плавно кружит в вышине. Мальчик прищуривает глаза и смотрит ей вслед. Еще одна деревня. Когда же он будет дома? Он думает об отце, обо всем, что пережил за зиму, о театре, и вздыхает, лицо его становится сумрачным.
Цапля улетела уже далеко, теперь она виднеется только маленькой точкой на горизонте. Какое счастье иметь крылья! Он совсем зажмуривает глаза и видит мать. Она уже, наверно, испекла пирог, прикрыла его платком. Скорее же!.. Но телега ползет еле-еле. Мать, верно, даже не знает, как любит ее сын. Сейчас он скажет ей, непременно скажет, что такой матери больше нет на свете, что…
Телега подъезжает, наконец, к знакомым местам, мальчик хочет спрыгнуть с нее, но, оказывается, родного дома уже больше нет. Телега едет дальше. Что случилось?
Вот он и прибыл… Пирог его не ждал. Дома полное расстройство: чужая хата, хмурый отец, мать с заплаканными глазами. Разлился Дунай, и волны его смыли родительский дом, они унесли с собой и пасшееся на лугу стадо. Половину денег Петровича растратил добрый знакомый, которому он их одолжил. Вторую половину он ссудил родственнику Шалковичу, и тот их ему не вернул.
Петровичи совсем обеднели, остались даже без крова — их приютили знакомые.
Сейчас, осмотревшись дома, увидев всю тяжесть положения, Шандор с горечью в сердце стал думать о том, что будет осенью, когда он вернется в школу, где среди барских сынков он был первым учеником. Каково-то будет ему теперь? Конечно, он по-прежнему останется лучшим учеником, но что толку? Успехи в школьных занятиях — плохая защита от оскорбительных шуток богатых детей. Его начнут презирать, станут смеяться над ним и даже попытаются командовать. И все только потому, что он будет жить впроголодь, что брюки его обтреплются и ему не на что будет купить другие, что жить ему придется у школьного швейцара в нетопленной комнате на окраине города, а спать — на соломе, брошенной на пол, потому что отца его разорили «недобрые люди» и «волны Дуная».
Думал о будущем сына и старик Петрович и, поразмыслив, решил:
— Куда там бедняку наука! Нужна она ему, как собаке пятая нога. Иди ко мне, сынок, подручным мясником.
Шандор еще только смутно ощущал жестокие законы того общества, в котором жил. Ему не так-то легко было отказаться от своей мечты.
— Как угодно, отец, но я хочу учиться!
Старик сперва помолчал и, верный себе, рассердился на то, что ему перечат. Потом бросил горестный взгляд на неугомонного «бунтаря». «Эх, и поплатишься ты еще за свое упрямство!» — подумал он, а сыну ответил:
— Ладно, сынок. Попытайся.
И сын попытался. Чтобы не быть среди своих старых товарищей, он записался в школу в другом городе. Там его приняли на казенный кошт. Он скверно питался, спал на соломенном тюфяке, ходил в потертой одежде. Богатые ученики высмеивали его, учителя относились плохо.
А ведь уже и в это время «он больше всего любил читать книги по венгерской истории, и познаниям его удивлялись все, — вспоминает один его соученик. — О поэзии он представил такое сочинение, что учитель усомнился, уж не списал ли он его откуда-нибудь».
Все это расстраивало мальчика. Он стал пропускать уроки, а поэтому, как казеннокоштный, перестал получать обеды. Вдобавок к этому в город снова приехали актеры. Шандор продал последние пожитки, чтобы иметь возможность посещать все спектакли. Список его прегрешений рос не по дням, а по часам. И директор школы решил пожаловаться на него отцу.
Все печальнее становилась жизнь мальчика. Отдыхал душой он только в школьном литературном кружке. Его он посещал усердно. «На первом собрании кружка Шандор Петрович продекламировал прекрасное стихотворение», — читаем мы в протоколе кружка за 1839 год. Но какое было дело учителям до этих успехов? Мальчик получал одно порицание за другим. А он стал теперь особенно чуток, больше, чем когда бы то ни было. То, чего год назад Шандор, быть может, не заметил бы — какой-нибудь косой взгляд, кривая усмешка, — сейчас он переживал остро, мучительно и тут же давал отпор обидчику.
А ко всему в придачу ему, больше всего любившему читать книги по венгерской истории, учитель поставил по истории плохую отметку. Да еще и хозяин, у которого жил мальчуган, пожаловался учителю, что «постоялец» его поздно приходит домой и все ночи напролет читает книги. Такого же содержания письмо он отправил и отцу Шандора.
Юноше было шестнадцать лет. «Уйду я отсюда, — решил он, — довольно с меня! Как-нибудь и сам совладаю с жизнью! Надо стать кем-нибудь. Но кем же?» В сущности, он уже вышел из-под отцовской опеки. Вот и недавно пришло от старика укоризненное письмо. Когда юноша прислал без всяких объяснений плохой годовой аттестат, старик снова написал письмо, в котором сообщил, что лишает сына отцовского благословения.
В феврале 1839 года Шандор сунул в холщовую суму пару белья и кусок хлеба — деньги, какие у него были, он все потратил: угостил на прощанье пирожными товарищей. Пирушку он устроил у друзей, а утром чем свет оделся и стал прощаться с ними. На дворе бушевала вьюга, но Шандор не соглашался отступить от своего решения. Чем настойчивее уговаривали его товарищи повременить, тем больше хотел он выказать твердость характера. Несмотря ни на что, он станет актером! И он пустился в путь с несколькими грошами в кармане.
Юноша успел уже уйти далеко, когда за заснеженными окнами в комнате, где собирался литературный кружок, 16 февраля «председатель прочитал произведение нашего товарища Петровича, который покинул и нас и школу. А произведение это было столь превосходно и поэтично, что мы слушали его, не помня себя от удивления, слушали, не отрываясь, и решили отметить его в книге наших успехов!».
А Шандор тем временем дошел до какого-то придорожного села и приютился там в семье крепостного крестьянина. Бедняки встречали его ласково, пускали ночевать и бесплатно кормили.
Ближе к Пешту его не раз обгоняли господские сани. Стужа стояла лютая, но гордость не позволяла Шандору Петефи попросить, чтобы его подвезли. Он только бежал за санями, чтобы хоть слышать скрип полозьев и не быть таким одиноким в морозной зимней ночи.
Шестнадцатилетний юноша сейчас по-настоящему знакомился с родной страной.
После трехнедельного путешествия пешком он добрался, наконец, до Пешта и направился на тот постоялый двор, где проездом прежде останавливался его отец. Хозяин поверил, что мальчик приехал на каникулы, отвел ему комнату, обещал кормить в кредит, и все сошло бы гладко, если б через несколько дней не прибыл в город по делам ничего не ведавший старик Петрович.
— А ты как очутился здесь? — обратился он к сыну, удивленный до крайности.
Юноша смущенно молчал.
— Мало у меня забот, так еще и ты катаешься на мои деньги!..
— Я пешком пришел.
— Пешком? — У Петровича все похолодело внутри. — А что тебе здесь понадобилось?
Юноша молчал. Он не привык врать и ненавидел ложь. Но ведь однажды, год назад, отец уже расправился с ним из-за театра. Поэзия? Это бы до него уж вовсе не дошло.
— Началась повальная болезнь, и нас распустили, — ответил Шандор смущенно.
— А где отпускное свидетельство?
— У одного моего друга. Он тоже приехал в Пешт. Я попозднее, сбегаю за ним.
Петрович сразу понял по неумелой лжи, что тут что-то неладно.
— Мы сейчас же пойдем вместе.
«Что же будет теперь? Вот впутался в беду!»
Отец вышел вместе с сыном, но, когда проходили мимо строящегося дома, мальчик удрал, юркнув под леса. Он бежал во весь дух прямо к зданию Национального театра. Здесь он попросился в труппу. К просьбе его отнеслись благосклонно, и он был принят.
Правда, пока он должен был только переставлять декорации, бегать за пивом и колбасой для актеров, а после представления, когда они возвращались домой, освещать им фонарем дорогу. И все-таки Шандор был счастлив: наконец-то он попал в театр.
Здесь впервые увидел он не только знаменитых актеров, но и таких прославленных поэтов, как Вёрёшмарти[6] и Байза[7], — по вечерам они приходили на представления. Сквозь щели декораций смотрел он на этих знаменитых поэтов. А то, что он нуждался, — это не беда! Разве не так же начал и великий Шекспир?
Но вот случай свел его с одним земляком, и тот хотя и пообещал не выдавать беглеца родителям, однако рассказал Петровичу даже то, под какой фамилией числится юноша в Национальном театре. Отец немедленно собрался в путь, но умный старик теперь уже не надеялся на одни лишь собственные руки. Он взял с собой жену, чтобы та подействовала на сына.
Встреча произошла за кулисами. Старик Петрович что-то проворчал себе под нос, мать заплакала, и сын, склонив голову, поехал домой.
Снова наступила весна. Уже год прошел с тех пор, как разлился Дунай и унес все состояние Петровичей.
Шандор после второй неудачной попытки стать актером жил дома, читал, бродил по полям, наблюдал за полетом птиц, за своим «пернатым другом» аистом и размышлял:
Жизнь Петровичей становилась все более трудной. Отец разорился окончательно и стал совсем мрачным. Он не умел терпеливо сносить удары судьбы, горести вызывали в нем гнев, который то и дело изливался на окружающих.
Мать была другого склада. Лишения не сломили ее: они были ей хорошо знакомы и до замужества, когда она жила в прислугах или зарабатывала на жизнь стиркой белья.
Шандор вытянулся, похудел, щеки у него впали. Внешне он походил на мать, только в глазах отражался беспокойный нрав, унаследованный от отца.
Юноша прожил эти чудесные летние месяцы с горечью в сердце. Каникулы были совсем иные, чем прежде: в следующий класс он не перешел — остался на второй год; из театрального мира его вырвали насильно. «Как же быть дальше?» — размышлял шестнадцатилетний Шандор.
Не раз у него происходили столкновения с отцом. Старик негодовал на сына как раз за то, что было свойственно ему самому, — за беспокойный, неукротимый нрав.
— Ладно! Продадим все, и ты учись, будь судьей или священником, — говаривал он сыну, — только брось уже свои сумасбродства.
— Ни судьей, ни священником я быть не хочу, — хмуро отвечал мальчик.
— Тогда оставайся здесь и будь мясником. Хоть мне будет от тебя какой-нибудь толк! — сердито кричал отец.
Шандор молчал. Бедственное положение семьи мучило его. Но как помочь, что ответить? Да, он поможет, только другим путем: он станет актером и поэтом. Но говорить об этом отцу не стоит, раз старик считает театр шутовством, а поэзию — бесполезным препровождением времени.
— Если б ты, допустим, сказал, что будешь календари сочинять, ну, это еще туда-сюда. Хороший календарь нужен в каждом благопристойном доме. Но песни? Их народ и без тебя сочинит.
В это время пришло письмо от богатого инженера, брата того самого Шалковича, который больше всего был повинен в разорении Петровичей. В Шалковиче заговорил голос совести, — правда, это был не голос, а скорее комариный писк. Шалкович пригласил Шандора к себе, с тем чтобы летом он работал у него в конторе — у мальчика был превосходный почерк, — а к осени обещал послать его вместе со своими сыновьями учиться в город Шопрон.
«Жалко, если Шандор бросит школу — ведь он очень способный, — писал Шалкович. — Хорошо говорит по-немецки, латинских классиков знает не хуже венгерских писателей, прилично рисует, почерк у него превосходный; он и на рояле умеет немного играть и стишки пописывает… Если я увижу, что он выкинет из головы мечты о театре, то отдам и его учиться».
Петрович согласился на предложение, и Шандор поехал в качестве бедного родственника в эту богатую семью. Днем он работал в конторе Шалковича, вечерами писал стихи, читал, играл на рояле. Казалось снова, что будущность его обеспечена.
Как-то к Шалковичам приехал в гости их родственник и будущий друг Петефи — Орлаи[8]. В своих воспоминаниях Орлаи так описывает первую встречу с Петефи в этом богатом доме:
«Когда коляска въехала в просторный двор, целая свора борзых возвестила истошным лаем о нашем приезде. Во дворе встретить нас собралась обширная семья, и среди них стоял среднего роста сухощавый юноша. Лицо у и его было бледное, волосы жесткие, черные, над упрямыми пухлыми губами только еще начали пробиваться усики; над покатыми плечами возвышалась длинная обнаженная шея. Юноша был одет в плисовые брюки одного цвета с курткой».
В семье богатого инженера Шандор ведет себя как равный. Он доверчив и искренен, он еще не знает, что искренность несвойственна такой среде, что как раз из его искренних слов и поступков вьют ему веревку на шею.
Шандор радостно ожидает нового учебного года, пишет стихи, работает и, на свою беду, влюбляется в дочку одного отставного офицера, друга семьи Шалковичей. Влюбляется чистой, юношеской любовью и посылает девушке признание в стихах. Отец девушки узнает об этом, учиняет скандал, и инженер Шалкович выгоняет Петефи из своего дома. Делает он это, конечно, не прямо, так ведь не принято у благовоспитанных бар. Шалкович был как раз в отъезде. Он пишет жене о своем намерении «выставить Шандора». Та «забывает» письмо мужа в комнате на рояле.
Шандор находит письмо и читает:
«Шому и Кароя (сына и племянника Шалковича. —
Петефи бледнеет, идет в свою комнату, бросается на кровать, сжимает руками письмо.
К нему входит Орлаи, и юноша рассказывает ему о содержании письма. «От удивления, — писал впоследствии Орлаи, — я не сразу обрел дар речи. А Шандор был еще бледнее обычного. Наконец я решился спросить, что он думает делать. И он ответил: «Я уже принял решение: поеду вместе с вами в Шопрон и там завербуюсь в солдаты».
Юноше хочется остаться одному. Кругом во дворе все сияет под летним солнцем, в саду птицы переговариваются друг с дружкой, а ему вспоминаются те февральские дни, когда в стужу и ветер он шел по проселочным дорогам и бедняки, крепостные крестьяне, ласково встречали его, пускали ночевать. Если он рассказывал им, кто он и откуда пришел, его слушали и сочувственно качали головами; если молчал — никто не видел в этом беды: горемычный бродяга, к чему надоедать ему вопросами! Просто кормили и укладывали спать. А сейчас родственник, богатый… Эх, лучше пойти в солдаты! Да, гораздо лучше! Довольно унижаться! Он станет жить, как живут десятки тысяч бедняков — на черном хлебе и похлебке, но никогда не будет пресмыкаться перед богатым. А может быть, его полк пошлют в ту страну, где жили некогда Гораций и Овидий, где писал стихи Данте и слагал любовные сонеты Петрарка? Может быть, он попадет под вечно синее небо Италии (Северная Италия томилась тогда в лапах Австрии и была наводнена австрийскими войсками). Или проберется в Швейцарию, где Вильгельм Телль боролся за свободу?
И перед глазами его вставали уже не картины мучительной жизни бесправного солдата австрийской армии, а сверкающее небо Италии — страны поэтов и песен, волны голубой Адриатики и горы, рвущиеся к небесам… Все равно… все равно… Лишь бы вырваться отсюда!
Пойду в солдаты! — воскликнул он и швырнул письмо на пол.
Он собрал свои пожитки: несколько сборников стихотворений, тетрадь собственных стихов и пару белья — все свое достояние, — и поехал в Шопрон. На следующий день он явился в казарму.
— Я хотел бы стать солдатом.
Его повели к капитану. Тот, оглядев щуплого добровольца, покачал головой и направил к врачу. Петефи пришел в ужас:
— Зачем к врачу? Он еще сочтет меня слабым.
У полкового врача юноша просто взмолился:
— Сударь, не откажите мне, я хочу стать солдатом!
— А чем вы занимались до сих пор?
— Учился в школе. Но я беден и не могу дальше учиться.
— Сколько вам лет?
Петефи прибавил себе два года.
Врач посмотрел на него долгим, серьезным взглядом:
— Шесть лет надо служить. Выдержите?
— Все выдержу, сударь!
Врач отвернулся, пожал плечами:
— Ну, как хотите. Других на аркане тянут, а вы… — и отправил его к фельдфебелю.
Петефи выдали военную одежду и повели в большое помещение, где на койках по двое лежали солдаты.
Шандор присел на край жесткой постели. Ноги его были обуты в огромные солдатские башмаки. Он оглянулся и глубоко вздохнул.
— Да, здесь уж по крайней мере никому не буду в тягость! — прошептал он.
Жизнь Петефи в армии была необычайно тяжелой. Юноша попал под власть тупицы капрала. Он ходил по наряду чистить картошку на кухню, подметал двор казармы, мыл полы, колол дрова. Все это Шандор готов был исполнять — ведь так приходилось всем, но палочная дисциплина, грубые окрики, жестокая муштра, издевательства, мордобой, унижения человеческого достоинства были для него невыносимы.
«Только небесная, благодатная поэзия уносит меня иногда из этого ада. О, если б я не хранил ее в своей груди, меня убило бы отчаяние! Вот уже целый месяц я здесь, я написал еще очень мало. Да и как писать? Капрал, как только увидит перо в моей руке, сразу бранится или дает мне какую-нибудь работу!..»
Сыновья народа — солдаты полюбили поэта. Он рассказывал им сказки, писал за них письма — ведь среди солдат на двадцать человек едва ли попадался один грамотный, — выслушивал рассказы обо всех их бедах-невзгодах и пел вместе с ними песни.
С переменой штатской одежды на солдатский мундир отбросил Петефи и привычки и навыки той среды, в которой он жил прежде, а вместе с этим совсем отказался и в своих стихах от высокопарного языка поэзии того времени.
Когда он выходил из казармы на свидание с бывшими школьными товарищами, ему все труднее было с ними разговаривать. Поэт уже знал, что в мире есть иная жизнь, иные чувства — это жизнь и чувства миллионов простых людей, близость с которыми он ощутил особенно сильно в дни своих скитаний.
Тяжела была жизнь Петефи в солдатчине.
«Сколько раз приходилось горемычному солдату стоять в карауле возле Шопронской почты! В лютую стужу он по два часа подряд бегал взад и вперед по узкому деревянному мостку или забирался в будку, чтоб спастись от воющего ветра, — писал первый биограф Петефи, Золтан Ференци. — Какому-то бедному адвокату бросилась в глаза эта тощая фигура, он стал допытываться — кто да что, и пожалел его… Сочувствие адвоката особенно возросло, когда он увидел солдата погруженным в чтение Горация».
Какой-то шопронский студент так вспоминал впоследствии о Петефи:
«Войдя в комнату, я увидел совсем невзрачного солдата, скромно примостившегося на некрашеном студенческом сундучке. Лицо его было бледно, усы еще едва пробивались, весь он был тщедушный, щупленький. С плеча у него спускался белый ремень от винтовки… Зеленого цвета мундир с желтыми петличками, зеленые брюки и тяжелые солдатские башмаки, которые болтались у него на ногах так, будто были шиты не на него. Один только ворот мундира был ему не широк; казалось, он поддерживал голову, торчавшую на длинной шее. Волосы жесткие, коротко подстриженные, впалые щеки, лицо смуглое, живые черные глаза…»
Как раз в это время в городок прибыл Ференц Лист. Рядовой Петефи попросил у капитана увольнительную, чтобы попасть на концерт великого венгерского пианиста и композитора. Капитан отказал ему. Тогда вечером Петефи удрал из казармы. На другой день его заковали в кандалы. Вряд ли кто еще заплатил так дорого за посещение концерта Листа, как Петефи.
Да, видно, не зря пели венгерские солдаты, служившие австрийскому императору, печальную песню:
В марте 1840 года полк выступил из Шопрона.
Рядом с Шандором шагал молодой солдат. Он был молчалив, печален, глаза его то и дело заволакивались слезами. На привале солдат обратился к Петефи:
— Шандор! Подержи-ка мое ружье, я сейчас приду.
И он исчез в придорожном лесочке.
Привал подходил к концу, солдаты строились, а парня все не было. Отправились на поиски и нашли его: висит, бедняга, в петле на толстом суку дерева — покончил с собой!
В другой раз юный поэт сидел у окна и, тихо бормоча строчку нового стихотворения, смотрел во двор казармы. В тот же миг с верхнего этажа выбросился его товарищ по солдатчине и, упав посреди двора, разбился насмерть.
Это была уже совсем другая жизнь, чем в школе. Мрачная, жестокая, точь-в-точь как жизнь задавленного венгерского народа.
…Петефи заболел. Слабый, склонный к чахотке организм семнадцатилетнего юноши не вынес тяжелой, полной лишений солдатчины. У него началось кровохарканье, затем к туберкулезу прибавился и тиф.
По вечерам в палате, битком набитой измученными парнями, тихо, будто слезы, лились слова солдатской песни:
Три месяца Петефи лежал пластом. Наконец его выписали из больницы, а через некоторое время он снова попал туда, еще более измученный. Только спустя полгода один сострадательный врач направил поэта на комиссию.
— А вы не хотели бы уволиться из армии? — спросил его врач. — Ведь вам здесь не место.
— Мне все равно, — ответил Петефи. — Надеяться мне не на что, куда бы я ни пошел.
Друг по солдатчине, Вильмош Купит, уговаривал Петефи, который уже на все махнул рукой. и только ждал смерти, попросить отпускную. Этот солдат ухаживал за больным поэтом.
С замиранием сердца ждал Петефи решения своей участи: отпустят его или нет. Закрыв глаза, лежал он на больничной койке и вспоминал, как в зимнюю вьюгу сгребал он снег во дворе казармы, как, одетый в легкую шинель, стоял в карауле, как писал закоченелыми пальцами строки своих стихов на дощатой стене караульной будки, как вечерами, когда уже все товарищи спали, читал он в затихшей спальне Шекспира, Шелли, Горация при свече, наколотой на штык, как задувал его свечу вездесущий капрал.
Петефи уволили из армии. Он ожил. Попрощался с друзьями по солдатчине и зимой в одной рваной шинелишке пустился в дорогу с надеждой, что теперь, быть может, все переменится к лучшему.
В конце февраля 1841 года в Шопроне отставной солдат Шандор Петефи явился к своим бывшим товарищам по школе. При виде его они испугались, решив, что он удрал из армии. Шандор показал им свидетельство, в котором стояло: «Служил честно и верно…» Товарищи успокоились, но теперь ума не могли приложить, что делать с этим бедным малым в оборванной солдатской одежде. Он стал им еще более чужим, чем прежде. Сейчас у «его и разговор уже совсем другой, чем у них, да и весь он какой-то неотесанный: то вспыхнет, а то вдруг будто унесется мыслями, притихнет и в ответ на вопросы рассеянно улыбнется. Оборванец, а еще говорит свысока! Спрашивается: на каком основании? Ведь у него нет ничего, даже плохонькой койки в углу и то снять не может. А еще осмеливается поучать их: «Да что вы знаете? Представления не имеете о настоящей жизни!»
Отношения Петефи с двоюродным братом и бывшими приятелями, за исключением Пака[10], стали все холоднее. Вскоре поэт покинул Шопрон и направился пешком в другой городок — Папу. «Хоть не буду видеть надутую морду этого милого родственничка!»
«Стоял март 1841 года, — вспоминал Орлан. — Погода была слякотная, казалось — зима выбрасывает на землю последние остатки стужи. Я стоял возле пюпитра, против окна, и писал. Вдруг мое внимание привлек какой-то шорох. Я поднял глаза, и мне показалось, что под окном стоит Петефи. От удивления я даже привскочил, но тут открылась дверь, и в нее на самом деле вошел он, только еще более худой, чем обычно. Одет он был в обмундирование отставных солдат: на нем были узкие синие брюки, солдатский фрак и плоская белая шляпа. Сума, свисающая с суковатой палки, перекинутой через плечо, — вот все его пожитки. Радость неожиданной встречи тут же сменилась озабоченностью. Я стал расспрашивать его о том, что он намерен делать.
— Нет у меня никаких намерений, — ответил он. — Я услышал в Шопроне, что ты здесь, и пришел к тебе. У меня есть еще несколько форинтов, которые я получил перед отставкой».
Это были слова уставшего, вконец измученного человека. Несколько дней он отдыхал. Дружеское внимание и отдых вернули ему силы.
В июне он записался в школу вольнослушателем. Спал на полу, на соломе. Но что это за беда для бывшего солдата, который, лежа на деревянных нарах в казарме, писал оды:
Да! Но тогда его товарищи тоже лежали «а деревянных нарах, а сейчас так жил он один, бедняк в среде обеспеченных школьников. Над бедностью его издеваются, учителя относятся к нему пренебрежительно.
Весь его заработок сводится к скудному обеду, которым кормит его слепой священник за то, что юноша читает ему вслух по нескольку часов в день.
«Как-то раз на него вдруг напала причуда, — писал Орлаи, — надеть на себя свою солдатскую одежду и в ней пойти в школу. (Можно представить, сколь одинок был Петефи, если даже один из лучших его друзей расценил как «причуду» желание юноши надеть какую бы то ни было, но свою одежду, чтобы не ходить всегда в чужой. —
Ученики, «увидев его, разразились хохотом… а учитель немедленно выгнал из класса».
Долго жить в таком положении было невозможно, и Петефи, покинув школу, пустился в дорогу, как всегда, пешком. Он направился в дальний город Пожонь.
«Однажды в ясные летние сумерки, — пишет в своих воспоминаниях другой товарищ Петефи, — мы гуляли с друзьями в Пожоне. Вдруг я увидел, что навстречу мне спешит юноша в порванных брюках, ужасающе потрепанном и узком летнем доломане. (Это была та одежда, которую подарили Петефи в Папе и вместо которой он надел однажды старое солдатское обмундирование. —
И вот, наконец, он приезжает домой, к родителям. Они удерживают сына, просят остаться, обещают найти работу. Но он опять уходит, а через две недели снова возвращается домой. Май и июнь проводит дома, пишет стихи. Потом вновь собирается в путь.
— Довольно, отец, я пойду дальше! — говорит он.
— Но, сынок, скажи, бога ради, куда ты пойдешь?
— Осенью я запишусь в школу, а до тех пор буду на сцене.
— Стало быть, не можешь отказаться от жизни шута?
Юноше девятнадцать лет, он отставной солдат и может позволить себе уже добродушную усмешку в ответ на отцовские слова.
— Нет.
— А эта твоя писанина тоже… — ворчит старый Петрович. — Ничего не скажу, буквы ты пишешь красивые, но с такими буквами ты бы лучше пошел писцом к стряпчему, чем стихи кропать. Кому они нужны? Такие песни, что ты пишешь, поют и деревенские девушки, когда рушат кукурузу или прядут. И ни гроша за них не просят. А ты прожить на них хочешь…
Старик не понимает, что, сравнив песни своего сына с теми, которые поют девушки, руша кукурузу, он высказал ему величайшую похвалу.
А мать молчит, только слезами обливается. Опять надо прощаться с сыном.
— Что с моим мальчиком? — вздыхает она. — Такой хороший, такой умный, а все скитается, будто его какой бес гонит!
Он уже вновь собрался в дорогу. «Пошел в Пешт, — пишет Петефи в письме к своему другу, — но здесь для меня не дули и даже не веяли никакие благоприятные ветры, и я как шальной продолжал свой путь к Фюреду, а затем, переправившись через Балатон, пройдя Шомодь и Веспрем, прибыл в Толну Озору; там оказалась труппа актеров, с ними я подружился и стал артистом. Три месяца я актерствовал — труппа наша разорилась, и я после «стольких превратностей и бед, правда похудев, но не сломившись», распрощался в Мохаче со сценой (с божьей помощью надеюсь — не навеки) и… через Мохач, Печ, Сигетвар, Капошвар, Кестхей, Шюмег и Сомбатхеи прибыл в Шопрон. Здесь я думал учиться, но у меня не было ни гроша, a «ex nihilo nihil»; отсюда я направился в Пожонь — там меня ждало то же самое; потом пошел, наконец, в Папу…»
Трудно описать все те пути, что он прошел за два года. Он исходил много дорог, обошел почти всю страну. Зато и узнал Венгрию и жизнь народа так, как никогда не мог бы изучить по книгам. Он впитал все те впечатления, переживания и сведения о народной жизни, без которых не мог бы стать Шандором Петефи, величайшим венгерским поэтом, певцом страданий, борьбы и чаяний своего народа.
Труппа еженедельно выступала в новом месте. Иногда актеры бывали сыты, но чаще всего голодны. Осенью юноша покинул театр, снова поступил учиться в школу и одновременно стал давать уроки.
Петефи очень много читал в это время. Особенно любил он Гейне, Ленау[11]. А стихи венгерских поэтов Чоконаи[12], Гвадани[13], Вёрёшмарти знал наизусть. Сам он к этому времени тоже написал тетрадочку стихов. Стихи свои Петефи все время исправлял, переписывал заново, потом разрывал на мелкие клочки, затем снова записывал их по памяти, опять исправлял, рвал, и так без конца.
Тогда же он отослал несколько своих стихотворений в «Атенеум», самый влиятельный журнал того времени, и с волнением ждал ответа. В мае 1842 года появилось его стихотворение «Пьющий», первое напечатанное произведение Петефи.
Вскоре в школьном литературном кружке он получил премию за два стихотворения. Одно из них так понравилось, что премию за него увеличили и прибавили поэту золотой. Друзья радостно встретили его успех, решили отпраздновать его, однако нужда омрачила и это торжество.
Так как Петефи жил не дома, а у чужих, и все убранство его жилья состояло из соломенного тюфяка, стола и стула, то пирушку пришлось устроить на квартире товарища. Из полученных в премию денег на один золотой Шандор накупил всякой снеди. Был уже поздний вечер. Юный поэт радовался, танцевал и пел. Но беда в том, что приличной одежды у него не было, так что он пришел на вечеринку в чужом костюме и шляпе, заняв их у приятеля. Ночью, в самый разгар празднества, когда, раскрасневшись от вина и счастья, поэт читал товарищам стихи, вдруг явился состоятельный и тупоголовый владелец костюма и потребовал, чтобы Петефи немедленно вернул его костюм.
Юноша, побледнев от негодования, побежал домой и гневно сбросил с себя чужую одежду.
— Возьми! — крикнул он. — Возьми!
Владелец костюма взял и, хихикая, ушел со своей драгоценностью.
«Когда же кончатся, наконец, эти унижения?» — с великой горечью подумал Петефи, и слезы хлынули у него из глаз.
В 1514 году венгерские феодалы жестоко подавили движение крепостных, поднявшихся против все более возраставших тягот. Были убиты тысячи крестьян, десяткам тысяч отрублены в наказание руки, отрезаны уши и носы; крестьянская кровь лилась на землю феодальных властителей, хмельных от победы. «Крестьянского короля» Дёрдя Дожу[14]сожгли живьем, посадив на раскаленный железный трон. Создавшееся «новое положение» было закреплено на бумаге «законником» Вербёци[15].
«…Все крестьяне, которые восстали против своих родных господ, должны понести тяжелое наказание как изменники. Но чтобы… все крестьянство (без дорого, по признанию самого Вербёци, и дворянство стоит немного. —
С этой поры крепостных можно было, как животах, покупать, продавать, дарить, избивать до смерти.
Венгрия целое столетие сопротивлялась турецким захватчикам, отважно отражала орды янычар, а теперь она настолько ослабела, что через двенадцать дет после этого великого кровопролития, в 1526 году, рухнула под новым ударом турок.
Страна распалась на три части: на востоке образовалось шаткое, хотя с виду и независимое Эрдейское княжество, в средней Венгрии водворились турки, на западе католическая Австрия откромсала себе одну треть истекающей кровью Венгрии. Страна утратила свою независимость.
Турецкое владычество продолжалось сто пятьдесят лет. А когда турок изгнали, их сменили Габсбурги. Однако австрийские захватчики не хотели довольствоваться одной какой-нибудь частью Венгрии — они поработили всю страну. Венгрия стала колонией Австрии.
Венгерские феодалы и австрийские завоеватели превосходно сговорились между собой — они решили действовать путем тщательного «разделения труда». Австрия грабила всю Венгрию, но зато с помощью своих войск обеспечивала венгерскому дворянству полную свободу драть с венгерского народа все, что у него еще оставалось:
«Дворянин не работает, не платит налоги, не служит в солдатах» — это положение было основным в «знаменитой», «исторической» венгерской «конституции».
На шею Венгрии был посажен наместник — австрийский император обычно даже не удостаивал своим посещением это «дикое» владение. К императорскому двору тесно примыкало самое реакционное крыло венгерской аристократии, большая часть которой с трудом выговаривала венгерские слова, а те форинты, что выжимала из венгерского народа, она тащила в свои венские дворцы или проматывала еще где-нибудь подальше — в Париже или Лондоне. Это о них писал Петефи:
Венгрия была для Австрии поставщиком хлеба, сала и мяса. В конце XVII века за одно только десятилетие из Венгрии перегнали з Австрию больше миллиона голов рогатого скота.
Когда в 1686 году под предводительством австрийцев венгры очистили от турок замок Буды и впоследствии всю Венгрию, австрийские наемники произвели такое опустошение по всей стране, перед которым бледнели все турецкие грабежи. Во многих краях жители ушли в леса. Наемные войска обращались с венграми, как с рабами. В камышах, в лесах, в безлюдных степях все возрастало число беглых крепостных и бедняков, которые, собираясь ватагами, нападали на отряды императорских войск. Крестьяне громили соляные склады. На севере Венгрии гнувшиеся под тяжестью непомерных налогов венгерские и украинские крестьяне ждали только подходящего момента, чтобы общими усилиями изгнать императорские войска.
И вместе пели они:
В начале XVIII века Ференц Ракоци II поднял восстание против поработителей, начертав на своем стяге: «За родину и свободу». После нескольких лет героической борьбы восстание — так называемое восстание куруцев, в котором сплотились в общей борьбе за свободу венгерские, словацкие и украинские Црепостные, было подавлено.
«И с тех пор в народе передается из уст в уста потрясающая баллада, в которой побежденные повстанцы-куруцы проклинают предателей:
После подавления восстания в стране начался еще более яростный террор. Дворянам, верным Австрии, австрийцы стали раздавать титулы, звания, дарить поместья. Тогда получил и большую часть своих имений впоследствии самый богатый аристократ Венгрии — герцог Эстерхази. На протяжении долгих веков почти все члены этой семьи были предателям венгерского народа. Не зная, чем бы еще урезать права непокорных венгерцев, австрийские правители издавали «законы» один за другим. Был издан, например, такой, согласно которому все люди, носящие костюмы не из австрийского сукна, подлежали тюремному заключению.
Жадная длань Австрии еще тяжелее придавила Венгрию, еще усерднее стали вывозить из страны хлеб и скот. Венгерское сырье обрабатывалось в Австрии, готовые же товары продавали втридорога нищему населению страны.
Заодно со скотом в аркан попадали и люди, конечно крепостные; они десятки лет служили в императорской армии и если не погибали там, то возвращались домой оборванные, с одной только потрепанной бумажкой в кармане: «Отслужил».
В дворянских усадьбах стояли «кобылы» — скамьи для порки, на рыночных площадях деревень и городов вздымались виселицы. За малую провинность крестьян били батогами, за большую — накидывали петлю на шею и трупы оставляли для острастки висеть до тех пор, покуда голодные стервятники не склевывали мясо с костей.
Так жил венгерский народ в XVIII веке.
В 1777 году в Венгрии при населении около восьми миллионов человек в промышленности работало всего лишь тридцать тысяч, считая ремесленников вместе с подмастерьями и учениками. А экспорт сельскохозяйственных продуктов непрерывно возрастал, хотя методы обработки земли оставались дедовскими: венгерские крепостные обрабатывали свою землю точно так же, как их предки двести лет назад.
О колониальном положении Венгрии ярко свидетельствует жалоба скотопромышленников в венгерский сейм: «…пошлины увеличились настолько, что, покуда скот доберется до Вены, торговцы теряют каждую третью голову… Дальше Вены скот гнать запрещено… так что даже остающуюся ничтожную прибыль получают владельцы венских боен. С нами очень часто вовсе не расплачиваются, если же мы начинаем требовать причитающиеся нам деньги, то нас заключают в тюрьмы». Это уже не только слова жалобы, но и протест против национального угнетения.
Императрица Мария Терезия, а затем ее сын Иосиф II пытались провести кое-какие крестьянские реформы. Эти реформы, впрочем никогда до конца не осуществленные, вынуждались прежде всего непрерывными войнами, которые вела Австрия. Необходимо было увеличивать и оснащать австрийскую армию, а также повысить платежеспособность населения империи, в том числе и венгерских крепостных крестьян. Это было важно еще и потому, что венгерское дворянство не платило налогов.
«Овец надо кормить, если мы хотим их стричь», — говаривала Мария Терезия. В этих словах были заключены все экономические принципы «просвещенной императрицы».
Мария Терезия тщательно заботилась и о том, чтобы юные венгерские аристократы и дворяне получили в Вене «соответствующее образование». Она хотела воспитать их верноподданными гвардейцами. Однако венгерская дворянская молодежь, попадавшая в лейб-гвардию императрицы, знакомилась в Вене не только с придворным этикетом, но и с внутренним положением Австрии, которая по сравнению с Венгрией стояла на высшей ступени экономического развития. Кое-кто из молодых лейб-гвардейцев познакомился там и с произведениями французских просветителей, и нет сомнения, что им случалось встречаться и с отчаявшимися венгерскими торговцами, которые учились национализму в «школе рынка». Вена помогла этим лейб-гвардейцам увидеть угнетенное состояние своей родины.
И что же могли почувствовать честные сыновья венгерского народа, когда они тайком читали такие строки просветителей Жокура и Монтескье:
«Под игом тирана нам нельзя было беседовать о родине» (Жокур). «Если мы возложим на крестьянство такое бремя, что все его доходы пойдут на уплату налога… тогда крестьяне оставят свою землю незасеянной либо посеют ровно столько, сколько им самим требуется на пропитание» (Монтеекье). «Tаким образом, те, что стонут от произвола восточного деспотизма, где нет закона, кроме воли тирана, правила, кроме подчинения его капризам, принципа правления, кроме террора, где ничья жизнь и ничье состояние не находятся в безопасности, — те, я повторяю, не знают, что такое родина» (Жокур).
Да, было о чем задуматься венгерской — дворянской молодежи, когда она размышляла о своей нации, стонавшей под габсбургским игом.
Мария Терезия положила начало организации единой централизованной австрийской абсолютистской державы. Ее сын Иосиф II продолжал начинание своей матери с удвоенной силой. Национальные противоречия в своей многонациональной державе Иосиф II пытался ликвидировать очень несложным путем: он стал вводить повсюду, в том числе и в Венгрии, обязательный немецкий язык и настойчиво проводить политику ассимиляции угнетенных наций.
С 1784 года преподавание в венгерских школах разрешалось вести только на немецком языке, и в гимназию принимали лишь тех мальчиков, которые владели им. Административным языком стал также немецкий, так что на службу принимались только люди, знавшие его. Все эти мероприятия проводились в то время, когда немецкий язык был доступен в Венгрии даже в университетах только одной десятой части студенчества.
Политика языковой ассимиляции не увенчалась успехом. Иосиф II хотел предать венгерский язык смертной казни, но этим самым он содействовал пробуждению национального самосознания и пробуждению национально-освободительных движений в широких массах венгров.
Образовался фронт национального сопротивления. К нему примыкали представители самых различных социальных прослоек, люди самых различных интересов. Все они объединились под стягом защиты родного языка.
Французская революция 1789 года одним махом «образумила» Иосифа II в его намерениях вводить реформы, тем более что сопротивление в Венгрии приняло угрожающие размеры. А потомки австрийского императора со страху и вовсе выбросили на свалку «просветительские» стремления и уже в 1795 году пустили в ход секиры палачей: в Буде отрубили голову Мартиновичу[17] который ратовал за отмену крепостного права.
«Пусть никто не боится, — писал Мартинович в своем воззвании, — потому что тираны и попы бессильны, если народ не идет за ними. Каждый народ, который хочет быть свободным и борется за свою свободу, будет свободным».
Но Мартинович и его товарищи сами не были связаны с народом. Они опирались только на узкую дворянскую прослойку, и их движение не перешло за рамки заговора. Товарищи Мартиновича были казнены вместе с ним. Только несколько человек спаслось от рук заплечных дел мастеров — это были писатели и поэты, но и их заточили на долгие годы в тюрьму.
Австрийские власти, поддерживаемые реакционным венгерским дворянством, надеялись, что казнь Мартиновича и его товарищей и заточенье в острог прогрессивных писателей Венгрии подорвут национальное освободительное движение, усилившееся в результате политического брожения, наступившего после первой французской революции. И на самом деле прямая политическая борьба против феодальной Венгрии прекратилась на долгое время. Однако она не совсем угасла, а приняла только формы литературной, идеологической борьбы. Это был «обходный путь», но им приходилось пользоваться, ибо революционные силы Венгрии были очень слабы, хотя, с другой стороны, они были не столь уж ничтожны, чтобы позволить беспрепятственно задушить стремления к созданию национальной литературы как одной из важнейших форм проявления общественной жизни в Венгрии начала XIX века.
Труд этих писателей был тяжек и неблагодарен: связанная по рукам и ногам печать попала во власть своих и чужеземных тюремщиков, а громадное большинство венгерского дворянства тупо и равнодушно, а подчас и враждебно смотрело на усилия «обновителей».
И все-таки ко второму и третьему десятилетиям XIX века оцепенение в стране стало проходить.
В экономической жизни страны возникли новые факторы, и, как их следствие, в обществе зародились новые устремления. «Реформы, реформы нужны!» — слышалось повсюду и в литературных кругах и в Сословном собрании.
Даже в среде венгерских аристократов появлялись сторонники «реформ» умеренного прогресса, желавшие произвести кое-какие преобразования, улучшить состояние Венгрии и состояние собственного кармана.
Но никто даже шепотом не смел произнести, что Венгрии нужна независимость.
Основное ядро движения реформ составило средне-поместное дворянство. Труд крепостных крестьян, обнищавших и потерявших всякую заинтересованность в хозяйстве, почти не приносил им доходов. Подражая крупным магнатам, некоторые дворяне пытались заниматься в своих имениях виноделием, заводили прядильно-ткацкие мастерские, но предприятия эти редко увенчивались успехом — не хватало денег, не было рынка сбыта. Другие превращали земли в пастбища для овец.
«Партия реформ» опиралась как раз на этот слой и на дворян, уже утративших поместья. Из 136 тысяч венгерских дворянских семейств разорившихся было больше 100 тысяч, но тем не менее эта обширная прослойка обедневшего дворянства обладала политическими правами, могла выбирать и быть избранной в сейм.
Противоречия между аристократией, приверженной к австрийскому императорскому дому (партия консерваторов), и средним и мелким дворянством, требовавшим реформ, все обострялись. Все с большей активностью выступают на политической арене мелкопоместные дворяне во главе с их вождем Лайошем Кошутом[18]
Кошут в эту пору еще протестует против обвинения его в революционных действиях, но он уже предупреждает аристократию о том, что неплохо было бы поторопиться с реформами, потому что иначе наступит пора «требований».
В борьбе за свободу торговли среднепоместные дворяне осознают и то, что «без самостоятельной промышленности и внутреннего рынка сельское хозяйство тоже обречено на вечное рабство; без промышленности страна похожа на однорукого человека» (Кошут).
Но дворяне, выступавшие с требованием буржуазных реформ, не собирались, однако, отказаться от своих феодальных привилегий. Некоторые из них желали больше, другие меньше, но все «сторонники реформ» сходились на одном (до осени 1848 года с ними был и Лайош Кошут): не порывать отношений с Австрией и двигаться вперед медленно, осторожно, не допуская того, чтобы власть выпала из рук дворянства; нет, «вожжи должны оставаться в его руках»[19], так как иначе крепостное крестьянство и безземельное батрачество могут перейти к захвату земли, к революции.
Сторонники реформ «сверху» великолепно знали, что Венгрия — колония Австрии, что на страже «порядка» в ней стоит императорская армия. Хорошо бы видеть Венгрию независимой, думали они, но это опасно. Если подступить к Австрии с решительными требованиями, то венгерское дворянство может остаться незащищенным «с тыла» (то есть от крепостного крестьянства), австрийцы отведут свои войска и, что еще хуже, будут подстрекать народ к бунту, а «тлеющая лава» (этим именем окрестили писатели того времени крестьянство. — Л. Г.) поглотит «благородное сословие».
И венгерское дворянство ради сохранения сословных привилегий оставалось верным императору. Уже не впервые для сохранения своих прав продавало оно независимость страны. Для него вывод был один: при всех условиях реформы следует проводить только «сверху».
В Венгерском сословном собрании в течение двадцати лет произносились различные речи о необходимости реформ. Если некоторые сторонники преобразований начинали горячиться, то более осторожные собратья одергивали их: дескать, берегитесь, толчок может быть дан «снизу», и более сильный, чем это хотелось бы дворянству.
Кто же был «внизу»? И кого так боялись?
В Венгрии в 1847 году из сорока четырех миллионов хольдов[20] плодородной земли лишь тринадцать миллионов было в руках крепостных крестьян. Шестьсот двадцать четыре тысячи семейств обрабатывали эту землю, неся на себе все тяготы крепостного права — десятину, девятину, барщину и т. д.
Кроме того, в Венгрии существовало девятьсот десять тысяч батрацких семей, лишенных всякой земли и работавших в крупных поместьях сезонными рабочими от семидесяти до ста дней в году. В остальное время они голодали. Часть в поисках работы уходила в город. Но и там она не могла найти себе работы, так как промышленность была слабо развита, и в городе эти люди составляли толпу «бродяг», как о них писали газеты.
Масса крестьян в шесть-семь миллионов человек представляла шестьдесят-семьдесят процентов населения Венгрии того времени.
Этой «тлеющей лавы» и боялись венгерские «сторонники реформы» (не говоря уже об австрийском императоре и союзной с ними реакционной венгерской аристократии); из-за этой-то «тлеющей лавы» и были они так осторожны в своих требованиях. В 1846 году, в связи с крестьянским восстанием в Галиции, официальный орган Венгерского экономического объединения писал: «Да, господа! Сейчас ничто так не важно, как сплоченность… Галиция страшный урок…»
И вместе с тем для всех, даже самых умеренных, становилось ясным, что крепостная система хозяйства никак себя не оправдывает, что настаивать на сохранении ее — безумие. Громадные земельные пространства Венгрии оставались необработанными, все большее количество рабочих рук оказывалось неиспользованным. В стране складывалось положение, при котором помещики уже «больше не могли», а крестьяне «не хотели» жить по-старому. Крепостной труд стал окончательно невыгодным. «Что бы ни делал помещик, а производительность барщинного труда относится к производительности вольного труда, как один к трем… И не только крепостной крестьянин гордится, если обманет помещика, в этом ему подражают и батраки…»[21] Не помогало даже то, что «батраки обязаны вставать в установленное время, слепо выполнять все приказания барина, за любые проступки выдерживать брань, побои или заключение в темнице»[22].
Не помогало и то, что «батрака, сбежавшего от помещика до окончания срока договора… могли арестовывать, наказывать четырнадцатью ударами палкой… и заключать в тюрьму»[23].
А как было батракам не бегать от помещиков! «Для своих овец господа выстраивали удобные и просторные хлевы, а батраки, работавшие от зари до зари, должны были прозябать в домишках под гнилыми соломенными крышами, которые не защищали их ни от сырости, ни от стужи»[24].
Среди батрачества назревало революционное возмущение, назревало оно и среди крепостных крестьян, имеющих наделы. Да и как было не возмущаться, если, кроме всех прочих налогов, они должны были сто четыре дня в году работать на помещика, и как раз в ту пору, когда им нужно было обрабатывать свою землю (май, июнь, июль, август). Сто четыре дня было, конечно, только на словах, на деле барин «засчитывал сколько хотел».
Иожеф Брюнек в книге «Барщина и оброк» (1846) точно описывает положение крепостного: «Кроме ста четырех дней барщины… он отрабатывал вместо перевозок — 4 дня, вместо королевского оброка — 8 дней, погрузки дров — 2 дня, рубки дров — 2 дня, участия в барской охоте — 3 дня, работ на пользу общины — 24 дня, работ для деревни — 4 дня, вместо работ для попа — 2 дня, для певчего — 2 дня; всего из 299 рабочих дней, если бы их засчитывали честно, ему оставалось бы только 140 дней; 159 он должен был даром работать на другого». В действительности же на барщину уходило 200–220 дней, и земли крепостных очень часто обрабатывались детьми. Не надо забывать, что в приведенной цитате не указаны работы по снабжению армии, обязательные перевозки и при этом не учтены те осенние, зимние и весенние дни, когда из-за дождей и метелей крепостной не мог работать вне дома ни на себя, ни на других.
Могли ли крепостные не волноваться, если, помимо этого, одна девятая часть их урожая принадлежала помещику, десятая часть — попу или певчему и, кроме того, приходилось выплачивать еще с десяток различных налогов? Своего хлеба у них не хватало до нового урожая, об одежде не приходилось и говорить.
Трудящиеся страны голодали. В 1816–1817 годах только в пяти комитатах[25] (Венгрия состояла из 63 комитатов) умерло с голоду 44 тысячи крестьян.
А крестьянин, ушедший в город, «или исходит потом на улице под самым солнцепеком, или мерзнет в зимнюю стужу и голодает весь день, — работы найти себе не может»[26]. «Несмотря на то, что хлеб очень дешев, сколько же людей его у нас не видит и довольствуется одной картошкой…» — писал вождь венгерской бедноты Михай Танчич[27].
«Внизу» были эти миллионы крепостных и батраков, не хотевших жить по-старому, и как раз страх перед ними толкал венгерских политиков «эпохи реформ» идти на соглашение с австрийским императорским домом, с австрийскими промышленниками.
Кроме них, «внизу» были и те, которых венгерские историки до сих пор либо «забывали», либо не признавали их значения в венгерской революции 1848 года. Ясность в этот вопрос внес Бела Кун в своем превосходном труде о Петефи, опубликованном в 1937 году. Бела Кун писал следующее:
«В больших и малых городах скапливались мелкие ремесленники и торговцы, которых не принимали в цехи, на которых не распространялись цеховые привилегии. Эти бедные, бесправные, отринутые ремесленники, работавшие большей частью без подмастерьев, торговцы, странствующие кустари и коробейники были все вместе с тем выброшены и за борт феодального сословного общества. Число таких людей, оказавшихся вне сословного строя, росло не только за счет крепостных крестьян, бежавших в город от помещичьей зависимости, но и за счет деклассированных мелкопоместных дворян. В одном ряду с ними стояли и мастеровые, занятые кустарным промыслом, а также и люди, выполнявшие различные службы при барских домах, но не принадлежавшие к челяди. Жизненные превратности заставили прибиться к ним и представителей самых низших слоев интеллигенции, людей свободной профессии, вышедших из крестьян, и часть бедного студенчества.
До образования пролетариата из этих прослоек и составлялись «низы общества».
Всю эту часть общества и называл Энгельс «Vorproletariat», буквально — предпролетариатом, предшественником пролетариата. Историки никогда не обращали внимания на эту прослойку. А по мнению Энгельса, до образования пролетариата эти массы людей играли зачастую весьма значительную роль в общественной борьбе… Энгельс четко отделил эту прослойку, стоявшую вне рамок феодализма, от мелкой буржуазии, так же как и Ленин отделял от мелкой буржуазии «городской плебс». В борьбе, предшествовавшей революции 1848 года, а также и в самой революции мы обязаны отдать должное предпролетариату. Это тем более важно, что в Венгрии той поры ввиду неразвитости промышленного капитала буржуазия, цеховые подмастерья и особенно пролетариат, занятый в крупной промышленности, были весьма малочисленны и вряд ли, даже собравшись все вместе, могли составить ту массу, которая поддерживала Петефи и его единомышленников и совершила революцию.
И по происхождению и по жизненной судьбе Шандор Петефи был представителем предпролетариата».
Таким образом, становится совершенно ясно, что Шандор Петефи именно как представитель предпролетариата стал выразителем чаяний всех низов венгерского общества и самым последовательным из руководителей революции 1848 года.
Петефи еще в Папе познакомился с голубоглазым белокурым Мором Йокаи[28], который был моложе его на два года, Йокаи родился в Комароме, где отец его, весьма состоятельный человек, служил адвокатом. Литературные способности мальчика проявились очень рано. Ему не исполнилось еще и десяти лет, когда один пештский журнал напечатал его стихотворение.
В Папе Петефи, Орлаи и Йокаи были неразлучными друзьями. Петефи готовился стать актером, Йокаи — живописцем, Орлаи — прозаиком. «Орлаи писал восхитительные отрывки из романов, — вспоминал позднее об этой поре Йокаи, — Петефи читал их вслух, я рисовал к ним иллюстрации». Орлаи в это время было двадцать, Петефи — девятнадцать, а Йокаи — семнадцать лет. Как они напустились бы на любого человека, который осмелился бы сказать, что мечты их не осуществятся! Но прошло всего лишь несколько лет, и Петефи стал поэтом, Йокаи — прозаиком, Орлаи — художником.
В августе 1842 года, через три недели после печально-знаменательного случая с чужим костюмом, Петефи вместе с Орлаи поехали навестить Йокаи в Комароме. Погостив там немного, они вдвоем с Орлаи сели на пароход и отправились в Дуна-Вече, к родителям Петефи.
«У меня даже сердце сжалось, — писал Орлаи в своих мемуарах, — когда я увидел, в каких стесненных обстоятельствах живут эти двое почтенных стариков. Кое-какие предметы обстановки и одежды свидетельствовали о том, что когда-то им жилось лучше. Лица обоих стариков были отмечены печатью скорби. Особенно заметны были горестные складки на кротком лице матери, улыбка которой всегда таила в себе грусть.
Старики снимали квартиру в домике с маленькими оконцами; две комнатки отделялись друг от друга тесной кухонькой. Передняя комната, выходившая на улицу, была приспособлена под корчму, в которую днем заходили редкие случайные гости, и только в задней комнате могли они предаться отдыху».
«Здесь мы провели целую неделю… — вспоминает Орлаи о днях, проведенных в Дуна-Вече. — И, несмотря на то, что окружавшая нас обстановка была печальна, мы, после того как посетители корчмы расходились, проводили свои вечера в тихом веселье. Отец с матерью подробно расспрашивали сына о его жизни в Папе, и лица их озарялись счастьем, когда мы рассказывали им об успехах Шандора и о том, что самый влиятельный журнал напечатал его стихотворение».
— Значит, мой сын снова стал на правильный путь, — заключил отец.
— А он никогда и не сходил с него, — тихо заметила мать.
«Шандор предложил родителям те две золотые монеты, которые он получил в премию, но отец с матерью не согласились их взять».
Эти две золотые монеты Петефи получил еще 24 июня. С тех пор прошло уже два месяца, и хотя у Шандора не было даже приличного костюма, однако он сберег деньги для родителей.
Юноши попрощались со стариками. Было решено ехать в Пёшт на баржах, которые подымались вверх по Дунаю бурлаками. Так ехать было дешевле.
Ночью баржа пристала к берегу, бурлаки расположились на отдых, разожгли костер на песке. Петефи и Орлаи подсели к костру вместе с бурлаками, а чуть поодаль расположились девушки, собравшиеся покинуть родные места в поисках работы.
Бурлаки насадили на вертела по нескольку кусочков сала, по бокам надрезали их ножами и осторожно поднесли к огню, держа в другой руке по ломтю хлеба. Сало тихо зашипело и закапало жиром на хлеб. Но вот оно подрумянилось, хлеб тоже слегка пропитался жиром, и ужин был готов. Петефи и Орлаи закусывали вместе с бурлаками у костра, а девушки, развязав узелочки, разложили припасы на коленях и ели медленно, то и дело запивая еду дунайской водой.
Уставшие бурлаки легли спать на прибрежном песке, еще горячем от дневного солнца.
— Часа через два луна взойдет, — проговорил один из них уже сонным голосом. — Тогда и пойдем дальше.
И в тот же миг заснул.
Дыхание Дуная овевало их прохладой. Тихо журчала вода. И только иногда было слышно, как над спящими с жужжаньем проносился комар да в прибрежных кустах изредка пробуждалась вспугнутая чем-то птица, беспокойно хлопала крыльями, кричала, и потом снова наступала тишина. На летнем небе сверкали звезды, их отражение трепетало в зеркале воды. Наверху звезды мерцали чуть-чуть, внизу, на струящейся воде, сильнее, тревожнее, и все-таки везде царил такой покой, будто не было и в помине этой скорбной, подневольной и нищенской жизни.
Девушки смотрели на звезды. Одни любовались их мерцанием на небе, другие — отражением в реке. Одна ехала в Пешт, другая — в Эстергом, третья собиралась в Дёр, а были и такие, которые хотели наняться прислугами в Вене. Еще вчера они были дома, а теперь уже ехали на чужбину, как уезжала некогда и мать Петефи — маленькая Мария Хруз.
Шандор обернулся вдруг к девушке, сидевшей с ним рядом:
— Спой что-нибудь!
Сперва ему послышалось, будто девушка просто что-то говорит, но потом оказалось, что она запела — сначала тихо, неуверенно, потом и другие подхватили песню, но пели едва слышно, чтобы не разбудить спящих парней.
Там, где прохожу я, клонится трава,
С нежных слабых веток падает листва.
Падайте вы, листья, хороните след,
Пусть голубка плачет: нет меня и нет!
Укрывайте, листья, даль моих дорог,
Пусть голубка плачет: «Где мой голубок?»[29]
Песня закончилась, девушка вздохнула и устремила глаза в пространство.
— Сколько тебе лет? — тихо спросил Орлаи девушку.
— В день всех святых шестнадцать минет.
— А мать у тебя есть? — еще тише спросил Петефи.
— И мать есть, и отец, и пятеро сестренок и братишек.
Дунайские волны заплескались — видно, подымался ветер.
— Тебе потому и пришлось из дому уйти?
— Потому. У нас хлеба и до весны не хватит. Заговорили и остальные девушки. Одна пришла из Кецеля, другая — из Харасти, третья — из Патая. Все они ехали с маленькими узелочками в руках «попытать счастья». Видно, «степная даль в пшенице золотой» не сулила им хлеба.
Все замолчали. Петефи коснулся рукой плеча девушки:
— Хочешь, я выучу тебя новой песне?
— Новой песне? Я все песни знаю.
— А эту не знаешь.
Он бросил взгляд на Орлаи и запел. Шандор не был мастером петь, и, чтобы ему помочь, подтянул и Орлаи:
Вдруг Шандор замолк. Орлаи пел дальше, но Петефи взял его за руку:
— Довольно…
— Ты почему не допел до конца? — спросила его девушка.
Петефи пробормотал:
— Потому что другие песни нужны… — Он замолк, потом пробормотал, словно про себя: — И будут еще… будут…
Багровая, разгневанная луна поднималась за рекой. Оторвавшись от темного края земли, она посветлела, потом стала золотисто-желтой, и отражение ее начало раскачиваться в волнах реки.
Бурлаки, словно разбуженные лучами луны, зашевелились, затем поодиночке стали потягиваться, зевать и, наконец, поднялись и пошли отвязывать баржу. Но Петефи и Орлаи больше не сели в нее. Они пошли по берегу рядом с бечевой.
Пробыв несколько дней в Пеште, друзья наняли крестьянскую телегу и поехали в Мезёберень, к родителям Орлаи. Петефи гостил там до октября. Он написал много стихов, потом собрался обратно к своим родителям, чтобы попрощаться с ними перед началом учебного года в Папе. Но домой Петефи решил поехать кружным путем. Он заехал в Дебрецен, чтобы взглянуть на могилу своего любимого поэта Чоконаи. До Дебрецена его провожал Орлаи, а там они распрощались, потому что Петефи захотелось идти пешком через всю знаменитую Хортобадьскую степь. В это время написал он те два стихотворения, которые завершили юношеский период его творчества:
И второе:
В это время родились первые, уже не ученические произведения Петефи, а зрелые стихи и песни, искренние, непосредственные, которые разлетались по всей стране, как ласточки после весеннего прилета. И было их столько, этих ласточек-песен, что они зазвучали в каждом доме.
В то время Шандору, который успел уже быть и бродячим актером, и отставным солдатом и успел уже обойти половину Венгрии, исполнилось двадцать лет.
Осенью Петефи был уже в Папе. Через несколько дней после того, как он пришел туда, ему стало ясно, что все надежды на ученье рухнули. Он не получил той работы, на которую рассчитывал. «В Папе нет ни малейших возможностей раздобыть несчастные гроши, нужные для поддержания жизни», — писал он своему другу. 2 ноября он снова пустился на розыски какой-нибудь актерской труппы. «Меня страшно преследует судьба, — писал он в том же письме. — Я стою перед ужасной пропастью, которую мне надо перешагнуть, и от этого шага, быть может, разорвутся два сердца (моих родителей). И все-таки я не могу поступить иначе. Суди сам, мой друг! Я должен стать актером, иначе мне нет никакого спасения». Но дальше он гордо пишет о том, что ищет в жизни вовсе не одного хлеба насущного, а стремится выше: «…и эта цель никогда не померкнет перед моими глазами. Артист и поэт! Вот, мой друг, что воодушевляет меня!»
8 ноября Петефи выступает уже на подмостках вместе со странствующей труппой; они скитаются из города в город. Однако на рождество юноше удалось «заскочить» в Пешт, и там он познакомился с Байзой и Вёрёшмарти. «Полдня провел я в кругу этих давно почитаемых мною мужей. Счастливые часы!»
Актеры в труппе постоянно грызлись меж собой из-за куска хлеба, из-за лишнего бенефиса. Наконец труппа раскололась на две части, и с одной из них Петефи уехал в Кечкемот. Там он разносил по домам афиши, выступал на выходных ролях: большего ему пока не доверяли. А дома для себя он исполнял Гамлета и Кориолана. И только однажды выпало ему счастье сыграть на сцене шута в «Короле Лире».
Легенда о том, что Петефи был плохим актером, сохранилась до наших дней. Мор Йокаи, который в то время учился как раз в Кечкемете и часто виделся с Петефи, высказывался об его артистических способностях совсем иначе:
«На самом деле Петефи обладал огромным актерским дарованием. Я знал только двоих и притом самых знаменитых актеров Венгрии, которые читали венгерские стихи лучше, чем Петефи… Но то, что требовали от актера тогда — невероятный пафос, громовой голос или, напротив, тающий, соловьиный голосок, — всем этим Петефи не мог похвалиться».
На сцене он тоже стремился к простоте и к человечности. Но театральной публике того времени все это было чуждо. Петефи-новатору так и не удалось сломить препятствия, стоявшие на пути развития венгерского театра.
Открытие венгерского сейма в городе Пожонь было назначено на 14 мая 1843 года.
Предполагалось, что на заседаниях сейма будут продолжаться дебаты между консерваторами и сторонниками партии реформ, а также между левым и правым крылом этой партии — между Кошутом и Сечени.
Петефи стремился в Пожонь. Ему казалось, что там должны произойти грандиозные события, что будет принят закон об освобождении крестьян с выкупом и об установлении венгерского языка государственным языком страны. Все говорило о больших возможностях левых сторонников реформ. Популярность Кошута, только недавно вышедшего из тюрьмы, все возрастала, а учреждение «Общества защиты венгерской промышленности» было уже вопросом нескольких месяцев.
В Пожоне существовала хорошая театральная труппа, и Петефи надеялся, что будет в нее принят, что устремления его поймут и оценят его талант. И еще одно влекло его в Пожонь: он знал, что к началу заседаний сейма там соберется весь цвет венгерской литературы, а к этому времени он сам успел уже напечатать довольно много стихотворений в журнале «Атенеум» и имя его узнали в литературных кругах.
Беда была только в том, что знаменитый журнал, который набрал, правда, не больше трехсот подписчиков, не имел обыкновения платить гонорара, и Петефи по-прежнему был без денег. Он задолжал хозяйке квартиры, и та не хотела отдать ему его единственный костюм. Наконец Петефи удалось кое-как с ней договориться, и он отправился в путь.
В начале апреля юноша пришел в Пешт, а так как до открытия Сословного собрания оставалось еще некоторое время, то он «заскочил» в город Папу к Орлаи. Пошел, как всегда, конечно, пешком. «Одежда его была покрыта дорожной пылью, и из продранных сапог выглядывали портянки». В Папе какой-то его знакомый, огромного роста человек, подарил Петефи свой старый костюм и башмаки. Костюм немного укоротили и сузили, с башмаками же ничего нельзя было сделать.
В начале мая юноша направился в Пожонь.
И занятное же было зрелище: бредет по дороге двадцатилетний юноша, идет в старой, выцветшей одежде, кое-как прилаженной к его тощей фигуре; на ногах у него огромные башмаки — они-то и бросаются в глаза прежде всего. Так шагает по большаку Шандор Петефи, величайший поэт Венгрии, так плетется он пешком в город Пожонь.
В Пожоне, несмотря на то, а может быть, именно вследствие того, что он изложил свои взгляды на актерское искусство, в труппу его не приняли. «Мне не оставалось ничего иного, — писал он поэту Байзе, — как взяться за перо, чтобы обеспечить свое пребывание здесь. И вот я весь день переписываю «Ведомости сейма»… а оплата так ничтожна, что только и хватает на хлеб насущный. К тому, же глаза мои слабеют и грудь побаливает, а при столь сухих занятиях и муза меня обходит».
«Муза обходила его»! Не потому ли Петефи в том же письме к Байзе послал чудесные стихи «Издалека», «Зреет пшеница» и «Раз на кухню залетел я…»?
А жить ему по-прежнему негде. Из милости то один, то другой пускал его к себе ночевать. Когда же такого благодетеля не находилось, то «ложем камень был, а ливень — одеялом».
В Пожоне депутаты Сословного собрания уже давно разошлись, не разрешив никаких вопросов. Кошут с горечью установил, что при существующем общественном устройстве те реформы, за которые он боролся, недостижимы.
Друзья решили представить Петефи, чье имя уже по первым стихотворениям приобрело некоторую известность, модным писателям и поэтам. Кальману Лисняи[30] пришлось купить ему одежду, чтобы можно было Шандора ввести в «приличное» общество.
— Рубашка на тебе тоже рваная? — спросил он.
Петефи молчал. Нет, рубашка на нем не рваная — рубашки на нем вовсе нет.
Петефи познакомился с литературными кругами Венгрии.
Там были и такие люди, которые от души радовались Петефи и которым Петефи радовался от души. Но попадались и другие: они холодно, снисходительно встречали этого изнуренного нуждой и страданиями, но все «бунтующего народного поэта», который являлся к ним с впавшими от бессонных ночей глазами, а главное — в «костюме с чужого плеча» и «в каких башмаках, боже мой! Вот умора!». Точно от раскаленного железа отдергивали они руку, когда здоровались с Петефи. Но не костюм с чужого плеча, купленный где-то на пожоньской барахолке, отталкивал их в первую очередь от Петефи, а вся его поэзия, которая была не по плечу им самим.
Эти «изысканного воспитания» и «блестящего положения» писатели и поэты, думавшие, что их имя и творчество останутся в памяти народа, жестоко ошиблись, Надменность и умение «вести себя в обществе» им не помогли. Имена сих признанных в те времена писателей канули в безвестность. Помнят о них только историки литературы, и то потому, что сияние имени Петефи коснулось мимоходом этих ничем особенно не примечательных людей. Своего сияния у них не было, ценности они не представляли никакой, хотя в то время реакционная критика всячески старалась поднять их, поставить их намного выше Петефи.
Петефи представили одному из таких писателей. Но сей сановник от литературы, сохраняя необходимую дистанцию, как и полагалось с людьми низшего ранга, величественно кивнул головой и бросил какую-то ничего не значащую фразу (такого рода люди во все времена неподражаемы в своем умении говорить ничего не значащие слова): «Я рад, что имею счастье…» И он тут же «перешел к делу».
Писатель, с которым познакомили Петефи, был Лайош Кути[31]. Это его, Кути, привечали в салонах аристократов, «а также в салоне эрцгерцога Иосифа»; это для Кути собирали деньги его великосветские любовницы, потому что Кути, видите ли, «привык к комфорту и роскоши… он и мебель привозил себе из Парижа, и, когда к нему входили, гостя охватытывала восточная нега и запах тропических растений»; не только труды его, но даже имя его забыто с тех пор, и мы упоминаем о нем только потому, что Кути и позднее играл не слишком благовидную роль в жизни Петефи и в литературе вообще. Это его, Лайоша Кути, официальные круги противопоставляли Петефи как истинно «большого писателя»; это его, Кути, подослали в 1848 году к Петефи, чтобы заставить поэта «образумиться»; это он. Кути, после подавления венгерской революции 1848 года, когда народ стонал от страшного габсбургского террора, посвятил восторженное стихотворение кричащей в пеленках дочери императора Франца Иосифа, малышке Софии, которой исполнилось три дня от роду.
Сей литературный муж, когда ему представили в Пожоне оборванного Петефи, встретил его надменно и холодно. Да и как иначе мог его встретить человек, который определял ценность поэта по тому, каково его состояние, какой величины у него квартира и как она обставлена. А Петефи… он и два года спустя снимал комнатушку в восемь квадратных метров. Так стоило ли иметь дело с таким ничтожным человеком?
Войдя к Кути, Петефи огляделся и помрачнел. Он тут же хотел бросить ему нечто резкое, но удержался, не желая ставить в неловкое положение друга, который привел его к Кути. Петефи стоило немалых душевных сил сдержать себя и не выругаться в роскошной квартире, а уже на лестнице и на улице. Но бранью все равно не восстановишь душевного равновесия. Как у всякого настоящего поэта, и у Петефи все это должно было разрешиться стихами:
Пока он мог ответить только бранью, но не прошло и двух лет, как… Однако не будем забегать вперед.
Он почувствовал себя чужим среди этих людей. Не таким представлял он себе «жрецов» венгерского слова, учителей венгерского народа. Ему, действительно народному поэту, оскорбительны были их снисходительные похлопывания по плечу и ненавистна проповедь искусства как самоцели. Тщетно пытались «доброжелатели» засадить его за переводческую работу, которая при работоспособности поэта (за три недели он перевел с немецкого роман в девятьсот страниц) обеспечила бы ему кое-какой заработок. Пе-тефи не мог мириться с тем, что поэзию превращают в холодное ремесло, и он покинул эту среду. А кто пришел ему на память в этой чужой и чуждой ему обстановке? Та женщина, которая всю жизнь трудилась, рыдая, рассталась с ним, тревожилась за него, ждала, — его родная мать. Еще в Пожоне написал он ей горькое сыновнее признание:
Петефи все еще надеялся найти на сцене то, что искал в жизни, если уж вокруг «все так голо и расчетливо», и опять пустился в скитания.
Несчастные бродячие труппы, несчастные странствующие актеры! Сколько было среди них и талантливых людей, любивших свое призвание! Разве не они доносили прозябавшей в духовном убожестве провинции первые пробы пера венгерских драматургов да и произведения мировой драматургии: пьесы Шекспира и Шиллера, пусть подчас в своих несовершенных переводах. Этих актеров знал и ценил Петефи. Вместе с ними хотел и он и его товарищи, современники-поэты Арань и Вайда, нести «факел культуры» в глухие уголки родины. Все они начинали свой жизненный путь в бродячих актерских труппах, странствующими актерами.
…По дороге плелся караван: три фургона, нагруженных декорациями, костюмами и актерами. В первом фургоне сидели актрисы: пожилая женщина, игравшая матерей, молоденькая — выступавшая в роли субреток, старая женщина, выходившая на сцену в роли ведьм и злых старух, и девушки эпизодических ролей; во второй фургон набились мужчины: первый любовник, резонер, комик, несколько второстепенных актеров, — суфлер, осветитель, музыкант; в третьем ехали директор труппы с женой и детьми да девочка-танцовщица лет десяти-двенадцати. В солнечные дни они пели песни, женщины запевали, мужчины вторили им. Когда ж начинался дождь, в фургонах воцарялась тишина: актеры печально прислушивались к ливню, стучавшему по парусиновой крыше. Стук дождевых капель сливался в единый монотонный гул, и только изредка врывался в него рев налетавшего шквалами ветра. Ветер то и дело грозился сорвать парусиновую крышу с фургона. А парусина была уже ветхая, потрепанная, дырявая. Как ни старались актеры прижаться друг к другу, чтоб защититься от ливня, все было тщетно — слишком много дыр было в парусине, и по спинам несчастных «факелоносцев» вода стекала ручьями.
Петефи примостился во втором фургоне. Только двадцать лет исполнилось ему, а он уже третий раз пошел в странствующие актеры.
Дождь кончился, тучи рассеялись. Луна вылезла на небо, и в сиянье ее показался вдруг городок, куда и направлялась бродячая труппа. На дворе, стоял сентябрь. Мягкий осенний ветерок сушил намокшую одежду актеров. Под колесами фургона и подковами лошадей затрещали доски моста, перекинутого через речонку. Караван подъехал к постоялому двору. Актеры соскочили с фургонов и гурьбой ввалились в залу. Хозяин постоялого двора расстроился. Как-никак актеры прикатили! На сколько-то они задолжают ему, когда уедут. Заметив тревогу хозяина, директор труппы предусмотрительно вытащил кошелек. Послышался звон серебра. И с величественностью, достойной короля Лира, делившего свое состояние между дочерьми, директор труппы произнес:
— Сударь, мы за все уплатим вперед! Не тревожьтесь! К вам прибыла самая знаменитая странствующая труппа Венгрии.
Хозяин постоялого двора кое-как разместил гостей. Директору с семьей он открыл отдельную комнату, предоставил комнаты и актерам, выступавшим в главных ролях, — одну мужчинам, другую женщинам. А всякую «мелочь» расселил в сарае. Там же сложили намокшие декорации и прочий актерский реквизит.
Устроившись на постоялом дворе, актеры собрались ужинать в общую залу, где на них удивленно уставилось несколько запоздалых гостей. Актеры заказали себе ужин и вино — вина немного, ибо директор труппы зорко следил за тем, чтобы кто-нибудь из них не напился и не устроил скандала.
«Вдруг дверь общей залы распахнулась настежь.
На пороге показался странно одетый огромный детина. Он был и во фраке и в плаще и громко пел. Актеры обступили его.
— Судя по вашему пению, вы, должно быть, актер? — спросил директор труппы.
— Актер! А может, только был актером.
— Стало быть, мы коллеги или только были коллегами. И если не по актерскому ремеслу, так по бродяжничеству несомненно. Куда держите путь, ваше величество?
— Я пришел из Веспрема и направляюсь в Марошвашархей.
— Пешком? — спросил директор труппы, обомлев. — Ведь это больше тысячи километров.
— Пешком. Я привык. Днем, в жару, сплю, а ночью шагаю. Бетяров не боюсь. Я ведь рад был бы повстречаться с кем-нибудь, кто и меня беднее.
— А какие роли исполняете, ваша светлость?
— Героические — выступаю в пьесах Шекспира, Шиллера и Коцебу, пою в опере, да и декорации малюю… Лучше всего леса пишу.
— Вот гляжу я на тебя и думаю, что-то больно ты высокий для провинциальной сцены, — перешел вдруг директор на «ты».
— Это как же понимать? Ведь я и в провинции не выше, чем в Пеште.
— Ты-то нет, да только провинциальная сцена ниже пештской…»
Актеры засмеялись. Расселись по своим местам. Начали ужинать и веселиться. Одежда у них высохла, голод тоже перестал их мучить. Все запели песню «Надежда» поэта Чоконаи, которому тоже немало пришлось покочевать в своей жизни.
Поужинав, бродяга-актер либо шел дальше, либо уславливался о пробном выступлении с директором, который как раз, может быть, нуждался в это время в первом любовнике, баритоне или еще больше в декораторе, чтобы обновить уже давно потускневшие декорации.
Такие сцены из актерской жизни описывал младший современник Петефи — Янош Вайда. Почти то же самое испытывал и Петефи, встретившись впервые с бродячей актерской труппой.
На другой день после приезда труппы два трубача направились в город и обошли его вдоль и поперек. Актеры ставили декорации. Петефи, как самый молодой из актеров, писал афиши — у него был красивый почерк — и разносил их. Это ведь не унизительно: у бродячих актеров своя традиция в писании и разноске афиш. Знаменитый Карой Медери, ставший гордостью пештского Национального театра, в бытность бродячим актером тоже писал и разносил афиши. О нем сохранилась забавная легенда, которую и подхватил Петефи в одном из своих веселых стихотворений:
…А вечером начиналось представление. Наливалось масло в стаканчики, зажигались фитили — И так освещалась сцена. Актеры по тем временам не радовались на безделье, на то, что «пренебрегают ими», — иногда за один вечер беднягам приходилось исполнять по пять, по шесть ролей. В зрительном зале народу собиралось немного, но собравшиеся не скупились на рукоплескания. А после спектакля вся труппа сходилась подсчитывать доходы. Когда они были невелики, актеры бранились меж собой, когда же денег набиралось побольше, в труппе воцарялся мир.
Так в трудах и в заботах жили актеры, так и сформировался в конце концов венгерский национальный театр.
Актерское ремесло было трудным и неблагодарным, главным образом потому, что среди странствующих актеров были не только такие люди, как Петефи, которые восхищались искусством, восторгались сценой. Шел туда и совсем другой народ, и в этом была главная беда. Правда, и публика попадалась разная: в одном месте она покровительствовала актерам, в другом — холодно встречала «комедиантов». А это не раз грозило бедой!
«Фейервар мы покинули, — писал Петефи в одном из писем, — прибыли в Кечкемет, где дела нашей труппы идут довольно плохо; как актер я хоть и мало, но все же развиваюсь; я уже имел счастье, овладев вниманием публики, несколько раз вызывать у ней аплодисменты, — этого для начинающего актера достаточно. 23-го числа сего месяца будет мой бенефис; после великой борьбы удалось мне добиться, чтоб это был «Король Лир». Я играю в нем шута; получить сию роль стоило также немало трудов, ибо слишком много козней среди актеров. Частенько говорю я со стоном: «Божественное искусство, отчего жрецами у тебя черти?»
И в другом письме он писал о своей последней попытке стать актером:
«…я повстречал по пути директора небольшой труппы. Он пригласил меня к себе, посулив хорошие роли и хорошее жалованье. Именно поэтому я и нанялся к нему, а еще больше потому, что у меня вышли все деньги и я не мог продолжать поездку. Мы отправились в степной городок Бихарского комитата — Диосег — и играли там несколько недель. Мне дали несколько недурных ролей, например роль Торнаи в «Выборах», Варнинга — в пьесе «Тридцать лет или жизнь игрока» и др., и положили пятьдесят форинтов жалованья. Из Диосега мы покатили в Секейхид, там выступали три недели. 24-го числа сего месяца труппа наша распалась, ибо мы хотели поехать в Надь-Карой и Сатмар, а директор не соглашался на это. Таким образом, мне ничего больше не оставалось, как вернуться в Дебрецен. Правда, развал труппы был не единственной причиной моего возвращения — ко всему я еще захворал, и болезнь моя становится с каждым днем все тяжелее. Уже и в Секейхиде я не мог выступать, и нет надежды, что скоро опять появлюсь на сцене. Я очень слаб, и, должно быть, понадобится два-три месяца, чтобы силы вернулись ко мне. Я сущий скелет».
Эта последняя попытка стать актером окончилась печально. Была уже зима. Петефи в легонькой шинели добирался до города Дебрецена. Поздно вечером приплелся он к жилью своего друга. Этот друг — Альберт Пак — в тот вечер как раз поздно возвращался домой. В дверях он встретил дрожащего человека в белых летних брюках. Пак узнал его. Это был Петефи.
— Я пришел к тебе, дружище, — сказал поэт, — чтоб было кому похоронить меня, коли помру.
Альберт обнял промерзшего до костей поэта, повел к себе и за несколько дней поставил его на ноги,
Всю зиму Петефи жил в нетопленной комнате у театральной билетерши. Если окно комнаты не замерзало, он мог видеть из него виселицу и буран, который бушевал на безлюдной площади Дебрецена
Он работал, читал, писал, потерпев крушение в театре, он готовился ко второму, новому наступлению.
В этой холодной, нетопленной комнате родилась его знаменитая «Патриотическая песнь».
Эта песня явилась прелюдией к тем его многочисленным патриотическим стихам, которые достигли зенита в посвященном отцу поэта стихотворении «Старый знаменосец» с его заключительной строкой: «Лишь бедняк душой отчизну любит».
Поэт переписывает все свои стихотворения в тетрадку и с этим сокровищем решается идти в столицу, в Пешт.
«Я думал: продам свои стихи — хорошо, а не продам — тоже хорошо, — писал он об этом позднее, — тогда либо с голоду помру, либо замерзну. По крайней мере придет конец всем страданиям».
Перед уходом Шандор прощается со своим единственным другом. «Ты веришь в меня?» — спрашивает он Пака, и тот, зная горячность Петефи, спешит ответить: «Верю!» Ведь совсем немного времени прошло с тех\пор, как за какую-то пустячную невнимательность, допущенную Паком, Петефи назвал его в стихотворении «неверным», «вероломным» другом.
— А если веришь, подпиши это обязательство.
Альберт Пак прочел бумажку: «Ежели Шандор Петефи не уплатит в течение 45 дней своей квартирохозяйке Фогаш 150 форинтов, которые он ей должен, я, Альберт Пак, беру на себя уплату всей этой суммы сполна».
Альберт Пак, сам не имевший гроша за душой, подписал обязательство, не раздумывая.
На прощанье дебреценские студенты, из самых бедных, дарят Петефи потертую парусиновую суму, каравай хлеба, кусок сала и «крестного отца» бродячих псов — корявый пастуший посох.
На дворе воет февральский ветер. Стоит 1844 год. Каравай хлеба и кусочек сала — вот и все припасы Петефи на дорогу.
Студенты окружили поэта и, будто преподнося ему последний подарок, спели его песню, которую один из присутствующих положил на музыку.
Эти юноши уже знали, какой дар ценнее всего народному поэту.
Петефи пожал всем руки и тронулся в /путь. Представитель народа, певец бедноты знал, что он может победить только вместе с этими юношами, и он пошел завоевывать победу с великой любовью к народу Венгрии в душе и двадцатью крайцарами[32] в кармане.
«Один-одинешенек шагал я здесь у Хедяйи; ни одна живая душа мне не повстречалась. Все люди искали крова — погода стояла страшная. Снегом вперемежку с дождем осыпала меня завывающая буря. Она мчалась мне прямо навстречу. Слезы, выжатые холодом метели и нуждой, замерзали у меня на лице».
Петефи пришел в Эгер, где некогда народ, преданный своими и австрийскими господами, защитил под водительством капитана Добо свою крепость от стодвадцатитысячной турецкой рати.
На дворе стоял февраль. Петефи уже много дней шел пешком, дрожа в своей никудышной одежонке. Но в Эгере его ждала радушная, любовная встреча. Молодые эгерчане, знавшие его стихи, встретили поэта теплой комнатой, хлебом и вином. Петефи тоже не остался в долгу, он заплатил куда более щедро, чем могли бы заплатить все венгерские магнаты вместе с их полоумным королем: он прочел юношам свои стихи.
В стаканах пылало эгерское вино, им запивали обед и стихи.
Наконец Петефи устал. Его уложили в постель и оставили одного. Но юноша, утомленный долгой голодовкой и пешим путешествием в лютую стужу, не мог заснуть. Разгоряченный встречей и вином, которое он чаще воспевал, чем пил, Петефи сел за стол, селая излить свое сердце так тепло приветившим его юношам да и всему народу, ведь сердце у него такое, что, если б он его «закинул в небо», «им согрелась бы, как солнцем, вся земля!».
Сквозь замерзшее окно он смотрел на гору, где стояла крепость. И он был уже счастлив. Теперь можно и спать. Во сне он увидел грядущее, такую пору, «когда Венгрия уже не сирота», когда поэты ее не ходят больше голодные и дрожа от холода по дорогам родной страны.
«Головы хотел бы я снести тем, чьи деды ездили тогда на пятерке лошадей», — писал семьюдесятью годами позднее в своей статье «Петефи не примиряется» другой великий поэт Венгрии — Эндре Ади[33].
Пешт в то время был уже довольно большим городом. Он раскинулся на левом берегу Дуная, но с городом Будой его не соединял еще ни один постоянный мост. Летом через реку наводили понтон для пешеходов, а телеги перевозились на плотах. Кроме того, по Дунаю плавало уже несколько пароходов, приспособленных под перевозку пассажиров. Зимой понтонный мост разбирался, и жители обоих городов общались меж собой по льду замерзшей реки. Весной во время ледохода движение прекращалось совсем: если кто застревал на чужом берегу, то ему иногда днями приходилось ждать, покуда можно было перебраться к себе домой.
В те годы Пешт почти весь был застроен одноэтажными домами. Многоэтажные здания встречались только в центре. Вечерами даже главные улицы освещались лишь тусклыми керосиновыми фонарями, которые гасли от малейшего дуновения ветра.
В городе было вымощено пока только несколько узеньких центральных улиц, а на остальных даже пешеходные дорожки и те поросли травой. Если сюда забежит, бывало, бродячий пес, поднималось испуганное гоготанье гусей, кудахтанье кур, отчаянный визг поросят.
Нередко даже по улицам центра гнали коров на бойню или в грузовой порт, откуда весь скот отправлялся на баржах в Вену.
На улицах возле каждой мастерской или лавки висел цеховой знак: цирюльники вывешивали на длинных шестах медные тазики, сапожники — сапоги, слесари — большие, вырезанные из жести ключи. Было уже пущено в ход несколько заводиков и фабрик: красильные, прядильные, жестяные, литейные, пуговичные мастерские, работали типографии. Кофейни к этому времени уже стали достопримечательностью города, в них собиралась главным образом молодежь. Было в Пеште выстроено и большое число гостиниц с огромными заезжими дворами, куда проезжающие могли ставить лошадей и повозки. Поближе к центру стояла гостиница «Английская королева», в ней останавливались венгерские магнаты, во всем подражавшие английским лордам.
Постоялые дворы носили самые причудливые названия; один из них именовался «Красный бык». Здесь останавливался когда-то, приезжая в Пешт, и старик Петрович. Здесь встретился он с Шандором, когда тот впервые пустился в свои скитания. Здесь удрал мальчик от разгневанного отца, потребовавшего от него отпускное свидетельство. Недалеко от «Красного быка», уже совсем на окраине города, находилась гостиница «Два пистолета». Надо было иметь немало мужества, чтобы проходить возле нее, особенно вечером. Грабежи были здесь обычным делом.
Большой Венгерский Альфельд подбирался к самой окраине города: где кончались последние домики, там уже пестрели луга вперемежку с камышами.
Железной дороги в Венгрии тогда не было, только еще намеревались проложить первую ветку длиною в тридцать километров.
Кроме обычного еженедельного базара, в Пеште несколько раз в году собиралась ярмарка, во время которой в столицу со всей Венгрии съезжались купцы, торговавшие хлебом и скотом. Прибывали и австрийские толстосумы покупать по дешевке венгерскую пшеницу. В погожий день пештские ремесленники выставляли свои изделия перед шатрами, а в пасмурную погоду убирали их под навесы; кабатчики свежевали говяжьи туши и жарили-парили для богатых гостей; в каждой корчме — цыганский оркестр; на площади собравшихся забавляли жонглеры; перед шатром бродячего цирка, сзывая посетителей, клоун, взобравшись на слона, трубил в рожок.
До самого вечера слышался рев быков, хрюканье свиней, ржание лошадей, крики покупателей и продавцов. С заходом солнца купцы разбредались по постоялым дворам — кто облюбовал «Красный бык», кто «Два пистолета»; австрийцы останавливались в гостинице «Английская королева». Ремесленники уходили домой, а погонщики скота, закутавшись в тулупы, спали под открытым небом — кровом, приготовленным для них природой. Все равно им некуда было идти.
Изредка по городу проносилась коляска. На козлах восседал гайдук в мундире, украшенном громадными посеребренными пуговицами. Он лихо хлестал лошадей. На подушках коляски сидел, развалившись, какой-нибудь помещик, у которого в одном конце страны было громадное имение, а в Пеште — дворец; в столице он проматывал все, что выжимал в деревне из крепостных крестьян. Имения некоторых герцогов и графов занимали целые области, а одного графа тридцатая часть Венгрии признавала сво им безграничным властелином. Эти господа презирали язык и нравы родного народа и даже изъяснялись меж собой лишь по-латыни, по-немецки или по-английски. Большую часть своей жизни они проводили за границей, соря там деньгами.
Вечерами начинали звонить во всех церквах. Католические, кальвинистские и лютеранские колокола перебранивались друг с другом, иногда вмешивался в спор и колокол сербской церкви, построенной в Буде. Но театров было только два: недавно учрежденный Национальный театр, где играли на венгерском языке, и старый немецкий театр.
Немецкая военная комендатура расположилась в Буде, и, конечно, неподалеку от нее высилась тюрьма, куда сажали людей, боровшихся за независимость Венгрии, за отмену крепостного права. Нередко в темницу заточали неугодных правительству лиц, просто придравшись к ним за какую-нибудь «крамольную» статью. Так поступили, например, сг будущим вождем революции 1848 года Лайошем Кошутом и с первым руководителем венгерских крестьян и рабочих Михаем Танчичем. В Буде находилась и немецкая цензура; без ее разрешения ни одна венгерская буква не могла появиться в печати. Каждое венгерское слово крутили, вертели, ощупывали, обнюхивали, будто оно было из пороха, а каждая венгерская книга — пороховая бочка, которая может взорваться в любое мгновение и от нее взлетит на воздух вся габсбургская империя вместе с императорами и жандармами.
По вечерам на улицах Пешта мастеровые устало перебрасывались словами, глазели на прохожих и рано ложились спать: ведь работая по 12–14 часов в сутки, они в 5 часов утра должны были быть уже на ногах. О том, чтобы пойти куда-нибудь или просто собраться хотя бы в воскресенье, рабочему люду нельзя было и думать.
Люди в городе были одеты разнообразно. Мастеровые парни радовались, когда было чем прикрыть свое тело. Богатые магнаты шили себе все у английских портных или носили немецкие костюмы. Торговцы, стряпчие, литераторы ходили большей частью в венгерском национальном костюме; но в общем оборванных людей было гораздо больше, чем одетых хорошо.
Молодой человек двадцати одного года от роду прибыл в Пешт с дорожной сумой через плечо, в которой лежала тетрадь стихов. Он вспоминал то время, когда, шестнадцати лет, так же пришел сюда пешком, мечтая стать актером, а вместо этого потом держал под уздцы лошадей важных господ, прибывающих в театр, бегал за пивом для актеров, переставлял декорации и по вечерам освещал актрисам дорогу к дому. Он вспоминал, как год назад хотели его превратить в холодного литературного ремесленника, как за три недели перевел он с немецкого девятьсот страниц и как всем своим существом восстал против такого «литераторства». После первого знакомства со сценой минуло пять с половиной лет. С тех пор он прошел тяжелые жизненные испытания и теперь готовился к последнему наступлению.
Прибыв в Пешт, Петефи направился прямо к издателям. Фамилия одного из них была Гейбель, второго — Хеккенаст, остальных — Альтенберг, Ландерер, Хартлебен. Все они были немцы, кое-как научившиеся коверкать венгерский язык. Как могли они оценить стихи национального венгерского поэта, понять их значение?
«Стихи? Для нас это невыгодно!» — отвечали торгаши в один голос, подозрительно косясь на дурно одетого молодого человека и на его скверно переплетенную тетрадь.
«После недельного мучительного путешествия я добрался в Пешт. Не знал, к кому обратиться. Никто на меня не обращал внимания, никому дела не было до бедного, оборванного бродячего актера. Я дошел уже до последней грани, и тут меня обуяла отчаянная храбрость: я отправился к одному из величайших людей Венгрии с таким чувством, с каким игрок ставит на карту свои последние деньги: жизнь или смерть». Петефи обратился к прославленному поэту Вёрёшмарти.
Михай Вёрёшмарти принял в молодом человеке горячее участие и решил ему помочь. Но как ни был Вёрёшмарти знаменит, на издателей он воздействовать не мог и переломить их торгашеский дух ему не удалось. Он обратился в «Национальный круг» — общество, созданное венгерскими ремесленниками. — с просьбой оказать помощь «талантливому молодому лирику». В «Национальном круге» этот вопрос поставили на обсуждение. Петефи с волнением ждал результатов. Обсуждали долго. И вдруг поднялся портной Гашпар Тот, вытащил из кармана 60 форинтов и положил на стол.
— Это я даю на издание книги, — произнес он тихо и сел на свое место.
Примеру Гашпара Тота последовали и другие.
Вёрёшмарти сообщил счастливому Петефи, что издание книги обеспечено, и передал ему на «поддержание поэта» еще и некоторую сумму денег. Из этих денег Петефи прежде всего отослал 150 форинтов Паку, чтобы он расплатился с доброй хозяйкой, которая давала поэту в долг и кров и пищу.
Счастливый Петефи первым делом поехал домой к родителям, чтобы сказать им: «Не горюйте, дела идут на лад, книга моя скоро выйдет; ведутся уже переговоры и о том, чтобы сделать меня помощником редактора журнала, и — что важнее всего было для отца — мне будет положено определенное жалованье, а с театром… что ж, с театром пока что… пока что покончено…»
Мать украдкой смотрела на бледное, осунувшееся лицо сына, покуда
Через несколько недель после решения «Национального круга» Петефи на самом деле стал помощником редактора одного пештского журнала мод (в то время в литературных журналах печатались выкройки и картинки мод, для того чтобы женщины, покровительствовавшие литературе, охотнее покупали журналы).
«За работу (редактуру, читку корректуры, верстку номера, ежедневное хождение в типографию в Буду) обязуюсь обеспечить вас квартирой, хорошим венгерским столом и жалованьем в 15 форинтов в месяц», — таков был договор, заключенный редактором журнала Имре Вахотом с Петефи.
Горничная, служившая у какого-нибудь аристократа, получала больше жалованья и, уж конечно, питалась лучше, чем Петефи!
Помимо жалованья, за каждое напечатанное стихотворение владелец журнала обязался платить Петефи «поштучно» по 80 крайцаров (этот литературный купец, видимо, считал форинт слишком высокой ценой). Если стихотворение было большим, за строчку приходилось меньше крайцара.
Но Петефи все же чувствовал себя победителем. В нем столько сил, стремлений, что даже при гонораре в 80 крайцаров он уверен в будущем: он достиг своей цели, может целиком отдаться литературе. И только одно его тревожило. «Все это хорошо, — думал Петефи, — но что же будет с любимым театром, со сценой, с его актерским раем? Неужели придется расстаться с ним и навеки? А может быть, только на время?» Всему миру надо сказать, что он думает об этом:
Согласно договору с Вахотом Петефи получил комнату, но такого размера, что стоило длинноногому юноше шагнуть три раза, как он уже упирался в стенку. Но и это не беда, надо только делать маленькие шаги, чаще поворачиваться (стихи свои Петефи обычно обдумывал, расхаживая по комнате, и садился за бумагу только тогда, когда было уже создано несколько строф).
В комнате было лишь одно крохотное оконце, да и то выходившее на задний двор. В общем это была настоящая каморка для прислуги. Даже когда на улице сияло солнце, лучи его не доходили сюда. Но и это не беда. Ведь в годы солдатчины и скитаний его столько палило солнце, что теперь можно обойтись и без него.
И Петефи горестно, но шутливо обращается к солнцу:
Но солнце оставалось неумолимым и по-прежнему скупилось на свои лучи.
«Ничего, обойдемся и без него, — думал Петефи. — Сейчас надо только работать, работать и работать».
А для Петефи любимый труд — величайшая радость.
В венгерском литературоведении многие десятки лет принято было считать Имре Вахота, редактора и владельца журнала «Пешти диватлап»[35], великодушным покровителем Петефи, взявшим поэта к себе на работу из бескорыстной любви к его гению. Даже учебники старались вбивать в головы школьникам прежней Венгрии, что именно благодаря помощи Имре Вахота стал Петефи за несколько месяцев известным человеком в своей стране, что благодаря Вахоту его окружили почестями и славой и поэт, претерпевший столько бедствий, обрел, наконец, счастье: он мог писать, творить, пред ним раскрылись все двери, — одним словом, хвала тебе, «добрый» работодатель, владелец и редактор журнала Имре Вахот!
Эту лживую легенду пустили в ход буржуазные дельцы от литературы и за свое усердие получили от хозяев, вероятно, больше вознаграждения, чем заработал Петефи у Вахота и у всех издателей за всю свою жизнь. Легенду сию сфабриковали в то время, когда благоденствовали навозные мухи буржуазной печати и комары в черных поповских рясах; одни жужжали в столбцах газет, другие гудели с амвонов церквей, что хозяин — это благотворитель, ибо он, по милости и великодушию своему, дает людям работу, что без него рабочие и крестьяне, которые не имеют ничего, погибли бы с голоду. Вот посмотрите, дескать, на Петефи, как он мучился, сколько страдал, голодал, пока, наконец, не нашелся «добрый» Имре Вахот и не взял его к себе помощником редактора.
Когда господствующий класс понял, как опасна для него ненависть Петефи ко всякого рода угнетателям, Петефи был уже самым популярным поэтом Венгрии и вытравить его творчество из литературы и из сознания народа оказалось невозможным. Тогда стали искать другой выход: старались исказить подлинный смысл стихов поэта путем различных лживых объяснений.
В буржуазной Венгрии даже жизнеописание поэта (за исключением нескольких трудов) было составлено так, что из него исключалось все, что могло быть поставлено в укор господствующим классам, и жизнь Петефи представлялась некоей идиллией. Поэзия Петефи, преисполненная ненависти к угнетателям и проникнутая великими освободительными стремлениями, не укладывалась в это русло, она шумно выходила из берегов, а поэтому и «выходки» Петефи пришлось объяснять тем, что у него была буйная, склонная к приключениям натура.
С самой юности пошел он, дескать, по ложному пути, потому и стал бродячим актером, а ведь мог бы и он, как всякий «порядочный» юноша, окончить школу (эти господа умалчивали, что после разорения отца поэту нельзя было учиться, так как в старой Венгрии бедным детям вообще недоступно было ученье). К тому же он сам пошел в солдаты, вместо того чтобы поступить куда-нибудь писарем, а при этой спокойной, скромной работе такой талантливый человек, как Петефи, мог бы еще и заниматься поэзией; на это ему оставалось бы, ну, скажем, два часа в день. А если б от отсутствия свободного времени он сочинил поменьше «бунтовщических» стихов, тоже невелика беда: разве только позднее было бы меньше неприятностей.
Петефи был «упрямым» и «странным», а может быть, и чуть «помешанным» — таков был окончательный вывод. Писателя, который предпочитал переносить все трудности жизни, но не идти в услужение к богатеям, литературные прислужники буржуазии могли расценивать только как безумца. Даже «доброго» Имре Вахота, «благословенного работодателя», Петефи не мог оценить по достоинству из-за «неуживчивого нрава». «Поэт заплатил черной неблагодарностью Вахоту, который предоставлял ему работу и беззаботную жизнь!» — писали продажные перья.
Беззаботную жизнь? «Хороший венгерский стол», — значилось в договоре, то есть завтрак, обед и ужин, как любой домашней прислуге, которая готовит, стирает, убирает. Впрочем, так оно и было: ведь Петефи на самом деле «был прислугой за всё» — он чистил, убирал, корректировал, верстал журнал Вахота и бегал с листами корректуры ежедневно в Буду. Жалованья, что он получал, недоставало даже на одежду, но хорошо уже и то, что он мог купить себе пару сапог, а ведь иначе и в дождь и в грязь «господин помощник редактора» бегал бы босиком в Буду с корректурами журнала Имре Вахота, а типография была в трех километрах от редакции,
О том, сколь «беззаботно» жил Петефи, мы можем судить хотя бы по письму, которое он написал одному своему другу осенью 1844 года, когда уже полгода принимал «дары» литературного дельца господина Вахота.
«…С горестной миной, — писал Петефи, — взял я намедни письмо от почтальона, ибо пришлось мне доплатить за него семь пенгё-крайцаров. Но когда я увидел, что письмо от тебя, то сразу же решил, что не жалко было бы дать за него столько же форинтов!! (Nota bene[36]: если б у меня, конечно, было столько форинтов)».
Семь пенгё-крайцаров — это три копейки. Но у Петефи, тогда уже признанного поэта Венгрии, горестно исказилось лицо, когда он стоял перед почтальоном и беспомощно разыскивал в карманах эти несчастные семь пенгё-крайцаров, и все благодаря «щедрости» Имре Вахота.
А сколько он работал! Нельзя без гнева и ненависти думать о писаках, которые старались представить Петефи как человека, склонного к авантюрам «не выносящего размеренного образа жизни». Они сочиняли это лишь для того, чтобы таким образом очернить и унизить сына народа, на свой лад перетолковать его нежелание войти в венгерское «приличное» общество, общество господина Вахота, венгерских помещиков, буржуа и австрийского императора. Этот юный «повеса» в 1844 году, на двадцать первом году своей жизни, за двенадцать месяцев наряду со своей каторжной работой в журнале, с неустанным чтением, изучением языков, написал 135 стихотворений, в том числе и такие шедевры венгерской поэзии, как «Побывка у своих», «Брату Иштвану»[37], «Патриотическая песнь», «Солдат отставной я…», «Альфельд», «На осле сидит пастух», и, кроме того, создал две поэмы — «Сельский молот» и «Витязь Янош». За один только этот год Петефи написал восемь тысяч стихотворных строк — целый увесистый том. Иной поэт за всю свою жизнь не создал столько, сколько написано за год этим, «не выносящим размеренного образа жизни» «повесой» Петефи.
Петефи, сын народа, именно от народа унаследовал необычайное усердие и любовь к труду. Потому-то и ненавидел он всех бездельников и белоручек. Потому-то и видел этот юноша Венгрию такой, какой она была на самом деле. За правду о Венгрии, за любовь к Венгрии народной. и ненависть к Венгрии господ ненавидели его «добрые» хозяева и будут ненавидеть до тех самых пор, покуда сами не сгинут со света.
Петефи получил место помощника редактора в июне, но, прежде чем приступить к работе, он решил, как мы уже сказали, съездить в провинцию проведать родителей, живших там в большой нужде.
…Стояли ясные дни начала лета. На полях, которые могли бы накормить хлебом весь венгерский народ, зеленела озимь; паслись стада коров и овец, которые могли бы дать мяса, молока и шерсти для всех венгерских людей.
Лицо Шандора овевал знакомый летний ветер, юноша почти задремал от мягких его прикосновений. Ему вспомнилась мать — добрая, маленькая, тихая мама, которую он так редко видел. Она ждет его. Только заслышит дребезжание телеги — выбегает из дому и высматривает, не сын ли ее сидит в ней, а то выглядывает через окошко на дорогу — может быть, сын ее опять пешком идет. Сколько раз мечтал он о ней, и так ему хотелось, чтобы она радовалась! И вот он ясно видит, как мать стоит перед ним, смущенно пряча под фартук руку, искалеченную работой, и шепчет: «Сынок, Шандор… ты приехал… я так тебя ждала!»
Быть может, как раз в это время возникли у него в голове первые строчки стихотворения, которое он только полгода спустя набросал целиком на бумагу.
Сколько благородства, любви к родителям вложил он в это стихотворение, с какой благодушной усмешкой записал о своем воображаемом богатстве!
Трясет телега по ухабистому большаку — плохи венгерские дороги, нет до них дела ни венгерским магнатам, ни австрийскому императору. Господину помощнику редактора наконец-то довелось не идти пешком. Благодаря «великодушию» господина Вахота он мог себе позволить нанять эту тряскую телегу. Колеса поскрипывают, возчик, верно, заснул на облучке. Нигде ни звука человеческого голоса, только иногда слышны колокольчики отар или топот копыт лошадей. Изредка вдали появляется встречная телега, вслед за ней подымается облако пыли; кажется, будто оно бежит за повозкой, просится подвезти его. Потом облако пыли безнадежно отстает, ложится обратно на дорогу, а вслед за ним подымается новое, бежит, словно умоляя взять его с собой.
…Но вот встречная телега поравнялась. На этой узкой дороге колеса почти цепляются друг за друга. Облако пыли окутывает седоков, оседает на лицах, одежде и, наконец, успокаивается: его взяли на телегу.
Солнце светит, ветер бормочет, шепчет Шандору на ухо, так же как в детстве, когда он «скакал, трубя в осиновый рожок». И снова перед глазами встает мать.
Бедный деньгами и богатый душой, сын Венгрии везет своей матери подарок. Его дары бессмертны. Это стихи, посвященные ей:
Родители его занимали одну комнатушку. Петефи хотелось работать, ему необходимо было для этого одиночество, и поэтому он снял по соседству от них горенку. В перерывах между работой он приходил к своим, беседовал с отцом и матерью. Хотя они и не очень-то разбирались в поэзии, но зато гово рилн всегда то, что думали.
Пусть у поэта Петефи обширнее и глубже стал духовный мир, но он по-прежнему беззаветно любил и уважал своих простых родителей. Любил за то, что они всю жизнь честно трудились, любил за то, что они по-своему заботились о нем и сделали все, чтобы «вывести в люди» своего сына; любил потому, что даже в ту пору, когда он был окружен величайшим ореолом славы, он все-таки оставался сыном Альфельда, сыном народа.
Быстро проходят дни пребывания у родных. Петефи возвращается назад в Пешт и приступает к работе в журнале. На свой заработок он должен был не только сам прожить, но и помогать родителям, которых совсем замучили долги. Думая о своих стариках, Шандор шагал взад и вперед по своей сумрачной комнате, потом сел за стол и написал письмо «Моему брату Иштвану»:
Закончив письмо, Петефи встал и снова принялся шагать по комнате. Пурпурный свет заходящего солнца уже сполз с верхушек соседних домов. Юноша зажег свечу. Пламя ее колебалось, то и дело приходилось подрезать фитиль, чтобы она не погасла.
Мысли поэта уже витали где-то далеко. От жизненных невзгод страдают не только родные — страдает народ, родина. Как тень в сумерках, при свете этой тусклой свечи его личные невзгоды разрослись в невзгоды всего народа. Он ходил, шагал — так легче складывать стихотворение. За окном лишь изредка раздавались шаги запоздалых прохожих. Петефи сел за стол, и по бумаге побежали красивые, точно нарисованные буквы, складываясь в строчки стихов:
В декабре 1844 года Петефи кончил большую повесть в стихах — «Витязь Янош», и господин Имре Вахот поместил отрывки из нее в своем журнале в сопровождении следующих строк:
«Я взялся напечатать эту поэму, исходя из разных причин. Во-первых, я убежден в том, что это выдающееся произведение, во-вторых, хочу по мере своих возможностей вознаградить по достоинству гениального юного поэта, и, в-третьих, мне гораздо лучше, если доходы с этого произведения пойдут в мой кошелек, а не в карман других, особенно немецких книгоиздателей».
«Великодушный» хозяин заплатил «гениальному юному поэту» за «Витязя Яноша» 100 форинтов (40–50 рублей на деньги того времени). Петефи получил за строчку по три копейки. Что и говорить, господин Вахот «вознаградил его по достоинству»! И при этом, даже не постеснявшись, напечатал, что «лучше, если доходы с этого произведения пойдут в мой кошелек». Господину Вахоту, видимо, даже в голову не приходило, что поскольку «Витязя Яноша» написал Шандор Петефи, то «лучше», если бы доходы «пошли в кошелек» поэта, жившего в большой нужде.
Как любой другой предприниматель покупал труд людей, которые не владели ничем и созидали все на свете, так и господин Вахот покупал превосходнейшие творения литературы для увеличения своих доходов. От такой «доброты» даже столетие спустя руки сжимаются в кулаки.
В Венгрии «бабье лето» выманивает иногда несколько ясных дней даже у туманного и дождливого ноября.
В один из таких дней Петефи, закончив дела в журнале, пошел прогуляться со своим другом Альбертом Паком. Воздух был прозрачен и чист. Смеркалось. Друзья бродили по тесным пештским проулкам, разговаривали, временами замолкали, молча шли рядом. С деревьев покорно срывались листья и, кружась, тихо летели к их ногам; казалось, природа, готовясь к битвам с зимними вихрями, погрузилась в размышления. Она с самой осени начала поджидать новую весну.
Вдруг в переулке, по которому проходили друзья, в окне одного дома, облокотившись о подоконник, запела молодая женщина. Петефи прислушался. Слова песни показались ему знакомыми. Поэт покраснел и смущенно зашел под ворота. Чтобы не помешать незнакомке, он затащил туда и Пака, приложил палец к губам, призывая изумленного друга к молчанию. Женщина пела песню Петефи:
Петефи так сжал руку Пака, что тот даже вскрикнул от боли,
— Альберт, — зашептал Петефи, — моя песня, моя песня… Есть ли на свете большее счастье, чем слушать, когда люди поют твою песню?
— Нет, — отвечал тоже приглушенным голосом Альберт Пак. — Только не сжимай ты мне так руку!
А женщина, не подозревая, что ее слушает тот, кто сложил эту песню, допела ее до конца и горестно вздохнула. На мгновенье наступила тишина. Незнакомка посмотрела на облака, проплывающие над домами. Взволнованно прощаясь с заходящим солнцем, они вспыхнули еще раз. Петефи и Пак замерли, любуясь красками небес. Они уже хотели было выйти из-под ворот и направиться дальше, но тут зазвучала новая песня:
Только свет восходящего солнца облетает мир с такой быстротой, как эти полюбившиеся людям песни.
— Послушай, — проговорил Петефи другу; глаза его сверкали, лицо было озарено пурпуром беспокойно горящих облаков. — Послушай! У меня в кармане только тридцать грошей, но я не поменялся бы с герцогом Эстерхази, хотя ему принадлежит тридцатая часть Венгрии.
«В одно утро Петефи проснулся самым популярным поэтом Венгрии. Песни его пела вся страна».
«Даже в ту пору, когда я еще не видел своего имени в печати и кропал стихи только для себя, — писал Петефи в «Путевых записках», — когда я еще служил статистом в пештском Национальном театре и по приказанию актеров бегал в корчму за колбасой с хреном, пивом, вином и прочим; когда я еще стоял на карауле или варил кукурузные клецки для своих товарищей по солдатчине, мыл жестяные котелки в такую стужу, что тряпка примерзала к моим рукам, и по окрику капрала: «Ну-ка, давай!» — мчался сгребать снег со двора казармы, я уже и тогда предчувствовал, что произойдет со мной однажды. Так оно и получилось. На голых нарах караульни, где, как барону Манксу, подстилкой мне служил один мой бок, а укрывался я другим, уже там мне приснилось, что я приобрету себе имя, славное в двух странах, которое не удастся уничтожить даже воющей своре критиков всего мира. И мечта моя потихоньку осуществляется… Нет, даже быстрее, скорее, чем я думал».
Первым сознательным глашатаем идей просветительства в Венгрии был поэт, драматург, автор философских сочинений Дёрдь Бешеней (1741–1811), дворянин, состоявший в молодости в лейб-гвардии императора. Он горячо ратовал за развитие национального языка и этим проложил дорогу для новой венгерской литературы. «Ключ нации — язык, причем родной язык каждой страны», — писал Бешеней.
Пренебрежение к родному языку его возмущало: «Я удивляюсь нашей нации, что она с таким равнодушием взирает на то, как забывают ее родной язык… Все нации познали науки на своем, а вовсе не на чужих языках…»
Бешеней ратовал за создание свободной, просвещенной Венгрии:
«Любой гражданин вправе увидеть недостатки старого законодательства своей нации», — писал он в 1780 году. «Безнравственный барин… знаешь ли ты, что этот бедняк, который несет на себе все тяготы, служа королю, родине, работая на помещика, судью, священника… насколько он больше тебя стоит? Ему бы носить лавровый венок, а ты даже мякины недостоин» (1782).
К концу своей жизни Бешеней был отдан под полицейский надзор и в l811 году, перед смертью, высказал только одно желание: чтобы его похоронили без священника.
Несмотря на свои прогрессивные взгляды, Бешеней в силу своей сословной ограниченности считал еще естественными дворянские привилегии. Он протестовал только против дворянского произвола и требовал улучшения условий жизни крепостного крестьянства.
Следующий шаг в развитии прогрессивной общественной мысли в Венгрии сделали участники заговора Мартиновича. После раскрытия заговора часть из них была приговорена к смертной казни. Среди осужденных на смерть были четыре венгерских поэта (Лацкович, Сентьови, Казинци, Вершеги); поэт Бачани был приговорен к тюремному заключению. Лацковича казнили, Сентьови, Казинци и Вершеги помиловали. Сентьови умер в остроге, Вершеги просидел в нем около девяти, Казинци — около семи лет. А Бачани после освобождения из австрийского острога никогда больше не мог вернуться в Венгрию, хотя прожил еще пятьдесят лет.
Янош Бачани (1763–1845) — венгерский поэт, революционный просветитель — был недаром совсем изгнан из венгерского общества господствующими классами Венгрии.
Поэтическое творчество Бачани сложилось под влиянием идей французской революции конца XVIII века. Он первый в Венгрии в 1789 году грозно заговорил с аристократами в своем знаменитом стихотворении «На перемены во Франции»:
И в другом стихотворении он возглашал:
И господствующие классы венгерского общества не могли простить Бачани его призывных революционных, антимонархических стихотворений. Даже через сорок с лишним лет крупнейшего венгерского фольклориста Яноша Эрдеи по возвращении на родину поставили под полицейский надзор только за то, что он посетил Бачани в Линце, месте его ссылки. Властители Венгрии хорошо разбирались в том, кто их истинный непримиримый политический враг. Второй поэт-просветитель, Михай Фазекаш (1766–1828), был борцом за создание национальной венгерской культуры. Всем своим творчеством он доказал глубочайшую любовь к венгерскому народу, к венгерской поэзии. В одном из стихотворений он с презрением истинного сына народа высказался о тех венгерских писателях, которые, стремясь создать национальную культуру Венгрии, искали для этого искусственные, чуждые народу пути, прибегали к иностранным заимствованиям, к эстетским выдумкам.
И за этим высказыванием скрывалась вовсе не приверженность к традиционности и патриархальности. В нем выразилась вся антидворянская, демократическая направленность Фазекаша, ярче всего проявившаяся в его знаменитой поэме «Мати Лудаш».
В сатирической поэме «Мати Лудаш» Михай Фазекаш первым из венгерских писателей поставил вопрос об освобождении крепостных. В его поэме крепостной мальчик, защищая справедливость, трижды избивает до полусмерти своего деспотического барина. Правда, автор отодвинул время действия в эпоху крестовых походов и вскользь заметил, что теперь уже нет таких помещиков, однако для читателей было совершенно ясно, что он сделал это из цензурных соображений. Хотя Фазекаш обрисовал в своей поэме только единичный случай расправы крепостного с помещиком, значение «Мати Лудаша» в истории венгерской литературы и демократической мысли очень велико.
Чем, как не грозным предупреждением венгерских крепостных, пусть даже запрятанным в оболочку венгерской народной сказки, можно считать ставшие крылатыми строчки из «Мати Лудаша»:
Друг Михая Фазекаша, замечательный венгерский поэт-просветитель Михай Витез Чоконаи, также живший до эпохи реформ, ставил в своем творчестве социальные вопросы с большой остротой:
Писатели и поэты, непосредственные предшественники Петефи, пришедшие в литературу после Бачани, Фазекаша и Чоконаи, в постановке социальных вопросов отошли назад сравнительно с этими поэтами-просветителями.
Руководителем венгерской литературной жизни начала XIX века стал спасшийся от рук палача Ференц Казинци. Сойдя с главной дороги политических действий, Казинци отошел постепенно и от своих радикальных взглядов и лишил возглавленное им литературное движение демократических начал. Он резко повернулся и против складывавшегося в литературе демократического направления.
Казинци и его приверженцы стремились обновить венгерский язык, так как считали его «недостаточно гибким и богатым для выражения новых идей времени». В этом была прогрессивность движения, возглавляемого Казинци. Но отход от основной линии политической борьбы, аристократизм и эстетство помешали самому Казинци найти верный путь в литературе. Он оторвался от народных традиций отечественной литературы и, как замечательно сказал поэт Эндре Ади, «отбросил прекрасный язык в ту самую пору, когда стремился улучшить его… Это было время, когда с запада внезапно пришли новые понятия, а те люди в Венгрии, которые могли считаться интеллигентами, в большинстве своем плохо знали родной язык… Так следовало бы демократическими государственными реформами поднять наверх, ввести в форум превосходно изъяснявшегося на родном языке венгерского крестьянина!», то есть следовало бы продолжать борьбу за освобождение венгерского крестьянства, как это пытались делать пионеры буржуазного прогресса Мартинович и его товарищи.
Говоря об этой кризисной эпохе в становлении венгерского литературного языка, Ади совершенно справедливо замечает: «…они жили слишком далеко от людей, разговаривавших на подлинно венгерском языке».
Казинци был первым критиком и первым организатором литературной жизни Венгрии, сыгравшим значительную роль в развитии отечественной литературы. Однако в своей критической деятельности он тоже допускал ряд ошибок. Отрицая значение народного творчества, Казинци выступил с жестокой критикой поэтов так называемой дебреценской школы Чоконаи и Фазекаша, которые стремились к слиянию с народной поэзией. В своем воинствующем эстетизме Казинци дошел до того, что поставил вне литературы глубоко национальную поэму Фазекаша «Мати Лудаш». Для Казинци социальный смысл этой поэмы, представлявшей собой литературное отражение тех антикрепостнических взглядов, которые выдвигались в свое время Мартиновичем и его товарищами, был теперь чужд.
К движению обновителей языка присоединился и молодой поэт и критик Ференц Кельчеи, который в своей творческой практике также во многом следовал иностранным образцам. Однако Кельчеи шел все-таки более верным путем, чем Казинци. Он выступал борцом за национальное освобождение Венгрии, за освобождение крестьянства и считал борьбу за венгерский язык исходной точкой борьбы против феодализма, исходным пунктом борьбы за единство нации. Кельчеи заявил: «Они (аристократы. —
Кельчеи уже в 1826 году в своем труде «Национальные традиции» указывал на огромное значение народных песен, сказок, сказаний для развития литературы.
В своем творчестве, обращенном во многом к славному прошлому венгерской поэзии, Кельчеи выдвигает подлинных национальных героев, как, например, Миклоша Зрини, Ференца Ракоци. Некоторые произведения Кельчеи представляют собой образцы прекрасной политической лирики. Поэтическое творчество Кельчеи было тесно связано с его позицией общественного деятеля, верного идеям просвещения, ратовавшего за свободу своей нации, за свержение феодального строя.
Национальное пробуждение Венгрии XIX века нашло первых литературных выразителей в лице писателей, объединившихся в 1822 году вокруг журнала «Аврора».
В 1817 году в Венгрии началось собирание фольклора. Поэты «Авроры» стали писать стихи в духе народных песен.
Эти поэты, выступившие непосредственно перед Петефи, выражали в литературе стремление к созданию венгерского национального государства, видя в этом единственный выход из кризиса, охватившего страну, зависимое положение которой мешало дальнейшему развитию ее хозяйства. И это общее стремление положило начало новому литературному движению Венгрии, участники которого стали впоследствии активными деятелями так называемой эпохи реформ.
Начались лихорадочные поиски национальных традиций. Рождались поэмы, баллады, драмы, посвященные героическому прошлому Венгрии.
Воспевание прошлого ничего не изменило в судьбе страны. Не кто иной, как граф Иштван Сечени, разъяснил в своей книге «Кредит», что причина всех бед таится в отсталом экономическом устройстве Венгрии. Он разъяснил, что эта отсталость стоит преградой на жизненном пути даже самых привилегированных сословий и что наибольшим препятствием к устранению бед является горький плач над безвозвратным прошлым, беспомощность в настоящем и безнадежность относительно будущего.
В конце 30-х годов атмосфера в Венгрии становилась все более и более накаленной. Габсбурги решили ввести в подвластной им стране еще более жестокий режим. В ход опять пошли репрессии, тюрьмы. В это время был посажен в острог и Лайош Кошут. Все ожесточеннее становилась борьба между среднепоместным дворянством и аристократией, которая во всех вопросах придерживалась антинациональной точки зрения и стояла на стороне Габсбургов. Столкновение с придворной аристократией и магнатами заставило идеологов среднепоместного дворянства прийти к несколько более демократическому образу мышления. В литературе торжественная патетичность и изысканно-салонный стиль постепенно становились достоянием прошлого. Оторванный от действительной жизни романтизм также перестал удовлетворять и самих писателей и читателей; литература стала на путь приближения к реализму и народности. Вместе с тем передовые писатели Венгрии отказывались от традиций немецкой культуры и обращались к культуре революционной Франции, даже в какой-то мере к идеям утопического социализма. Это течение в литературе развивалось одновременно с деятельностью Кошута, направленной к обуржуазиванию Венгрии. К борьбе Кошута присоединились и молодые писатели, присоединился и Михай Вёрёшмарти. Он стал бичевать в своих произведениях дворянскую лень, преклонение перед иностранщиной, политику безмерного угнетения крестьянства и призывать к развитию национальной промышленности. И чем ближе подходил Вёрёшмарти в своем творчестве к насущным задачам современной Венгрии, чем яснее понимал он, что национальное освобождение нельзя осуществить мирным путем, тем больше его поэзия проникалась элементами народности. Вёрёшмарти был по-настоящему большим поэтом, он сумел совершить огромный путь от традиционных гекзаметров «Бегства Задана» и других поэм до простых, ясных и устремленных в будущее строк «Фотской песни»:
Этими и подобными стихами Вёрёшмарти проложил дорогу для великого Петефи, который первый придал истинный революционный смысл народности и патриотизму в литературе.
Петефи взял факел поэзии из рук Вёрёшмарти, зажег его огнем политической борьбы, высоко поднял над головой и понес его вперед. «Слова — солдаты», «герои в дерюгах» прокладывали ему путь к вершинам венгерской поэзии.
Петефи пошел всего двадцать второй год, когда он стремительно ворвался в венгерскую литературную и политическую жизнь. Впервые в Венгрии поэт заговорил с народом не свысока, а как представитель самого народа. Мысли и чувства, обуревавшие его, он стал высказывать живым языком народных масс.
Критики — властители литературы той эпохи — сперва замечали только одно: появился очень талантливый поэт, который может помочь им в создании новой венгерской литературы с той идейной направленностью, какая устраивала этих «трезвых» деятелей. Первые произведения Петефи венгерское общество, особенно круги прогрессивной молодежи, встретило восторженно. Их покорили свежесть, непосредственность, проникновенная искренность стихов Петефи, лукавая прелесть его песен, новизна и своеобразие жанровых картинок, истинно народное песенное начало в его творчестве. Национальное своеобразие его поэзии, полная отрешенность и независимость поэта от всякого рода чужеземных влияний, пустивших такие глубокие корни в венгерской поэзии, еще больше содействовали популярности Петефи, и он сразу стал знаменем тех, кто ратовал за национальную независимость Венгрии.
Первые полгода деятельности Петефи в литературе — с весны до осени 1844 года — проходят почти совсем спокойно. Разве только иногда раздаются упреки отдельных литературных ретроградов[39], которые никак не могут примириться с демократической основой, или, как они называли, «низменностью», его стихов, с той ломкой традиционных форм, которую произвел Петефи, с неожиданными, новыми образами, сравнениями, метафорами, с неподдельной, естественной народностью его поэзии. Но вот еще до сборника стихов, намеченного к изданию «Национальным кругом», выходит «ироикомическая» поэма[40] Петефи «Сельский молот». Она заставляет насторожиться многих. Поэт заговорил таким голосом, который ошеломил не только ревнителей традиций — тупоголовых реакционеров, но и сторонников реформ.
В «Сельском молоте» Петефи задорно и весело разделывается с героическими эпопеями предшествующих поэтов и современников, с той напыщенной дворянской поэзией, которая искала свои темы не в жизни народа, а воспевала подвиги своих предков-дворян.
Петефи изображает в этой поэме комические перипетии любовной истории, в которой участвуют сельский кузнец, шинкарка и певчий, причем рассказывает о похождениях своих героев простейшим народным языком, нарочно изукрасив его в наиболее не подходящих для этого случаях «высокими», эпитетами. О самых простых людях и повседневных событиях их жизни Петефи повествует «высоким стилем» эпоса.
И поэт призывает себе на помощь лиру, дар неба божьего, чтоб воспеть красу невинно-чистой Эржок. Смеясь до упаду над всей торжественной статичностью стиля ложноклассического эпоса, старательно подбирая устоявшиеся, омертвевшие слова и уныло-медлительно разворачивающиеся метафоры, начинает он описывать полюбившуюся ему героиню:
В отдельные эпизоды, например в описание того, как кузнец спускается по веревке с колокольни или как закатывается солнце над деревней, вложена такая торжественная эпичность, что за каждой строчкой мы видим хохочущего поэта, который, как бы играючи, воздвигает причудливую постройку из народной речи, языка ложноклассических поэм и собственной затейливой поэтической фантазии.
А как же вело себя солнце во время сих драматических событий? Хотя, быть может, солнце тут и ни при чем? Но разве можно оставить непричастными стихии? Космос необходим поэту для гиперболического контраста. И вот мы видим:
И тут уже призываются на помощь предзнаменования, без которых ни один приличный эпос обойтись не может:
Вот так, от одного мановения его руки, становятся смешными бесплодные грезы дворянских поэтов о прошлом, все ложноприподнятое поведение героев и королей, весь этот «высокий штиль» дворянской поэзии, о которой метко писал журнал «Пешти диватлап»: «Пестры их слова, как брюки Балинта, на которых, как в иносказательной речи, из-за множества шнуровок и суташей не видно даже сукна».
В «Сельском молоте» Петефи достигает особого комизма тем, что самые «низменные» события украшает пышными узорами, самые грубые домотканые холсты шьет модным покроем изысканнейших дворянских портных. При изображении простых людей, загоревших от работы на солнце, при описании самых будничных положений Петефи прибегал к таким высокопарным, чуждым народу словам и оборотам речи, заимствованным из дворянской поэзии, что его единомышленники помирали со смеху, а враги задыхались от злости.
Не случайно, что именно «Сельский молот» вызвал первые нападки на Петефи.
«Этот талантливый народный, поэт идет по ложному пути, — скорбит один его «доброжелатель». — Пусть господин Петефи научится отличать «народное» от «вульгарного». Его вкус должен облагородиться».
Наконец выходит первый сборник стихов Петефи. Нежданной свежестью пахнуло в литературной жизни Венгрии. Теперь уже не отдельные стихи просачивались в литературу, а разлилась полноводная поэтическая река; она сразу же пробила себе русло и широко, вольно потекла, смывая на своем пути все случайное, непрочное, косное, освежая кругом весь воздух, внося с собой простоту и легкость. Пришел поэт Петефи и лирично, непринужденно стал рассказывать о своих мыслях, чувствах, о событиях своей жизни, о том, как он выступал впервые на сцене, о том, как радостно было ему приезжать к матери, как тяжело было с ней расставаться, о том, как друг ему изменил, какой лукавой и неверной оказалась любимая девушка, о том, как он ждет весну, потому что тогда не придется дрожать от стужи в легонькой одежде. В его стихах полно и многообразно выступила чудесная венгерская природа в ее зимнем, летнем, осеннем и весеннем обличье. Лачуги, стонущие на ветру, и весенние травы-зеленя, и деревенские домики, прижавшиеся к земле в страхе перед бураном, и вереница аистов, летящих на юг, и пасущиеся стада, и беснующиеся табуны — все это жило полной жизнью в его стихах. Все, что он видел, чувствовал, у него немедленно воплощалось в стихи. И в какие стихи! В них не было ни словесных украшений, ни поэтической приподнятости, без которых в то время не могли представить себе поэзию. Такой искренний поэтический голос зазвучал в венгерской литературе впервые. Лирическая непосредственность тогда была еще внове, и, конечно, многим она показалась «неприличной», почти кощунственной. Необычны, новы были и темы поэтических произведений Петефи. До него дворянская поэзия воспевала большей частью внешнюю, показную сторону дворянской жизни, на все остальное был наложен строгий запрет, как на «низменное» и «недостойное» поэзии. И вдруг этот новоявленный поэт, нарушив все каноны поэзии, заговорил не только о самом себе — бродячем актере, рядовом солдате (можно себе представить, как чужд был реакционерам от литературы такой лирический герой после традиционных жеманных и сентиментальных персонажей дворянской литературы!), но показал читателям картины жизни венгерского народа и той Венгрии, которая до этого не допускалась за черту поэзии. Песни — веселые, смешные, грустные — полонили души читателей, перед их глазами вставали картины народной жизни, настойчиво вошел в поэзию бетяр — герой пушты, деревенский парнишка, «залетевший» на кухню прикурить трубку. В стихах Петефи шумел, плясал, шутил, страдал и гневался парод, выразителем чаяний которого и был поэт.
Поэтому-то его поэзия и вошла так сразу и так прочно не только в литературу, но и в сознание самого широкого читателя, что никаким истошным визгом реакционных критиков изгнать его оттуда было уже невозможно. Стихи Петефи стали вершиной венгерской поэзии и, что не менее важно, завершили процесс создания нового венгерского литературного языка. Словно для того только и нужны были все усилия «обновителей языка и литературы» и все потуги приверженцев традиционности, чтобы явился из Альфельда Шандор Петефи и, отобрав все лучшее из того, что было добыто его предшественниками и что было найдено им в живой народной речи, создал новый венгерский литературный язык. Языкотворчество Петефи пришло как нечто само собой разумеющееся; сам поэт ни слова не говорил об этом, не писал трактатов — он просто властно внес в поэзию язык венгерского народа, обогащенный наиболее ценным из того, что создала венгерская литература, он взял эстафету из рук Михая Вёрёшмарти, который до появления Петефи сделал больше всех для создания нового языка.
1844 год оказался для Петефи не только счастливым благодаря тому, что ему удалось выпустить две свои первые книги, но и очень плодотворным: Петефи создал свое превосходнейшее эпическое творение — повесть в стихах «Витязь Янош».
Мотивы подлинной народной жизни в «Витязе Яноше» тесно переплелись с элементами народной сказки. Чудесный фольклор венгерского народа — сказки, баллады, песни — не только обогатил язык повести, но вошел в структуру образов, пронизав ее насквозь.
Сам Янчи Кукуруза выступает как сказочный силач. В своих странствиях он встречает и великанов и грифов, и драконов. Следуя фантастике народных сказок, Петефи смещает даже все географические понятия: в Италии у него царит вечный холод, Франция расположилась рядом е Индией, лошади, шагая по горам, оступаются о звезды.
И за всей чудесной, вовсе не орнаментальной, а совершенно органически связанной с тканью поэмы фантастикой читатель ни на мгновение не перестает ощущать реальное мышление и воображение народа, реальный образ подлинного крестьянского героя, который может достигнуть счастья на земле, только преодолев фантастические трудности.
Кто же этот парень, показавший чудеса героизма? Кто же он, смелый, благородный, умеющий так преданно любить? Кто же этот Янчи Кукуруза?
Пользуясь приемами народного сказа, поэт создал своего рода одиссею крестьянского парня-пастуха, которого судьба подвергает различным испытаниям, а он все-таки торжествует над всеми превратностями жизни и остается верен своей любви. Правда, торжествует он только в сказочном мире фей, но уже и этим Петефи хотел дать символ будущего: великая, бессмертная сила народная отстоит свою правду, свое право на жизнь. В «Витязе Яноше» поэт воплотил свою веру в неиссякаемую мощь народа.
Эта сказочная повесть в стихах народна не только потому, что поэт сохранил в ней все формальные особенности венгерской народной поэзии, не только потому, что героем в ней избран пастух, но главным образом потому, что весь образ мышления и строй чувств в ней таков, как у людей из народа.
«Витязь Янош» явился вершиной венгерской народной поэзии. Это чудесное завершение пути народной сказки и одно из первых эпических произведений венгерской литературы, проникнутых подлинным демократизмом. Слава поэта благодаря этому произведению еще больше возросла, но даже она не могла заглушить голоса злобствующих критиков. Петефи по-прежнему обвиняли в грубости, непоэтичности. И удивительного в этом тоже мало. «Витязь Янош» открывал новую эру в венгерской эпической поэзии и тем самым разрушал каноны ложноклассического эпоса, отстоять которые всячески пытались критики-ретрограды.
Надо заметить, что Петефи, «о стихийности творчества» которого и «необразованности» столько толковали в современных ему литературных журналах, творил глубоко сознательно, причем твердые эстетические принципы он выдвигал не только для самого себя, но с самого начала искал себе товарищей и союзников.
Верным сподвижником Петефи в борьбе за создание народной литературы был другой крупнейший венгерский поэт — Янош Арань[41].
Значительнейшее произведение венгерской эпической реалистической поэзии «Тодди» Яноша Араня написано уже под непосредственным влиянием «Витязя Яноша». Для своей поэмы Арань избирает даже гот же самый размер, что и Петефи.
В письме к Араню от 23 февраля 1847 года Петефи ясно и четко определяет свои взгляды на создание новой эпической поэзии: «Ты спрашиваешь меня в своем письме, не химера ли — создание серьезного эпоса, написанного в народном духе и на языке народа? Я думаю, что нет; и ты хорошо сделаешь, если как можно скорее возьмешься за него. Только короля не выбирай героем, даже Матяша не надо. Он тоже был королем, а знаешь, черная собака, белая собака — а все один пес. Если уж мы не вольны прививать народу идеи свободы, так по крайней мере ие надо держать перед его глазами картины рабства, да к тому же картины, расписанные приятными, заманчивыми красками».
В 1847 году, в пору своего величайшего поэтического расцвета, Петефи как раз больше всего размышлял о вопросах создания новой эстетики, о принципах новой венгерской поэзии. В письме к Яношу Араню он коротко формулирует свое знаменитое эстетическое кредо: «Что правдиво, то естественно, что естественно, то и хорошо, а следовательно, и красиво: вот моя эстетика».
«Что бы там ни говорили, — продолжает Петефи в том же 1847 году развивать Араню свои взгляды на литературу и народность, — а истинная поэзия — поэзия народная. Согласимся на том, что ее надо сделать господствующей. Если народ будет господствовать в поэзии, он приблизится и к господству в политике, а в этом — задача века; осуществить ее — цель каждой благородной души, которой уже невтерпеж стало видеть, как страдают миллионы ради того, чтобы несколько тысяч тунеядцев могли нежиться и наслаждаться жизнью».
Совершенно ясно, что для Петефи превращение народной поэзии в господствующую было прежде всего политической программой. «Идеи, мысли — господа. Слова же — только слуги», — писал Петефи. Но, однако, эстетической стороной вопроса он тоже не пренебрегал, и не только в практике своего творчества. Петефи первый сознательно поставил и разрешил в своем творчестве самые животрепещущие вопросы венгерской поэзии и тем. вернул ей национальную самобытность, освободил от чужеземных влияний.
Какие же проблемы стояли перед Петефи в области стихосложения? Исконно венгерские стихи, народная песня по своей природе силлабичны. Наличие долгих и кратких слогов в венгерском языке, правда, делает возможным введение метра, но при этом метрическое ударение часто не совпадает с естественными ударениями в венгерских словах. Что касается рифмы, то крупнейший знаток венгерского стихосложения Янош Арань писал: «Наш язык сравнительно с остальными европейскими языками очень беден рифмами. Причина этого, мне кажется, кроется в том, что в других европейских языках слова при синтаксических изменениях сохраняют свою основную форму, в то время как в венгерском языке они неизбежно обрастают флексиями. А ведь повтор флексий хорошей рифмы создать не может».
Предшественники Петефи писали главным образом метрические стихи и пользовались «чистыми рифмами». А Петефи, познав из народной поэзии истинный характер ритма и рифмы венгерского стиха, смело вводил в свою поэзию силлабизм и ассонансы. И вводил сознательно, о чем свидетельствуют его знаменательные слова из «Предисловия к полному собранию сочинений». Возражая критикам, бранившим рифмы и размеры его стихов, Петефи писал: «Эти господа не имеют никакого представления о характере венгерских рифм и размеров. Они ищут в венгерских стихотворениях латинскую метрику и немецкие каденции, а в моих стихах этого нет! Это верно! Я и не хотел, чтобы они были… И как раз в тех местах, относительно которых меня обвиняют в величайшем пренебрежении к рифмам и размерам, может быть, именно в них и приближаюсь я более всего к совершенству и подлинно венгерской стихотворной форме».
В этих строках Петефи содержится достойный ответ не только современным ему тупоголовым реакционерам, но и изощренным эстетам и реакционерам более позднего времени.
Как уже отмечалось, первые полгода пребывания Петефи в литературе были почти безоблачны — отдельные голоса хулы тонули в хоре восторженных похвал.
За эти полгода Петефи достиг такой известности в самых широких кругах читателей, какой не достигал ни один венгерский поэт. Но вот голоса поносителей стали раздаваться все громче и настойчивее — реакционеры поняли, с кем имеют дело, и устремились в атаку.
В своей юной восторженности Петефи сперва не мог даже уяснить себе сути и значения происходящего. Он предполагал, что поэзия его звучит для всей Венгрии, что все его уважают и любят. И только теперь поэт ясно ощутил, что существуют две Венгрии: одна — это большинство, венгерский народ, другая — Венгрия аристократов и богачей, которые выступают против всего, что угрожает их привилегиям, их власти, И венгерские реакционные круги, распознав в Петефи своего врага и увидев стоящий за ним народ, повели против него беспощадную борьбу.
Неистовый вой реакционеров заглушил на время голоса тех немногочисленных критиков, которые также распознали сущность этой разразившейся «литературной бури» и. были на стороне Петефи.
«Можно смело сказать, что он истинный гений, — писал о Петефи один из его приверженцев, — точно молния, пробил он себе путь на небе венгерской поэзии и сверкает теперь среди самых блестящих, самых крупных звезд, с холодной и глумливой улыбкой взирая на то, как завистливо моргают эти маленькие, падающие звездочки… Эти господа, — с иронией продолжал он о тех, кто не признавал Петефи, — считают величайшим недостатком Петефи, что он пишет так, как чувствует и думает… И разве не страшно виноват Петефи, что он посмел заговорить на языке народа? Удивляюсь, как это его еще не привлекли за такое демократическое преступление к суду с обвинением в измене родине… Но напрасно тщатся эти гусеницы объесть вечнозеленые листья венца Петефи. Изнемогая от напрасных усилий, они сами же падут с древа жизни в могилу забвения, а поэт, которого они забрасывали грязью, нетронутый и победоносный, переступит порог дворца бессмертия».
Однако расслышать эти одинокие голоса Петефи не мог — так громки были вопли хулителей.
И все-таки двадцатидвухлетний поэт поначалу принял бой, но вскоре, не выдержав гонений, скрылся из Пешта. Он уехал в деревню Салк-Сентмартон, чтобы обдумать все происшедшее.
И тут, как говорят, «пришла беда — отворяй ворота».
Удары судьбы посыпались на него один за другим. Родители разорились вконец — хоть по миру иди; некоторые друзья поэта оказались в числе врагов и гонителей его поэзии, а для Петефи, который ставил дружбу превыше всего, это было серьезным ударом. Любимая девушка, которой он посвятил чудесный цикл стихов «Жемчужины любви», отказалась выйти за него замуж, а отец ее объяснил Петефи: «Ни за актера, ни за поэта я свою дочку не выдам». Наконец и его собственная жизнь складывалась слишком трудно: «добрый» работодатель Имре Вахот поставил его в такие кабальные условия, что поэт едва мог существовать. Поэтому неудивительно, что в душе у Петефи отчаяние сменялось гневом, а гнев — отчаянием и презрением к тому миру, который окружал его. «Минутами мой горизонт заволакивался», — писал он в 1845 году в стихотворении, посвященном Мору Йокаи. Теперь Петефи иногда казалось, что над ним заволоклось все небо.
Неуемный в любви и ненависти, прямой и ясный в своем отношении к миру, поэт на некоторое время утратил перспективу в жизни. Его активная, волевая натура, требовавшая борьбы, разрешения мучивших его вопросов, не находила себе выхода в окружающей действительности. В это время Петефи еще не пришел к ясному осознанию социальной борьбы как единственного пути к разрешению царившей несправедливости. Гнев, отчаянье, презренье, ненависть воплотились у него в целом ряде произведений, которыми он как бы наносил пощечину современному ему обществу, мстил ему.
За недолгий период творчества, который начался в конце 1845 года и закончился к середине 1846 года, Петефи создал целый ряд стихотворений и поэм.
К этому времени относится цикл «Тучи» — цепь мрачных маленьких афористичных стихов, «Зимняя ночь» и гениальный лирический монолог «Сумасшедший», явившийся единым воплощением того гнетущего настроения, которым проникнуты стихи цикла «Тучи». Стихотворение «Сумасшедший» — это как бы вопль отчаяния и ненависти к тому миру, где царит зло, где мудрецы, погибающие с голоду, считаются безумцами, потому что они не хотят убивать и грабить, где старым солдатам в награду за их преданность дают «медаль за службу и увечье», где и «любви малейшая росинка убийственнее океана, который превратился в яд». И остается одно только: свить «бич пылающий из солнечных лучей» и бичевать им вселенную, где все плохо, где и слава — это только «луч, преломившийся в слезах», и кругом целые моря печали. А сама земля?
спрашивает поэт, с ужасом оглядываясь кругом. Только иногда врывается луч света в беспросветный мрак и отчаянье души Петефи, и этот луч света — упование на то, что настанет славный час борьбы за свободу.
В этом стихотворении уже ощутима та самоотверженность, полное отсутствие индивидуализма, постоянное ощущение себя органической частью своего народа, которые были больше всего присущи Петефи. И как ни старались тучи заслонить от него солнце, он даже в эти тяжелые месяцы временами поднимался над ними и впитывал в себя живительные лучи света.
В эту пору написана и чудесная лирическая поэма «Волшебный сон», в которой поэт находит разрешение трагических страстей в светлых воспоминаниях о первой любви, о дружбе юношеских лет, в грустном и трезвом ощущении того, что смерть ничего не разрешает, что счастье возможно только на земле и все романтические мечты о небе бесплодны.
Но прозрачная грусть и трезвость «Волшебного сна» не остудили жара, Все вновь и вновь подымаются языки багрового пламени, и он пишет поэмы, в которых чувство мести опять заполоняет все. Ведь не так просто забыть, что любовь осталась неразделенной, потому что в этом злом мире ценится не чувство, а деньги и положение. И вот рождается поэма «Пишта Силай» — о бедном паромщике, возлюбленную которого соблазняет богатый повеса. И что же остается делать бедняге, который хотел было даже стать разбойником, чтобы мстить богачам, но оказалось, что «не для разбоя он рожден». Пишта Силай убивает свою любимую, ее соблазнителя и себя.
Все трое нашли себе последнее пристанище в водах Дуная.
Действие в поэме происходит на островке Дуная. Прелестные картины природы сменяют одна другую, и идилличность их только усугубляет тяжесть душевных переживаний героя поэмы, который не мог восстановить справедливость и не нашел для себя другого выхода, кроме смерти.
Времена мрачного средневековья раскрываются в суровых ямбах поэмы «Шалго». Замок Шалго — это рыцарский замок, обращенный в разбойничье гнездо,
И обитатели этого кромешного ада, владельцы замка Петер Комполти с сыновьями, разбойничали, грабили, убивали мужей, похищали жен. Все это продолжалось до тех пор, пока любовь к похищенной красавице не заставила одного из братьев раскаяться в совершенных злодеяниях, и во имя этой любви он решился покарать злодеев — собственных отца и брата. И он покарал их, но сам лишился рассудка и бросился со стен замка вместе с любимой женщиной.
Эти стихи и поэмы, как и все, что писал Петефи, сразу же нашли живой отклик в венгерских литературных кругах, но большая часть литераторов не поняла истинного смысла стихов, не расслышала их мятежного звучания, и отряд «рифмующей саранчи», «хитрых обезьян», бесчисленное множество бездарных подражателей бросились строчить пессимистические вирши.
В ответ на этот поток карикатурной мизантропии Петефи, будто увидевший себя в кривом зеркале, выбросил, как белый флаг примирения с жизнью, «которая все же хороша», программное стихотворение «Мироненавистничество»:
Петефи хотел уничтожить этих «обезьян», корчивших «байронические гримасы», не только потому, что ему была противна стая бездарных виршеплетов, подбиравшая крохи с его стола и с визгом и тявканьем мчавшаяся по его следам. Петефи написал это стихотворение тогда, когда он уже понял, что на мир надо не гневаться, а его следует преобразовать. И не случайно создал он после этого тоже программное, но уже прямо революционное стихотворение «Мои песни».
Название «Тучи», которым поэт озаглавил целый цикл своих стихов, глубоко верно и оправданно для всего этого периода его творчества. Это были, казалось, те тучи, что заволокли на время ясный, сияющий облик поэта. Как только Петефи нашел истинный путь, путь борьбы, как только он окончательно понял, с кем надо бороться, настроение, проявившееся в этих стихах, окончательно исчезло.
А так как Петефи был воплощением душевного здоровья и оптимизма, то эта мрачность, пессимизм ушли, не оставив даже малейшей трещины в его душе. Могучая река его творчества устремилась дальше, теперь уже сокрушая все, что преграждало ей путь. Петефи осознал, что бессильный гнев ни к чему доброму не приведет, понял, что поэзия его может пробить себе путь только в беспощадной борьбе.
Петефи наложил печать своей индивидуальности на всю венгерскую поэзию. Как поэту ему свойственны необычайная многосторонность в восприятии мира, горячая отзывчивость на каждое движение жизни, безудержный полет фантазии, стремление каждое значительное явление человеческой жизни или природы исчерпать до конца, раскрыть в массе поэтических определений, обрисовать всеми красками, имеющимися на палитре у художника.
Одной из отличительных черт поэзии Петефи является многообразие настроений и фантазии, богатство и полнота чувств. Поэт способен в одном лирическом стихотворении провести читателя через целую гамму ощущений и ассоциаций, подчас самых противоположных. Эти мгновенные перемены и переходы всего роднее ему и в природе, на них он откликается горячей всего.
Касаясь характера фантазии и поэтического воображения Петефи, нельзя не вспомнить великолепных слов Горького в статье «О том, как я учился писать». Горький писал о своем отношении к художественному раскрытию природы: «…познание… — есть мышление. Воображение тоже, в сущности своей, мышление о мире, но мышление по преимуществу образами, «художественное»; можно сказать, что воображение — это способность придавать стихийным явлениям природы и вещам человеческие качества, чувствования, даже намерения».
У других великих художников мы можем найти немало тонких суждений 0 том, что такое поэтическое воображение, но формула Горького нам особенно близка потому, что в ней выражено активное, творчески созидательное отношение художника к жизни, природе. Горький говорил: «Человек придает всему, что видит, свои человеческие качества, воображая, вносит их всюду, во все явления природы». Такое же очеловечивание природы (антропоморфизм) свойственно и художнику-демократу Петефи. Его поэзия проникнута стремлением активно вмешиваться во все происходящее вокруг и удивительной динамичностью в изображении жизни человека и природы.
так начинает он свое превосходное стихотворение «Тучи» и как зачарованный рассказывает о переменах в их облике:
Затем поэт видел их в гневе, когда, могучие,
И память призывает на помощь воображение поэта:
Раскрывая загадку своего влечения, поэт, наконец, признается;
Петефи стремится все раскрыть в полноте и многообразии Любовь для него — и «слез водоворот», и «темный лес», и «страшная чаща»; в «сто образов» поэт облекает и любимую и самого себя, бесконечно влюбленного:
Вот этот размах фантазии, эта нетерпеливость, стремительность, не знающая удержу, и характерны для Петефи.
Его воображение одну за другой рисует картины, проникнутые самыми различными настроениями, но с каждой новой картиной у читателя крепнет ощущение, что поэт остается неизменно верен одному, все углубляющемуся чувству:
Такой полет поэтической фантазии мы можем встретить далеко не у всех даже величайших поэтов мира. Причем прелесть этих стихов именно в том, что здесь не пустая игра образами, что все они основаны на глубоком чувстве. Об этой главной черте своей души и дарования лучше всего говорит сам Петефи в знаменитом стихотворении «Мои песни»:
Рождаются у него и песни «беззаботные, как птицы», и «песня-радуга в душе его родится», но одно напоминание, что родина в цепях, — и поэт слагает уже иные песни:
Песня-туча в этот миг родится,
Черная в душе моей гнездится[43].
С течением времени Петефи все глубже проникает в суть социально-политической борьбы своей эпохи. Настольными его книгами становятся труды по истории революций. Еще в 1844 году поэт пишет свое первое непосредственно революционное стихотворение «Против королей»:
(Совершенно ясно, что предвестников «грядущих» венгерских гроз он видел не в стихах поэтов-современников, плачущих навзрыд над невозвратимым прошлым, а в стихах Фазекаша, Бачани, Чоконаи. имена которых мы уже упоминали.)
Стихотворение это тогда, конечно, не могло появиться в печати, но революционное настроение, которым оно проникнуто, сказалось во всех остальных произведениях поэта. Критика настороженно взирает на перемены в творчестве Петефи. Теперь он изображает в своих стихах не только венгерский пейзаж, но обрисовывает и социальный облик тогдашней Венгрии.
Он описывает «хозяев» Венгрии — тупоголовых помещиков, ленивых, чванных, невежественных. Он с сарказмом рисует и тех, кто продает себя «за согретый угол» да за объедки с барского стола и готов в восторге лизать сапоги господ. Этим жалким собачьим душонкам поэт посвящает «Песню собак». В «Песне волков» он противопоставляет им отважных храбрецов, людей, готовых идти на любые жертвы ради того, чтобы быть свободными.
Теперь все окружающее в жизни и даже явления природы вызывают у Петефи революционные ассоциации. Заходящее солнце, которое представлялось ему прежде «поблекнувшей розой», опускающей свой «померкший взгляд», поэт описывает теперь в своем превосходном, полном реалистических деталей стихотворении «Степь зимой» совсем иначе:
Весну поэт просит прийти тоже только затем, чтобы она осыпала цветами могилу «сынов вольности». Волны моря представляются ему «народоэ пучиной», которая восстала,
Первая железная дорога, проложенная в Венгрии, кажется ему «артерией земли».
Критика, напуганная смелым голосом Петефи, его обращением к широким народным массам, вначале еще пытается «образумить», «укротить» поэта:
«…В нем таятся неисчерпаемые сокровища поэзии, но он часто тратит их необдуманно и расточительно… Ежели он еще сможет войти в соответствующее русло, то его чело увенчают неувядаемые лавры…»
А поэзия Петефи ничего общего не имела с «соответствующим руслом», и откровенно реакционная критика хорошо понимала это: «Для дам не годятся такие песни с деревенских посиделок… А ведь мы творим главным образом для дам… Кто же из поэтов писал так до него?»
Либеральная критика действовала более хитро, принимая личину «доброжелателей» поэта: «Петефи пишет для крестьян, то есть для самого грубого слоя общества, а вовсе не для народа; он забыл, что народ и чернь людская — это вовсе не одно и то же»,
Под словом «народ» эти «наставники» Петефи, конечно, подразумевали самих себя, «образованное» общество Венгрии, а под «людской чернью» — миллионы трудящихся венгров.
«Если бы этот высокоталантливый поэт не поддавался таким пагубным увлеченьям, а воспевал бы события, достойные его таланта…» — лицемерно сокрушалась либеральная критика.
Итак, Петефи предлагали стать на путь дворянской поэзии, присоединиться к «либеральным сторонникам реформ». Но он в сумрачной комнатушке читал все эти поучения и страстно восклицал: «Нет! Вам меня не купить!» Когда же увещания сменились оскорблениями, он ответил «весьма непочтительно» стихотворением «Дикий цветок»:
Это стихотворение было первым непосредственным ответом критикам и вместе с тем первым поэтическим кредо народного поэта. И вслед за ним хлынул целый поток тех обличительных стихов, которых господствующий класс Венгрии никогда не мог рростить Петефи, — стихов, подобных «Венгерскому дворянину»:
И в нем все сильнее клокотал гнев. Шел еще только 1845 год, и Европа в лапах реакции, по видимости, была тиха. Землетрясение 1848 года предчувствовали и предвещали еще только такие сейсмографы, как Петефи, и. неустанно бросали в лицо господам грозные предупреждения:
В «Письме Яношу Араню», в котором Пегефи говорил о гневных чувствах, возникающих в нем при одной мысли, что его могут заставить быть покорным, он писал:
Венгерские реакционные круги со страхом и скрежетом зубовным наблюдают за «боевым строем» его стихотворных строк, с ужасом прислушиваются к гулу, нарастающему в рядах этих мятежников.
Эти молнии высекаются из души Петефи, слитой с венгерским народом; они озаряют своим светом угрюмые хижины бедноты, вызывают в сердцах угнетенных чаяния и грозные мечты, пока только мечты.
И венгерским критикам теперь уже стало совсем ясно, кто вошел в венгерскую литературу. «Поучения», «уговоры» сменяются злобной руганью. Нападкам подвергается теперь и язык его поэзии, и содержание стихов, и личная жизнь поэта. Такой организованной и неугомонной травли великого поэта еще не знала венгерская литература. Молодой человек стойко выдерживал все гонения, потому что народ, к которому он принадлежал, удесятерял его силу, вдохновение и боевой дух.
Этой схваткой завершается второй этап его творчества, и торжествующим гимном звучат слова, которые он произнес, как законный представитель венгерского народа:
31 декабря 1846 года, в канун Нового года, Петефи мысленно оглядывается назад, чтобы установить, сколько сделано за прошедший год, что вы полнено из намеченных планов, каковы его планы на будущее. И желанья его души вылились в двух словах: «Мировая свобода».
Все то, что Петефи ставили в вину современные ему и позднейшие реакционеры, в действительности было его достоинствами.
Петефи мечтал объединить представителей народной поэзии, как писал он своему другу Яношу Араню в 1847 году: «К молодой Венгрии я отношу всех истинно свободомыслящих, великодушных, отважных людей, которые стремятся к высоким целям и не желают вечно латать сношенные лапти родины так чтобы заплата сидела на заплате, а хотят с ног до головы нарядить ее в новую одежду».
Реакционеры постоянно упрекали Петефи за «грубость» его поэзии, за отсутствие в ней «высокого парения».
Петефи сознательно отказался от «парения», noрвал с «высоким штилем» дворянского витийства и, опираясь на лучшие традиции венгерской литературы, создал реалистическую народную поэзию.
Петефи внес в венгерскую литературу совершенно новый мир. Он показал, что патриотизм — это не высокопарное националистическое воспевание героических подвигов дворянских предков, не навзрыдный плач над тем безвозвратным прошлым, которому приписывалось все прекрасное и величественное. Петефи показал, что патриотизм — это прежде всего любовь к своему народу, истинному творцу жизни родины. Он показал, что родина — это не беседки, ручейки и фонтаны в барских усадьбах, а необъятные просторы полей, на которых гнут спины миллионы крестьян. Он показал, что истинными героями Венгрии были не короли, не венгерские дворянчики, которые устраивали смехотворные рыцарские турниры; народные герои — это Дёрдь Дожа, вождь крестьянского восстания 1514 года, которого он никогда не стремился «примирить» с палачом крестьян — Вербёци; это Ференц Ракоци II, вождь национально-освободительной борьбы начала XVIII века; это вождь революционного заговора Игнац Мартинович, казненный за республиканские идеи в 1795 году. Петефи показал, что подлинным героем венгерской истории был народ.
Петефи был истинным национальным венгерским поэтом. Именно потому он первый внес в венгерскую поэзию тревогу за судьбу родного народа и братскую любовь к человеку труда, под каким бы небом он ни родился. Как истинный поэт народа, он не мог не знать, что судьба венгерских трудящихся тесно связана с судьбой всего трудового человечества и что только в общей борьбе народов может Венгрия отстоять свою национальную свободу. Но Петефи знал и то, что ему, венгерскому поэту, надо прежде всего бороться за свободу и преобразование своей родины, что только таким путем может он принять участие в освободительной борьбе всех народов.
Петефи отбросил застывшие и чуждые народу каноны дворянской литературы, ввел в поэзию жизнь венгерских трудящихся, пронизал изображение этой жизни политической страстью, активным отношением к миру.
Ничто не было Петефи гак чуждо, как нигилистическое, анархическое отношение к миру, ничто Петефи не было так чуждо, как мироненавистничество слабого человека, воспринимающего свою смерть как нечто гибельное, смертоносное для всего мира. Петефи утверждал совсем иное: «Моего сердца даже смерть не остудит. Похороните меня на севере и посадите возле моей могилы апельсинное деревце — увидите, оно и там будет цвести, потому что сердце мое согреет землю, в которой будет покоиться».
Когда Петефи гневался на мир — это грохотала Этна перед извержением, и грохот сей непременно сопровождался, огненной революционной лавой, очищающим огнем. Потому-то так и близка поэзия Петефи к подлинной революционной поэзии пролетариата, потому-то и является Петефи предшественником истинно революционных поэтов.
Так как Петефи был представителем народа, который живет трудами рук своих, переносит страдания с достоинством, никогда не хнычет, борется, творит и любит жизнь, то он считал достойными все более или менее значительные события своей жизни воплощать в стихи. Для него жизнь и поэзия были нераздельны. Для него не существовало отдельно «публицистических» и отдельно «лирических» стихов: в каждой строчке своих политических стихов он раскрывался во всей полноте своего существа, в лирических стихах со всей силой звучали его политические революционные убеждения. Его жизнь вернее всего познается по его стихам.
«Каждое его слово, все события его личной жизни были поэзией, — писал о нем его современник поэт Янош Вайда[46] — Он как будто не создавал, а просто рассыпал стихи, и после того, как их рассыплет, совсем не казался усталым, а напротив, видно было, что он чувствует какое-то облегчение».
И это понятно, потому что Петефи, который никогда не принимал никаких поз, никогда не выдумывал себя, а просто и искренне рассказывал о своих чувствах и мыслях, не мог не ощущать облегчения, когда он делился ими с людьми.
Петефи ратовал за искренность и ненавидел лицемерие. В своих «Путевых письмах» он писал: «Когда я родился, судьба постлала мне искренность простынкой в колыбель, и я унесу ее саваном в могилу. Лицемерие — нетрудное ремесло, любой негодяй в нем горазд, но говорить откровенно, искренне, от всей души могут и смеют только благородные натуры. Может быть, мое суждение о себе неверно, тогда пусть осмеют меня, но я все-таки заслуживаю уважения за то, что смею открыто высказывать свои чувства. A la lanterne les jesuites![47]»
Искренность Петефи особенно неповторима еще и потому, что он, как чудесно говорил Ади, «обращался со своими чувствами и мыслями, как с живой, существующей реальностью, и если он советовал повесить королей, то совершенно ясно, что он дернул бы ту веревку, на которой висел король».
За это отсутствие грани между чувствами и стремлением немедленно воплотить их в действие больше всего ненавидела Петефи реакционная критика, очень скоро осознавшая, что она имеет дело не только со стихотворцем, но с борцом и революционером.
В ответ на все обвинения реакционной критики Петефи гордо отвечал:
«Я смело заявляю перед судом своей совести, что не знаю ни одного человека, который бы чувствовал и мыслил честнее меня, я всегда писал и пишу так, как чувствовал и думал… Если я в некоторых случаях и по некоторым поводам выражаюсь свободнее других, то делаю это потому, что считаю поэзию не аристократическим салоном, куда являются только напомаженными и в блестящих сапогах, а считаю, что поэзия — храм, в который можно войти в лаптях и даже босиком.
Наконец о том, что я неуравновешен. Это, к сожалению, правда, но это и неудивительно. Не наградил меня господь такою судьбой, чтобы я мог прогуливаться в прелестных рощицах, переплетая свои песни о тихом счастье и тихих горестях с трелями соловья, шелестом ветвей и журчанием ручья. Моя жизнь протекала на поле битвы, на поле боя, страданий и страстей… Со времени средневековья человечество очень выросло, а до сих пор носит средневековые одежды, правда, кое-где залатанные и расставленные, и все-таки оно желает переменить одежду; старая уже узка, теснит человечеству грудь, в ней трудно дышать, а потому стыдно человечеству, будучи уже юношей, все еще ходить в детском платье. Так прозябает человечество в позоре и нищете; внешне оно спокойно, лишь бледней обычного, но тем больше волнуется внутри, как вулкан, близкий к извержению. Таков наш век. Могу ли я быть иным? Я, верный сын своего века?»
Петефи ненавидел все, что тормозило прогресс, — следовательно, он ненавидел аристократов и австрийских поработителей, которые обратили Венгрию в свою колонию.
«Мы не станем втискивать его в определенные рамки, — писал о нем полстолетия спустя великий венгерский поэт Эндре Ади, — мы не станем утверждать, будто исторический материализм вошел ему в плоть и кровь… Но, — продолжал Ади, — если бы Петефи не погиб в 1849 году, он наверняка попал бы в Париж, участвовал бы в заговоре против Наполеона III, написал бы много чудесных вещей и пал бы, вероятно, во время Парижской коммуны… Мы верим и провозглашаем, что Петефи принадлежит нам, всем тем, кто в Венгрии жаждет перемен, обновления, революции и борется за них».
Кто мог бы лучше воздать славу Шандору Петефи!
Имре Вахот и его сподвижники были представителями сторонников либеральных реформ в литературе. Они затевали издание журналов для широких масс (правда, тираж такого «массового» журнала едва достигал трех тысяч) и привлекали к участию в них тех новых писателей, которые ставили себе задачей писать для народа. Как выходцы из дворянства, эти издатели были озабочены тем, чтобы не перешагнуть рамок умеренности, а как литературные предприниматели — следили, чтобы их журналы не были побеждены в капиталистической конкуренции. Как и положено добропорядочным буржуа, они готовы были задушить своих конкурентов даже в том случае, если те боролись за одинаковые цели. «Лучше, если доход от этого произведения пойдет в мой кошелек», — нимало не смущаясь, возвестил господин Вахот свою первую заповедь.
Только этой двойственностью и можно объяснить то, что Имре Вахот, позднее «покровительствовавший» Петефи, на знаменательном собрании «Национального круга», когда обсуждался вопрос о выпуске первого сборника стихов Петефи, голосовал против издания этой книги. Либералу Вахоту голос Петефи, естественно, показался слишком смелым, а издатель Вахот не понял сразу, что выгоднее ему самому «ощипать эту драгоценную птичку», прежде чем возьмутся за нее другие. Лишь после того, как большинство ремесленников выступило за издание книги, торговец литературой взялся за ум и поспешил нанять Петефи на работу, не стыдясь при этом высказать всем свои расчеты: «Он будет лить воду на мою мельницу».
Петефи, несмотря на свои юные годы, был уже хорошо знаком с жизнью, ибо судьба достаточно швыряла его из стороны в сторону, однако людей типа Вахота он еще плохо знал. Это был новый тип литературного дельца. Но если б Петефи понимал даже, с кем он имеет дело, все равно у него не оставалось бы другого выхода, как пойти к нему.
Молодой поэт был даже счастлив вначале — пусть ему мало платят за стихи, но все-таки он может целиком посвятить себя литературе, а все остальное приложится. Весь свой гонорар за две поэмы — 140 форинтов (60 рублей золотом) — он послал родителям.
Вахот, молодой, но прожорливый журнальный воротила, познал уже искусство рекламы, искусство создания общественного мнения. Он преподнес Петефи венгерский национальный костюм, и поэт ходил в таком наряде по улицам Пешта. Как раз в ту пору подобные демонстрации против немцев были в моде, и даже самый «добродетельный» сторонник реформ мог позволить их себе, не рискуя прослыть революционером. А молодой, наивный Петефи был счастлив надеть венгерский костюм — подарок Вахота, потому что для него национальная одежда вовсе не была маскарадным костюмом, которым только прикрывали стремление к «доходу в мой карман», — она была символом подлинного слияния с народом.
Имре Вахот знал и то, что если он в каждом номере своего журнала будет помещать какое-нибудь сенсационное, пусть даже самое неправдоподобное сообщение о поэте, то журнал будет лучше раскупаться публикой, жадной до сенсаций.
Общеизвестно, что Петефи не был любителем попоек. Застольными песнями, написанными в юности, он. с одной стороны, просто отдал дань времени, с другой стороны, пользовался ими как возможностью еще раз в шутливой, но дерзкой форме стукнуть по носу всех ревнителей высокопарной поэзии, сторонников обязательного витийства.
Но господину Вахоту за первые полгода удалось распространить слух, будто Петефи — пьяница, буян и трезвой жизни не переносит. А сам Петефи об этом рассказывал так: «…Трудно было мне, например, научиться пить… Это было еще в то время, когда пьянство считалось удалью… Но после я снова так разучился пить да так, будто никогда и не умел. Бедные трактирщики, мне от души вас жаль, но вместе с тем я желаю от всего сердца, чтобы моему примеру последовали многие».
Видя, как растет популярность Петефи и как разбухает собственный кошелек, Вахот тщательно ограждал поэта от соприкосновения с другими издателями, в журналах которых тот печатался прежде. С помощью всяческих козней старался он изолировать Петефи, чтобы поэт еще больше ценил «доброго» работодателя. Воспользовавшись напечатанными в журналах первыми критическими замечаниями о Петефи, Вахот ухитрился так поссорить молодого и горячего поэта со всеми издателями, что если бы он даже понял всю кабальность условий, которыми опутал его Вахот, то все равно не мог бы уйти из его журнала.
Нет сомнения, что Петефи представлял собой реальную и грозную силу, мимо которой консерваторы не могли пройти равнодушно. Но тем, что нападки прессы стали вестись с особым ожесточением, и не только явными реакционерами, Петефи не в малой мере обязан буржуазной расчетливости Вахота.
В ураганном огне оскорблений, которыми печать Венгрии осыпала великого поэта, наиболее безобидным может считаться заявление, что «современная эпоха венгерской литературы самая несчастная, ибо любой бесталанный проходимец может стать писателем».
Правда, широкое общественное мнение вступилось за Петефи. И Вахот с той же готовностью сообщал в своем журнале о факельных шествиях, устраиваемых в честь поэта. Ему выгодно было обратить общее внимание на Петефи.
Но когда Петефи в одной из своих статей случайно или по наивной восторженности назвал журнал Вахота «моим журналом» то Имре Вахот зло набросился на него:
— Как вы посмели в последнем номере напечатать: «в моем журнале»? Журнал мой, а не ваш, примите это к сведению.
И Петефи принял к сведению. В ближайшем номере была напечатана «поправка»: «В предыдущем номере «Пешти диватлап» я написал в «Примечании редакции»: «в моем журнале»; вместо этого следует читать: «в этом журнале». Петефи».
Весной 1845 года Пегефи расстался, наконец, со своим «добрым» работодателем Имре Вахотом. На улицах Пешта уже зацветали акации, в воздухе чувствовались ароматы весны — их посылали в город окрестные степи, леса и реки, и сквозь открытое окно каморки свежий утренний ветер приносил зовы венгерского народа: «Ждем!»
Сначала Петефи хотел было совсем порвать с Вахотом, но когда он огляделся кругом и увидел, что издатели и редакторы остальных журналов тоже не лучше и что «Белая собака и черная собака — все один пес», то махнул рукой.
«В начале 1845 года Имре Вахот с месяц уговаривал меня, — пишет Петефи, — сотрудничать только у него в журнале. В конце концов я согласился и целый год все свои стихи отдавал только ему. 3а это два остальных литературных журнала ополчились против меня — один открыто, другой исподтишка, и меня щипали, пинали, оплевывали со всех сторон…»
Но Петефи еще не все понял. Конечно, издатели злились на то, что журнал «Пешти диватлап» благодаря стихам Петефи брали нарасхват и «доходы шли в карман» Имре Вахота. Однако дело было не только в этом. Где бы ни печатался поэт, раз он был Петефи, непримиримым борцом с угнетателями, страстным защитником угнетенных, нападки на него реакционной критики были неизбежны.
«Жил да был на свете помощник редактора, которому чертовски надоела его почтенная должность, и он отправился путешествовать…» Этими словами начинает Петефи свои «Путевые записки» в феврале 1845 года. Тогда он еще не мог указать истинные причины, из-за которых покинул свою «службу».
Поэт поехал в Северную Венгрию, и поездка эта стала триумфальной. Повсюду устраивались торжественные манифестации в честь Петефи. «Куда б я ни приезжал, люди меня везде обнимали, любили…»
Так выглядела одна сторона медали. А вот другая:
«Шесть лет был я скитальцем, покинутым богом и людьми, шесть лет ходили за мною две мрачные тени: нужда и горе. И когда это было? В начале юности, в лучшие годы моей жизни, с шестнадцати до двадцати двух лет».
А впоследствии, когда поэт был уже признан и его встречали с музыкой и факельными шествиями, разве тогда его положение улучшилось?
Граф Эстерхази или какой-нибудь другой вельможа за один вечер не моргнув глазом проигрывал в карты такую сумму денег, какой хватило бы Петефи на всю жизнь.
«Сейчас я в сквернейшем положении… Кроме всего прочего, у меня нет денег, — писал Петефи зимой 1846 года, — впрочем, будут, ежели книгопродавец захочет этого не меньше меня».
«…Да, убогое это ремесло — быть венгерским писателем… Не остается ничего другого, как сказать словами поговорки: «Ешь, голубчик, было б что»… Дала бы мне нация семьсот-восемьсот пенгё-форинтов на год (триста рублей по деньгам того времени. —
Несмотря на громкую славу, Петефи до конца жизни преследовала бедность.
«…За границу я уже не еду… Эмих дает совсем ничтожную сумму за стихи, которые я намеревался продать ему в полную собственность…»
Да и на что бы он поехал за границу? На те 45 форинтов, что он получал в три месяца? Хорошо, если этого ему хватало на хлеб.
Поэт прекрасно знал, что если бы он отказался от своих убеждений, то зажил бы припеваючи.
«Петефи не примирялся, Петефи не примиряется, Петефи принадлежит революции», — сказал о нем Эндре Ади.
И впоследствии, перед самой женитьбой, ожидая в гости к себе Араня, Петефи писал ему:
«Я и до сих пор был бедняком. Ничего, как-нибудь уживемся. Пусть даже втроем будем спать на одной койке и втроем есть из одной тарелки».
Позднее, когда настал 1848 год и революция пронеслась по всей Венгрии, Петефи стал одним из ее вождей. Но очень скоро его оттеснили в сторону ловкие дельцы Вахоты и угодливые проходимцы, готовые идти на любые сделки и уступки. И. тогда в письме к Яношу Араню зазвучал прежний голос: «Мы живем хорошо, отсутствием здоровья и обилием денег не страдаем». А в письме 1849 года к правителю Венгрии Лайошу Кошуту Петефи пишет: «Демократы самый бедный народ в Венгрии. Я среди них самый бедный…»
«Пойди к плац-коменданту Сентпали и попроси его хорошенько от моего имени, чтобы он продал моего коня с аукциона, — пишет Петефи Араню в мае 1849 года, за два месяца до смерти. — На аукционе присутствуй и ты. Можешь сказать покупателям, что это был боевой конь Бема[48], что Бем подарил его Петефи, а Петефи сейчас продает, потому что ему не на что хлеба купить».
Ни феодальной Венгрии, ни Венгрии господ, желавших установления буржуазного строя, не было никакого дела до условий жизни великого поэта. Народ любил его, но помочь ему не мог.
Петефи не находил себе места. Он снова пустился в странствия, жаждая перемен, и не только в своей жизни, не только в литературе, но и в жизни страны. Он уехал к родителям в деревню. Больше ему некуда было деваться. У него, всеми признанного поэта, и сейчас денег было ровно столько, чтоб ему не казалось, будто их совсем нет. Вместе с другом Альбертом Палфи он снял комнату неподалеку от жилья родителей. Друзья почти не выходили на улицу, трудились с утра до вечера, точно знали заранее, что надо торопиться, что близок час, что надо во всеоружии встретить великие события. Одной только матери Петефи разрешалось входить к ним, благо она прибирала комнату. Поработав некоторое время, Петефи снова вернулся в Пешт, но и там ему было не по себе; все мешало. Он решил опять куда-нибудь скрыться, чтобы работать, работать, работать, и покинул Пешт. Но вскоре вновь вернулся и снял комнату вместе с Альбертом Палфи. Дружба его с Палфи была вовсе не случайна. Палфи, так же как и он, был страстным почитателем французской революции. Впоследствии, во время венгерской революции 1848 года, он редактировал газету «Мартовская молодежь». Друзья беседовали обо всем: об освобождении крестьянства, о руководителях французской революции, и чем дальше углублялись они в изучение ее, тем больше для них облик Дантона заслонялся фигурой Марата. Говорили они о Габсбургах и о вековом угнетении венгерского народа, о жадности венгерских книгоиздателей и об их реакционности, о новой венгерской литературе, о том, что дальше так жить нельзя. Нельзя больше терпеть этот двойной гнет, существование изуродованного общества насильно оглупленных людей! Народу тоже надоела такая жизнь — отовсюду доносится ропот недовольства. Это хорошо!
Петефи работал, учился, теперь он изучал английский язык, чтобы переводить с оригинала Шекспира, его драмы бушующих страстей. Ведь скоро № в Венгрии наступит такая бушующая страстями эпоха!
Он учил и итальянский язык, чтобы читать подлинного Данте и чудесные итальянские народные песни. Ведь все великое и прекрасное, что создало человечество, надо знать! Хороший революционер должен это знать! А Петефи готовился к революции, венгерской народной революции.
У Петефи собирались его друзья. Хотя они рассуждали пока главным образом о литературных вопросах, все же, бесспорно, это было первое якобинское общество венгерской революции 1848 года. Петефи с друзьями решили создать венгерскую литературную организацию, независимую от издателей, назвав ее «Товарищество десяти». Целью «Товарищества десяти» было: «Поднять венгерский народный язык до уровня литературного. В направлении и идеях следовать национальным традициям… Объединить представителей народной поэзии… молодую Венгрию… Завоевать положение, достойное человека и писателя».
Совершенно естественно, что руководителем новой писательской организации стал Шандор Петефи. У «Товарищества десяти» была определенная политическая программа: создание новой Венгрии, освобожденной от феодализма и независимой от Австрии. Заседания проходили бурно. Все десять писателей дали слово по меньшей мере год печататься т°лько в «Пештских тетрадях» — органе товарищества. Короче говоря, десять молодых выдающихся писателей объявили в 1846 году забастовку, и организатором первой стачки литераторов в Венгрии был Петефи.
«Друзья, — говорил Петефи на заседании «Товарищества десяти», — мы, народные писатели, не можем сотрудничать ни в «Хондерю», который бесстыдно заигрывает с аристократами, ни в «Элеткепек»[49], который вертится флюгером. Господина же Вахота мы знаем все. Он молится только одному богу — собственному карману. Мы не будем больше его рабами. Мы не для того работаем, чтобы такие пролазы наживались на нас. Чего мы хотим? Чтобы ни народу, ни его писателям не бросали больше из милости черствую корку, чтобы им не приходилось ютиться в темных, сырых каморках, жить в постоянном страхе. Мы хотим, чтобы писатели могли писать обо всем, о чем хотят! Все согласны с этим?»
Все согласились. Издатели, среди них и «добрый» Вахот, смотрели сперва на это движение со страхом. Но Вахот оказался самым прожженным из всех.
В то время как другие журналы не придумали ничего лучшего, как кричать о «бунтовщиках, устраивающих заговор», Вахот подготовлял контрудар. Он прекрасно понимал, что, если «Товариществу десяти» удастся осуществить свои цели, тогда «доход пойдет» не в его карман. А популярность этих молодых писателей была уже столь велика, что литературный журнал без их участия не мог иметь успеха.
Он раскинул умом и нашел удобную лазейку. Обшарив в редакции все ящики столов, он обнаружил в них старые, уже оплаченные, но не напечатанные рукописи нескольких членов «Товарищества десяти», в том числе и Петефи. И как раз после заседания товарищества, на котором было постановлено не сотрудничать в журнале Вахота, лукавый делец как ни в чем не бывало поместил в своем журнале найденные стихи, в том числе и одно стихотворение Петефи. Таким образом он выставил всех этих восторженных юношей, а главное — Петефи, обманщиками и отступниками.
Петефи помчался к издателю, весь бледный от волнения и гнева.
— Вы поместили мое стихотворение, хотя не имели на это никакого права! Эти стихи валяются у вас уже больше года. Меня считают обманщиком! Я требую, чтобы вы напечатали мое заявление!
«…Прочитав мою статью, он швырнул мне ее обратно, заявив, что печатать ее не станет, и с глазу на глаз назвал меня подлецом. На это я мог ответить только острием клинка или пулей… Я послал к нему секундантов, но после полутора суток оттяжки он, наконец, решительно заявил, что ни в коем случае не станет драться. Напоследок я ему сказал: «Оказывается, ты не только негодяй, но и трус!»
Вахот не остался одиноким. Государственные органы поспешили ему на подмогу. «Товарищество десяти» поставили под полицейский надзор. Среди членов товарищества, как выяснилось позднее, нашелся и доносчик. Наместнический совет знал о каждом шаге товарищества. Разрешение на выпуск журнала зависело от Наместнического совета, и, конечно, в этом разрешении было отказано. Стачка молодых венгерских писателей, возглавляемая Петефи, потерпела поражение. Но эти писатели не угомонились. Через два года они снова двинулись в бой и теперь уже вместе со всем венгерским народом.
«Но что я прочел в «Пешти диватлапе»? — писал Петефи в 1847 году Яношу Араню. — Что ты взялся сотрудничать исключительно для них. Несчастный!.. Вахот обвиняет меня в вопиющей неблагодарности, говорит, что это он поднял меня из грязи, сделал меня человеком, создал меня… И такое должен был я выслушивать от человека, который сам признавался, что большей частью подписчиков обязан мне… Я сказал Вахоту, что выступлю против этого публично. Он же ответил, что, если я всерьез посмею выступить, он меня уничтожит».
Таков был Имре Вахот, предок гангстеров венгерской буржуазной печати, которые в конце своего позорного пути докатились до последних пределов, став подстрекателями самых мерзких преступлений против венгерского народа.
Люди эти были сметены в числе других приспешников фашизма новой венгерской демократией, которая передала крестьянам поместья внуков былых сторонников и противников «умеренных» реформ. Новая Венгрия передала в руки народа шахты, заводы, типографии, издательства страны, чтобы они на самом деле служили народу, его мыслителям, ученым, поэтам, а не потомкам Имре Вахота и подобных ему.
Первая писательская стачка кончилась неудачей. Стремление Петефи стать независимым в Венгрии, добиться и для себя и для своих товарищей-писателей человеческой жизни не увенчалось успехом. Петефи впервые столкнулся с коварством буржуазных дельцов. Удивлению и гневу его не было границ. Уже и прежде его любимым чтением, «евангелием нового мира», была история революций — теперь он все глубже проникался революционными идеями.
Подлинная кровная связь с трудящимися Венгрии все выше поднимала мятежный дух Петефи, и в стихах его появлялось больше и больше революционных образов. В 1847 году он написал и свой знаменитый призыв к поэтам XIX века, в котором изложил поэтическое и общественное кредо революционного поэта, цель его стремлений и цели революции:
Потерпев поражение в писательской стачке, Петефи прибыл 6 сентября 1846 года в маленький провинциальный городок Надь-Карой, чтобы забыться немного после пештских неудач, «Товарищества десяти» и отдохнуть от травли, которую вели все, начиная от либерала Вахота и кончая самыми черными реакционерами.
Петефи снял комнату на единственном постоялом дворе городка. Поэт лежал на кушетке и читал «Мемуары» Ракоци — вождя венгерского восстания против немцев. Развязка этой войны произошла неподалеку от городка. Здесь предатель Шандор Карой сложил венгерское оружие и в награду за это получил от австрийского императора часть имений Ракоци.
Петефи, вздохнув, отложил книгу в сторону. Потом встал и спустился в общую залу. Он даже не заметил, какую ему подали еду, — машинально ел, погруженный в свои мысли. Вдруг распахнулась дверь, и в трактир шумно ввалилась гурьба провинциальных дворян; у всех в руках были палки со свинцовыми набалдашниками. Через два дня должны были состояться выборы комитатского головы — по этому торжественному поводу и собрались здесь господа дворяне, а палки захватили с собой на тот случай, если кто-нибудь разойдется с ними во взглядах.
Аристократы Сатмарского комитата, как это мы можем установить по сообщениям того времени, вовсе не скрывали того, что по случаю выборов «могут быть применены и подкуп и дубинки».
Угрюмо смотрел Петефи на этих столь хорошо знакомых ему господ. Они расселись вокруг столов, пили и громко восторгались графом, богатейшим магнатом их комитата: «Подумайте только — сам граф явился на выборы и не гнушается здороваться с нами за руку!»
Петефи все противнее становилось слушать эти льстивые речи, он поворачивал голову то влево, то вправо, вертелся на стуле, наконец отодвинул от себя тарелку.
— А как фамилия сиятельного графа? — спросил он вдруг одного, уже сильно подвыпившего дворянина.
— Граф Лайош Карой.
Лицо Петефи, как всегда, когда он был сильно возбужден, застыло, только глаза его искрились гневом.
— А знаете ли вы, господа, — громко обратился он ко всей пирующей компании, не поднявшись даже с места, — что прадед этого Карой был изменником родины? Он предал венгерский стяг Ракоци и в награду за это получил часть его имений! И вы пред ним преклоняетесь? Кто же вы после этого: люди или псы? А ежели псы, то чего же не бегаете на четвереньках?
Поднялся невероятный переполох. Вся ватага подвыпивших дворян, окружив Петефи, разъяренно кричала и размахивала палками. Казалось, что его поэтической стезе положат конец удары свинцовых набалдашников по голове.
Но Петефи встал и спокойно, в упор посмотрел на этих взбесившихся «псов» таким взглядом, что они внезапно оторопели. Лакейские душонки не могли даже представить, чтобы так посмел себя вести «простой смертный». Может быть, это граф или какой-нибудь другой видный аристократ?
— Кто вы такой? Назовите вашу фамилию! — послышалось несколько голосов.
Поэт назвал себя. Подействовало ли его имя или отвага одинокого человека, его полное презрение к опасности? Как бы то ни было, они шумной оравой вывалились на улицу, пообещав, правда, «дерзкому молокососу» рассчитаться с ним на следующий день.
Петефи остался в зале один. Победа его не радовала. Внезапно его охватила усталость, но она сменилась еще большим гневом, как только он вспомнил о трусости этих людей.
Он поднялся к себе в комнату. Подошел к окну и посмотрел в ту сторону Майтенскои степи, где сдал оружие предок графа Лайоша Карой и где теперь
Петефи взял лист бумаги, положил на стол, потом стал ходить по комнате. Затем он сел за стол, и по бумаге побежали строчки:
На другой день Петефи встретился со своими друзьями: Эндре Папом, который был много старше его, и Игнацем Ришко. Оба они писали стихи и были сторонниками прогресса. Петефи любил особенно Папа, с удовольствием слушал его рассказы о Ференце Кельчеи, с которым Пап был когда-то лично знаком. В 1832 году, вопреки всем протестам обладателей дубинок и палок со свинцовыми набалдашниками, Кельчеи был избран в сейм именно от Сатмарского комитата; правда, через два года дубинки снова восторжествовали, и Кельчеи был отозван из сейма. Вскоре он умер, и Эндре Пап подготавливал к печати литературное наследие замечательного поэта.
Друзья уже слышали о происшествии в трактире и боялись за жизнь Петефи.
— Шандор, — сказал Пап, — надо тебе съехать отсюда. Перебирайся ко мне.
— А не хочешь к нему, живи у меня, — перебил Ришко.
Петефи посмотрел на них, насупившись.
— Я никогда не был трусом. Ненавижу трусливых людей! Если я перееду, то эти илоты могут еще подумать, что я испугался. Нет, я останусь! Да и вообще мало писать стихи — надо и в жизни показывать пример. Среди этих дворян, верно, есть и такие, у которых земли с носовой платок и в засуху ветер все их поместье может сдунуть на дорогу. Глядишь, они и призадумаются.
Друзья знали Петефи. Уговоры только разжигали бы его упрямство. Тогда они решили остаться вместе с ним в гостинице. Петефи прочел им и передал один экземпляр еще совсем «тепленького» нового стихотворения, потом они все отправились поглядеть на выборы комитатского головы — от этого Шандора тоже не удалось отговорить.
Когда они пришли, речь держал один из тех молодцов, с которыми столкнулся Петефи; оратор восхвалял кандидата. Петефи слушал эти знакомые пустые слова: «лучший сын комитата», «славный страж древних венгерских прав», «великодушный благотворитель», «без него мы бы осиротели», «благодаря ему расцвел наш комитат» и пр. и пр. После каждой фразы вся ораза разражалась рукоплесканиями и вопила «виват». Петефи передергивало от возмущения.
— Пойдем отсюда, — сказал он. — Коли глупость с холопством повенчалась, от такого брака только урод и может родиться.
Они пошли погулять в парк. Петефи был мрачен и угрюм, как всегда, когда ему приходилось беспомощно взирать на людскую подлость. «Ничего, придет еще время!» — пробормотал он, но на душе от этого не стало легче.
И он стал читать вслух строчки из стихотворения, написанного им год назад:
Потом они вернулись на постоялый двор. Петефи был по-прежнему зол и мрачен. После Пешта, запрещения журнала — еще и эта раболепствующая дворянская ватага, выборы комитатского головы, подлые речи, оплевыванье всего того, что свято венгерскому народу!..
Друзья заняли столик. За соседним столиком ужинал граф Шандор Телеки[50], самый левый из сторонников реформ. Один из друзей представил графа Шандору Петефи. Услышав фамилию Телеки, поэт пробормотал себе что-то под нос, затем протянул руку:
— Впервые разговариваю с живым графом.
Друзья Петефи оторопели. Что же последует за таким вступлением? Еще, пожалуй, Шандор скажет что-нибудь обидное, а Телеки вовсе не заслужил этого. Телеки улыбнулся — он любил и уважал поэта, — приветливо, сразу перейдя на «ты», шутливо ответил:
— А с дохлым графом уже разговаривал?
— Я сам им был, когда состоял в комедиантах, — бросил Петефи, подчеркивая унизительное слово «комедиант», как называли в то время в народе актеров.
— Ну, дружище, — засмеялся Телеки, — с меня тоже много не возьмешь, я и сам такой одичавший граф.
Петефи смягчился. С «одичавшим графом» властитель поэзии готов был примириться.
Жители городка и окрестная молодежь, прибывшая на выборы комитатского головы, готовились к городскому балу. Петефи стоял у окна своей комнаты и смотрел в сад, отливавший золотом под мягким сентябрьским солнцем. По садовой дорожке гуляли две девушки. У одной из них волосы были коротко подстрижены, а в пору длинных кос и причудливых причесок это казалось очень странным. Одежда девушки была тоже необычна. На ней была мужского покроя жакетка и кофточка, подобная мужской сорочке.
— Вы не знаете, кто эта девушка там, в. саду? — спросил Петефи у приятелей, собравшихся у него.
— Какая? Их там две.
— Вон та, с короткими волосами.
— А!.. Это Юлия Сендреи, дочь эрдёдского управляющего Игнаца Сендреи.
Петефи промолчал, а приятель продолжал поясняя:
— Очень образованная девушка. Она недавно вернулась из Пешта, воспитывалась там в пансионе Тенцель. Отец у нее состоятельный, видный…
— Что ты хочешь этим сказать? — сразу ощетинился Петефи, но продолжал смотреть в окно, не отрываясь.
— Ничего… Я слышал, что отец хочет ее выдать за молодого барона Ураи.
— Отец?
— Да.
— А она?
— Кто?
— Девушка.
— Да при чем тут девушка? Разве она может… Хотя, кажется, она еще не дала согласия.
…Девушки присели на скамейку против окна и что-то очень горячо обсуждали. Петефи смотрел в сад.
— Ты можешь меня познакомить с ней? — спросил он.
— Конечно. Я вхож в семью ее подруги, Мари Тереи, той самой, с которой она разгуливает. Вечером обе будут на балу. Хочешь, я представлю тебя?
— Спасибо, — ответил Петефи.
«…Там, напротив гостиницы, в саду под деревом, увидел я ее впервые в прошлом году, 8 сентября, между шестью и семью часами вечера. С этой мину* ты считаю я, что живу, что существует мир…»
Друзья ушли. Петефи недвижно стоял у окна. Он ни о чем не думал, только какое-то тяжелое чувство легло ему на душу.
Он вспомнил шестнадцатилетнюю белокурую Этельку Чапо — свою первую большую любовь.
…Той порой Петефи жил в Пеште и работал помощником редактора журнала «за хороший венгерский стол и пятнадцать форинтов в месяц». Поэту еще двадцати двух лет не исполнилось, а его уже знали повсюду. Не его самого, конечно, а песни и стихи, которые он сочинил. И все-таки он, творец прославленных песен, вынужден был ютиться в маленькой комнатушке, так как на большую у него не хватало денег. Он покорил уже целую страну (а позднее и весь земной шар), но в личном пользовании имел только крохотную, даже в ясный солнечный день полутемную каморку.
Это было два года назад… Этельку он видел всего лишь несколько раз. Полюбил ее. Но не признался в этом даже ей. «Неукротимый» поэт, таил свои чувства и только бумаге не боялся их доверить.
Кто ж была эта девушка, к которой обращено стихотворение? Мы знаем о ней только то, что она была сестрой Марии Чапо, жены друга Петефи, поэта Шандора Вахота (не следует путать с владельцем журнала Имре Вахотом, нанявшим к себе Петефи в качестве литературного поденщика). Жене Шандора Вахота было пятнадцать лет (девушки в те времена рано выходили замуж). Петефи познакомился сперва с ней. Говорили, что она послужила ему прообразом белокурой Илушки из поэмы «Витязь Янош». Этелька, по воспоминаниям современников, была очень красива, красивее даже сестры. Голубые глаза печально светились на ее бледном лице, золотистые косы короной вились вокруг головы. Девушка приехала в Пешт к Вахотам вместе с матерью после того, как отец ее разорился и покончил с собой.
Можно представить себе, что почувствовал впечатлительный Петефи, увидев эту девушку, на лице которой тенью легла трагическая смерть отца.
Календарь показывал 1844 год. Венгерские поэты собрались на рождество у Шандора Вахота. Пришли I и Михай Вёрёшмарти с женой и Байза. Все веселились, но веселились как-то тихо. Петефи сидел молчаливый. Современники отмечали, что в обществе женщин Петефи был всегда «неловок». Он не хотел и не мог быть ни развязным, ни легкомысленным. Шутить? Вот это можно! Но только так, как шутят дети, — простодушно, от всего сердца. Петефи обменивался иногда взглядом с девушкой, прибегавшей из кухни, где кипела жаркая работа: пекли, варили; в комнату доносилось шипение жира, клокотание вина в кастрюле — это варили глинтвейн. На дворе шел снег, а что может быть приятней в зимний вечер, чем, сидя в теплой комнате, прихлебывать горячее вино! В полночь, по старому доброму обычаю, начали вытягивать бумажные звезды из шляпы. Внутри каждой звезды было написано какое-нибудь имя или изречение. По именам юноши и девушки угадывали своих будущих нареченных, а по изречениям — свою судьбу. Тоненькими пальчиками Этелька вытащила звезду, на которой Петефи написал:
Девушка покраснела и спрятала звездочку с четверостишием в блузку. Было уже далеко за полночь. Гости начали прощаться. Ушли. Вахоты легли спать. А к утру звезда исчезла, пропало стихотворение. Сколько ни искала его Этелька — тщетно. Всю квартиру поставили вверх дном, а звезду не нашли. Девушка загрустила — пропажу звезды сочла дурной приметой. Шандор Вахот помчался к Петефи. Может быть, он взял ее с собой? Нет, Петефи не брал. Он пришел к Этельке, утешал ее и записал ей это четверостишие в альбом. Он уже решил весной жениться на Этельке, но пока молчал. Это была первая большая любовь и у него и у Этельки. Петефи рисовал себе картины будущего. Только такой же большой поэт, как и он сам, мог бы представить себе, сколько и каких чудесных картин создало его жаркое воображение, пока он шагал по заснеженным улицам города или дома смотрел на хмурые стены своей комнатушки. Над засыпанными снегом пештскими крышами ему мерещились уже весенние облака.
Наступил январь. Петефи каждый день приходил к Вахотам. Теперь уже не Мария Чапо казалась ему Илушкой, а Этелька. Он думал, что это всегда так и было. В один из январских вечеров, сидя в своей комнатушке при свете свечи, Петефи склонился над листком бумаги и признался Этельке в любви. Поэт и сам не знал, почему таким грустным вышло стихотворение, почему писалось оно с таким тяжелым сердцем. Ведь, кажется, радоваться бы надо: Этелька существует, Этелька есть на свете и даже живет неподалеку от него, всего несколько улиц отделяют их друг от друга.
На другой день рано утром, еще было почти темно, Петефи понес к Этельке свое новое стихотворение. Войдя к Вахотам, он увидел, что глаза у всех заплаканы. Жена Вахота, глотая слезы, сказала: «Всего лишь несколько часов назад Этелька схватилась за грудь и, крикнув «мама!», упала мертвая».
Из тридцати четырех стихотворений воздвиг Петефи памятник этой трагически скончавшейся девушке. Книгу он назвал «Кипарисовые ветки на могилу Этельки». Петефи горевал, печалился, худел и бледнел с каждым днем. Друзья встревожились, но никак не могли взять в толк, почему так горюет Петефи — ведь познакомился он с Этелькой совсем недавно. Многие считали его горе рисовкой, «поэтической фантазией». Да и в самом деле, откуда было им знать, что творилось с Петефи с тех пор, как он увидел впервые эту голубоглазую красивую девушку, — он ведь целомудренно таил свое первое большое чувство. Кто-то из друзей пытался даже «излечить» его шуткой. Но Петефи сердито оборвал шутника и больше не желал разговаривать с ним. Он становился все угрюмей, мрачней и молчаливей. И только из-под пера его выбегали строчки, полные боли и «муки вспоминания». Он не мог забыть пропавшую навеки рождественскую звезду.
…И в этот предвечерний час, стоя в окне сатмарского постоялого двора, Петефи вспоминал об Этельке. Он смотрел на осенний сад, на девушек, сидевших на скамейке, одна из которых… «Кто ж мог сомневаться в том, что я вправду полюбил Этельку? Только тот, кто каждую неделю влюбляется в другую, а на следующей неделе забывает и о той и о другой. Я создан иначе. Если я кого-нибудь, что-нибудь люблю — будь это родина, родители, друзья, народ, искусство или девушка, — любовь меня заполняет всего. Я не гостиница, где останавливаются на одну или две ночи и потом едут дальше».
С того времени прошло уже два года. Этельки нет на свете. Образ ее заслонила другая девушка. Это произошло год назад. У той девушки были тоже светлые волосы. Она была похожа на Этельку. Звали ее Берта Меднянски.
Однажды весной Петефи поехал из Пешта в Гёдёлле к своему другу и в семье у него познакомился с Бертой. Стояли жаркие дни конца лета. Петефи каждую неделю уезжал на скорых в Гёдёлле. Там он гулял с Бертой Меднянски по огромному парку герцогов Грашалковичей и рассказывал ей про Этельку, точно желая доказать самому себе: «Я верен ей!»
Этим стихотворением прощался он с Этелькой. Новая любовь захватила его целиком, и новыми стихами — «Жемчужинами любви», как он назвал Их сам, — откликнулся Петефи на это новое чувство.
И потом с нежностью, на какую способен только очень сильный человек, написал он одно из прекраснейших любовных стихотворений;
Петефи решился написать письмо отцу девушки и просить ее руки. Тщетно предупреждали его: «Не посылай ты этого письма, Шандор, ведь все равно тебе откажут. Отец Берты дворянин, барон, он кичится своими дедами и прадедами!» Петефи все-таки отослал письмо. Ответ пришел. Краткий и глупый. «Ни за актера, ни за поэта дочь не выдам. Мне запрещают это мои предки». Берта была тоже согласна с отцом.
«Предки! Деды!» — воскликнул Петефи.
И не прошло месяца, как поэт написал злое, саркастическое стихотворение о венгерском дворянстве, стихотворение, определившее перед революцией 1848 года целую эпоху в развитии общественного самосознания Венгрии:
А была ли взаимосвязь между этим стихотворением и решением барона Меднянски, мы предоставляем определить критикам, историкам литературы и прочим сердцеведам.
«Дедами своими гордитесь! — воскликнул в ярости Петефи. — Не только ваши деды, но и вы сами сгниете в могилах, мои стихи все еще будут жить! Да, но вы зато богаты! Так вот, помните: никто не богаче меня на этом свете. Откуда знать вам, гордящимся своими предками, имениями и деньгами, что такое настоящее чувство, которое нельзя купить?»
…Прошел еще год. И сейчас, стоя у окна своей комнаты на сатмарском постоялом дворе, Петефи тихо запел песню, тогда уже полюбившуюся всей стране:
…Девушки покинули сад. На скамейку, где они сидели еще несколько минут назад, кружась, слетел пожелтевший лист платана. Все остальные листья деревьев были еще зелены. По ветвям пробегал иногда предвечерний ветер, и ветви, словно завидев опавший пожелтевший лист, вздрагивали и теснее прижимались друг к другу.
Он был в комнате один. Товарищи давно ушли, условившись встретиться на балу.
Он тщательно чистит щеткой черную венгерку, поправляет воротничок сорочки и даже заглядывает в зеркало — приглаживает волосы. Он шагает по комнате, как всегда в предчувствии чего-то нового, неизвестного.
На балу все уже в сборе, когда в промежутке меж двумя танцами в дверях появляется Петефи. Его приятель сидит рядом с Юлией и Мари, но, увидев входящего Шандора, вскакивает, спешит ему навстречу и подводит к девушкам.
Его представляют Юлии. Девушка бросает взгляд на молодого человека.
«Несколько выше среднего роста, стройный, пропорционально сложенный, с непринужденными движениями; густые короткие черные волосы топорщатся, и во время разговора он часто приглаживает их правой рукой; лоб у него не очень высокий, меж бровей залегли две морщины. — признак глубоких дум; красивые черные брови, сверкающие глаза. Когда он говорил, глаза его горели»[52].
Имя Петефи известно Юлии давно, стихи его она читала, но они ей не очень нравились. Но вот уже два дня, как этот молодой человек, так храбро отразивший нападки разъяренных дворян, служил предметом всех городских толков. Девушка высоко ценила мужскую отвагу и поэтому с нетерпением ждала знакомства с Петефи. Однако в первое мгновение Юлия была разочарована. Ей казалось, что прославленный поэт и храбрый мужчина непременно должен быть высоким, могучего телосложения человеком, к тому же светским, ловким в танцах и щедрым на комплименты. А Петефи и моложе, чем она представляла себе, и сидит возле нее молча, да и танцевать-то не умеет. Иногда он поглядывает на девушку, что-то говорит ей. Затаенный внутренний огонь ощущается во всех его словах. Он говорит горячо, но тихо, будто не желая, чтобы в зале кто-нибудь, кроме Юлии, расслышал его слова. И вот она начинает понимать, что этот поэт, которого изображали грубым и неотесанным буяном, на самом деле очень скромный, обаятельный, хотя и не светский человек. Он знает языки, превосходно знаком с мировой литературой, историей. Его замечания, как ураган, выворачивают с корнем некоторые привычные для Юлии взгляды и представления. Он не сыплет комплиментами, как остальные молодые люди, но смотрит он так, что кажется, вот-вот с его губ сорвутся самые простые и вместе с тем самые волнующие слова: «Юлия, я люблю вас».
Девушке впервые повстречался такой человек. В Пеште она вращалась в «изысканном» обществе, за ней ухаживали «настоящие кавалеры». А Юлия была тщеславна и готова на все, лишь бы привлечь к себе внимание. Начитавшись модных в то время романов Жорж Занд, она восприняла их идеи так, что стала одеваться по-особому и вести себя с развязностью, несвойственной девушке, и все ради того, чтобы стать предметом всеобщего удивления.
Сейчас у нее уже голова идет кругом. Она забыла о заранее намеченной роли, временами вся заливается румянцем, но, стараясь скрыть свое смущение, снова быстро принимает независимый вид. За ней ухаживает знаменитый поэт Петефи. Да что там поэт… Это бы еще пустяки. Но он растревожил весь город, и этот «герой скандала» сидит рядом с ней и говорит о любви.
Все у нее спуталось в голове. Как же забыть, что она живет в провинции, в глуши, — правда, в Эрдёдском замке, но ведь за замком одни жалкие деревушки с убогими мазанками. Здесь и словом-то почти не с кем перемолвиться и по душе не с кем поговорить. Уехать бы! Но как? Выйдешь замуж за барона Ураи — все равно здесь останешься и будешь надь-каройской «знатной дамой». А что в этом занятного? Вышла бы замуж за знаменитого человека, он увез бы ее в столицу, в Пешт, где живут и другие знаменитости, или за границу бы повез. Там каждый день сулит что-нибудь новое, прекрасное, такое, что бывает только в романах. А что делать здесь? Стать писательницей, как Жорж Занд? Но разве это просто решить? Ведь и так настроение меняется по десять раз на дню — то плачешь, то смеешься беспричинно, иногда одно и то же слово развеселит тебя, в другой раз плакать заставит.
Такие мысли кружились в голове девушки.
Будь у отца ее шесть дочерей и в шесть раз меньше доходов, быть может, Юлия своей красотой, умом и способностями добилась бы уважения окружавших ее людей. А так все относились к ней как к единственной дочке, неуравновешенной и избалованной. Петефи этого, конечно, не замечал. Чувство уже захватило его целиком.
Он смотрел на девушку. Совсем иная, чем Этелька. Темные волосы, черные сверкающие глаза; глядят они то мечтательно, то игриво, то холодно, в них светится то мягкость, то упорство. Над красивым лбом темные волосы, разделенные посередине пробором; губы всегда чуть надутые и такие красные, точно их вырезали из теплого живого рубина или из большой влажной вишни; когда она говорит, между губами поблескивают белые маленькие зубки, а голос… Петефи кажется, будто этот голос давно ему знаком, будто он уже слышал его: «Юлия!»
А Юлия, вновь овладев собой, задала вопрос:
— Не правда ли, поэты очень быстро влюбляются и так же скоро остывают?
Петефи досадливо машет рукой. Ему не хочется прямо отвечать на вопрос Юлии — он говорит о Петрарке, о его великой любви к Лауре, о Данте, который только раз или два видел Беатриче, но пронес ее образ через всю свою жизнь.
Юлия вздыхает, молчит мгновение, глаза у нее затуманиваются, потом она говорит задумчиво:
— Возможно ли, чтобы кто-нибудь по-настоящему мог полюбить за несколько часов?
Петефи поражен: он и не заметил, что уже почти объяснился девушке в любви. Теперь и он замолкает на минуту, но потом смелеет:
— За сколько времени полюбил Ромео Джульетту? Она ведь тоже была Юлией, — добавляет он тише. — За сколько времени?
— Я забыла, — отвечает девушка.
— За одну минуту, за одну-единственную минуту! — слышится горячий, приглушенный голос Петефи, и до Юлии доходит скорее этот голос, чем смысл его слов. Кто-то останавливается возле них, кланяется Юлии, приглашая ее на танец. Девушка тихо отвечает, что она устала.
— Я не знаю человека более преданного в любви, чем я, — говорит Петефи без всякого перехода, но так тихо, что Юлии приходится очень прислушиваться, чтоб разобрать смысл его слов. — Любовь я считаю величайшим даром и с презрением смотрю на тех, кто не ценит этого дара, кто любит только частичкой сердца.
Они так быстро достигли опасного водоворота, что девушка вновь вышла из своей роли. Испуганно, прерывистым голосом она просит, умоляет его:
— Поговорим о чем-нибудь другом!
Петефи замолкает. Только сейчас замечает он испуг и растерянность на лице девушки.
Петефи было тогда двадцать три года. Юлии не исполнилось еще и восемнадцати.
В зале гремит музыка, пред ними мелькают пары. Юлия смотрит на танцующих и принужденно улыбается. Молодой человек, который приглашал ее танцевать, принимает этот взгляд за одобрение, снова подходит, кланяется. Руки Юлии дрожат, словно прося о помощи; потом девушка встает, опускает руку на плечо своего кавалера. Когда она проносится в танце мимо Петефи, то бросает ему взгляд, и в нем легкий упрек: «Видишь, если б ты умел танцевать, сейчас мы вместе кружились бы!» Она по-прежнему смущена, но в глазах ее пробивается восхищение, как она ни старается спрятать его.
«Они прибыли в субботу, в полдень, — пишет Юлия своей подруге о следующей встрече: — Петефи, Эндре Пап и Ришко. И уехали в шесть часов. Мне как-то очень не по себе: Петефи смотрит так страстно! Право, если б я не так хорошо знала себя, то могла бы подумать, что влюбилась… а так я утешаюсь тем, что все это пройдет…»
Они снова встретились, и Петефи уже совершенно открыто и просто признался ей в любви, прочел свои стихи:
Юлия продолжала противиться, как и в первый вечер на балу:
— Я боюсь, что ваши чувства скоро угаснут. Как быстро они прилетели, так быстро и улетят.
Через три недели после первой встречи она записывает в свой дневник: «О, только бы я могла любить его такой любовью, какой он достоин!» Теперь Юлии кажется уже, — что она самоотверженная женщина, которая старается быть достойной своего избранника.
Затем в чувствах Юлии наступает новый поворот. «Я убеждена, — пишет она в своем дневнике, — что еще горько буду сожалеть о каждой минуте этих дней, что я провела с ним».
По этому стихотворению можно точно понять, что Юлия сказала Петефи: «Я никогда никого не буду любить!» Изречение, правда, не новое, но трудно сказать, играла ли девушка, или ей это на самом деле так казалось. Желала ли она этим еще больше разжечь Петефи, или убедиться в постоянстве его чувства? А может быть, она попросту была еще очень молоденькой и говорила первое попавшееся, что ей взбредало на ум?
А у Петефи одно любовное стихотворение рождалось за другим.
В этом вулкане чувств счет времени был совсем иной, чем у окружавших его людей; у Петефи за несколько часов рождалось столько чувств, что другим людям потребовалось бы несколько месяцев, чтобы справиться с ними.
Стихи о самой человечной в мире любви рождались непрестанно, и какой бы ни стала впоследствии Юлия Сендреи — читатель это увидит сам, — вечная благодарность ей за то, что эти прекраснейшие любовные стихи распустились под лучами ее девичьей прелести, ее юности.
Стихи, стихи, стихи! Какие же нам выбрать еще из них? Задача нелегкая — ведь все они светят, точно путеводные звезды, все они показывают юношам и девушкам путь к истинной любви.
Песни Петефи! Автор этих строк слышал их еще в детстве. Одну из них пела ему мать, да и он сам, не замечая того, частенько напевает ее и сейчас, в дни, когда уходит лето и начинают моросить тихие сентябрьские дожди:
И с этими песнями возвращается детство, даже юность матери, возвращается Петефи. Так и кажется, будто он, Петефи, стоит рядом и смотрит в окно. Глядит на осенние тучи, и все новые и новые чувства обуревают его. Он хочет быть во всем единым с любимой женщиной, он даже годами желает с ней сравняться — его тяготят и те пять юношеских лет, на которые он старше Юлии.
Но поэт, охваченный любовью, остается верен себе. Не только любовь к девушке существует в мире — вот он, томящийся в неволе венгерский народ, да и все народы мира! Они-то несчастливы. Так может ли быть безмятежно счастлив Петефи?
И как-то осенним октябрьским днем Юлия призналась Петефи в том, что любит его, но сказала, что им надо подождать до весны, потому что отец хочет выдать ее замуж за другого, за барона Ураи. Да и, кроме того, по ее мнению, чувства надо испытать; сама Юлия тоже хочет убедиться в том, насколько глубоко она полюбила.
26 октября она записывает у себя в дневнике: «Теперь я еще яснее вижу, насколько лучше, прекраснее быть мечтой поэта, воодушевлять, вдохновлять его, оставаясь в блестящем ореоле дали».
Юлия на самом деле не знала, что ей делать. Она и боялась, наверно, а может быть, просто устала от этого закружившего ее водоворота чувств. Ей было, конечно, лестно, что в нее влюбился самый большой венгерский поэт, но сама она не могла еще полюбить его по-настоящему. И времени прошло слишком мало, да и переменчивость настроений мешала. Этим прежде всего и объяснялись ее колебания, ее нерешительность. К тому же молодую девушку могла утомлять непривычная лавина чувств поэта, быть ей в тягость по временам. Но, кроме того, Юлия еще и играла в холодность, как начитавшаяся романов избалованная дворянская девица, кокетничающая своей капризностью и загадочностью. Останавливало ее, конечно, еще и то, что у Петефи не было твердого общественного положения и заработка.
А Петефи рассказывал ей обо всем со свойственной ему откровенностью. До той поры Юлия понятия не имела о том, что такое расходы по хозяйству, что значит платить за квартиру, одежду и еду; если она и слышала изредка о подобном, все равно ей, избалованной девице, не было до этого дела. И вот теперь они сидят перед замком в парке, и между двумя стихотворениями, находя это совершенно естественным, Петефи толкует о том, на что они будут жить. Ну точь-в-точь заботливый отец семейства! Юлия поражена прозаичностью Петефи.
— Я продам все свои стихи и получу за них две-три тысячи форинтов. Распределю их так, чтоб на каждый месяц вышло по сто форинтов. Мы снимем квартиру из трех комнат…
Юлия в полном смятении. Как ни странно, но оказывается, что поэт не только стихи пишет, не только в небе витает, но и ест, и пьет, и живет где-то, и покупает сапоги, и получает за свои стихи деньги, притом небольшие. Такова, значит, жизнь поэта? Такова будет и семейная жизнь? Стоит ли спускаться с небес в двухкомнатную меблированную квартирку, в существование, полное забот, в житье на сто форинтов в месяц?
И Юлия не дает Петефи решительного ответа. Петефи сердится. Десять дней не приходит к ней, но, когда он уезжает, Юлия машет ему из окна белым платочком, а белый цвет — цвет надежды. Петефи оживает.
В то время как Юлия считала брак «холодной повседневностью» и предпочитала вдохновлять поэта, «оставаясь в блестящем ореоле дали», Петефи восторженно писал в своих «Путевых письмах»:
«Я покинул Надь-Карой, и как его покинул! Любимый самой достойной девушкой, которую когда-либо сотворил господь». Всеми прекрасными, благородными чертами, свойственными женщине, одарил Петефи Юлию, и так щедро, так искренне и восторженно, что даже столетие спустя дух захватывает от этой беспредельности чувств.
А Юлия в это же время пишет о себе в своем дневнике следующее: «Разве удивительно, если такая девушка, как я, видя, что чистое счастье ее погибло, быть может, безвозвратно, насильно погружается в шум мирской и стремительно пускается в погоню за всеми наслаждениями, какие может предоставить ей мир; если она легкомысленно выслушивает признания в любви юных ловеласов, жадно принимает их клятвы, понимая прекрасно их лживость и радуясь все-таки малейшему интересу, проявленному к ней…»
В отношениях к Петефи Юлия рассчитывает, вымеряет, а Петефи, как всегда во всем, с открытой душой идет навстречу своей любви.
«Я чувствую себя, как человек, взглянувший на солнце. Куда бы он потом ни посмотрел — пусть даже закроет глаза, — он повсюду видит солнце».
В это же время, 14 ноября, Юлия записывает в своем дневнике, что она борется с «бесчувственными рассуждениями холодного разума», который силой сковывал ее чувства. И в оправдание она добавляет: «Какой-то голос в душе говорит мне о том, что меня удерживала добродетель».
Дневники Юлии удивляют особенно тем, что в них нет ни единого слова о стихах Петефи, в них говорится только о его славе, причем не упоминаются даже те стихи, которые поэт посвятил ей. Только раз узнаем мы из дневников, какое впечатление произвело на нее стихотворение. «Я чуть с ума не сошла, когда прочла его, — пишет Юлия. — О ком же думал он, когда создавал это творение?» Но, увы, это было написано не о стихотворении Петефи, а о бездарных, сентиментальных виршах Ришко.
А в письмах и стихах Петефи повсюду возникает образ Юлии. Каждым стихотворением он прославляет любовь, но счастье любви никогда не заслоняет для него счастья борьбы за свободу. Сразу вслед за тем, что он написал любовное стихотворение нежнее дыханья весеннего ветерка, ласковее прикосновения материнской руки:
он пишет стихотворение — прекраснейший девиз человека и революционера:
И вслед за ним, точно приближающиеся раскаты грома, прозвучали строки гениального стихотворения «Одно меня тревожит…», которым Петефи вступил в бой за «мировую свободу под красным знаменем восстания». Этими творениями завершается для него 1846 год. И в первые же дни нового, 1847 года он, нежнейший влюбленный, сердце которого «трепещет» при одном воспоминании о любимой, гордо закинув голову, приносит присягу смелости, мужеству и свободе:.
Нам думается, что это стихотворение заключает первое действие любви Петефи к Юлии, и с него же начинается другая эпоха в поэзии Петефи, приведшая его прямо к революции 1848 года.
Грустные вести ожидали его в Пеште. Отца, «доброго старого трактирщика», предали суду за то, что он задолжал несколько сот форинтов. Был уже назначен и день продажи с торгов его имущества. Стало быть, отец с матерью могут очутиться на улице.
Надо раздобыть денег, и притом немедленно! Но к кому обратиться? Петефи мысленно перебрал всех друзей, которые были бы рады помочь ему. Но все они так же бедствовали, как и он сам… «У венгерского писателя никогда не было в запасе денег больше чем на четыре дня вперед», — с горечью писал Янош Вайда. И другие тоже вспоминали, что, например, приятель Петефи, Альберт Палфи, не ужинал обычно, ибо на это у него денег не хватало; второй приятель Петефи, Альберт Пак, сам чинил и латал свою одежду. Это в то время, когда какой-то венгерский магнат, катаясь в своем экипаже по Парижу, выкинул шкатулку с драгоценностями, ибо она мешала ему протянуть ноги. А в шкатулке той драгоценностей было на двадцать тысяч форинтов. Шла молва и про одного венгерского графа, который, принимая у себя в замке императора, зажигал свечи в спальне его величества тысячефоринтовыми банкнотами.
После долгих размышлений и колебаний Петефи решился обратиться за помощью к «одичавшему» графу Шандору Телеки, с которым, как мы помним, он познакомился и подружился во время надь-каройских выборов. Петефи написал ему письмо:
«Милый тезка!
Тебя должна постигнуть великая печаль, поэтому советую быть к ней готовым. Как неизбежна смерть, так же и тебе не избегнуть дать мне шестьсот пенгё-форинтов. Впрочем, можешь дать мне в том порядке, как тебе заблагорассудится. Главное, двести пенгё-форинтов отправь немедленно, можешь их послать, даже не дочитав этого письма до конца, а четыреста пенгё-форинтов пришли в марте к пештской ярмарке. Возвращать же я буду их по двести пенгё-форинтов в конце каждого года, так что через три года мы будем в расчете. Милый друг, я прошу об этом серьезно, и теперь ты сможешь доказать свою человечность. Впервые в жизни обращаюсь я к магнату, и ты пощади меня, ведь если откажешь, то краска стыда изроет мое лицо хуже оспы. А впрочем, я обратился к тебе не как к магнату, а как к своему другу. Ты можешь ответить, что у тебя нет денег… Найдутся, коли захочешь! Тот, кто швыряет по тысяче форинтов цыганам, всегда сможет одолжить мне шестьсот пен-гё. В подарок я их все равно не приму, гордости у меня, слава богу, еще довольно. Не сомневаюсь, что просьбу мою ты выполнишь охотно, причем двести пенгё вышлешь мне немедленно. Не будь у меня крайней нужды, я не стал бы прибегать к этому…»
Никогда не работал он столько, как в 1847 году, а ведь он и раньше не терял времени даром. За один этот год он написал сто пятьдесят семь стихотворений, три поэмы — «Шалго», «Судья», «Глупый Ишток», двадцать «Путевых писем», два больших рассказа — «Дед» и «Пегий и Буланка»; в последних он выступил в качестве одного из зачинателей венгерской реалистической прозы. Трудно представить себе даже, когда он все это успел, когда он ел, пил и спал. Ведь одновременно он вел и ожесточенную борьбу с врагами народной литературы, неустанно изучал историю французских революций и восемь месяцев подряд воевал с упорствовавшим отцом своей любимой.
Готовя стихи к печати, Петефи еще в начале года переписал их в одну тетрадь. Собралось четыреста пятьдесят девять стихотворений — большая книга, которую он посвятил Михаю Вёрёшмарти «в знак уважения и любви». Затем начались переговоры с издателями. Те пытались надуть его и надули, конечно. Первый издатель, к которому обратился Петефи, отказался выпускать сборник, потому что поэт не поцеловал руку его жене. Второй издатель, прослышавший, должно быть, об отказе, предложил Петефи за весь сборник пятьсот форинтов, то есть не больше форинта за стихотворение. Что же оставалось Петефи? Пришлось согласиться. Но он написал предисловие к своей книге, одно из прекраснейших предисловий не только в венгерской, но, думается, и в мировой литературе.
«Нынче у меня праздник! — этими словами начинается предисловие, которое к сожалению, так и не было напечатано в книге. — Сегодня, 1 января 1847 года, мне исполнилось 24 года, я достиг совершеннолетия. У меня вошло в привычку в день Нового года (тем более, что он является и днем моего рождения) перебирать в памяти весь истекший год; но сегодня я представил себе не только этот год, а и всю мою жизнь, весь мой писательский путь. Быть может, будет не лишним, если я в виде предисловия к полному собранию стихотворений, подготовляемому мною сейчас к печати, изложу свои размышления о том периоде моей жизни, когда я впервые вступил в общение со своими уважаемыми читателями; а изложу я их с той искренностью, которую не приемлет лицемерный мир. Но ведь это для меня не препятствие. Вместо десяти друзей, купленных лицемерием, я предпочитаю приобрести искренностью сотню врагов. О! Искренность в моих глазах великое достоинство, так как меня одарил ею мой ангел: он постелил ее простынкой в мою колыбель, и я унесу ее саваном с собой в могилу…
В нашей литературе еще ни о ком мнения критиков и читателей столь сильно не расходились, как обо мне. Большая часть публики решительно стоит за меня, большинство критиков — решительно против меня. И раньше и сейчас я долго размышлял: кто же прав. И раньше и сейчас я пришел к выводу, что права публика. Публика! Я понимаю под этим читателя, а не театральную публику: между читателем и зрителем существует большая разница… Итак, я говорю, что читающая публика может заблуждаться, пренебречь кем-нибудь по той или иной причине, но если она кого-нибудь удостоила вниманием и полюбила, пусть и не в полной мере, то такой человек бесспорно заслуг-жил ее любовь, если, конечно, это не ошибка целой эпохи, а нынешняя эпоха едва ли так ошибается.
Признаюсь, год назад мне было очень не по себе, оттого что критики предавали меня анафеме (они сами так называли свои суждения). Они доставили мне немало горестных часов. Но сейчас, слава богу, я уже излечился от этого недомогания и добродушно улыбаюсь, когда вижу, что эти титаны силятся одолеть меня то Оссой, то Пелионом. Более того, каждому из них кажется, что он Юпитер, что от взмаха его ресниц содрогается Олимп. Однако эти Юпитерчики могут помахивать даже всеми своими космами, а Олимп, все-таки остается недвижим.
Но почему же ведется против меня эта война не на жизнь, а на смерть? Потому, поверь мне, уважаемый читатель, что они хотят одного: уничтожить меня. Да, и я знаю почему! Но публика не знает и благодаря мне не узнает никогда. Я мог бы перечислить все те гнусные причины, которые побуждают их выступать против меня на поле брани, напялив на голову шлем чистейшей доброжелательности; но я не сорву с их головы этот шлем, чтобы читателя не охватило отвращение при виде мерзких морд, ухмыляющихся под блестящими воинскими головными уборами. Да и вообще какое мне дело до отдельных личностей и до того, почему они заявляют то или иное? Я буду говорить только об их словах, об их утверждениях. И тут у меня возникают некоторые замечания, поскольку их нападки частью злобны, а частью лживы.
Я не стану защищать честь своей поэзии. Если мои стихи нуждаются в защите, то ведь все равно защищать их было бы тщетно. Если же они не нуждаются в этом, то защищать их излишне… а кроме того, я искренен, и у меня есть чувство собственного достоинства, но чтобы я был нескромен… Нет, это я отрицаю. Итак, я упомяну только о четырех обвинениях, которые чаще всего предъявляют мне, а именно: что в моих стихах плохие рифмы, неправильные размеры, что они неуравновешенны и подлы». И далее Петефи, отвечая на все эти воистину подлые обвинения, развивает свои взгляды на народную поэзию и на свой век, подлинным сыном которого считает он самого себя. С этими высказываниями Петефи мы уже знакомили читателя.
Книга стихов, к которой предполагалось предисловие, вышла 15 марта 1847 года. Ее тут же расхватали. «Из всех поэтов нашего времени, — писал об этом сборнике один из критиков, — именно Петефи умеет передать на своей лире все многообразие чувств: страсти, хмеля, любви к родине, горя, тоски по воле, материнской любви, — и все с одинаковым жаром, одинаковой силой. Каждое слово его обращено к сердцу читателя, потому-то и сочувствуют ему все лучшие люди, не утратившие еще сердец…» «Что написать о Петефи? — читаем мы у другого критика. — С именем его связаны великие идеи… он придал нашей поэзии истинные национальные черты… Кто, кроме него, заглянул так глубоко в жизнь народа, чтобы найти слова для выражения его радостей и печалей?»
С Юлией он переписывался только тайком. Отец запретил дочери писать Петефи и получать от него письма. Как и бывает в таких случаях, когда любящие разлучены и общаются только тайно, возникли разные и неизбежные недоразумения и неприятности. В начале года какой-то «доброжелатель» распространил слух, будто Петефи, глумясь, показывал «мои письма моим знакомым, — жаловалась Юлия в своем дневнике. — О, если б это было не поздно, если б я могла еще вырвать из сердца даже воспоминания о нем!» Нечего говорить, что Петефи никому не показывал писем Юлии, а как раз в это время опубликовал стихотворение, заканчивающееся словами: «Если ты любишь, стократно благослови тебя бог». Прочитав его, Юлия ответила в двух словах: «Стократно — Юлия». Но «доброжелатели» не унимались. Кто-то растрезвонил, будто Юлия выходит замуж. Тогда Петефи послал Юлии через ее подругу Мари Тереи свою недавно вышедшую книгу и попросил Мари пожелать Юлии от его имени «счастливого супружества». Теперь Юлия пришла в недоумение. Кто ж это выдумал, что она замуж выходит? В апреле она записала у себя в дневнике: «…за что мне столько страданий?.. Ведь я ничем против тебя не согрешила…» И она послала привет Петефи. Поэт ответил Юлии стихотворением:
А Юлия, заточенная отцом в замке, могла отвечать Петефи только в своем дневнике: «…люблю тебя безгранично, больше, чем это можно выразить словами… Теперь моя судьба уже в твоих руках… Мари, ангел мой, помоги, не дай погибнуть…»
Как и бывает в таких случаях, на помощь пришла подруга Мари Тереи. «Адресованную мне книгу, — писала она Петефи, — я получила и переслала Юлии… Мы с Юлией так дружны, что читаем в душах друг у друга, мы делимся с ней своими чувствами, и поэтому я знаю, как горячо вас любит Юлия… Вы сами должны наладить то, что испортили своим долгим отсутствием, приезжайте как можно скорее. Вы будете счастливы, ибо ваше присутствие осчастливит Юлию. Знаете ли вы, почему Юлия не отвечает на ваши письма? Потому, что она обещала это своему отцу… Можете себе представить, как она страдает… Родители ее готовы на все, лишь бы Юлия отказалась от вас. Но любовь ее сильна, и не такие еще испытания может она выдержать. Никому не под силу оторвать друг от друга горячо любящие сердца… стало быть, приезжайте…»
Петефи принял решение. Прежде всего он написал письмо отцу Юлии, в котором снова просил руки дочери. Пришел отказ. Тогда Петефи отправился в Эрдёд на скорых.
Свою признательность Мари Тереи он выразил позднее в прекрасном стихотворении.
Отец Юлии, Сендреи, управляющий имением того графа Карой, «прадед которого был изменником родины», пришел в ужас при одной мысли о том, что Петефи может стать мужем его дочери. Он принадлежал к числу тех венгерских дворян, которые если даже и доброжелательно относились к поэтам, однако не желали входить со «стихоплетами» ни в какие родственные отношения. Ну, был бы Петефи, допустим, таким поэтом, как Даниэль Бержени[53], который проживал в своем поместье, занимался хозяйством и на досуге писал стихи, тогда б совсем другое дело. У каждого помещика своя фантазия: один охотится, другой в карты играет, третий пьет. Ничего не скажешь, в поэзии тоже можно найти забвение, — к тому же она дешевле и карт и псовой охоты. Правда, настоящий помещик редко предается подобным забавам, ну, а уж коль взбрела в голову такая прихоть, — что поделаешь, разные бывают у человека причуды, и бог ему за это судья! Главное, чтобы было именье. А Петефи? Что есть у Петефи? Вся его жизнь — сплошной скандал: то он бродяжничал, то объезжал города с комедиантами, то в солдатах служил, и, глазное, родился-то он в лачуге, и, вместо того чтобы стыдиться этого, он еще кичится и говорит, что хочет перевернуть весь мир! Вот и здесь, в Надь-Карое, какой он учинил скандал. Состояния у него никакого, службы тоже, да он за нее и браться-то не хочет. Если бы и захотел, так кто ж возьмет к себе такого бунтовщика? А дальше что получится из него? Ну, напишет новые стихи… и что с того? Все свое движимое и недвижимое имущество взял, связал в узелок и пошел дальше, в другую меблированную комнату. Нет! На такой брак состоятельный человек никогда не согласится. Не для того он вырастил дочку. А Юлия, вот сумасбродка! Всегда была не как все. А теперь своей идеальной душой не может даже распознать, что господин Петефи хочет жениться на ней из-за приданого. «Погоди… погоди… я его испытаю… хе-хе… Я скажу ему, что ни крайцара не дам в приданое. Вот этой-то миной я и подорву их женитьбу… Тогда Юлия сама увидит, с кем она имеет дело…» Что и говорить, умный человек был Игнац Сендреи!
Стоял май, лучшее время года, когда в природе все так молодо Приехав в Эрдёд, Петефи прочел сперва у Мари Тереи дневник Юлии, узнал из него все, что хотел узнать, и прямо направился в контору Сендреи.
— Сударь! Я лично приехал просить руки вашей дочери, — начал Петефи без всякого вступления, как только вошел.
Сендреи даже не поднялся из-за стола.
— Я уже написал вам, что не согласен.
— А Юлия?
— Что — Юлия! Я отец, я и решаю.
— И вам не стыдно, сударь! Разве Юлия ваша холопка?
Сендреи вспыхнул:
— Я не потерплю, чтобы в моем доме так со мной разговаривали!
Петефи шагнул к нему:
— Я увезу вашу дочь и ни вас, ни вашего дома больше не увижу.
— Убирайтесь вон!
— Сударь! Ваше счастье, что вы отец моей любимой. А то после этого я с вами поговорил бы по-иному! — крикнул Петефи. — Впрочем, запомните, что все равно будет по-нашему.
Сендреи вспомнил про свою «мину». «Ее я оставлю напоследок, — решил он, — тем сильнее она взорвется». И неожиданно заговорил в другом тоне. Казалось, что он преодолел свое возмущение. Задумчиво барабаня пальцами по столу, он сказал:
— Хорошо! Я прошу неделю на размышление. Свое решение я сообщу письменно. А сейчас я требую, чтобы вы покинули Эрдёд.
После разговора с поэтом отец немедленно отправился к дочери. Он уговаривал ее, но тщетно. Юлия оставалась непреклонной. Отец тоже не сдавался. О Петефи что и говорить.
В душе его царило полное смятение. Он столкнулся с отцом своей любимой, с отцом, который по-своему любил дочь, а относился к ней, как помещик к холопке. Но ведь Сендреи вовсе не составлял исключения. Такие отцы, как он, часто встречались в старой Венгрии.
Юлия же окончательно решилась на замужество. Она «думала так, — писал Эндре Ади в своем труде «Петефи не примиряется», — достаточно того, что Петефи унесет ее в городскую жизнь с ее лихорадочностью, сенсациями, свободой, мужчинами, победами. И когда Юлия согласилась вверить Петефи свою драгоценную жизнь, думая, что любит одного его, тогда она, в сущности, вернулась к тому, что ей подсказывали инстинкты, к тому, что один только Петефи может увести ее туда, куда влекут ее мечты».
В ожидании ответа Петефи уезжает на неделю в Надьбаню. Там он спускается в шахту, видит бесправную, тяжелую жизнь шахтеров, видит и здесь угрожающий перст власти и денег. Это еще более разжигает его ненависть к угнетателям, и обида, нанесенная лично ему, представляется лишь малой частицей тех обид и оскорблений, какие выносит человек труда.
«Нет, должно быть, тяжелее жизни шахтеров. Роются, роются эти бедные кроты вдали от солнечного света, вдали от зелени, от природы, и так до самой смерти, — пишет он в своих «Путевых письмах». — А для чего? Чтобы жены и дети их жили впроголодь, прозябали, чтобы роскошествовали чужие жены и дети».
Он посещает и стеклодувню.
Один из современников Петефи так рассказывал об этом позднее: «Взгляд Петефи сразу остановился на бледных и измученных стеклодувах, выдувавших бокалы и бутылки, с помощью которых приносили мы жертвы богине веселья и кутежей. Петефи тут же выпалил социалистически-коммунистическую речь a la Луиза Мишель, и хозяин стеклодувни остался премного доволен тем, что рабочие его понимали только по-румынски».
Еще и недели не прошло, а Игнац Сендреи уже отказал поэту.
«Ах, какая сумятица у меня в голове! — писал Петефи. — Да и неудивительно: события проносятся через меня, словно кони, сверкая подковами; душа моя горит и истекает кровью, будто ее пронзили сотней кинжалов, а потом швырнули в пасть вулкана. Не на жизнь, на смерть борюсь я за свое будущее счастье, За любимую…»
Управляющий имением знал, что Петефи появится снова, и ждал его, приготовив «мину». Действительно, Петефи опять примчался в контору. Господин Сендреи медленно, с расстановкой сказал ему:
— Значит, вы не согласны отказаться от Юлии? Хорошо! Пусть же тогда Юлия выбирает между вами и мной Но одно… я могу сказать… заранее: ни гроша приданого, ни одной сорочки я ей не дам. Юлия может уйти… в том, что на ней надето.
— Это ваше последнее слово? — тихо спросил Петефи и даже в лице переменился.
Сендреи не понял смысла этой перемены. Его охватило ликование.
— Да. Последнее.
— И вы дадите честное слово, что не измените своего решения? — продолжал Петефи еще глуше и, побледнев, ждал ответа.
Сендреи был уже почти не в силах сдержать свое-. го ликования. Он ответил твердо и решительно:
— Даю честное слово дворянина, что не изменю своего решения.
Теперь ликующими криками разразился Петефи, он пытался пожать руку Сендреи.
— Спасибо, сударь мой! Тысячу раз спасибо! Мне-то ведь, кроме Юлии, ничего не надо. Я знаю, что ей тоже только я и нужен.
Сендреи отдернул руку — он весь дрожал от злости:
— Уходите… уходите!..
И когда сияющий, счастливый Петефи вышел, Сендреи, уставившись в пол тупым взором, пробормотал:
— Сумасшедший! Настоящий безумец! Бедная моя дочь!
«Я счастлив! Навеки! — писал Петефи в своих «Путевых письмах». — Ночь, лунная, звездная, тихая ночь. Ни звука, ни шороха… Только соловей поет… это сердце мое!
Славная, славная девушка! Тебя искал я с самой юности моей. Приближаясь к каждой женщине, я склонялся ниц и боготворил ее, думая, — что это ты. И, только стоя уже на коленях, замечал, что это не ты, что вместо истинного божества я боготворил идола… Тогда я подымался и шел дальше. И, наконец, нашел тебя. Ты — сладостная капля, исцелившая мою душу, которую так долго жгла и сушила своим зельем отравительница-судьба. Слава богу, противоядие пришло не слишком поздно.
Славная, славная девушка!
Ей предстояло выбрать между родителями и мной.
Она избрала меня.
Она, кого родители берегли как зеницу ока, с самого детства предупреждая и исполняя все ее желания, никогда не сказав ей дурного слова… А кто был я? Неведомый пришелец, которого забрызгали грязью предрассудки и стрелами исколола клевета… Я даже не успел сказать ей: «Я не такой, каким кажусь, каким мир хочет видеть меня!» И все-таки она избрала меня! О, в этой девушке живет сердце, которое видит чистые жемчужины под замутненной поверхностью моря. Да будет имя ее благословенно так же, как она благословила меня.
В сентябре женюсь, мой друг, женюсь! Дорого приобретенную независимость свою продаю за еще более дорогую цену. Что может быть дороже для меня, чем Юлишка?»
Он уехал к своему другу Яношу Араню. Жил у него неделю. Счастье Петефи было беспредельно, он все никак не мог понять — правда это или сон?
С Аранем он беседовал о поэзии, жене его рассказывал забавные истории из своей жизни, с сыном Араня, маленьким Лаци, играл и писал ему стихи:
После нескольких чудесно проведенных дней он уехал из Салонты. Прибыв в Пешт, заключил договор на сборник стихов, теперь, правда, на несколько лучших условиях, чем прежде, — уж очень велик был успех книги, которая вышла весной. Из полученных денег он аккуратно отложил тысячу форинтов на время женитьбы. И опять покинул Пешт. Не зная устали, писал он «Путевые письма» и стихи. Горевал он или радовался, но работал, творил непрестанно. Да послужит он и этим вечным примером для следующих за ним поколений поэтов!
В конце июля он снова прибыл в Эрдёд. 5 августа они обручились с Юлией. Игнац Сендреи был разъярен, а Петефи чувствовал себя на седьмом небе.
Они обручены, но до свадьбы им запрещено ветречаться.
«…Представь себе: моя невеста живет в часе ходьбы от меня, а мне нельзя навещать ее до самой свадьбы, до восьмого сентября», — писал Петефи своему другу. Это было последнее условие отца, его по следняя надежда — может быть, время сделает свое и они одумаются.
Но они не одумались.
Все это время к Юлии летели стихи: старые и новые.
Петефи снова в Сатмаре. За день до свадьбы он пишет стихотворение, полное доверчивого восхищения будущей семейной жизнью:
Свадьбу отпраздновали 8 сентября. Петефи был в черном костюме и в сорочке с отложным вортничком — галстука он не надел даже по случаю этого торжества; Юлия была в белом шелковом платье. Из семейства Сендреи в церкви присутствовали только мать Юлии и сестра.
«Мы венчались по-средневековому, романтично: рано утром в часовне эрдёдского замка. И я и моя невеста хотели придать своим лицам подобающее серьезное и торжественное выражение, но это никак не удавалось, мы непрестанно улыбались друг другу… Когда все свадебные фокусы[54] окончились, мы сразу же сели в коляску и понеслись в Колто… Эта деревня — имение одного моего друга… Он уступил нам свое жилье, чтобы мы провели там медовый месяц…»
Даже когда дочь села в коляску, чтобы навсегда покинуть родительский дом, отец ее, господин Сендреи, выйдя во двор, не попрощался с ней и благословения своего не дал. На свадьбе он тоже не был — сидел, запершись, в своей комнате.
Любовь к богатству, стремление замужеством дочери еще увеличить имеющееся состояние, чинопочитание и ненависть к поэту-«бунтарю», у которого нет ни чинов, ни богатства, — все это заглушило в нем отцовские чувства.
Кучер хлестнул лошадей, Петефи оглянулся на замок и, обняв жену, громко, по-детски счастливо и победоносно засмеялся.
Они ехали в Колто. «Одичавший» граф Шандор Телеки предоставил Петефи на шесть недель свой замок. Шесть недель, шесть коротеньких недель жил Петефи так, как должен был бы жить всю жизнь. Больше чем на шесть недель не расщедрился и «одичавший» граф.
В «Путевых письмах» Петефи подробно рассказал обо всех событиях своей жизни в этот период. Читатели Венгрии были хорошо знакомы с историей его любви и женитьбы. Некоторые надеялись, что поэт-«бунтарь» после женитьбы присмиреет, что Юлия, благовоспитанная дворянская девушка, укротит его.
И каково же было их разочарование! Стихотворение, написанное в Колто в первую неделю после женитьбы, явилось как бы ответом на все эти надежды.
Вершины дальних гор уже покрылись первым снегом. И осень наступила, и зима уже вышла в путь. Петефи, так же как в стихотворении «Одно меня тревожит», снова заглянул оком провидца в будущее, но, должно быть, он и сам не думал, что будущее это придет так скоро и с такой беспощадностью, как он написал в стихотворении «В конце сентября»:
На следующий день, когда рассеялись эти мрачные предчувствия и осталась только радость осуществленной любви, Петефи снова — в которой раз — принес присягу в верности родине, народу, человечеству:
Петефи был цельным человеком и стойким борцом, и самое полное личное счастье не могло заставить его отвлечься от борьбы за свободу отчизны. Наоборот, любовь придавала поэту новые силы в этой борьбе.
«…Вот пройдет медовый месяц, и мы вступим в ту огромную пустыню, которую называют прозой жизни, — пишет он в своих «Путевых письмах». — Глупый это разговор, хоть и сам я его завел Свято верю, что мой медовый месяц протянется до самой могилы. Будто поэзия жизни зависит от времени, а не от самих людей!»
Петефи никогда не написал ни одной строчки против своих убеждений. Слова его всегда подтверждались поступками. События 1848–1849 годов показали, что он не предал забвению ни родины, ни своей любви — к свободе. Что же касается личного счастья, то «медовый месяц его протянулся до самой могилы». В 1848 году он писал:
И в 1849 году, незадолго до смерти, поэт писал жене с поля битвы:
В 1847 году Европа переживала экономический кризис. Этот второй после наполеоновских войн кризис потряс фундамент многих буржуазных государств. Капиталистическое производство обрушило на головы трудящихся масс новые бедствия и страдания. Такие потрясения тогда еще были непривычны.
Ошеломленные буржуазные экономисты недоуменно наблюдали за распространением этого нового и повторяющегося «стихийного бедствия». Кризис захватил и Венгрию.
Тяжелое положение в стране усугублялось еще засухой и плохим урожаем 1846–1847 годов.
Венгерское крестьянство не могло найти никакого выхода. В стране росли крестьянские волнения. Одинокое, без союзников, крестьянство было способно" лишь на отдельные бунты, которые очень скоро подавлялись властями.
Но ничем уже нельзя было остановить нарастание недовольства в стране.
«Я предчувствую революцию, как собака землетрясение», — говорил Петефи, беседуя со своими друзьями.
Еще целых двенадцать месяцев отделяло Европу от 1848 года, революционного года, а зовущие на борьбу стихотворения Петефи стали появляться одно за другим, раскаляя и без того напряженную атмосферу Венгрии.
В марте 1847 года он писал:
«Образованное общество» феодальной Венгрии в полном неведении того, какие стремления зреют в народе, не только не предчувствовало революции, но даже пыталось иронизировать над поэтом. В ноябре 1847 года один пештский литературно-художественный журнал так отозвался о Петефи: «Поэт дает клятву бороться против тирании… У нас в Венгрии — тирания?! Любезный сын отечества, видно, не знает своей родины».
Жизнь показала, что не эти господа, а именно Петефи знал свою родину и правдиво выражал ее сокровенные революционные стремления, когда провозгласил:
После женитьбы Петефи вместе с женой поселился в Пеште. Перед этим они навестили в Надь-Салонте Яноша Араня и объездили Эрдей. Повсюду его встречали факелами, манифестациями. «…Он был у нас два дня… О, эти два дня стоят двух лет…» — писала о нем одна эрдейская газета. Когда же поэт прибыл в Пешт, то ликование было такое, что даже его жене, героине «Песен Юлии», посвящались восторженные стихи. И, несмотря на это, у Петефи по-прежнему не хватало средств снять отдельную квартиру. Он вынужден был поселиться вместе с романистом Йокаи: в одной комнате жил Петефи с женой, в другой — Йокаи, а третья служила общей столовой.
Устроившись в Пеште, Петефи весь с головой уходит в работу. Тщеславная Юлия тоже берется за перо. До сих пор она вела только дневник, а теперь решает стать писательницей. Она ставит для себя отдельный письменный стол и начинает за ним «творить». Влюбленный Петефи не только восхищается «плодами ее творчества», но вообще прощает все сумасбродства, он готов принять даже то, что из желания слыть оригинальной она, восемнадцатилетняя женщина, курит большущие сигары. Да и кроме всего, поэт слишком занят своей работой.
Он пишет поэму «Судья», в которой стремится в острой сатирической форме обрисовать тупость дворян, управляющих Венгрией, идиотизм жизни провинциальных помещиков. С удивительным, почти гоголевским сочетанием реализма и сатиры изображает Петефи феодальную Венгрию своего времени. Герой поэмы — это великолепно зарисованный обобщенный образ венгерского помещика, эгоиста и самодура, тупорылого лентяя и безмозглого дурака, человека, ненавидящего все прогрессивное, все передовое, презирающего народ, не интересующегося судьбой своей отчизны.
С каким замечательным гиперболизмом и вместе с тем с какой художественной убедительностью описана внешность судьи, точно передающая всю внутреннюю пустоту и глупость героя, который вместе с подобными ему тунеядцами (в феодальной Венгрии их было несчетное множество) всей тяжестью своих непомерных туш наваливался на венгерский народ, несчастное крепостное крестьянство, которое изнемогало уже под этим непосильным бременем.
Сколько омерзения, физического отвращения вложил поэт в эту последнюю строчку! Видно, немало повидал он за годы своих голодных скитаний этих «животов», пытавшихся заслонить даже солнце над Венгрией.
саркастически продолжает поэт, —
И эти пустоголовые спесивцы только и знали, что кичиться своим древним родом:
С каким удовольствием бросает Петефи стрелу насмешки в лицо дворянам и дворянским поэтам, которые неустанно воспевали «древнюю славу своих предков», а в настоящем вели страну к гибели и разорению!
Расправятся, конечно, не с Венгрией, а с ее обломовыми, у которых как в головах, так и в домах царит пустота и мерзость запустенья, которые в безумном страхе перед всем новым готовы лучше принять смерть от рук врагов своих, чем в доме обновить стропило или жердь.
За фигурой судьи Федьвереша перед глазами Петефи вставали тупые, грубые дворяне, собравшиеся недавно на выборах в Надь-Карое. Вставал и образ отца Юлии, Игнаца Сендреи, упрямо помыкавшего своей дочерью.
Но и Юлию найдем мы в поэме, такую, какой ее представлял себе влюбленный Петефи.
Но и самого себя не забыл Петефи. Нельзя не почувствовать за строчками стихов те непрерывные столкновения, что происходили между Петефи и отцом Юлии. Старик Федьвереш требовал от сына — так же как и Сендреи от Петефи, — чтобы он нашел себе постоянную службу и вошел в число столпов общества. Когда же сын отказался от этого, то отец, считавший себя в равной мере хозяином и в стране, и в округе, и в семье, заговорил с ним по-своему.
«
Петефи написал эти строки в ноябре 1847 года, и сколько в них, как оказалось потом, было прозорливости! Ведь и на самом деле, если бы дворяне, в том числе и отец Юлии, знали, что пройдет лишь несколько месяцев и Петефи, возглавив революцию, поведет против них венгерский народ, они и вправду свернули бы ему голову, как щенку.
Петефи написал только четыре главы поэмы. Произведение, к сожалению, осталось незаконченным. Но, несмотря на это, оно является весьма значительным вкладом в творческое наследие поэта, и мы с полным правом можем считать эту поэму одной из исходных точек венгерского реалистического искусства.
В эту же пору пишет Петефи «Иштока-Дурачка» — поэму, полную жизнерадостности, легкого юмора, о юноше-бродяге, таком же скитальце, каким ж был долгие годы и сам поэт. Ишток, утверждая, что человек не может умереть, не достигнув счастья, сам находит его в труде и счастливой семейной жизни.
Одновременно Петефи вместе с Вёрёшмарти и Яношем Аранем начинает переводить драмы Шекспира.
«Мы с Вёрёшмарти усиленно переводим Шекспира, я в этом месяце закончу «Кориолана» — подхожу уже к концу четвертого действия… Кроме «Кориолана», я еще непременно переведу «Ромео», «Отелло», «Ричарда III», «Тимона Афинского», «Цимбелина», может быть «Генриха IV» и «Зимнюю сказку…» — пишет он Араню. И тут же иронически добавляет: «Сообщали, будто «Товарищество книгоиздателей» покупает мои переводы, но это неправда. Сперва так оно и было, говорили, что купят, но потом, как и полагается доброму венгерскому товариществу, передумали».
Тысячи планов роятся у него в голове. Поэт отдан без остатка литературному труду, а вместе с тем он не перестает отзываться на каждое более или менее значительное событие в жизни своей страны, и в каждом его отклике звучит голос революционера. Когда в Венгрии была проложена первая железнодорожная ветка (длиною в тридцать километров), поэт откликнулся на это и в стихах и в прозе:
А в «Путевых письмах» он пишет: «На поезде продвигаешься с удивительной скоростью. Мне хотелось бы посадить в поезд всю нашу венгерскую отчизну, и, быть может, за несколько лет она наверстала бы то, в чем отстала за несколько столетий».
6 января 1848 года произошло восстание в Мессине — загорелся уголок итальянской земли. Пламя перекинулось дальше, 12-го оно достигло Палермо, 27 января людская лава разлилась по улицам Неаполя. В феврале поднялся Париж. Рабочие вышли на баррикады. Восстания вспыхнули в Испании, Португалии. 8 марта в столице Чехии были уже расклеены листовки с революционными призывами (за неделю до пештского и за пять дней до венского восстаний), и 11 марта на Народном собрании был создан политический орган — Святовацлавский комитет. Феодальный сухостой, годный уже разве только на виселицы, был всюду подожжен. «Революция 1848 года заставила все европейские народы высказаться за или против нее. В течение одного месяца все народы, созревшие для революции, устроили революцию…»[56]
А в Венгерском сословном собрании все еще рассуждали. Вот уже два десятка лет толковали о том, как провести несколько реформ, причем так, чтобы это было «выгоднее всего» дворянам.
Семнадцать лет прошло с тех пор, как сторонники реформ бурно приветствовали книгу Иштвана Сечени «Кредит», в которой были напечатаны следующие слова: «Больше дорог, больше культивированных полей… больше культуры, науки, больше благородного патриотизма, гражданских достоинств — и меньше пыли, грязи, камышей, необузданных рек, бесполезных лесов, ненужных болот, бурьяна, меньше эгоизма… кичливости в отношении с подданными, меньше подхалимства к вышестоящим, невежества и безудержного жульничества».
Ни одно из этих благих пожеланий, конечно, не было проведено в жизнь. Больше того: сам Иштван Сечени успел за это время поправеть настолько, что отказался от своей программы и в 40-х годах выступил против оппозиционно настроенного депутата венгерского сейма Лайоша Кошута, когда тот пытался склонить Сословное собрание к практическому осуществлению хотя бы куцей и умеренной программы сторонников реформ,
А народ Венгрии голодал. И консерваторы и либералы с одинаковым рвением старались переложить всю тяжесть кризиса на плечи трудящихся масс.
Венгерские крестьяне бежали из деревень в город. Часть голодного люда, не найдя работы в городе, уходила назад, в деревню. Вся страна напоминала взбудораженный муравейник. «На трехдневный заработок дровосек может купить столько хлеба, сколько он съедает за один вечер с женой», — говорил в одном из своих выступлений Кошут.
«14 марта «Оппозиционный круг»[57] созвал собрание в Пеште, которое, по издавна сложившемуся обычаю, ни к чему не привело, — писал Петефи в «Страницах из дневника». — На этом собрании было предложено обратиться к королю с петицией, содержащей 12 пунктов, и притом немедленно, но тогда процветал судейский дух и такая пошла канитель, что дело завершилось бы, может быть, когда-нибудь в XX веке. Впрочем, хорошо, что так случилось! Какое убожество просить, когда знамение времени — требовать. Пора подходить к трону не с бумагой, а с саблей в руке. Властители ничего не отдают добровольно — то, что нам нужно, следует брать силой!»
В Пеште революционная молодежь во главе с Шандором Петефи обосновалась в кофейне «Пильвакс»:
«Когда приходишь вечером в эту кофейню, кажется, что попал в парламент… Эти вечерние сборища как бы скрепляли народ с молодежью», — писал один из завсегдатаев кофейни «Пильвакс».
Большая часть молодых людей, в том числе и Петефи, ходила в венгерках и в карбонарских плащах. У некоторых в руках были топорики, и, когда спор достигал высшей точки, они вонзали их в стол. Собрания затягивались до поздней ночи. Колебалось пламя свечей, мигали фонарики над головами, и тени людей качались на стенах, словно их развевал весенний ветер.
Столик Петефи в кофейне называли «столиком общественного мнения». Возле него на стене висел портрет Друга народа — Марата.
Эта кофейня, похожая на якобинский клуб, в мартовские дни была набита битком. Собравшиеся решили устроить 19 марта празднество на Ракошском поле в честь происшедшей во Франции революции и пригласить на него членов «Оппозиционного круга», Университетскую молодежь и народ Пешта.
Газеты каждый день приносили вести о новых революционных событиях: помещали статьи о ходе французской революции, сообщали о том, что в Саксонии установлена свобода печати, обсуждали события итальянской революции, писали о волнениях в Праге. Пешт уже забурлил, но Вена все еще молчала.
14 марта Петефи прочел своим друзьям стихотворение, написанное им накануне в честь назначенной на 19 марта манифестации: это была знаменитая «Национальная песня».
— Действовать надо! — крикнул Пал Вашвари[58], один из вождей левой радикальной молодежи, и ударил о стол своим топориком. — Мы не можем проходить мимо великих европейских преобразований, как это сделали наши отцы!
Голубоглазый Мор Йокаи тихо заметил:
— Вашвари прав. Кроме нас, все как будто ватой позатыкали себе уши. Сегодня, например, пештская городская управа занималась проверкой отчетности управления земельных участков и выдала разрешение господину Тамашу Ленхарду на открытие колбасного Я заведения.
Петефи молчал, о чем-то думал. Его не трогали, никто не хотел мешать ему вопросами.
«Петефи был окружен гораздо большим ореолом, чем любой человек самого высокого происхождения, — писал о нем поэт Янош Вайда, участник этого собрания в «Пильваксе», на котором и было предрешено революционное выступление 15 марта. — Пройди по улице хоть с десятью графами и четырьмя баронами под руку, это не только не сочтут за честь, но еще и обяжут тебя доказать, что данный барон или граф особенно порядочный человек… Ежели убедить в этом не удавалось, товарищи осуждали тебя и даже исключали из своего круга, как «лакейскую душонку».
Но если кто-нибудь рассказывал, что он там или здесь встретился с Петефи, говорил с ним… Тогда все глаза обращались на счастливца, будто надеялись увидеть на его лице отражение солнца славы Петефи».
…От дыхания множества людей и табачного дыма в кофейне становилось невыносимо душно, и тогда настежь раскрывали окна. А под окнами, на улице Ури, стояли мастеровые, кучера омнибусов, пуговичники и слушали доносившиеся до них речи. Изредка останавливался какой-нибудь крестьянин в полушубке, удивленно смотрел в окно и слушал обрывки взволнованных речей.
В Пеште в те дни шла ярмарка. В столицу со всех концов страны собирались тысячами погоншики скота, пастухи, возчики, ремесленники и купцы. Молодежь, обосновавшаяся в кофейне «Пильвакс», уже десять дней назад отправила в Пожонь воззвание к юношам, посещавшим заседания Сословного собрания. «Готовьтесь к революции», — писал им Петефи и его друзья.
— Как это можно терпеть, — донесся через отворенное окно на улицу звонкий голос, — чтобы в Венгрии половина новорожденных умирала на первом году жизни, чтобы на каждые пятнадцать тысяч душ приходилось только по одному врачу?
Петефи поднял глаза, посмотрел на собравшуюся молодежь. Один — медик, другой будет инженером, третий готовится стать агрономом. Вот и несколько мастеровых с городской окраины, из тех, к которым Вашвари ходил «распространять коммунистические идеи». Сколько честных молодых мадьяр! Но рядом с Петефи стоял и двадцатидвухлетний польский эмигрант Мстислав, Воронецкий; он тоже ждал, что скажет Петефи, он тоже готов был устремиться в бой за вольность венгерского народа.
В окно кофейни врывается весенний ветер. Он приносит с гор Буды волнующий запах первых трав и Расцветающих деревьев. Порывы ветра гасят несколько фонариков, и тогда раздается чей-то недовольный голос:
— Да закройте же окно! Вы что, в темноте, что ли, хотите остаться?
Окна затворяют. Парни, слушавшие под окнами, проходят дальше.
В кофейне клубится дым, кипят слова и страсти. Вдруг распахивается дверь, в зал влетает молодой человек, Адам Тополянски, и что-то кричит. Сперва его слова слышат только те, кто сидит ближе к двери. Они вскакивают с мест, остальные поворачиваются к ним, и в кофейне водворяется тишина. Тополянски, прерывисто дыша, говорит:
— Я только что прибыл с венским пароходом, В Вене вчера вспыхнула революция. Меттерних изгнан. Народ вооружается и строит баррикады.
Раздаются беспорядочные крики. И больше уже нельзя разобрать ни единого слова. Пегефи вскакивает на стол. Его впалые, бледные щеки раскраснелись от волнения, в черных глазах загорелось пламя. Он высоко поднял правую руку, и зал затих, Наступила тишина, все смотрят на него, ждут его слов.
— Что ж, ураган революции гудит у нас по соседству, а мы все еще колеблемся? Нет, мы должны действовать!
Снова поднялась буря голосов. Все повскакали. Молодежь столпилась вокруг столика Петефи.
— Теперь или никогда! — крикнул Пал Вашвари. — Волна революции штурмует Вену. Так пошлем же отсюда еще одну волну… За нами пойдут миллионы. Человек ничтожен только до той поры, пока он одинок. Когда же он не одинок, он может небо штурмовать!
Наконец решили ввиду позднего часа разойтись и встретиться на следующий день утром, чтобы выступить вместе со студентами и пештским народом.
— Но почему же завтра? — спросил Янош Вайда, который был моложе товарищей. — Почему не сегодня? Ведь за ночь нас всех могут схватить.
Большинство стояло за то, что выступление следует отложить до утра, так как сейчас поздно и улицах мало народу.
— Логически первым шагом революции, первейшей ее обязанностью является освобождение печати, — Сказал напоследок Петефи. — Завтра мы должны завоевать свободу печати! А если нас расстреляют? Ну что ж! Кто может желать смерти лучше этой?
Кофейня опустела. Цеховые знаки на улицах — огромные ключи, медные тазики, железные бочки — жалобно скрипели и стонали на дунайском ветру, как малодушные преступники перед объявлением приговора.
…Надо действовать. И завтра же. Послезавтра, быть может, будет уже поздно.
В ту ночь он сидел у открытого окна своей комнаты — думал о многом и говорил о многом. Мать, гостившая у них, и жена бодрствовали с ним вместе.
— Сынок, — сказала ему мать, — я ведь не касаюсь ваших дел, но что же будет, если немецкие войска начнут в вас стрелять?
Он поцеловал мать и ничего не ответил. Юлия что-то перебирала на письменном столе. Когда Петефи обнял мать, Юлия заговорила торопливо, даже слишком громко для этой тихой мартовской ночи:
— Шандор не может отступать. Он всегда должен идти впереди всех. А если будут стрелять, пусть он получит первую пулю. Он не может быть трусом, у него должно быть самолюбие!
Худенькая грустная Мария взглянула на Юлию.
— Он мой сын. Сын ведь он мне…
— А мне муж! — резко ответила Юлия.
Петефи беспомощно стоял между ними. В глазах матери блестели слезы, и он не знал, что ответить, как ее успокоить. Он погладил исхудавшее лицо матери, потом усадил ее и стал ей рассказывать о своих прежних скитаниях. Он вспомнил веселую историю о том, как покорил сердце упрямого старого корчмаря, к которому забрел без денег в февральскую вьюжную ночь. Петефи исполнилось тогда пятнадцать лет. Корчмарь был любителем латыни и сперва никак не хотел дать ни ужина, ни ночлега мальчику, который бросил учиться в школе.
Замерзший, голодный Петефи не перечил ему, а когда корчмарь, хвалясь своими познаниями в латыни, произнес несколько исковерканных латинских слов, юноша воскликнул: «Вот никогда не думал, что корчмарь может быть столь сведущим в латыни!» Сердце старика растаяло, он на славу угостил своего гостя и даже на прощанье сунул ему увесистый сверток с едой.
Мать Петефи уже смеялась, а сын сказал ей:
— Ложись, мама, родная! Время уже за полночь. Надо тебе отдохнуть!
Он взял ее под руку и повел в общую столовую, где стелили матери постель на ночь. Когда он вернулся, Юлия пытливо взглянула на него.
— Я боюсь, — сказала она, — ты будешь ее слушать… потому что любишь ее больше меня…
В глазах Петефи зажглись одновременно печаль, удивление и нежность.
— А ты не сердись… ей за сына страшно… она ведь мать. И все-таки сейчас, когда я проводил ее в столовую, она мне сказала: «Сынок, ты не смотри на то, что я тебе говорила. Делай так, как сочтешь нужным!»
— Завтра, Шандор, — сказала Юлия, — взоры всей Венгрии будет обращены на тебя… всей Венгрии!
— Завтра, — ответил Петефи, — решается судьба Венгрии. Надо действовать, и завтра же. Послезавтра, быть может, будет уже поздно. Это ведь хотела ты сказать, верно?
— Ну да… и это… О Шандор, как я счастлива!
«Большую часть ночи я бодрствовал вместе с женой, моей обожаемой, отважной маленькой вдохновительницей, которая всегда ободряет меня, идет впереди моих мыслей и планов»[59].
В то утро над проснувшимся городом нависли тяжелые тучи. Открылись лавки, мастеровые уже с рассвета приступили к работе, по улицам громыхали омнибусы и трубили в рожок возницы; в щегольских экипажах дремали богачи, возвращаясь с ночных попоек; лодочники уже ударяли веслами по воде и за два гроша переправляли народ из Буды в Пешт и из Пешта в Буду. Мастера, варившие селитру, раскланивались с пивоварами; молочницы из Ференцвароша, подоив коров, двигались с большими кувшинами к центру Пешта. Каменщики и плотники, начавшие работу спозаранку, остановились передохнуть и, присев у построек, вынимали из кошелок краюхи черного хлеба, чтобы набраться сил для долгого рабочего дня. Наборщики еще только заняли места у наборных касс; кое-кто из них вслух читал сообщение или статью поинтересней из тех, что должны идти в набор. В будайской литейной уже плескался в формах расплавленный чугун и озарял пурпуром лица литейщиков. На городской каланче стоял пожарный и зорко смотрел вокруг, нет ли где пожара, не нужно ли заиграть в горн и замахать красным флажком. Небо становилось все более мрачным, свинг.?вым — вот-вот польет дождь. Безработные мастеровые — их было около четырех тысяч — пришли на ярмарку в надежде найти какую-нибудь случайную работу. Весенняя ярмарка была в полном разгаре. На длинных полотнищах лежали товары; сапоги, полушубки, горшки, металлические изделия; стояли телеги, возы с пшеницей. А за шатрами теснились тысячи, десятки тысяч пригнанного скота. Погонщики наводили порядок, хлопая бичами. В городской ратуше уже собрались отцы города, чтобы, так же как и накануне, 14 марта, обсудить «срочные» вопросы: кому дать разрешение на постройку дома. Надобно было обсудить и вопрос о регулировании цен на говядину. Уже и немецкие войска начали свою очередную маршировку в Буде, а «писателю-бунтарю», сыну крепостного крестьянина Махаю Танчичу, уже швырнули в будайской тюрьме очередную порцию хлеба. Прибрали и комнаты немецкого Наместнического совета. А в деревнях челядь и батраки чуть свет уже были на ногах — «они обязаны вставать в установленное время, слепо выполнять все приказания барина, за любые проступки выдерживать брань, побои и заключение в темницу». В Пожоне депутаты сейма повылезали уже из своих широких постелей и готовились к очередным речам. Если бы каждое их слово весило хоть грамм, то все мусорные телеги мира и за двадцать лет не вывезли бы огромную кучу бесплодных речей, произнесенных ими за один день.
То, что уже неделю назад народ Праги был призван к оружию, что два дня назад революция в Вене скинула Меттерниха, что в Пеште революционная молодежь решила выступить, — все это вовсе не меняло хода повседневной жизни страны.
«Рано утром… по пути встретил Пала Вашвари, сказал ему, чтобы он пошел к Йокаи и пусть они вместе дожидаются меня. В кофейне собралось несколько молодых людей… Дюлу Буйовски[60]… я пригласил к Йокаи, остальным сказал, чтобы всех, кто будет приходить, задержали до нашего возвращения.
Придя домой, я рассказал о своих намерениях немедленно освободить печать. Товарищи согласились. Буйовски и Йокаи начали составлять воззвание; Ваш-вари и я ходили по комнате: Вашвари размахивал моей тростью, не зная, что в ней штык; вдруг штык, никого из нас не задев, вылетел прямо по направлению к Вене.
— Хорошая примета! — вскричали мы в один голос.
Когда воззвание было готово и мы уже собрались в путь, я спросил, какой сегодня день.
— Среда! — ответил кто-то.
— Счастливый день, — сказал я, — в среду я женился.
Полные восторга и веры в судьбу, пошли мы снова в кофейню, где уже было полно молодежи, Йокаи прочел воззвание, я прочел «Национальную песню», И то и другое было встречено гулом одобрения.
…В кофейне мы решили обойти всю университетскую молодежь, а затем в полную силу приступить к великой работе. Решили прежде всего пойти к медикам. Когда мы вышли на улицу, полил дождь и продолжался до самого вечера, но восторг — как бенгальский огонь, — водой его не загасишь»[61].
По дороге к медицинскому факультету группа молодежи, предводительствуемая Петефи, все разрасталась и превратилась в толпу демонстрантов. Они шли по улице с криками: «Да здравствует свобода!»
Вошли в здание медицинского факультета. Там студенты прервали занятия и хлынули во двор. Петефи вскочил на стол и произнес клятву революции:
Когда Петефи дошел до третьей строфы —
то рефрен:
произносили вместе с ним уже тысячи уст.
Медики присоединились к ним, и все вместе направились к инженерам, а затем к юристам.
«В вестибюле семинарии перед нами предстал один профессор и произнес с великим пафосом:
— Господа, именем закона…
Дальнейшую его речь заглушили громовые крики множества людей, и почтенный професор, не имея возможности продолжать, убрался восвояси. Юристы ринулись на улицу, чтобы присоединиться к нам…»
Петефи снова продекламировал «Национальную песню», после чего выступил Йокаи и прочел «12 пунктов», озаглавленных: «Чего хочет венгерская нация».
«— А теперь идем к цензору, заставим его подписать воззвание и «Национальную песню»! — крикнул кто-то.
— К цензору не пойдем! — отвечал я. — Никаких цензоров мы больше знать не хотим! Идем прямо в типографию!»[62]
Дождь лил ливмя. Он разогнал большую пештскую ярмарку. Тысячи мастеровых и крестьян проникли в центр города, где, по слухам, «творились большие дела», где шествовала молодежь во главе с Петефи, К типографии подошла громадная толпа народа. Петефи и его товарищи вошли в печатню уже как представители народа. Хозяин печатни Ландерер сбежал, их встретил его уполномоченный и преградил им путь.
— Я протестую! — заявил он.
— Именем народа! — закричал Петефи. — Мы занимаем типографию.
Уполномоченный выглянул за дверь: улица чернела от тысячных толп. Он пожал плечами и отошел в сторону.
— Отвечать будете вы!
— Да, отвечать будем мы! — подхватил Петефи его слова. Наборщики приветствовали поэта громкими криками. Петефи передал им воззвание и «Национальную песню».
Покуда их набирали, Йокаи вышел на балкон дома и сказал:
— В типографии набирают сейчас первое произведение свободной венгерской печати.
Возле Йокаи на балконе стоял друг Петефи Пал Вашвари. На улице шел дождь, но Вашвари стоял, сняв шляпу, и радостно смотрел на людей, которые, несмотря на сильный дождь, упорно не расходились.
Этот юноша, известный своими познаниями в исторической науке, за последние дни стал любимым оратором пештских масс. Вчера, 14 марта, он произнес большую речь на заседании «Общества равенства». «Наше теперешнее Сословное собрание, — сказал Вашвари, — не способно напасть на венский кабинет с достаточной силой, потому что Сословное собрание представляет не нацию, а только привилегированный класс». Ответом на эти слова было страшное возмущение части присутствовавших. Впервые столкнулись в этот день либеральное и последовательно демократическое крыло «Общества равенства». «Поклянемся, — сказал Вашвари, — не успокаиваться до тех пор, покуда с корнем не истребим тиранию». В ночь на 15 марта Вашвари вместе с Петефи составляли «12 пунктов», в которых требовали равенства, свободы печати, уничтожения крепостного права, учреждения ответственного венгерского министерства. Спать было некогда. Но сейчас на лице у Вашвари не видно было даже следов усталости. Когда он приблизился к перилам балкона, народ встретил его бурными приветствиями. Вашвари подождал, пока стихнут рукоплескания и крики, и заговорил спокойно, почти тихо. Голос его становился все громче, увереннее. Юноша стоял неподвижно, но было заметно, что руки его все сильнее сжимают перила балкона. Когда же он дошел до слов «нет больше цензуры», то пальцы его, казалось, хрустнули в суставах.
— …Между нами и печатью больше нет иезуита! Там, в типографии, сейчас впервые работают свободно, и через минуту покажется на свет первенец свободной печати.
На улице все еще шел сильный дождь. Вашвари продолжал читать:
— Мы окрестим новорожденного священной водой природы…
Вашвари улыбнулся. От счастья его лицо приобрело совсем детское выражение. Он встряхнул мокрыми волосами, водяные брызги взлетели вверх и рассыпались кругом. Юноша продолжал свою речь. На лице у него больше не было улыбки.
— Политическим лозунгом Австрии было с самого начала divide et vinces (разделяй и побеждай). Только этой черной тайной и можно объяснить, почему с такой заботливостью лелеет она вражду между отдельными народами. Правители Австрии пробудили к жизни национальную ненависть, они использовали одни народы для убийства других. Если начиналось какое-нибудь движение среди итальянцев и венгров, то в виде смертоносного оружия Австрия использовала поляков. А поэтому Австрия будет сильна только до тех пор, пока народы не разгадали этой ее тайны, пока народы не узнали и не поняли, что они братоубийцы, что тирания использует их для того, чтобы они убивали друг друга.
Он прервал речь. Люди слушали затаив дыхание, так что в перерывах между словами был слышен даже шум дождя.
— Мы все — братские национальности. Поодиночке мы слабы, но, объединившись, станем сильными, могучими, несокрушимыми!
Если мадьярский, итальянский, чешский, польский и австрийский народы объединятся, то хотел бы я знать, кого это пошлет против них Меттерних? Если народы обнимут друг друга, как братья, то хотел бы я посмотреть на ту власть, которой удастся их сломить, унизить.
Мы не считаем землю юдолью печали, но если она все же такова, то причину этого будем искать не в естестве мира, а в неестественных общественных условиях.
Вашвари оторвал, наконец, руки от балконных перил. Народ гудел, приветствовал его, а он медленно поднял правую руку и заговорил с расстановкой, так, чтобы каждое его слово запечатлелось в душах людей навеки:
— …Да здравствует братство между народами, Протянем же искренне руку нашим соседним народам, чтобы мы могли вместе с ними устремиться к единой цели; цель нашей борьбы одна, и враг, против которого мы должны бороться, тоже общий!
К полудню воззвание и «Национальная песня» были отпечатаны. Для первого экземпляра Петефи сам положил бумагу в станок.
— Пусть я буду ответственным за нынешний день, — сказал он печатнику.
«…Листовки стали тысячами распространяться среди народа. Мы объявили, что на Музейной площади в три часа пополудни будет собрание»[63].
Вести о венской революции и падении Меттерниха дошли не только до Петефи и его товарищей, но и до будайской немецкой комендатуры, генерала Ледерера и Наместнического совета. И теперь, когда в Пеште народ пришел в движение, Ледерер беспомощно прикидывал в уме, какие же ему принять меры.
В казармах солдаты стояли с заряженными ружьями, орудийная прислуга держала зажженные фитили возле заряженных пушек. У страха глаза велики; страх удесятерил в глазах власть имущих и размеры пештской демонстрации.
«Весь город на ногах!»
«Народ вооружается, многие уже вооружились!»
«Петефи с сорока тысячами крестьян стоит на Ра-кошском поле, крестьяне наточили косы, идут на Пешт!»
Генерал Ледерер, бледнея, слушал эти сообщения и отдал приказ войскам вернуться в казармы.
А народ, собравшийся в Пеште со всей Венгрии, уже на самом деле был охвачен волнением. Грамотные держали в руках воззвание и «Национальную песню» и читали вслух.
— В три часа народное собрание на Музейной площади, — слышалось повсюду.
Задолго до назначенного времени тысячи погонщиков скота, пастухов, подпасков, сапожников, портных, слесарей, горшечников заполнили всю Музейную площадь, и ожидали начала собрания. По булыжникам мостовой стучали палки.
— Свободу объявят! Крестьян на волю отпустят! Не будет больше дворянства! — гудели голоса крестьян.
— Конец цехам! Конец цеховым грамотам! — слышались возгласы мастеровых.
— Хлеба народу! — пронзительно крикнул издали какой-то безработный мастеровой.
В людях, собравшихся здесь со всех концов страны, за несколько часов поднялась вся затаенная вековая горечь. Беспорядочные крики раздавались повсюду. В крики вмешивались даже требования раздела земли.
«…Десять тысяч человек собралось перед музеем; оттуда, по общему решению, направились к городской ратуше… Зал заседания открылся и впервые наполнился народом. После короткого совещания бургомистр подписал от имени граждан «12 пунктов». Он показал их толпе, ожидавшей внизу, под окнами… Вдруг разнесся слух: «Идут войска!» Я оглянулся вокруг, чтобы проверить людей, но не увидел ни одного испуганного лица… Из всех уст вырвался крик: «Оружия!..»[64]
Шандор Петефи пережил в этот день величайшее счастье, какое когда-либо выпадало на долю революционного поэта. Он мог не только сказать:
но он и сам мог действовать.
Теперь уже рядом с армией его стихов стояли десятки тысяч живых людей, и он вел их к новой, более счастливой жизни, к желанной свободе народов. Поэт был достойным вождем революции. Десятки тысяч произносили его «Национальную песню», но он не хмелел от поэтической славы. Когда разнесся слух, что идут войска, он оглянулся, проверил людей, с тревогой вождя смотрел, готов ли народ принять бой. Не увидев ни одного испуганного лица, он успокоился и, ликуя, записал вечером на страницах своего дневника, что народ требовал: «Оружия! Оружия!»
«…Петефи… говорил коротко и редко, но всегда увлекал людей силой слова и смелостью воззрений… Самые мятежные речи он с виду произносил необычайно спокойно, без всякой жестикуляции и возбужденности. Но в голосе его чувствовались подлинная убежденность и внутренний огонь; видно было, что революция для этого человека столь же естественна, как для Везувия извержение лавы. И так же, как гора, стоял он, полный величавого спокойствия. Он не терял душевного равновесия… Даже тогда, когда воодушевление и гнев, достигали в нем самой высокой точки»[65].
Годы скитаний, эти пять с половиной голодных лет, когда Петефи обошел всю страну и всюду встречался с беднотой, ел вместе с ней черный хлеб с луком, брел с нею вместе по грязным или заснеженным большакам, страдал с ней вместе от ужасов немецкой казармы, — годы нищеты и страданий так сблизили поэта с десятками тысяч людей, стоявших сейчас под окнами городской ратуши, что каждое его слово сразу же становилось их словом, каждое его движение — их движением, каждое его желание — их желанием.
«На Буду, на Буду… К Наместническому совету Откроем двери тюрьмы, освободим Танчича!»
Была избрана депутация.
Наряду с Петефи в нее вошел и портной Гашпар Тот, который четыре года назад на заседании «Национального круга» первый внес 60 форинтов на издание стихов «молодого, неизвестного поэта».
«… Депутация, сопровождаемая по меньшей мере двадцатью тысячами человек, поднялась в Буду к Наместническому совету и заявила о своих требованиях. Члены всемилостивейшего Наместнического совета побледнели и соизволили задрожать. После пятиминутного совещания совет согласился на все»[66].
Войскам был дан приказ не вмешиваться, цензура была отменена.
Толпа двинулась дальше — к тюрьме.
Бородатый мужчина ходил взад и вперед по камере. Три раза в день принимался он шагать методично и упрямо, как делал все в жизни. Он хотел сохраниться и душевно и физически. Это пригодится и ему и тем, за кого его упрятали в эту камеру. Пять шагов туда и пять обратно из угла в угол. Он выработал целую систему, чтобы думать во время прогулки и вместе с тем пройти заданное себе количество шагов, Туда и обратно десять шагов — он загибает большой палец; еще раз туда и обратно — двадцать шагов — он загибает указательный палец; третий раз — средний палец… Десять пальцев кончились — пройдено сто шагов. На уголке стола торчит глиняный кувшин — узник переставляет его на вершок. Пальцы распрямляются, и все начинается сначала: большой палец, указательный, средний… Глиняный кувшин обходит все четыре края стола — пройдено четыре тысячи шагов. Можно и отдохнуть. Треть дневной прогулки совершена. Все это он проделывает уже машинально — либо размышляя о книге, которую пишет тут же, в тюрьме, либо, как сейчас, предаваясь воспоминаниям о жене, о детях, о друзьях, обо всем пережитом.
Ему уже немало лет — родился он в конце XVIII века, в 1799 году. Отец у него был крепостным крестьянином, мать — крепостной крестьянкой. Давно это было, когда он вместе с братьями и сестрами — мать родила тринадцать детей — жил в своей задунайской деревне. И все-таки сейчас, в этой сумрачной камере, многое из того, что случилось давно, так приблизилось к нему в воспоминаниях, загорелось таким ярким светом, будто произошло только вчера. И в воображении его иногда отчетливее встает босоногий крепостной мальчонка Мишка, каким он был сорок лет назад, чем бородатый седеющий Михай.
…Едва научившись ходить, он уже отправлялся вместе с другими деревенскими ребятишками в лес по грибы, а зимой ходил и за хворостом. Надо же «принести что-нибудь в дом», помочь родителям. У детей, растущих в нужде, рано развивается чувство ответственности, рано появляется потребность заботиться о других.
Лес… Какие же высокие были тогда деревья!.. Как они шумели… Ему казалось, что никогда с тех пор не видел он таких огромных дубов, буков, такого листопада.
…В деревне любили маленького Мишку. Он был умным, ловким пареньком: помогал звонить в церкви; собирал сухую солому, когда кто-нибудь палил свинью, потом сидел на сверкающем снегу и ножом соскребал щетину с опаленной свиньи; во время похорон носил крест и подпевал тоненьким голоском старику священнику; по осени ломал кукурузу; на рождестве ходил в богатые дома, нося с собой самодельные бумажные ясельки, те самые, над которыми согласно легенде склонялась бедная женщина, любуясь новорожденным сыном.
…Восьми лет он повесил себе суму через плечо, положил в нее ломоть черного хлеба и головку лука. Еще только рассветало, а он уже шел по деревне, играя на дудке, собирал коров и гнал их на пастбища. Домой возвращались к вечеру; коровы шли сытые, а он шатался от усталости. Даже дудку ронял из рук, и она, болтаясь на веревочке, колотилась о его голые ноги. Осенью он таскал корзины в барских виноградниках. А позднее смышленому мальчугану, две зимы подряд разрешили посещать школу. Это была редкая удача. Ведь в ту пору у них на деревне даже из взрослых крестьян грамоте знали только два или три человека.
Школа помещалась в жалкой лачуге. «Класс» не отапливался. Ребята сидели на земляном полу — девочки и мальчики вместе. В плату за обучение взимались четыре десятка яиц, две курицы и полмешка пшеницы. А если никто из ребят не приносил дров из дому, то все мерзли…
Узник шагает взад и вперед. Большой палец, указательный палец… Тишина. Только глиняный кувшин стукается об стол, передвигаясь на вершок.
…Девяти лет от роду Мишка тяжело заболел. В деревне лекаря не было, и перепуганная мать повезла сына в далекий город. Но и в городе была только одна больница, да и та в ведении попов. Мальчика приняли, переодели во все больничное, и мать оставила его в палате одного. Вечером даже ночник не мигал. Тяжело было на душе у мальчонки. Быть может, даже тяжелее, чем сейчас ему в камере…
Большелобая красивая голова бородатого узника все больше никнет под грузом воспоминаний.
…Время близилось к пасхе. Девятилетний мальчуган тосковал в больнице по дому, по матери, по родной деревне. Весенние ветры приносили в палату, как и сейчас в камеру, запах лугов. И маленький Мишка как был, в одной рубашонке, вылез из окна и сбежал. Босыми ногами переступал он по слякотной дороге, едва согревшейся от лучей солнца. Это было его первое пешее путешествие. А позднее, уже взрослым, сколько прошел он дорог, не только по Венгрии, но и по всей Европе!
…Его отдали в ученье к портному. Но портной кормил мальчика так плохо, что он выдержал лишь неделю и нанялся в работники к помещику. Бесправный крестьянский мальчуган был таким же бесправным, как и девять миллионов крестьян в этой стране, насчитывавшей не больше десятка миллионов жителей. Считались с мальчиком не больше, чем со скотиной, и даже налогом облагали, словно скотину; платили за него столько же, сколько за двух волов или восемь свиней…
Глиняный кувшин ударяется об стол. Узник шагает. Напевает песню. Ту самую, которую выучил еще в работниках. Пели ее только на пастбище, чтоб она не дошла до ушей своего или чужого приказчика:
Эту песню он выучил на том самом выгоне, который отнял барин у своих же крепостных крестьян. Понапрасну тягались тогда мужики с барином. Суд ведь был у него в руках.
…Наступила зима. Холодно стало мальчишке в одних холстинковых штанах. Пальцы выглядывали из драных сапог. Эх, сапоги, сапоги! Недаром о них и Петефи столько раз писал. Вечно в них заползал талый снег… А у такого человека, как Михай, они всегда до срока изнашивались.
В ту пору ему уже и жалованье положили: сермягу, шляпу, пару сапог и две смены белья на год Кажется, из всех крепостных не было его беднее.
…Девятнадцать лет исполнилось ему. Какие книги попадались ему под руку в деревне, он все их перечел. Но попались ему только календарь, библия и псалтырь.
Михай ушел из работников. Нанялся в ученье к ткачу. Его будто бес какой гнал — так хотел он выкарабкаться из этой жизни. Мать — он помнит хорошо — не хотела его отпускать. Так она любила этого сына, что даже на смертном одре звала его, и последними словами ее были: «Сыночек, Мишка!»
Мишка выучился на подмастерья и пошел странствовать. По пути он забрел однажды в какую-то Деревню, и там учитель взял его к себе помощником. По тем временам для этого не требовалось никаких свидетельств. И не только помощники учителей, но частенько и сами учителя скитались так же, как мастеровые, а жалованья получали иногда и поменьше мастеровых. Михай умел читать, писать, знал псалмы наизусть — так что ж еще-то надо? Положили ему на год сорок форинтов жалованья, дали в придачу пару сапог — тех самых пресловутых, что всегда изнашивались раньше срока.
Но у учителя, к которому поступил в помощники Михай, — о чудо из чудес! — было несколько сот книг. Михай впервые встретился с такой грудой знаний. У него даже голова кругом пошла, когда он увидел впервые на полке это множество книг. За два года он все их прочел. Там были, очевидно, и хорошие книги: стояли тома Дидро и Вольтера, Руссо и Бюффона. «Так вот оно как дело обстоит!» — бормотал ночами Михай, низко склонившись над книгой. А старый чудаковатый учитель давал еще и кое-какие объяснения к прочитанному. Уж очень он полюбил своего помощника. И два года спустя, снабдив его соответствующей бумажкой, учитель направил Михая в Будайскую учительскую семинарию. «Учись, сынок, из тебя еще толк выйдет!» — сказал старик. И двадцатитрехлетний Михай пошел раздобывать себе диплом учителя и новые знания.
Изучив латынь, усатый уже к тому времени, Михай записался после учительской семинарии в гимназию. А чтобы заработать себе на жизнь, занимался всякой всячиной, в том числе давал и уроки. Затем поступил в университет, на факультет философии и права. Тридцати одного года от роду он написал свою первую книгу — «Венгерский язык». За нее был удостоен премии. Радость Михая была несказанной. И все же эта книга обрушила ему на голову первое несчастье. Ведь потомок крепостного крестьянина Михай Танчич усвоил не только латынь, немецкий и французский языки, а и многое другое. В своем учебнике венгерского языка старые примеры: «Птичка поет;», «Небо синеет» и «В нашей прекрасной отчизне все счастливы», он заменил новыми: «Все люди равны», «Нет таких законов, которые нельзя было бы сокрушить» и «Люди рождены свободными». Книга попала в руки одному из габсбургских эрцгерцогов. Он тут же назначил следствие. Учебник был конфискован. Михая занесли в черный список. И с тех пор полиция, цензура, власти и церковь следили за каждым его шагом.
«Чего только не бывало со мной в жизни!» — думает узник, глядя сквозь щелочку окна на зарешеченное небо.
На дворе март. Утром рано по небу проносились весенние облака, точь-в-точь как воспоминания у него в душе, а потом и небо и камера постепенно заволоклись сумерками. В полдень пошел дождь, а теперь льет уже, словно вторя своей холодной музыкой все более мрачным воспоминаниям узника.
…Его преследовали и тайно и явно. Но слух об «умном мужике» пошел по всей стране. Эксцентричный граф Телеки взял Танчича воспитателем к своему сыну Шандору. К тому времени Михай Танчич был уже высокообразованным человеком.
Узник улыбается… «И не зря я воспитывал его». Шандор с тех пор не находит места себе — вот и стал «одичавшим» графом. Совесть не дает ему покоя, он и мечется по всему свету — от Лиссабона до Санкт-Петербурга.
А самого Михая хоть и преследовали без конца, но он не сдавался. Учился, других учил, писал. Казалось, будто венгерские крепостные крестьяне, и живые и умершие, все дали ему наказ: «Ходи! Смотри! И провозглашай, что пробил час!»
Он побывал в сотнях городов и селений, переменил тысячу жилищ и знал людей своей страны не хуже пальцев на своей руке. Его книгу «Позарди» трижды корежила цензура, прежде чем она вышла в свет. Этой книгой он пригвоздил к позорному столбу господ дворян: «Они губят страну, самих себя и все крестьянство, — писал Танчич. — Чем шире дворянская воля, тем горше крестьянская неволя… Нет счастья там, где собственность в руках немногих…»
Книгу «Позарди» тоже конфисковали. Это было худо еще и потому, что Танчич издал ее на свои деньги, которые наскреб с таким трудом. А раз конфисковали книгу — стало быть, он еще и в долги залез. «Нельзя, видно, в этой стране распространять честные книги, — сказал Михай Танчич. — Может быть, их лучше анонимно издавать за границей — оттуда они скорее проберутся на родину». Новую рукопись он передал своему другу, революционеру-демократу Яношу Хорарику, который вынужден был бежать от преследований властей за границу. «Ты напиши мне, напечатают ее или нет», — сказал Танчич Хорарику. Хорарик пообещал, но ни письма, ни какого другого сообщения Танчич не получил. И только здесь, в тюрьме, узнал он из обвинительного заключения, что письмо Хорарика к нему было перехвачено властями.
…Глиняный кувшин ударяется о стол. Узник останавливается — пройдено четыре тысячи шагов. Он садится напротив одинокого зарешеченного окна и опускает голову на руки.
…Это произошло два года назад. Ему исполнилось тогда сорок семь лет. В волосах и в бороде показались у него первые седые пряди. Михай решил, уехать за границу, посмотреть, каково там живется. Он сложил свои рукописи. Набралось их так много, что трудно было провезти их незамеченными. Вена, Прага, Берлин, Дрезден. В Гамбурге он обнаружил изданной одну из своих книг: «Взгляд раба на свободу печати». Он заключил договор на новую книгу с тем же издателем Кемпе, который издавал и сочинения Генриха Гейне. Танчич увидел в Гамбурге и несчастных эмигрантов, которых везли в заокеанское рабство. Он тут же хотел было вмешаться, но за это чуть не поплатился жизнью. «Убирайся отсюда, пока не поздно!» — крикнул представитель власти. Что ж ему оставалось? Убрался! Месяц спустя он был уже в Париже. На улицах слышались песенки Беранже. На него, венгерского крепостного мужика, прохожие удивленно таращили глаза — он ведь никогда не расставался со своей деревенской домотканой одеждой, словно она была символом томившегося в неволе венгерского народа.
В Париже он навестил коммуниста-утописта Кабэ, одного из вождей французской революции 1830 года, покровителя польских революционеров, «защитника бедных и угнетенных». Газету Кабэ «Попюлер» он читал еще в Венгрии — конечно, втайне, — прочел и его «Путешествие в Икарию», в котором автор обрисовал будущее коммунистическое общество. С Кабэ и хотелось поговорить Танчичу, с ним и мечтал он посоветоваться, потому что «добрый совет дороже, чем обед».
Попади он в Париж на два года раньше, может быть, встретился бы с молодым Марксом, и на нашу долю сейчас выпало бы счастье писать об их беседе. Но, увы, эта встреча не состоялась. А жаль! Ведь еще в 1844 году Михай Танчич писал: «Я верю, что частная собственность исчезнет и ее… сменит коммунизм… кто же из трезвых людей посмел бы отрицать, что всеобщая нужда порождена неравенством, словом — частной собственностью…»
Он поехал в Лондон. Положение английских пролетариев глубоко потрясло его. Тягостное впечатление произвело и то, что в Ирландии умершие с голоду крестьяне валялись непогребенные прямо на дорогах. В «могучей, богатой Великобритании» Михай навестил живших там венгерских рабочих. Сам-то он ощущал себя вождем венгерского народа, его совестью, хотя венгерские господа даже много позже не желали этого признавать. Танчич написал книгу для своих лондонских соотечественников. Он рассказал в ней о том, как страшна жизнь в Венгрии, и смело заявил: «Кто не работает, тот не ест!», «Бездельникам и тунеядцам не прожить без рабочих, а рабочие смело могли бы жить без господ-тунеядцев».
…Дождь стучит по булыжнику тюремного двора, по железу крыш. Пробиваясь сквозь шум дождя, в камеру доносится с улицы какой-то гул. Что такое? Узник прислушивается, и волей-неволей у него всплывает в памяти гул, шедший с лондонских улиц, когда он сидел в своей комнатке на окраине, а рабочие поздно вечером возвращались домой с фабрик. В Лондоне получил он письмо от жены, из которого узнал, что, пока он бродит по белу свету, чтоб «приобрести знания», «получить совет» и «издать свои книги», умерла его дочь, заболел сын и жена томится в нужде. «И заплакал я так горько, как, быть может, ни один отец не плакал средь лондонских стен».
Он переправился через канал. Деньги все ушли. И крестьянину-революционеру пришлось добираться через шесть стран пешком на родину. Дома он издал «Народную книгу». Книгу конфисковали, а его бросили в тюрьму. Но он успел за это время закончить еще один труд: «Глас народа — глас божий».
Его допрашивал тот же прокурор, который два года спустя приговорил к смертной казни «неизвестно где находящегося» Шандора Петефи.
…Уже почти полгода ждет Танчич приговора. Восемь месяцев к нему даже жену не пускали на свидание. За это время умер и второй ребенок. «Что поделаешь? Тот, кто отдал народу и разум свой и сердце, должен уметь все переносить».
Каков же будет приговор? Казнят его, как полвека назад казнили защитника крепостного крестьянства Хайноци? Тот ведь тоже здесь сидел. Здесь ожидал он смерти. А какая участь ждет его, Михая? Перед ним лежит обвинительное заключение. Он листает его. В обвинительном заключении прокурор приводит цитаты из его собственной книги: «Правительство похитило права у народа», «Цензура убивает душу не одного человека, а всего человечества», «Из ста государственных чиновников девяносто надо выгнать», «Хлеборобы-венгерцы, верьте мне, я плоть от вашей плоти, кровь от вашей крови».
…С улицы к нему доносится странный шум. Узник придвигает к окну стол. Встает на него. Что творится на дворе, мешают увидеть ливень, темь да и слишком высокое окно. Танчич затаив дыхание прислушивается ко все возрастающему гулу, и воспоминания теперь проносятся через него, словно молнии.
…Восемнадцать лет было ему. Он пахал помещичью землю. День, так же как и сейчас, клонился к вечеру. Все устали, притомился и он. Присел на кочку отдохнуть. Мимо проходил приказчик. Увидел его и до крови избил за то, что он посмел прервать работу. Вся деревня узнала об этом. Народ высыпал на улицу и вместе с ним пошел к помещику требовать расплаты. Тогда впервые крикнул он, точно из сердца выхватывая слова: «Крестьяне — братья мои!»
«Что там такое, во дворе?» Горло узника сжимается от волнения. Слышатся неистовые крики. Окно камеры дрожит. Раздается пушечный выстрел! Но нет. это створки железных ворот тюрьмы хлопнулись об стену. Вдруг за спиной у Михая распахивается дверь. Он соскакивает со стола. Тюремный коридор битком набит людьми. Первым врывается в камеру стройный молодой человек. «Михай Танчич!» — восклицает он и обнимает узника. В это время кто-то из членов депутации в великом усердии произносит речь и называет бородатого, месяцами не брившегося Танчича «первым цветком весны». «Молодой человек, — писал позднее об этом дне Танчич, — с которым мы лично не были знакомы, — этот молодой человек был Шандор Петефи».
Танчич свободен.
Внизу на улице теснится тысяч двадцать человек.
— Танчич! Танчич! Танчич! — слышится со всех сторон.
Чтоб подольститься к народу, два каких-то насмерть перепуганных графа даже за руку здороваются с Танчичем, хотя они с большим удовольствием собственными руками задушили бы этого «освободителя крестьянства». Где-то находят и коляску. Толпа сажает в нее Танчича, выпрягает лошадей. Откуда-то появляются и факелы, и коляску Танчича везут при свете факелов из Буды в Пешт. В Пеште он вместе с Петефи спешит в ратушу. Там заседают господа. Танчич останавливается посреди зала и произносит свою первую речь после долгого тюремного заключения.
— Слушайте, вы! — говорит он, не прибавляя никаких благородий, превосходительств и прочих титулов. В зале наступает грозная тишина. В дворянскую ратушу ворвалась народная революция, возглавленная Петефи и Танчичем.
— Слушайте, вы!
И несколько дней спустя еще один революционер-демократ направился на родину — это друг Танчича, Янош Хорарик. Он тоже с не меньшей силой бросил в лицо господам:
— Слушайте, вы!
Императорский наместник эрцгерцог Иштван испуганно сообщил в Вену, что надо уступать, «если мы хотим избежать анархии и объявления республики».
В городе до поздней ночи происходили манифестации. Улицы были иллюминированы. Повсюду красовались освещенные портреты Петефи и над ними слова: «Свобода! Равенство! Братство!»
Вечером в Национальном театре шла пьеса «Бан Банк»[67] Иожефа Катоны, ранее запрещенная, а затем допущенная к постановке в урезанном виде. Представление пришлось прервать. Все хотели слышать стихи Петефи. Пропели «Национальную песню» — ее уже успели положить на музыку. Оркестр играл «Марсельезу» и «Марш Ракопи». Потом зрители потребовали на сцену Танчича.
«Это произошло 15 марта. По своим результатам сей день останется навеки знаменательным в венгерской истории. Если бы все ограничилось упомянутыми событиями, не было бы ничего необычного, но как начало это было прекрасно, доблестно Ребенку труднее сделать первые шаги, чем взрослому человеку пройти долгие мили»[68], — такими словами заканчивается в дневнике Петефи запись об этом знаменательном дне.
В Пожонь, где Венгерское сословное собрание уже двадцать пять лет подряд мотало пряжу пустословия, не укрыв, конечно, сотканной из нее тканью продрогшее тело народа, — в Пожонь ворвалась весть о пештской революции. Говорильный станок дворянского Сословного собрания содрогнулся.
Еще 3 марта произнес Лайош Кошут свои знаменитые слова: «…Даже противоестественные политические системы могут держаться долго, потому что между долготерпением народов и их отчаянием лежит долгий путь… но в конце концов настанет мгновение, когда и эти системы рухнут…»
Однако ни он, ни его сподвижники не хотели, чтобы дворянство выпустило власть из рук. Революция была для них страшней австрийского владычества, они боялись «незаконного пути», и, «если б это зависело от них», ужасное мгновение не настало бы никогда.
«Колесики часов пожоньского Сословного собрания не желали крутиться. Нужна была пружина, которая привела бы их в движение. И этой пружиной оказалась пештская революция» (Вашвари).
Нет трусливей отважных господ! Вести о пештской революции в Пожоне передавались уже в таком виде, будто на Ракошском поле стоит Петефи, готовый к бою, во главе сорока тысяч крестьян и ждет только того, как обернутся события.
На Ракошском поле не было сорока тысяч крестьян, но в Пеште был создан Комитет общественной л безопасности, в который вошел и Петефи. 16 марта этот комитет учредил Национальную гвардию; в Пеште и Буде до поздней ночи проходили манифестации; Петефи, Вашвари и Танчич, встав во главе народа, за один день стали такой политической силой, с которой нельзя было не считаться. JJ
В Пожоне 17 и 18 марта нижняя палата Сословного собрания приняла проект закона об освобождении крестьян с выкупом и об ответственном правительстве, и теперь господа были полны радужных надежд, ожидая плодов своей хитроумной политики: ведь принятие проекта должно успокоить Пешт, а проект может еще не превратиться в закон — верхняя, аристократическая, палата может вернуть им его «для внесения некоторых поправок». Проект она может возвращать пятьдесят раз, это право закреплено за нею «древним венгерским законодательством», а если после «исправления» (кто знает когда) этот проект и будет принят, его еще должен утвердить император. Но австрийский император тоже имел право вернуть проект «для внесения некоторых поправок», и комедия начнется сначала. А вся ставка была на то, что до этого удастся утихомирить «взбесившийся» Пешт.
Итак, весть о пештской революции пробудила в аристократах верхней палаты «необычайную жажду деятельности». Эти сорок тысяч, пусть даже воображаемых, крестьянских наточенных кос подстегнули их, и господа магнаты тут же вспомнили о своем «добросердечии». Страшные слухи о крестьянах, возглавляемых Петефи, заставили их в течение двадцати четырех часов рассмотреть и принять проект закона во избежание худших бед.
И в пору этого переполоха вдобавок еще Петефи насмешливо задал им вопрос:
Этот другой галстук был на самом деле пренеприятной штукой. В нем не только что ораторствовать, но и дышать было трудновато.
Однако аристократы хотели скрыть от крестьянства, что, принимая проект закона, они действовали из боязни. Дворяне немедленно сочинили легенду о том — и она почти сто лет здравствовала в Венгрии, — что магнаты сами, «добровольно» отказались от своих привилегий.
«Во времена таких движений и правительству и законодательным органам остается только одно: либо подавить эти движения, либо их возглавить», — сказал приверженец Габсбургов Ференц Дэак, прозванный венгерскими политиками «мудрецом отчизны».
Петефи, будто предчувствуя этот ловкий ход аристократов, писал 24 марта в «Страницах из дневника»:
«Сословное собрание отменило крепостные повинности. Очень хорошо с его стороны, но было бы лучше, если бы оно это сделало раньше. Тогда дворянство могло бы счесть себя великодушным, но теперь, когда оно действовало под давлением крайней необходимости, из трусости, — теперь оно не может претендовать на это».
К концу марта австрийский царствующий дом рука об руку с венгерскими аристократами приступил к решительным действиям. Выяснилось, что на Ракошском поле пока еще нет и в помине сорока тысяч крестьян; выяснилось, что даже Кошут и его сторонники не желают «заходить слишком далеко» и следовать «слишком быстро» по пути преобразований. А к тому же Кошут заявил, что «Пешт не может диктовать нам свою волю», и выгнал депутатов пештской революционной молодежи. «Кто не покорится, будет повешен!» (Петефи до конца жизни не мог простить Кошуту этого изречения.)
Аристократы же поглядывали на Кошута, довольно ухмыляясь и потирая руки: «Не так-то он страшен, как мы думали». Хваля Кошута за «благоразумную трезвость взглядов», они приговаривали: «Руби, руби, голубчик, сук под собой».
24 марта, возглавив депутацию Сословного собрания, Иштван Сечени поехал в Вену.
«Ежели господь бог не поможет, то французская революция 1789 и 1790 годов покажется невинной комедией по сравнению с той революцией, которая разразится у нас», — писал граф Сечени в своем дневнике. Но, приехав в Вену, он счел все же лучшим обратиться за военной помощью не к богу, а к императору и попросить у него войска для подавления революции. Очевидно, глубоко религиозный венгерский граф возлагал все-таки больше надежд на пушечные ядра австрийского императора, чем на господа бога.
27 марта в Пожонь прибыл королевский указ, согласно которому Сословному собранию было предложено «внести поправки» в проект закона об отмене крепостного права и «изменить» проект о создании самостоятельного венгерского правительства. После этого даже Меттерних воскликнул в изгнании: «Зачем же меня-то выгнали, если все идет по-старому?»
Но венгерский народ не хотел жить по-старому, в Пожоне публично сожгли королевский указ. В Пеште на грандиозном собрании, на котором присутствовало больше двадцати тысяч человек, Петефи и Вашвари призывали население взяться за оружие. На улицах воздвигались баррикады. «В Вене обманули нас… Да здравствует республика!» — кричали повсюду.
Петефи написал стихотворение «Восстало море»:
«Возмущение все нарастает, — спешил донести в Вену другой венгерский граф. — Если за эти несколько дней не прибудет несколько благоприятствующих распоряжений… Венгрия погибла для династии. Движение возглавляют те же герои (Петефи, Вашвари. —
По всей стране проходили манифестации. Один город за другим перепечатывал «12 пунктов» и «Национальную песню» Петефи. Народ дубинками бросился сшибать с фасадов правительственных домов императорские орлы. В Закарпатской Украине — в Ужгороде и Мукачеве — 19 марта повсюду расклеили пештские «12 пунктов», дополнив их только требованиями о создании самостоятельного Национального банка и конфискации владений привилегированных сословий. Начались волнения в городах Зимоне и Панчове — там народ изгнал из департаментов старых, реакционных чиновников. Для подавления этих восстаний были вызваны войска, но сербские грани-чары — выходцы из крепостных крестьян, изнывавших под ярмом феодалов, — отказались повиноваться и присоединились к своим братьям. В Хорватии крестьяне захватывали барские земли и громили усадьбы. Во комитатах Бекеш и Чанад поднялось крестьянство и силой захватило графские пастбища. Во главе этого движения встали хлынувшие из пушты батраки. Они врывались в архивы, сжигали древние грамоты магнатов о праве на владение землей.
«Для бедняка свобода без земли и гроша ломаного не стоит!» — говорили батраки. Петефи, призывая всех трудовых людей страны к революции, писал:
Аристократам, заседавшим в Пожоне, и австрийскому императору он говорил: «Почитайте равенство в правах, только тогда будет долгой ваша жизнь на земле».
Кичливые аристократы и венский двор перепугались насмерть. Такого поворота событий никто из них не ожидал. Им пришлось снова проявить «добросердечность». Политика дальнего прицела требовала хоть временного удовлетворения желаний народа. Венгрия получила «независимое» правительство.
Королевский декрет нарушил царившее в первые дни после 15 марта единство среди либеральных дворян. В страхе перед дальнейшим подъемом революционных событий теперь уже не только аристократия, но и «прогрессивное» дворянство считало, что довольно с них «прогресса», что пора восстановить «порядок» в «бурлящей отчизне», что революция закончилась
Этот лагерь либерального венгерского дворянства, дороживший только своими узкими классовыми интересами, желал сломить, опираясь на австрийского императора и войска, бунтующий венгерский народ, требовавший независимости Венгрии. Этим «прогрессивным» господам, ставившим свои интересы выше интересов страны, и в голову не приходило, что династия Габсбургов пошла на уступки, в том числе и на уступки, касающиеся их, поневоле, и, как только вы-, дастся случай, она тут же откажется от них.
Одних лишь революционных демократов — Петефи и его друзей — нельзя было обмануть.
«Его императорское, королевское, апостольское величество, — писал насмешливо Петефи, — после двухнедельного выжидания и оттяжек милостиво соизволило сдержать свое слово…»
«Я республиканец и душой и телом, стал им с тех пор, как мыслю, и останусь им до последнего вздоха», — писал Петефи в «Страницах из дневника».
Мартовская молодежь во главе с Петефи выступила против нового правительства, стремившегося действовать совместно с императорским домом. «Никогда, ни на мгновение нельзя забывать о том, — писала газета «Марциуш тизенетедике», — что все достигнутое в стране вовсе не было результатом милостивых уступок венского правительства, что все его уступки были совершенно вынужденными… Если правительство не смеет или не хочет выступать самостоятельно, тогда пусть оно уходит. Народ придет… и он покажет министрам, что такое на самом деле независимость Венгрии».
В начале апреля Танчич учредил газету «Мункашок уйшага». В этой газете он резко осуждал нерешительную политику правительства: «Правительство не знает, что делать… Колеблется, сомневается, не верит в силы нации… не смеет действовать, не может действовать так, как это подобало бы независимому и самостоятельному правительству свободной нации…»
В это время для умиротворения неблагоразумного Петефи направили «изысканного», «прекраснодушного» писателя Лайоша Кути, что было довольно нелепо, потому что Петефи еще в 1843 году в Пожоне возымел отвращение к Кути. И Петефи ответил Кути так, что тот счел лучшим удалиться из квартиры Петефи и не взывать больше к трезвому разуму поэта. После своего посещения Кути распространил слух, будто Петефи сошел с ума. Когда же и это не помогло, то стали распространять слух — для устрашения народа, — что Петефи заточен в тюрьму.
Но Петефи прогремел таким голосом, что его расслышал весь народ Венгрии:
Стихотворение поэта, его республиканские идеи были восприняты как вызов не только аристократами, но и сторонниками «реформ».
Эти торгующиеся дворяне почти онемели от ужаса. Премьер-министр «независимого» правительства граф Лайош Батяни[69], который, как о нем насмешливо заметили, «при вести о революции прежде всего вспомнил о своих тридцати тысячах овец», покачал головой: «Долго ли будет этот Петефи мутить народ?»
Новое венгерское «независимое» правительство и не помышляло править иначе, как рука об руку с австрийским домом, и с готовностью шло на отпор «крайним требованиям».
Как ни изменил королевский декрет представления правительства о дальнейшем ходе событий, Петефи ясно написал 1 апреля: «Молодежь, а значит и вся революция, оставалась очень недовольна им (то есть декретом. —
А теперь разойдемтесь, юные друзья. На протяжении двух недель кипучей общественной жизни вы действовали так отважно, вели себя так непреклонно, как я мог только желать. Да хранит вас бог! Революции пришел конец… нет, не пришел конец революции, это было только первое действие!..»
Да! Это было первое действие, во время которого пештский народ и «партия ультрабаррикадистов и паровой гильотины», как глумливо именовал граф Сечени Петефи и его единомышленников, отбили своим революционным выступлением атаку императора, герцогов и графов против венгерского народа, борющегося за свое освобождение.
В эту пору гонения против Петефи со стороны реакционеров и сторонников «умеренных» реформ необычайно усилились. «Безумец» было самым мягким выражением, которым честили поэта. Петефи не только выдерживал бурю, но все более решительно требовал дальнейшего развертывания мартовской революции, которая, по его мнению, была лишь «первой остановкой».
«Мартовская молодежь» во главе с Вашвари сплотилась вокруг Петефи.
В конце мая на квартиру Петефи явилась депутация, чтобы приветствовать поэта. Так ответила революционная молодежь на травлю своего вождя и певца. Приветственную речь держал Вашвари, позади него стояли депутаты общества «Мартовская молодежь». Склонив голову, слушал Петефи эту присягу в верности себе.
«Мы, представители молодежи, — говорил Вашвари, — пришли, чтобы приветствовать тебя как одного из вождей передового национального движения. Мы убеждены в том, что судьбу народа нельзя изменить за столами, покрытыми зеленым сукном. Мы принадлежим к той партии, которая жаждет лучшего будущего и хочет стать хотя бы каплей в море людей, борющихся за мировую свободу… Ведь это ты провозглашал, что народ должен рассчитывать только на свои собственные силы, что он не должен ждать милости ни от земли, ни от неба… Тобою сказаны слова: «Народ, ты должен только захотеть, и все преграды рухнут на твоем пути…» Ты посмел предсказать будущее. Мы желаем, чтобы ты дожил до дня святого великого торжества, чтобы ты увидел счастливыми и благоденствующими миллионы тех людей, которым ты отдал каждое биение своего сердца… Ты поэт, бессмертный поэт народного освобождения!.. Исчадия мрака должны убраться из нашей страны, потому что у них здесь нет будущности, а если и есть, то можно им в этом не завидовать».
Весной 1848 года венгерское правительство подавило крестьянские бунты с помощью австрийских императорских войск. Предложение эрцгерцога Иштвана «отозвать войска из Венгрии и, не вмешиваясь, смотреть на то, как крестьяне будут поджигать дворянские усадьбы», и таким образом вернуть на свою сторону дворянство венский двор не принял. Но, надо сказать, и сам эрцгерцог боялся, что «неукротимая чернь дурно повлияет на чернь остальных владений державы». В мае «независимое» венгерское правительство пригласило изгнанного из Вены императора Фердинанда в Пешт, пообещав, что он «будет в безопасности среди преданных ему венгерцев». Петефи держался другого мнения относительно безопасности короля.
«Мы стоим перед могучей революцией», — заявил он грозно.
И в самом деле народ Венгрии спутал все расчеты торгующихся политиков.
«В первый день революции, — писал Вашвари, — один отважный патриот заявил от имени множества рабочих, что он создаст из них особый отряд, который за три дня научится обращаться с орудиями, и, если это потребуется, он захватит здания для революции…»
Организация «Мартовская молодежь» если и не раскололась под влиянием революционных выступлении крестьян и рабочих, то, во всяком случае, в ней явственно обозначились два крыла.
Одна группа, во главе с Петефи — Вашвари, выдвигала все более последовательно-демократические требования, вплоть до вооружения народа. Вашвари «стал за день одним из самых знаменитых людей в. стране… пештская публика никого, кроме, может быть, Петефи, не слушала с такой охотой, как этого двадцатилетнего, безбородого и бледного молодого юриста»[70].
А в другой группе, которую возглавляли романист Мор Йокаи и будущий фабрикант Янош Видач, раздавались менее радикальные голоса. «Народ должен великодушно презирать орудия тирании, — ораторствовали соглашатели. — Мы собираемся не под знаменем мести».
Это им в ответ написал Петефи:
Петефи и его сторонники были выразителями нарастающего народного движения, они вносили в него сознательное начало.
В апреле 1848 года в Пеште начались забастовки во многих отраслях промышленности. В столице Венгрии это было первое серьезное стачечное движение. «Цеховые подмастерья хотят вершить кровавый суд над цехами, к этому готовятся они сейчас, — писал Вашвари, — я с радостью приветствую своих соотечественников, молодых мастеровых, которые с самого начала революции примкнули к нам… Но руководство («Оппозиционного круга». —
Стало быть, пештские рабочие хотели создать свои отряды, но большинство пештского бюргерства и «прогрессивное» дворянство так испугалось, что решило вычеркнуть это предложение даже из протокола собрания.
На улицах появились первые листовки рабочих: «Хлеб — народу!» К революционным выступлениям рабочих враждебно относилось не только «независимое» правительство, но и большинство общественных организаций. В июле правое крыло «Мартовской молодежи» называет «возмутителями» тех, кто «на собраниях… требует распространения на рабочих гражданских прав и иначе не соглашается идти в армию».
Рабочих ораторов пештская полиция арестовывала, и одна только газета Михая Танчича вступилась за них: «…Парламент не представляет всю нацию… могущественные богачи жиреют на крови бедняков…»
А Петефи еще задолго до этого заявил на одном народном собрании Пешта: «Я не доверил бы этому министерству не то что родину, а даже пса своего». Он сказал это после того, как немецкий военный комендант, продолжавший существовать наряду с «независимым» венгерским правительством, разогнал в Буде венгерскую Национальную гвардию, когда она стала требовать оружия.
В связи с этим газеты не только нападали на Петефи, но стали отказываться печатать его призывные революционные стихи. С презрением ответил Петефи этой трусливой своре:
Атмосфера в стране становилась все более накаленной. Выяснилось, что крестьянство обладает лучшим «чутьем истории», чем это многие думали. Оно все энергичнее стало выступать против правительства, которое только тем и занималось, что внутри и вне страны шло на всевозможные сделки.
Комитат Бекеш клокотал. Крестьяне поджигали барские усадьбы, захватывали земли. Только за апрель и май произошло в Венгрии двадцать четыре крестьянских бунта.
Правительство дворян, дрожавших прежде всего за свои поместья, решило применить самые жестокие меры против восставших крестьян и батраков — оно объявило в стране чрезвычайное положение. Даже Кошут говорил про Петефи, Вашвари, Танчича и их приверженцев: «Их всего-то триста человек. Слово скажу — и всех перебьют!»
Когда мезёбереньские крестьяне, заявив, что «если нас заставляют проливать кровь ради родины, то пусть и господское добро станет нашим», захватили помещичью землю, правительство казнило руководителей «этих бунтовщиков», а восемьдесят два человека, участвовавших в переделе земли, были закованы в кандалы и брошены в тюрьму.
Не только в венгерских комитатах Берене и Орошхазе вешали крестьян, но и в сербском Надьбечке-Реке и в комитатах, населенных румынами. Правительство никак не могло осознать, что разрешить крестьянский вопрос необходимо даже ради завоевания национальной независимости.
Арестовывали и приговаривали к смертной казни вождей орошхазских крестьян, руководивших захватом барских земель. «Не выпускавшее вожжей» правительство отклоняло их просьбы о помиловании.
В Воеводине и Банате венгерские помещики «усмиряли» взбунтовавшихся сербских крестьян с помощью регулярных войск. Реакционные круги во главе с венской правительственной камарильей очень быстро поняли, какую удастся им извлечь выгоду из распри между сербскими, хорватскими крестьянами и венгерскими помещиками, если они переведут борьбу из социального русла в национальное.
Революционный демократ Танчич писал в это время в своей «Мункашок уйшага»: «Защищая свою свободу, мы обязаны одновременно протянуть руку помощи соседним народам, чтобы они тоже могли завоевать себе свободу».
Крестьянство многих национальностей Венгрии обернулось против революции именно из-за неразрешенности земельного вопроса. Ярким свидетельством политики правительства по отношению к национальностям является тот факт, что в Тренченском комитате еще в июле 1848 года словацких крестьян заставляли идти на барщину прикладами. В Торонтском комитате еще в сентябре 1848 года, когда Елашич[71] уже шел к Пешту, шестьдесят тысяч сербских и румынских крестьян силой заставили уплатить оброк помещикам.
Петефи ясно видел, что творилось кругом. Поэтому он и писал в прокламации, выпущенной «Обществом равенства»:
«…Мы объединились для того, чтобы штурмовать и низвергать предрассудки, поддерживающие классовые разграничения между человеком и человеком, гражданином и гражданином. Мы объединились для того, чтобы уничтожить между людьми отчуждение, основанное на различии языков…
…Отзвучали великие слова, провозглашенные 15 марта. Идеи свободы, равенства и братства не осуществились… Классовое господство существует по нынешний день, народ по-прежнему прозябает в положении политических пролетариев.
Мы освободились из-под власти Меттерниха и его клики и получили взамен министерство Батяни. Поистине можно сказать: «На собаке шерсть сменилась»[72].
В июне 1848 года венгерское «независимое» правительство решило провести выборы в Национальное собрание. Столь нерешительное в отношении австрийской камарильи, это правительство оказалось очень решительным в вопросе о том, чтобы не допустить венгерских трудящихся до участия в управлении страной. Новый избирательный закон допускал в парламент только тех, кто имел большие доходы и кто платил соответствующий налог. Короче говоря, правительство 1848 года признало «политически незрелым» подавляющее большинство населения Венгрии — миллионы бедняков, батраков и рабочих.
В день, когда избирательный закон стал известен, Вашвари помчался к Петефи. Перепрыгивая сразу через три ступеньки, он взбежал по лестнице и нетерпеливо постучался в дверь.
— Кто там? — спросила Юлия.
— Я, Вашвари!
Дверь отворилась. Слегка наклонив голову, в дверь вошел рослый молодой человек. Юлия пытливо и недоверчиво посмотрела на его взволнованное лицо:
— Что случилось? Какое-нибудь новое несчастье? Вашвари выпрямился:
— Новое несчастье? Напротив, очень даже старое, весьма древнее!
Из комнаты вышел Петефи. Он, видно, что-то писал — в руке у него было перо, которое он только что обмакнул в чернила и поэтому держал его сейчас острием кверху.
— Пал, что случилось?
— На, получай новый избирательный закон! — крикнул ему Вашвари. — Одни только дураки и могли предполагать, что эти господа одумаются! Всем дворянам по-прежнему оставили право голоса вне зависимости от того, умеют они читать или нет, есть у них имение или только на юру торчат три кустика шиповника, а с недворян спрашивают дипломы, цензы устанавливают для них. Я и сам-то не против ценза, но по закону установили такой высокий ценз, что из ста человек, может, только один и получит право голоса. Хорошенькое же соберется Национальное собрание!
Петефи рассердился:
— К черту все цензы! В общем людям опять дали понять: работайте и помалкивайте, дела родины вас не касаются.
Все вошли в комнату, где гостей встречал портрет Марата на стене. Петефи стал слушать рассказ Вашвари об избирательном законе. Потом вытащил из кармана медный грош, начал левой рукой подбрасывать его в воздух и ловить на лету.
— Славное у нас правительство. Превосходное правительство! — пробормотал Петефи. Затем сунул грош в карман. — А я все-таки выставлю свою кандидатуру. Хоть лопни они там, а я все равно стану депутатом Национального собрания. Должен же быть там хоть один человек, кто не побоится высказать им правду в лицо!
— Вот потому-то я и пришел, — ответил Вашвари и сел против Петефи.
— А что такое? — спросил Петефи.
— А где ты хочешь баллотироваться?
— На родине, в Альфельде.
— Не лучше ли в Пеште? Здесь неделю назад тебя слушало двадцать тысяч человек. Эти люди пойдут за тебя в огонь и в воду.
— Да, но у кого из них есть право голоса? — горько усмехнувшись, спросил Петефи. — Пусть не возмущается высоким цензом тот, кто считает, что ценз все-таки нужен. Кто в Пеште избиратели? Главным образом немцы с Буды, почтенные налогоплательщики, — и он махнул рукой. — Да здесь и ближе к властям, к тем, на ком «шерсть сменилась». Моя родина все-таки подальше от них. Мне кажется, что гам можно считать честными мадьярами даже большинство крестьян, получивших право голоса.
— Смотри, Шандор! Эти господа ненавидят нас, а тебя пуще всех. Их руки дотянутся и до Альфельда. Здесь хоть пештский народ за тебя, защитит, если понадобится, а там?
— Шандор сам себя защитит, — несколько обиженно перебила его Юлия. — Он никогда ничего не боялся и сейчас тоже не испугается. Ведь он знаменит на всю страну, и народ будет за него.
Вашвари взглянул на Юлию, хотел было что-то ответить, но потом опустил голову.
— Да, да, — пробормотал он. — Но при таком избирательном законе трудно будет добраться до народа.
— Ну, на родине-то я доберусь! — воскликнул Петефи. — И будь спокоен, очень скоро выйдет совсем иной избирательный закон. Тогда и ты поймешь, что никакие цензы не нужны, что все это только петля на шею народа.
Вдруг вмешалась Юлия:
— А я, Шандор, думаю, что ценз все-таки нужен. Ведь в конце концов для занятий политикой требуется известное развитие, какие-то понятия. А неимущие люди — я их очень люблю, уважаю, но все-таки…
Петефи прервал жену:
— Юлия! А не думаешь ли ты, что, в сущности, и твой отец придерживается таких же взглядов?
Но жена ответила так, что это даже для Петефи было неожиданностью:
— Ты сердишься на Вашвари из-за ценза, а я — за то, что он посмел усомниться в твоей популярности…
Петефи глухо проговорил:
— Как же можно на все смотреть с личной точки зрения?.. — Потом, взглянув на Вашвари, прервал себя на полуслове.
Он подошел к письменному столу, взял в руки несколько исписанных листов бумаги, встряхнул головой, будто хотел освободиться от неприятных мыслей.
— Рассказать, как я хочу все это сделать? — спросил он Вашвари. — Сегодня я уже написал воззвание. Если желаешь, прочту тебе. Юлия уже слышала.
Вашвари придвинул свое кресло ближе к столу. Петефи приступил к чтению.
— «Сограждане и соотечественники! Соотечественники не только как мадьяры, но и как куны[73], так как я уроженец Киш-Куншага! Мне кажется, вы должны" еще помнить того низкорослого коренастого мясника, который арендовал некогда мясные лавки в Феледьхазе, Сабадсалаше, Сентмиклоше, — это был мой отец. Я не думаю, чтобы вы позабыли его совсем. Когда он жил здесь, все честные люди любили его, ибо честные люди всегда любят друг друга».
— Ну как, неплохо для начала? — спросил Петефи, прищурив правый глаз.
— Читай дальше. Пока все в порядке…
— И дальше, дружище, тоже все будет в полном порядке. Я всю ночь работал над этим воззванием. «По правде сказать, я выступаю вовсе не за себя, а за вас, выступаю с намерением сделать для вас добро. Я попросту предлагаю вам себя орудием в ваши руки. За последнее время Венгрия сделала много, но недостаточно для того, чтобы стать счастливой и свободной… А ведь у каждой нации есть две основные цели: счастье и свобода. Венгрия до сих пор была сырой сосной, теперь она уже срублена, распилена на доски, но и поныне еще не обстругана; а ведь надо же ее обстругать для того, чтобы изготовить тот славный стол, за который сядут пировать два земных божества: счастье и свобода.
Как я уже сказал, Венгрия необструганная доска. Хотите вы ее обстругать? Хорошо! Вот я и предлагаю себя рубанком в ваши руки. Одно могу сказать, не согрешив против совести, что я испытанный рубанок, что я обработал немало необтесанных бревен и при этом не затупился. А все эти пестрые речи я веду к тому, что приближается срок открытия Национального собрания, а в Национальное собрание надо выбрать депутатов… Изберете меня, я почту за честь, а у вас, думаю, от этого убытку не будет и краснеть за меня тоже не придется».
Он взял следующий листок и бросил взгляд на Вашвари. Друг его сидел насупившись, видно было, что он думает о чем-то другом.
— Ты слушаешь? — спросил Петефи, почувствовав, что Вашвари думает о чем-то своем.
— Слушаю. Читай дальше.
Юлия обиженно скривила губы. Она вообще недолюбливала Вашвари, теперь же, когда она считала, что Петефи должен сделаться депутатом во что бы то ни стало, а Вашвари посмел усомниться в этом, она совсем рассердилась.
Каждый раз, как Петефи читал какую-нибудь фразу, казавшуюся ей особенно значительной, она поглядывала на Вашвари с упреком. «Да как же можно сомневаться в том, что Шандора изберут?» — говорил ее взгляд. А Петефи читал, держа в руках уже третий листок бумаги.
— «Ежели кто-нибудь сочтет мои слова хвастовством, пусть себе считает; я готов согласиться даже с тем, что был хвастлив, но никогда в жизни не был я столь низким человеком, чтоб кому-нибудь льстить. Сейчас у меня был бы лучший случай заставить полюбить себя; для этого стоило бы только вознести вас до небес, сказать, что вы, куны, такие-то и такие-то, несравненные, изумительные, отличные люди! Произнеси я подобные витиевато-красноречивые речи, знаю, что угодил бы вам всем; больше того: многие из вас самодовольно пригладили бы усы, волосы и сказали бы: «Эх, а все-таки славный человек этот Петефи, выберем-ка его депутатом». Но вы не ждите, чтобы я восхвалял вас, — вдруг возвысил голос Петефи, — это была бы наглая ложь».
— Что такое? — вскочил Вашвари. — Ты так и написал?
— Так и написал.
— Да подождите же, сейчас будет самое главное! — прикрикнула на него Юлия.
Петефи продолжал читать. Вашвари теперь слушал его стоя, ухватившись за спинку кресла.
— «…вам честно говорю, что вы вовсе не прекрасные люди, во всяком случае до сих пор не были таковыми. До 15 марта вся Венгрия была раболепствующей, по-собачьему покорной страной… Вспомните-ка только…»
— Стой, Шандор! Ты сошел с ума!
— Почему? — спросил Петефи спокойно.
— Ты думаешь, что после такого воззвания тебя изберут?
— Уверен! Только после такого воззвания и стоит меня избрать. Разве я могу соврать хоть в едином слове?
— Ты забываешь, что местные господа все это обратят против тебя, что ты сам подставляешь шею под нож.
— Я никогда не изменял и не стану изменять своим убеждениям! Хочешь дальше слушать воззвание или нет? — спросил Петефи.
— Читай! Но так может поступать только поэт, а не политик.
Петефи стукнул кулаком по столу.
— Так что же, по-твоему, прямота и честность — это привилегия одних поэтов?
— Если бы избирателями были альфельдские батраки или пештские мастеровые, с ними можно было бы так говорить. Ты это воззвание для них и написал, только вот адресовал другим.
— Я думал про весь венгерский народ, — сказал Петефи и взял последний листок бумаги: — «…Бог дал животному четыре ноги, а человеку только две и сделал он это для того, чтобы человек ходил выпрямившись и смело смотрел в глаза своим ближним…» Воззвание было прочитано. Вашвари глубоко вздохнул. Он уже знал: что ни говори, все напрасно. И обнял Петефи.
— Желаю тебе всяческих удач, но боюсь, как бы не вышло наоборот.
— Выдержу, — коротко ответил Петефи и отвернулся.
Вашвари ушел. Юлия презрительно бросила:
— Не люблю трусливых людей!
Петефи ничего не ответил и торопливо сел за стол, давая понять, что хочет работать. Юлия вышла из комнаты. Оставшись один, Петефи подошел к открытому окну и долго смотрел на улицу, гудящую в летнем зное. Потом взялся рукой за оконную раму, прижался к ней лбом и закрыл глаза.
— Будь что будет. Иначе поступить не могу!
И вот Петефи написал в Кишкун-Сентмиклош письмо своему другу, в котором сообщал о намерении баллотироваться у них и высказывал взгляды на то, каковы должны быть депутаты будущего Национального собрания: «Не сомневаюсь, что в Национальном собрании будет достаточно умных людей, но будут ли люди, полные воодушевления и способные вдохновлять, — это еще вопрос. А ведь по теперешним временам больше всего нужны именно такие люди… нужно фанатическое воодушевление, чтобы оно освещало дорогу нации».
Вскоре он отправился на родину. Там он распространил свои воззвания. «Выборщики… не принадлежавшие к сословию господ, встретили их восторженно… На несколько дней я уехал в Пешт, а когда вернулся, обо мне уже ходили такие страшные слухи, словно я был закоренелым злоумышленником. Кто распространил эти слухи? Конечно, господа».
Но большинство народа не верило клеветническим измышлениям. Когда Петефи вернулся, его поджидали на площади около пятисот человек. Люди требовали, чтобы Петефи выступил перед ними.
— Пойдемте, друзья, в ратушу, — сказал Петефи, — там я заявлю, что мы устроим народное собрание.
— И без них проведем! — закричали некоторые.
— Пойдемте, к ратуше, — возражали другие. Все подошли к ратуше. Толпа осталась на улице.
Петефи встретила «кучка ощетинившихся ежей» — члены городской управы.
— Мы не позволим вам держать речь!
— Народ требует этого, — сказал Петефи. — Вы в окно поглядите.
Толпа под окнами разрасталась. Все ждали.
— Да у тех, внизу, почти ни у кого нет права голоса, — проворчал судья, глядя на толпу. — Хорошо! Говорите, но за последствия будете отвечать вы!
— Я не привык избегать ответственности, — ответил Петефи серьезно.
— Но сперва представьте нам свою речь в письменном виде.
— Этого вы не дождетесь! Не напрасно уничтожили мы цензуру пятнадцатого марта.
Судья замолчал. Какой-то щеголеватый господин, помоложе других, спросил Петефи:
— А о чем вы намереваетесь говорить?
— О выборах депутатов и о той клевете, которой чернили меня в мое отсутствие.
— Об этом не может быть и речи! — снова возмущенно закричал судья.
— Посмотрим! — бросил ему в ответ Петефи.
«…Я вышел и, стоя перед ратушей, говорил собравшемуся народу о депутатских выборах, умолчав о возведенных на меня обвинениях; последнее я делал не вследствие запрещения судьи, а потому, что хорошо видел по лицам окружающих: стоит мне только упомянуть о моих клеветниках (которые выглядывали из окна городской ратуши), народ ворвется в ратушу и растерзает их в клочья, точно фальшивые банкноты.
Когда я еще беседовал в зале городской ратуши с достопочтенным советом, у меня нечаянно звякнула сабля, и тут же народ внизу закричал: «Беда! Обижают Петефи!» Люди вломились в помещение… а впоследствии я узнал, что, покуда я говорил с господами, многие стояли подле меня, открыв складные ножи… они решили, что первого, кто притронется ко мне, беспощадно убьют…
…В полдень я заехал в Сабадсалаш, чтобы ознакомиться с обстановкой. От одного из членов совета я услышал, что почти весь народ стоит за меня…
Я спокойно вернулся в Сентмиклош. У меня не было уже сомнений в том, что я стану депутатом».
Казалось, что все идет хорошо и Вашвари ошибся.
Через два дня должны были состояться выборы.
«…Вчера под вечер я поехал в Сабадсалаш. Остановился у знакомого. При виде меня все его домашние пришли в ужас и едва были в силах произнести: «Ради бога, скройтесь, уезжайте отсюда. Немедленно, сию же минуту уезжайте, не то вас изобьют до полусмерти. Позавчера у господ чуть не до полуночи тянулось собрание, и они восстановили против вас весь народ. Поп, сын которого метит в депутаты, сказал, что, как только вы появитесь в городе, он ударит в набат. Скройтесь, если вам жизнь еще мила!»
Юлия, приехавшая вместе с Петефи, не захотела и слушать предостережений:
— Нет, обратно мы не поедем, а останемся здесь. Мы должны здесь остаться, даже если нас решили убить. Пусть убивают! Пусть! Но никто не скажет, что ты отступил!
А дальше выборы происходили так же, как потом они протекали почти сто лет подряд в барской Венгрии.
«Вечером, часов около десяти, меня пробудили ото сна звуки музыки и шум — чествовали поповского сынка как будущего депутата. Я выглянул из комнаты; хозяева объяснили, что священник спаивает весь город. Так как эти подлецы и негодяи увидели, что ни клеветой, ни ложью им не оттолкнуть от меня людей, они прибегли к последнему средству: пустили в ход вино и палинку[74], чтобы бедный, достойный жалости народ обратился против меня, а таким образом — против самого себя. Пьянство и крики продолжались всю ночь.
…На следующий день рано утром я прошел к городской ратуше, чтобы там дождаться народа и, когда все сойдутся на выборы, опровергнуть возведенную на меня клевету… Меня окружило целое стадо обозленных пьяниц. Сигнал был подан, ко мне бросились со всех сторон, и больше сотни глоток взревело:
«Это изменник родины! Висельник! Русский шпион! Он хочет продать родину! Рвите его на клочки, убейте его!»
…В Сабадсалаше единодушно, без голосования, выставили депутатом поповского сына…
Так прошли депутатские выборы… Я правдив… не солгал ни единым словом.
…И надо же было, чтобы это произошло именно сегодня, чтобы сегодня захотел венгерский народ убить меня как русского шпиона, как изменника родины!.. Сегодня, 15 июня, исполнилось как раз три месяца с 15 марта, когда я был первым среди тех, кто поднял свой голос за свободу венгерского народа и выступил в бой за нее.
Но не народ проклинаю я за это, а тех, кто обманул его, свел с пути истинного…»
Национальное собрание открылось. Петефи смотрел с галерки, как собирались почти те же люди, что в Пожоньском сейме годами тянули с освобождением крестьянства и не желали последовательно бороться за независимую Венгрию. Да и кому ж, как не им, было здесь собираться, коли установили такое избирательное право, такой высокий избирательный ценз?
Но все уловки и козни, вследствие которых Петефи не попал в число официальных представителей венгерского народа, оказались тщетными. Петефи все равно считал себя полноправным и действительным представителем венгерского народа. В день открытия Национального собрания он, как и подобает певцу и вождю народа, напечатал стихотворение «К Национальному собранию»:
Такое предостережение послужило, конечно, причиной для новых нападок на Петефи. Враги, желая любыми способами заглушить силу слов Петефи, решили обвинить его в тех грехах, которые больше всего были свойственны им самим. Последняя их версия звучала так: Петефи важна не родина, не ради нее он бунтует, а из-за собственного тщеславия, желания блистать и быть прославленным. На подобную напраслину Петефи отвечал вовсе не потому, что хотел переубедить своих клеветников; он обращался к народу, к друзьям, ко всем «сыновьям отчизны», чтобы они ясно видели его, видели, что надежды его «крепче горных скал», что он может смело, не щурясь, глядеть и «на солнце в полуденный час» и «в водоворот» и голова у него не закружится. Петефи хотел, чтобы народ ясно видел все злые происки врагов, чтоб он не попал еще раз — как уже часто попадал — в западню пустых обещаний правящей верхушки.
А путь Петефи был не случайным путем капризного человека, — это был путь революции; и Петефи «стократным эхом прогремел», чтоб сказать: во что бы го ни стало надо пойти по этому пути, иначе страна снова попадет в рабство.
Осенью под влиянием последних событий Петефи с лихорадочной быстротой написал поэму «Апостол».
«На днях я закончил длинную поэму (3400 строк), названье ее «Апостол». Этими краткими словами оповестил Петефи своего друга Яноша Араня о рождении новой поэмы, с социальной точки зрения наиболее значительной из всех его эпических произведений. По милости властей и издателей «Апостол» при жизни Петефи не увидел света, а впоследствии, когда он был напечатан, реакционеры и эстеты разных толков всячески пытались умалить его значение. Какие только грехи не приписывались этой поэме: и дурная композиция, и низменность языка, и нечеткость стиха, и недопустимость смешения романтики с реализмом, и пр., и пр. Но все эти «высокоэстетические мудрствования» и рассуждения нужны были только для того, чтобы как-нибудь опорочить поэму, в которой изображалась беспросветная нужда городских низов, разоблачалось венгерское общество, его господствующие классы, срывались маски с ханжества помещиков и попов и общественная несправедливость выступала во всей ее омерзительной наготе.
Поэма «Апостол» является обобщением всего творчества Петефи, она возвышается в венгерской литературе как величественный памятник гуманизма, памятник борьбы венгерского народа за свое освобождение. В ней, несмотря на некоторую условную романтичность в изображении героев, с подлинным лиризмом воплотились те идеи и чувства, которые выразил Петефи в целом ряде своих революционных стихотворений, в дневниках и политических статьях. В этой поэме воплотилась вся ненависть Петефи к королям, его страстная приверженность к республиканству, любовь к человечеству, глубочайшая вера в народ и в прогресс.
Герой поэмы, подкидыш Сильвестр, испытав вес мытарства и превратности, на которые был обречен плебей в феодальном обществе, приходит к осознанию того, что он должен посвятить свою жизнь просвещению народа, борьбе за его освобождение. Он голодает, почти гибнет от нужды, но пишет книгу, «лучше которой не написал и Руссо». И за эту книгу, в которой он заклеймил общественное неравенство, тиранов и королей, его сажают в тюрьму. Десять мучительных лет проводит этот народный «апостол» в темнице. За это время семья его погибает. Выйдя из тюрьмы и узнав, что «нация еще не свободна», а народ еще больше угнетен, согбенный седой старик Сильвестр решается на убийство короля. Покушение не удается. Палачи хватают его и казнят.
Несмотря на все тяжелые переживания Петефи в пору создания этого произведения, революционный оптимизм поэта остался непоколебимым. Герой поэмы терпит поражение, но его идеи и идеи других борцов за свободу продолжают жить в народе. Проходят годы, и народ все-таки побеждает тиранию, с благодарностью вспоминая о тех людях, которые пали в борьбе за свободу.
Сильвестр принадлежал к тем людям, которые, по словам Герцена, вышли «сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия».
И хотя Сильвестр изображен идеалистом, революционером-одиночкой, однако он вырастает в символ свободолюбивых устремлений венгерского народа и тех людей, которые начертали на своем стяге: «Лозунг святой — мировая свобода».
В поэме Петефи народ пошел против своего просветителя Сильвестра. Люди, действовавшие в «Апостоле», — это современники Петефи, которые по наущению господ, обезумев от выпитого вина, хотели убить величайшего венгерского поэта, самоотверженного сына венгерского народа.
Чтобы иметь возможность бороться за народ «с удвоенной силой», Петефи подал заявление в Национальное собрание,
Новое Национальное собрание два часа обсуждало заявление Петефи по делу «честных» выборов, проведенных при помощи подкупа и спаивания. В течение двухчасовых прений собрание так и не пришло ни к какому решению не только относительно подкупа — был он или его не было, но и относительно того, сколько депутатов надо послать для расследования дела. Часть депутатов стояла за то, чтобы послать троих, другая часть из соображений «экономии» предлагала послать только одного человека. Петефи не ошибся: вследствие нового избирательного закона в Национальное собрание вошли главным образом среднепоместные дворяне. Чего же мог от них ожидать Петефи, честный сын трудящихся Венгрии! Началась глупая, нудная канитель. Этими прениями ц закончилось «расследование». Никогда больше в собрании не заводили речи об этом деле.
Ко всему случившемуся под стать было выражение Петефи: «Это было похоже на то, как если бы луна привлекла к суду собак за то, что они воют на нее».
В Национальное собрание были избраны только четыре представителя крестьянства. Одним из них был Михай Танчич. В собрании его окрестили уже «грабителем собственности» за то, что он выступил на защиту крестьян против помещиков, присваивавших крестьянские пастбища и требовавших компенсации за оброк. «Поганый мужик, а тоже лезет в мудрецы!» — кричали Танчичу депутаты.
Удивляться было нечего — ведь это Танчич организовал в Будапеште забастовку и первый сформулировал коллективный договор рабочих-печатников. Рабочие прозвали его за это «отцом печатников». Танчич написал в своей газете «Мункашок уйшага»: «Перо — могучее оружие, особенно если человек может пользоваться им без помех. А по нынешним временам пером надо биться так же, как и саблей. Надо, чтоб перо… рубило лезвием, кололо острием и всегда попадало в противника… Поэтому, дорогие соотечественники, я решил время от времени раздавать налево и направо эти сабельные удары, воздавать ими каждому по заслугам. Я призываю вас, мои деревенские собратья, передавать эти удары дальше, чтобы никто не остался обделенным. И если я здесь размахнусь своей саблей-пером, пусть тяжесть этих ударов будет во сто раз увеличена вашей могучей волей, силой ваших рук. Пусть от Пешта до Загреба почувствуют мои удары все те, кому они предназначены. Я рассчитываю на вас, трезвых, чистосердечных и могучих бойцов венгерского племени».
В ответ на такого рода обращения народ засыпал его своими письмами, жалобами, а приезжая в Пешт, крестьяне прямо шли на квартиру к Танчичу.
На первое выступление Танчича в Национальном собрании правительственная газета отозвалась так: «Это было необыкновенно смешно. Все собрание хохотало; такого рода безумие действует очень неприятно».
На самом же деле это было, очевидно, и не так смешно, ибо тот же дворянин, который 15 марта назвал заросшего бородой Танчича «первым цветком весны», теперь, позабыв о своих весенних настроениях, заклеймил Танчича одной фразой: «Бунтарь — сообщник врагов родины». Даже Кошут выступил против Танчича, сказав: «Сам не знает, что делает тот, кто бунтует народ против дворянства, аристократии и кого бы то ни было». И Кошут вызвал к себе Танчича и дал понять ему, что если он будет продолжать свою бунтовщическую деятельность в интересах крестьянства, то он, Кошут, «отдаст его в руки правосудия».
Единомышленники у Танчича были по-прежнему не в Национальном собрании, а среди голодавших, как и прежде, тружеников венгерских полей, рабочих Пешта и других городов.
Угрозы правительства не помогли, и тогда газету «безумца» и «бунтовщика» Танчича прикрыли, несмотря на то — или именно потому, — что она расходилась в гораздо большем количестве экземпляров, чем правительственная газета.
Старый революционер мог бы повторить слова Пе-тефи: «На собаке шерсть сменилась».
Но, вопреки этим гонениям, в тяжелые дни антиавстрийской войны, когда волновались — и не без основания — рабочие оружейного завода, патриот Танчич, заглушив свою горечь, обратился к ним с таким воззванием: «Друзья рабочие! Я хочу сказать вам искреннее, утешительное и ободряющее слово. Я знаю, что на заводе у вас дела идут не так, как надобно было бы им идти…», но «…ваш труд сейчас самый важный у нас на родине… Забудьте, друзья, о бесчинствах, которые творились до сих пор… Оружье, оружье давайте родине!»
И как только не сгорели со стыда помещики и другие господа, глумившиеся над Танчичем! В эти тяжелые для родины минуты они лучше поучились бы любви к отчизне у Танчича, Петефи, Вашвари, Хорарика — словом, у венгерского народа.
За преступления тех, что были у кормила власти, заплатил, к сожалению, снова народ: он заплатил кровью и десятилетиями страданий.
…Либо придет революция, которая все перевернет, но и все спасет, либо мы погибнем…
Беспринципный торг с австрийским царствующим домом, как и всякое беспринципное дело, кончился плохо. Венгерское правительство, созданное мартовской революцией, оказалось особенно уязвимым в двух вопросах: в крестьянском вопросе и в вопросе о национальностях, проживавших на территории Венгрии. В крестьянском вопросе оно пришло к половинчатому решению. Крепостные крестьяне получили землю с выкупом, а массы батраков, работавших на латифундиях, стали «свободными», но земли не получили. В национальном же вопросе правительство не пожелало удовлетворить даже самого элементарного требования — равноправия языков.
10 августа Петефи Поместил статью в газете «Марциуш тизенетедике». В ней он писал: «Никогда не был я полон более величественных надежд, и никогда не приходилось мне разочаровываться столь жестоко, как я был разочарован Национальным собранием… Мы будем, наконец, действовать, но действовать и умирать одновременно… И это будет так, если нация не поднимется как можно скорей и не выхватит из рук депутатов и правительства ту власть, которую так доверчиво отдала им и которою они не умеют пользоваться, а если и пользуются, то только для того, чтобы творить произвол».
Венская династия, нащупав слабые места в политике венгерского правительства и пользуясь враждой крестьян национальных меньшинств, составлявших половину населения страны, к венгерским помещикам, с января по сентябрь 1848 года занимается тем, что разжигает вражду к венграм вообще.
Так как прежними методами угнетения ей не удавалось уже обеспечить себе самодержавную власть, она перешла к натравливанию национальных меньшинств друг на друга и обратилась к столь известным в истории гнуснейшим средствам — к резне и к погромам. Таким образом пыталась она затемнить сознание национальных меньшинств, которые стремились освободиться от ужасов феодализма, отвести на ложный путь их ненависть против угнетателей, разбить единство народов.
Не впервые ради укрепления своей власти прибегали Габсбурги к таким методам. Совершенно естественно, что словаки, сербы, хорваты и румыны, которые вступили на путь национальной освободительной борьбы еще до 1848 года, сейчас ожидали от правительства революционной Венгрии, тоже вступившей на путь борьбы за национальную независимость, понимания и сочувствия их стремлениям. Вместо этого они натолкнулись на самое решительное сопротивление.
Венгерский правящий класс, придя к власти, решил продолжить угнетение пробудившихся к сознанию национальных меньшинств под лозунгом «превосходства венгерского племени». «Венгерская нация — ведущая нация», — провозглашал он. Истинный смысл этих лозунгов был в том, что наряду с угнетением национальных меньшинств, проживавших на территории Венгрии, и дальше будут угнетать и эксплуатировать венгерские трудящиеся массы. Естественно, что венгерский трудовой народ не имел никакого отношения к этим лозунгам.
Венгерское правительство не соглашалось идти ни на малейшие уступки национальным меньшинствам. Оно отклонило даже самые скромные требования сербской делегации, касавшиеся языкового равноправия сербов. Во время переговоров Кошут гневно бросил: «Пусть решит меч».
Это заявление и соответственные правительственные распоряжения, а также подрывная работа Габсбургов, ловко использовавших все эти разногласия, обострили положение.
В статье «Пражское восстание» Маркс и Энгельс писали о революционной Германии, что она «должна была, особенно в отношении соседних народов, отречься от всего своего прошлого. Вместе со своей собственной свободой она должна была провозгласить свободу тех народов, которые доселе ею угнетались»[75].
Венгерское правительство, вместо того чтобы включить путем демократических мероприятий национальные движения в революцию, превратить их в один из ее главных двигателей, по своей дворянской ограниченности оттолкнуло их, и они стали реакционными, контрреволюционными. Если словацкие крестьяне отказывались платить венгерским помещикам оброк или же требовали земли, если словацкие студенты высказывали желание, чтобы преподавание велось на словацком языке, то венгерские помещики обвиняли их в национализме. Если румыны требовали предоставления им таких же прав, какие венгры считали для себя самих естественными, и если даже при этом вождями их были революционеры Аврам Янку[76] и Никола Балческу[77], то венгерские дворяне все равно отвечали на это грубо, а после и произвольным нарушением заключенного союза.
В 1848 году трансильванский румын Лауриану писал Балческу: «Венгры желают навязать свой язык всем остальным нациям; они хотят, чтоб их язык стал государственным языком. Ни о чем другом они даже слышать не желают… Подумайте обо всем этом хорошенько, чтоб не попасть в еще худшее положение, чем были до сих пор».
Прижатая к стенке австрийская камарилья, в том числе и хорватский бан Елашич, не скупилась и на заманчивые обещания социального порядка. Эти обещания, конечно, никогда не были выполнены и давались только с целью задушить венгерскую революцию руками обманутых национальных меньшинств.
В том, что эти лживые посулы влияли и на настроения венгерского крестьянства, немало было повинно венгерское «независимое» правительство, которое вешало вождей крестьян, требовавших земли.
Часть венгерского крестьянства не хотела идти на войну. Это нежелание особенно проявлялось в тех местностях, где венгерское правительство отвечало на захват земель тюрьмами и казнями. Характерен ответ главы правительства на заявление орошхазских крестьян, захвативших землю помещиков в свои руки. «Жаловаться можно… обращаться к судье дозволено… судиться разрешено. Вот только захватывать землю нельзя!»
Один из руководителей крестьян, захвативших землю, ответил на эти слова так: «Мы уже достаточно жаловались. Судиться не собираемся — ведь это запрещено указом, который вынесла твоя милость. А землю мы не вернем!»
Подавить восстание орошхазских крестьян удалось только с помощью войск.
Одним из самых тяжких обвинений против венгерского правительства является документ, содержащий жалобы береньских крестьян.
«Беднота говорит, — пишут береньские крестьяне, — зачем пойдут наши сыновья в солдаты, ведь у нас нет ничего? Что им защищать? Поля помещиков?.. Так пусть помещичьи сынки и идут в солдаты!»
«Пусть идут в солдаты те, кому принадлежит земля», — пишут береньские крестьяне.
То же самое читаем мы и в письме шиклошских крестьян: «…Кому принадлежит наша родина, что можем считать своим мы, народ Венгрии, какие блага получаем мы? Об этом вы избегаете говорить… Мы прежде должны защищать родину, а потом вы вознаградите нас так, как вам будет угодно. Хорваты в Загребе поступают иначе… Вы уж поверьте нам… Многие из нас ведь подумывают о том, не лучше ли было бы перейти на сторону хорватов… Жестокие (венгерские. —
И все-таки большинство венгерского народа и даже часть представителей угнетенных национальностей, проживавших на территории Венгрии, осознали, что надо бороться против габсбургской реакции. «Как только раздавались трубы вербовщиков, — писал участник и впоследствии историк национально-освободительной войны Михай Хорват, — венгерская, румынская и словацкая молодежь тут же вставала под боевые знамена… Первыми приносили присягу обычно образованные юноши, слушатели университетов и мастеровые… Но не отставали от них и земледельцы».
Совсем иначе понимали защиту родины люди из состоятельных сословий. Танчич поместил в своей газете письмо одного молодого рабочего. «Сколько бедных крестьян, столичных мастеровых и студентов жаловались мне на то, что дела у нас плохи, очень плохи, — писал этот молодой рабочий, — ведь в то время как сами они поступают в национальную гвардию, идут добровольцами в армию, состоятельные люди и богачи под всякими предлогами уклоняются от военной службы… Но берегитесь — наступит еще судный день, придет расплата и будут тогда здесь плач и скрежет зубовный…»
Не желали больше исполнять обязанности палачей и венгерские войска, угнанные за границу для подавления других народов. Преданный австрийскому императору венгерский военный министр всячески угрожал солдатам, которые «нарушали свой долг» и возвращались к себе на родину, а Петефи приветствовал их замечательным стихотворением «Сотня Ленкеи»:
Демагогия австрийских правителей, их стремление натравливать нации друг на друга не были, как мы уже говорили, для Петефи тайной. В прокламации «Общества равенства» он писал: «…Елашич и его сообщники заявляют, что они не враги народа, а напротив — его друзья… Если хотите снова отрабатывать барщину, платить оброки и превратиться в подъяремную скотину — радушно принимайте Елашича и его кровавые хорватские дружины; но если вы поклялись, как это достойно свободной нации, никогда больше не пресмыкаться, никогда больше не взваливать себе на плечи тяжелое и постыдное бремя, тогда вперед, граждане. И пусть эта борьба будет не на жизнь, а на смерть!»
11 сентября 1848 года армия Елашича по приказу императора выступила против Венгрии и ее национального правительства.
«…И теперь я, тот самый, кто шесть месяцев назад писал, что нет «возлюбленного короля», тот самый, которого за это мои венгерские собратья or Карпат до Адриатики объявили самым матерым изменником родины, я теперь спрашиваю: «Так, значит, есть «возлюбленный король»?» — писал Петефи в одной из своих политических статей.
«Я сижу на раскаленных углях, — читаем мы в дневнике графа Сечени, — не пройдет и восьми дней, как все кругом будет охвачено огнем».
Но нет, не здания Пешта охватил огонь, а высоко взвилось пламя патриотизма жителей столицы, их страстная ненависть к иноземным угнетателям. Странно, что у такого аристократа-патриота, каким считал себя Сечени, революционный патриотизм народа ассоциировался с сидением на горячих углях. Такую странную ассоциацию можно понять только в том случае, если мы вспомним, что сказал в дна революции о другом графе сам Сечени: «Он боится за свои тридцать тысяч овец». Нельзя ли понять это высказывание и как лирическое признание?
Положение на самом деле было такое, что крупные землевладельцы были охвачены страхом: что же будет с их землями, скотом, состоянием, замками? И тут же выяснилось, что они готовы пожертвовать независимостью Венгрии, лишь бы их стада по-прежнему паслись на их тучных лугах.
Пештский народ поднялся, в том числе и рабочие, которых до сих пор не принимали в Национальную гвардию из-за «неблагонадежности».
Во главе с Петефи и Вашвари он запрудил все улицы вокруг здания Национального собрания. «Родина в опасности! Смерть изменникам!» — слышались возгласы, возвестившие начало сентябрьских событий. Именно на этих людей и опирался вождь левого крыла Национального собрания — Ласло Мадарас[78], когда он вносил свой законопроект о введении чрезвычайного положения в стране.
Не дворянское Национальное собрание, а народ Будапешта выступил 11 сентября против декрета, которым король пытался принудить венгерское правительство выйти в отставку. 11 сентября народ окружил здание Национального собрания. Окна задрожали от гула голосов. Поначалу Кошут покорно покинул министерское кресло. Но тогда в зал хлынули люди с улицы, и они заставили Кошута снова занять свое место. Национальное собрание приняло новый законопроект (выпуск венгерских банкнотов, учреждение национальной армии, учреждение Комитета защиты отечества), и с этого, собственно, началась антигабсбургская революционная война венгерцев.
После этого вышел указ, которым в конце сентября император назначил генерала Ламберга[79] полновластным наместником Венгрии. Он привез с собой декрет императора о роспуске Национального собрания, которым император одним «мановением руки» пытался уничтожить все завоевания 15 марта. Это привело в смятение большую часть депутатов Национального собрания, и все, кроме Кошута, Мадараса и его приверженцев, готовы были пойти на соглашение с Австрией, тем более что контрреволюционные войска Елашича все ближе подходили к Пешту. Казалось, что всему наступил конец. Но венгерская беднота, народ Петефи, Вашвари и Танчича, которому «нечего было терять, кроме своих цепей», а завоевать он мог себе новую, более счастливую родину, — этот народ, вооружившись косами, вилами, дубинами и ружьями, снова вмешался в ход венгерской истории.
Прибывшего из Вены генерала Ламберга 28 сентября на набережной Дуная встретила огромная толпа и показала трусливым дворянам, как должно действовать мужественным патриотам. Уже через несколько мгновений после прибытия граф Ламберг, мертвый, лежал на судовом мосту, а взбешенный народ, вытащив из его сумки королевские указы, кричал, размахивая ими: «Да здравствует республика!», и потом порвал указы в клочья.
«Толпа состояла большей частью из беднейших слоев городского населения, — писала газета «Марциуш тизенетедике». — Это они рисковали собой нынче ради дела свободы».
Этой «толпы» и испугалось соглашательское большинство Национального собрания. «Если придут такие люди, как Мадарас (сущий Дантон), тогда и нам пришел конец, — писал граф Сечени. — Клубы (граф подразумевал под этим прежде всего клуб «Общества равенства», возглавляемый Петефи и Вашвари. —
Революция 1848 года достигла высшей точки. Даже «тихий» Янош Арань объяснял в эти дни венгерскому крестьянству: «Борьбу, которую ведут народы против угнетателей, называют революцией… Революция — самая прекрасная борьба из всех, какие только существуют на свете… революция завоевывает то, что положено народу».
А Петефи написал в это время свое замечательнейшее стихотворение, посвященное королям:
А Кошут? Он все еще надеялся на соглашение с королем. Он осудил выступление пештского народа, но вместе с тем был вынужден объединиться с Мадарасом и его товарищами, которые руководили сентябрьским восстанием и представляли левое крыло Национального собрания. Он объявил королевский указ, привезенный «усопшим» Ламбергом, незаконным, но о пештском выступлении написал в Вену по-прежнему в тоне верноподданного дворянина: вот-де к чему приводит неуважение его величества к законам.
При всей своей классовой и исторической ограниченности Кошут был все же вождем венгерской революции и освободительной войны 1848–1849 годов. Его деятельность вождя борьбы за венгерскую независимость носила в целом, безусловно, прогрессивный характер. Кошут был тем знаменем, под которым венгерский народ сплачивался на борьбу за независимость. Поэтому он был и остается подлинным героем венгерской истории.
Кошут был превосходным оратором, он умел увлечь за собой массы. Он произносил одну речь за другой. 15 сентября он выступал восемь раз; 17 и 19 сентября он произнес по девять речей.
Современник Петефи поэт Янош Вайда в своих «Воспоминаниях о 1848 годе» описывает одно знаменитое выступление Кошута, на котором присутствовали и Петефи и Вашвари:
«…Как раз в это время Кошут поправлялся после тяжелой болезни и был настолько слаб, что друзья под руки ввели его в зал заседаний. Бледный вышел он на трибуну, на лице его еще были явные следы тяжелой болезни…
Он ярко описал состояние отчизны и дал понять, что нам нечего ждать помощи извне, что мы только сами можем помочь себе. Голос его все время креп, движения становились живей… После получасовой речи не только все слушатели, но и сам он забыл о своей болезни. Каждая фраза, произнесенная им, зажигала, увлекала… Когда же он дошел до того, что для спасения родины нужно двести тысяч солдат, то депутаты Национального собрания, не в силах больше сдерживаться, прервали его на полуслове, единодушно закричав: «Дадим!» Все, как один, встали с мест, а с хоров (на хорах сидели Петефи, Вашвари и другие вожди народа, — среди депутатов собрания места им не нашлось. —
Кошут начал свою деятельность как представитель среднепоместного дворянства, и когда к середине 1848 года он стал вождем уже всего венгерского народа, то все еще не мог осознать, что народ ждет не только последовательной борьбы за национальное освобождение, но и коренных социальных преобразований.
Петефи на пять месяцев опередил апрельское решение 1849 года о лишении австрийского императора престола, когда в декабре 1848 года напечатал свое стихотворение:
В этот же период Петефи создал целый ряд стихотворений и баллад, направленных против австрийского императора и королевской власти вообще. Он искал сюжеты из венгерской истории, изобличающие того или иного короля в вероломстве, бесчестности, жестокости. Так родились его баллады «Бан Банк», «Королевская присяга», «Король и палач» и другие. К этому же времени относится и страстный, написанный в духе библейских пророков монолог в стихах «Австрия»:
Таков торжественный зачин стихотворения, и дальше поэт описывает все то злое, что творят коронованные владыки:
Грозным проклятием королям завершается это могучее стихотворение:
Проклиная короля, Петефи проклинал и всю феодальную верхушку общества, всю аристократию, угнетавшую народ. «Республиканец и по исповеданью», как писал о себе Петефи, призывая к свержению короля, он призывал к сокрушению феодального строя, к установлению республики.
Петефи до конца жизни разделял утопические воззрения революционных просветителей прошлого, их мечты о некоей идеальной республике, основанной на принципах всеобщего равенства и свободы, как конечной цели народного восстания.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что идею политического освобождения от гнета феодально-абсолютистского строя Петефи неизменно связывал с идеей политической и экономической независимости Венгрии, и это придавало необычайную широту и силу его призывам и делало его одним из самых последовательных представителей венгерской революционной демократии его времени.
После сентябрьского восстания пештского народа австрийскому правительству уже не под силу было справиться с восставшими венграми. Народ Вены тоже поднялся и овладел своей столицей. 6 октября он вздернул на фонарь австрийского военного министра Латура и с оружием в руках воспрепятствовал императорским войскам идти на подавление венгерской революции. Трудящиеся Вены действовали под лозунгом: «Свобода неделима»,
«Судный час пробил, — пишет «Марциуш тизенетедике», — и все грешники и негодяи, пусть даже восседающие на троне, получат достойнейшую кару-Подлость должна быть убита еще тогда, когда она лежит в колыбели. Надо протянуть руку помощи нашим иноязычным братьям, которые стремятся к тому же, к чему стремимся мы».
После того как Виндишгрец[80] подавил пражское восстание, он пошел на Вену во главе шестидесяти тысяч солдат. Венгерское Национальное собрание, которое благодаря гнусному избирательному закону состояло почти из одних дворян, продолжало колебаться. Оно все еще уповало на соглашение с императорским домом и вовремя не приказало своим войскам, стоявшим на австрийской границе, идти на соединение с восставшим народом Вены. Виндишгрец на глазах у венгров подавил венское восстание, целью которого было оказание помощи венграм. «Не так надо действовать в революционные времена, — писала «Марциуш тизенетедике». — Нужно было преследовать Елашича… Потом объединиться с венской демократией и одним страшным ударом сокрушить всю реакцию».
После подавления венской революции, когда Виндишгрец повесил даже стремившегося к соглашению командира венской Национальной гвардии, «Марциуш тизенетедике» с презрением заявила венгерским депутатам: «Политики-болтуны даже после сотни тысяч исторических примеров не в силах понять, что торг с реакцией никогда ни к чему доброму не может привести».
У руководящих политиков дворянства хватило отваги объявить войну за независимость Венгрии, но вместе с тем недоставало ни самоотверженности, ни патриотизма для того, чтобы во внутренней политике пойти дальше узкоклассовых интересов, привлечь на сторону революции миллионы крестьян, которые, получив землю, встали бы на ее защиту и разбили бы внешнего и внутреннего врага. Всеобщее налогообложение, введенное Национальным собранием, не касалось помещиков, они не платили налогов даже во время революционной войны.
Силы контрреволюции вскоре вышли из состояния оторопелости, порожденного ужасом перед революцией, и постепенно стали организовываться. Аристократия и высшее католическое духовенство, ведшие переговоры с австрийским домом, занялись сплочением контрреволюционной части среднепоместного дворянства. Нити различных заговоров против «антихриста Кошута» тянулись к замку кардинала Эстергомского. Не один офицер-дворянин клялся там, целуя распятие, изменить венгерскому народу. Да, впрочем, такого рода деятельность была не новостью в Эстергоме. Эстергомские попы издавна привыкли копать яму народу. Еще во время восстания Ференца Ракоци II, когда венгерские, украинские, словацкие крестьяне дрались бок о бок в «рваной гвардии» и казалось, что громадным латифундиям католической церкви угрожает опасность, попы в черных и пурпурных рясах совсем переполошились. Эстергомский кардинал герцог-примас и римский папа Климент XI грозили Ракоци отлучением от церкви. В то же самое время большая часть низшего духовенства стояла на стор. оне Ракоци.
Через сто сорок лет после восстания Ракоци, в 1848 году, большая часть низшего духовенства снова стала на сторону народа. «Нашему низшему и молодому духовенству не чужды интересы эпохи, оно радостно приветствует воссиявший золотой луч свободы, — писал один из представителей низшего духовенства летом 1848 года. — Слышали ли вы о движении духовенства в Чанаде и Фехермеде? Слышали ли вы о тех требованиях, что выдвинуло низшее духовенство Пешта и Буды? Эти требования шли настолько вразрез с планами эстергомских владык, что они немедленно выступили против, них. Странные речи раздавались на собраниях духовенства. Мы любим свою родину не так, как кардиналы, облаченные в золото и пурпур».
Как раз на это «облаченное в золото и пурпур» высшее духовенство, на помещиков, заключивших союз с аристократией, и на реакционных офицеров армии опиралась «Партия мира», разлагавшая революцию изнутри.
Старая феодальная бюрократия также изрядно «напоминала» о себе. Административные власти комитатов саботировали правительственные мероприятия, руководители отдельных комитатов препятствовали мероприятиям по организации освободительной армии.
«У нас, — писал корреспондент газеты «Неп баратья» («Друг народа») 19 ноября 1848 года, — некоторые представители власти до сих пор не могут понять, что старый строй свергнут, — они сами подталкивают людей на выступления против законных распоряжений и наказывают виновников».
«У нас реакционеры, местные исправники, — писал в «Мункашок уйшага» корреспондент из Нитры, — начинают поднимать головы».
«У нас назначают на ответственные посты, — читаем мы в газете «Марциуш тизенетедике», — тех людей, которые достойны скорее виселицы, нежели службы… Кругом уже все так возмущены, что каждый миг можно ожидать нового революционного взрыва».
Буржуазия немецкого происхождения тоже, в свою очередь, не бездействовала. Она вывозила из Венгрии свои капиталы, прятала деньги. Наряду с нею усердствовали в этом венгерские помещики и богатые крестьяне.
Что касается предательства некоторой части офицеров, то очень характерно в этом отношении свидетельство военного министра Месароша. После поражения под Кашшей Месарош[81] писал: «Добрую половину офицеров следовало бы расстрелять, потому что они повинны в позорном поражении».
Это о них сказал Петефи:
Как раз в эти месяцы, когда, как объяснял друг Петефи поэт Янош Арань крестьянам, весь мир раскололся на два лагеря, «в одном лагере стояли те, что хотят завоевать свободу, а в другом — те, что хотят сокрушить свободу»; в эти-то месяцы и вырастает значение Лайоша Кошута не. только для Венгрии, но и для всей Центральной Европы. Кошут осознает, что независимость Венгрии можно спасти только путем беспощадной войны против Австрии.
«Время пощады прошло, изменник отечества понесет кару», — заявляет он во всеуслышание. Кошут теперь проводит в жизнь те антиавстрийские мероприятия, которых Петефи требовал еще в марте.
Покуда глава венгерского правительства Батяни тщетно хлопотал в Вене о том, чтобы разрешили выпустить венгерские деньги, министр финансов Кошут, не дожидаясь разрешения Австрии, отпечатал венгерские банкноты. Также провел он в Национальном собрании и указ о создании двухсоттысячной венгерской армии.
«Наше правительство счастливо только тогда, — писала «Марциуш тизенетедике», характеризуя Батяни и министров, склонных ко всяким компромиссам, — когда оно имеет в своих руках подписи и печать (австрийскую. —
Кошут и левое крыло Национального собрания цереходят к решительным действиям. Они создают Комитет защиты отечества, явившийся главным органом революции в стране. Став его председателем, Кошут тут же прекращает всякие переговоры с австрийцами, и война против иноземных захватчиков превращается в революционную войну.
Своими воззваниями и речами Кошут воодушевляет венгерский народ. Он приступает к организации вооруженных сил революции, учреждает государственные оружейные заводы и в течение нескольких месяцев создает венгерскую народную армию. Десятки тысяч крестьян и городских бедняков пошли добровольцами в венгерскую армию. Венгерский народ надеялся, что революционная война изменит его жизнь. Солдаты-венгры, несшие воинскую службу на австрийской территории, тысячами возвращались, домой, чтобы встать на защиту независимости Венгрии. В первые месяцы венгерская армия отступала, сжигая все на своем пути, чтобы ничего не оставить ненавистным немцам.
«Энтузиазм мадьяр к свободе, еще более стимулируемый национальной гордостью, рос с каждым днем, предоставляя в распоряжение Кошута неслыханное для такого маленького народа в 5 миллионов человек количество добровольцев»[82].
Поражения, которые терпит венгерская армия в этот организационный период, не приводят Кошута в отчаяние. «Если мы не разобьем императорские войска на Лейте, — говорит Кошут, — то разобьем их на Рабнице; если не на Рабнице, то разобьем их у Пешта; если не у Пешта, то на Тисе, но, во всяком случае, мы их разобьем».
Наступает зима. Комитет защиты отечества и Ко-шут возлагали надежды больше всего на зимнее бездорожье, которое, по их мнению, должно задержать быстрое наступление войск Виндишгреца, а за это время они сумеют организовать венгерскую армию. Революции угрожает не только Виндишгрец. Подстрекаемые австрийцами, поднялись против венгров национальности, проживавшие на территории Венгрии.
Друг за другом выступают венгерские полки, имея иногда в руках только наточенные косы. Они идут на врага, наступающего со всех сторон.
В декабре 1848 года австрийская армия стоит уже под стенами Пешта. В это время австрийская камарилья заставляет отречься от престола полуидиота Фердинанда I, и на трон всходит Франц Иосиф, которому тогда едва исполнилось восемнадцать лет. Новый император в своем первом манифесте требует от мадьяр «полного подчинения». В Венгерском Национальном собрании депутаты, стоявшие и до этого за соглашение с Австрией, объединяются в «Партию мира». Премьер-министр Батяни и несколько его единомышленников едут в ставку Виндишгреца вести переговоры о перемирии, а Кошут с остальными членами правительства эвакуируется в Дебрецен.
Депутаты, испугавшись вооруженных пештских масс, единогласно решают переехать в Дебрецен. Виндишгрец отказывается принять Батяни. Он, как и Франц Иосиф, считает, что ни о каких переговорах не может быть и речи, что необходимо «полное подчинение». 5 января 1849 года сдают Буду и Пешт, и Виндишгрец вступает в столицу Венгрии.
9 января 1849 года, после падения Буды, когда многие впали в отчаянье, предались панике, Петефи продолжал говорить с непоколебимой уверенностью: «До сих пор на защиту свободы поднимались только отдельные люди или отдельные нации — они были подавлены; в прошлом году сразу вся Европа провозгласила то великое и священное слово, которое является новым спасителем человечества. А всю Европу уже не сокрушить!
Напротив, ее уже сокрушили, скажете вы, — во всех странах вновь царит тирания, а революция убита.
Вы ошибаетесь, земляки. Оттого, что пламя убыло, огонь еше не погас; оттого, что туча заволокла солнце, оно еще не истлело; один порыв ветра — и тучи как не бывало, лучи солнца жарко пылают вновь. В прошлом году нации без остановки сделали большую перебежку, теперь они остановились, но только для того, чтобы передохнуть и потом еще стремительнее ринуться вперед.
Берегитесь: через несколько месяцев, а то и раньше восстанут все люди цивилизованного мира и с криком, от которого треснут небеса, кинутся штурмовать преисподнюю. Она же находится не под землей, а царит здесь, на земле, в обличий тиранов, которые владычествуют тем беспощаднее, чем ближе их смерть».
Чем больше грозит революции опасность, тем больше вырастают решимость Петефи и его вера в победу.
Венгерская армия отходит на север. Здесь, получив подкрепление от присоединившихся к ней словацких батальонов и материальную поддержку от северных рудничных поселков, она одерживает над австрийскими войсками одну победу за другой. Покуда венгерская армия во время так называемой зимней кампании бьет австрийцев на севере, Комитет защиты отечества направляет героя октябрьского восстания в Вене — генерала Бема — на освобождение Эрдея.
В это же время Гёргей[83], говоря в пресловутом «Вацском обращении» о своей преданности императору Фердинанду I, заявил, что он выступит «со всей решительностью против тех, которые… пытаются своими нелепыми республиканскими лозунгами подорвать власть конституционного королевства».
Петефи был в Дебрецене, когда пришла весть о победе Бема и о том, что Бем раздает крестьянам землю.
Он сразу решил, что поедет в армию Бема.
Бем берет поэта к себе в адъютанты.
«Вы предлагаете мне свою саблю, — говорит Бем Шандору Петефи, — а мне нужно и ваше сердце». С великим уважением смотрит Петефи на старого революционера:
В Эрдее, помимо австрийских войск, действуют уже небольшие отряды интервентов из армии Николая I. Бем организует свою армию и за два месяца очищает Эрдей.
Под влиянием этих побед революционное крыло Национального собрания 14 апреля 1849 года провозглашает полное отъединение Венгрии от Австрии и назначает Кошута правителем.
И все-таки венгерская революция потерпела поражение.
А ведь весенние победы вызвали такое воодушевление в стране, что если б правительство пошло по последовательно-революционному пути, если б оно вняло словам Петефи, Вашвари и Танчича, то могло бы поднять всенародное ополчение и разгромить войска интервентов.
Главную причину поражения следует видеть не только в том, что военные силы противника превосходили военные силы революции, и не в том, что среди военачальников революционной армии было немало тайных контрреволюционеров. Главная причина поражения революции заключалась в первую очередь в том, что Национальное собрание по своей дворянской ограниченности не пошло на широкие социальные преобразования, а правительство либеральничало с силами реакции внутри страны, ради мнимого «единства» шло на всяческие компромиссы и уступки реакционным элементам, вместо того чтобы решительно расправляться с ними.
В первые месяцы после сентябрьских событий могло показаться, что компромисс, допущенный Кошутом, сделал возможным единодушное выступление нации. Так это могло показаться особенно тем, кто следил за событиями издали и не имел в своем распоряжении полных данных о внутренних делах Венгрии. Не следует забывать, что молодая венгерская армия в ходе весеннего наступления 1849 года изгнала из страны австрийские войска. Венгерская революционная армия уже снова подступала к Вене, когда военачальники во главе с предателем Гёргеем, чувствовавшие себя в полной независимости от гражданских властей, вдруг воспротивились наступлению на главную крепость реакции — Вену. Они не захотели протянуть руку помощи народу Вены, не пожелали нанести решающий удар реакции, которая со времени подавления Виндишгрецем пражского восстания все более нагло подымала голову.
Гёргей и поддерживавшая его «Партия мира» думали воспользоваться весенними победами для того, чтоб заключить соглашение с Австрией. Им было безразлично, что для этого Венгрия заплатит своей независимостью: главнее — приостановить дальнейший разворот революционных событий, более того — постараться с помощью Габсбургов уничтожить завоевания революции.
Петефи знал, что победа венгерской революции снова разожжет пламя освободительной борьбы и у других соседних народов, Петефи знал, что следствием этого может быть свержение реакции во всей Европе.
Кошут слишком поздно понял создавшееся положение. Летом 1849 года он уже обещал дать землю солдатам — участникам войны. Слова повешенных крестьянских вождей дошли до него с большим опозданием. С таким же запозданием стал он вести и переговоры с национальными меньшинствами. Даже 28 июля 1849 года, за несколько недель до поражения революции, Венгерское Национальное собрание не согласилось принять проект закона «О национальностях». Согласно проекту в тех местах, где румыны составляли большинство населения, им должны были предоставить право самоуправления и преподавания в школах на румынском языке. Вместо этого Национальное собрание ограничилось тем, что разрешило пользоваться румынским языком администрации румынских деревень.
В эту пору Семере писал Кошуту: «…близорукость собрания, его политическая слепота ужасны… благодаря венгерскому аристократическому подходу к национальностям наша нация погибнет… Я умываю руки, не желаю нести ответственности за такую политику».
А ведь после сентябрьских событий можно было бы создать подлинно народную армию, провести соответствующие мероприятия социального порядка и, опираясь на крестьянство, рассчитаться с реакционными среднепоместными дворянами, высшим католическим духовенством и аристократией. Почву из-под ног врагов можно было бы вырвать путем раздачи крестьянам земель изменников отечества.
«Искалеченные законы 1848 года уставились на небо, сопровождаемые не вздохами, а бранью миллионов венгерских крепостных крестьян»[84].
Единомышленник Петефи Пал Вашвари писал по поводу народного ополчения так: «Только молодая венгерская армия способна исправить ошибки, совершенные за прошлые века крепостным строем и отражающиеся до сих пор… только она способна сохранить единство родины».
Единство родины не было сохранено. После сдачи Пешта, в январе, вся народная масса этого большого венгерского города, составлявшая одну из важнейших движущих сил революции, была потеряна для нее. В конце 1848 года левая газета «Марциуш тизенетедике» писала: «Наше величайшее сокровище — Пешт. После потери его (что может случиться) потеря всей страны была бы только финалом печальной драмы».
Дебрецен, население которого состояло большей частью из кулаков и цеховых мастеров, не был способен дать толчок, подобный сентябрьскому. Кулаки и цеховые мастера Дебрецена явились одной из надежнейших опор «Партии мира» и контрреволюции, И хотя 14 апреля 1849 года, в день, когда Габсбурги были лишены венгерского престола, плебейские массы Дебрецена вышли на улицу, но все же население Дебрецена в целом было менее сознательным, чем население Пешта. А в Пеште в это время австрийцы предавали смерти каждого, кто только смел пикнуть.
Часть бедноты была уничтожена в войне, и революция не могла теперь получить подмогу ни из Пешта, ни от неудовлетворенных мероприятиями революции крестьянских масс.
Даже самое последовательно-демократическое крыло революции — группа Петефи — не смогло установить организационную связь с широкими массами крестьянства.
Когда трудовой народ Будапешта выступил в сентябре 1848 года, правительство согласилось принять его помощь. В ту пору уже не оставалось ничего другого, если только оно не хотело попасть в петлю, которую так старательно намыливали для него австрийцы. Но вскоре правители опять пришли к выводу, что в народе им нет необходимости, а поэтому они решили прежде всего лишить пештских «смутьянов» их вождя, Шандора Петефи. Михай Танчич, представитель народа в Национальном собрании, уже и без того был совершенно изолирован. С января 1849 года газета его не могла выходить из-за отсутствия средств. «Выложи на стол 10 тысяч форинтов, тогда и печать для тебя свободна». (Для того чтобы издавать газету, надо было внести 10 тысяч форинтов.)
И вот господин редактор Имре Вахот поставил себе задачей удалить Петефи из Пешта. (Вахот остался редактором и владельцем журнала даже после поражения революции 1848 года. У него были, вероятно, особые заслуги перед австрийским правительством, если палач венгерских революционеров генерал Хайнау помиловал его впоследствии.)
Уже в сентябре 1848 года, а потом и позднее Имре Вахот все время старался отправить поэта на поле битвы. Он разражался бранью даже тогда, когда Петефи приезжал домой в отпуск по болезни. «Здесь он только путается под ногами, а там, глядишь, и погибнет. А тогда мы освободимся от него навсегда», — так размышлял Вахот.
8 сентября Вахот напечатал статью под псевдонимом (ловкий буржуазный журналист всегда знает дозволенные границы подлости и в опасных случаях предпочитает скрыться под чужой фамилией). Вахот прежде всего напал на левое крыло Национального собрания, которое пришло к власти три недели спустя после появления этой статьи. Он заявил, что левые «налетают на все подобно слепым мухам», а потом, прикинувшись патриотом, обратил свои слова и против Петефи: «Братец Шандор! Во всех своих стихах ты жаждешь крови врагов нашей свободы… А вот теперь, когда война села нам на загривок… твоя могучая сабля, которой ты так яростно размахивал в мартовские дни, ржавеет в ножнах».
Примеру Вахота последовали и другие. Эти нападки были только продолжением той. травли, которая началась против Петефи в начале 1847 года. Ведь уже тогда, после напечатания стихотворения Петефи «Одно меня тревожит…», в котором поэт предсказал, что падет на поле битвы, борясь за «мировую свободу», реакционная критика обозвала его «героем болтовни», который никогда не исполнит данного слова.
Стихами, полными гнева и гордости, отвечал Петефи на эти нападки:
Петефи «ценили по достоинству» не только Вахот, но и австрийская камарилья. Она по-своему тоже одарила его знаками почтения. Из одной пачки австрийских документов, захваченных в феврале 1849 года, выяснилось («Гонвед»[85], 1849, № 34, стр. 134), что наряду с описанием примет Кошута было разослано и описание примет Петефи. «Он сам прочел его и рассмеялся».
25 февраля 1849 года в Пеште, занятом войсками герцога Виндишгреца, в распространяемой бесплатно газете «Фиделе» было напечатано следующее: «Петефи своими никудышными стихами пытался увлечь венгерский народ на опасный путь… Пышными словами, не стесняясь указывать имя, восхвалял он до небес казненного в 1795 году на Генеральском лугу Мартиновича. Петефи заявил, что хочет вместе со своими приятелями воздвигнуть памятник Мартино-вичу. Пусть поэт поостережется, как бы ему не поставили надгробным памятником такую же секиру, какой отрубили голову Мартиновичу».
В 1918 году, после австрийской революции, в императорских архивах был обнаружен составленный в 1848 году список самых отчаянных врагов австрийской монархии. На первом месте в списке стояла фамилия Карла Маркса, на третьем — Шандора Петефи, который в этом почетном документе опередил многих других.
Петефи покинул Пешт, уехав на фронт, но и это не утихомирило его врагов. Если до сих пор они нападали на его идеи, воплощенные в стихотворные строчки, то теперь, когда привилегиям угрожали уже не строки стихов, а ряды повстанцев, его еще больше начали травить. Господа дворяне прекрасно понимали, что поэт и его приверженцы были единственными венгерскими революционерами в 1848–1849 годах, которые хотели вовлечь в революцию крестьянство — «народ Дёрдя Дожи».
Капитана, а позднее майора Петефи несколько раз подвергали наказанию. Осенью 1848 года, как раз когда он был в рядах войск на австрийской границе, его хотели арестовать за то, что он якобы агитировал против похода революционной армии на столицу Австрии. Совершенно ясно, что это была заведомая ложь. Месяц спустя в Дебрецене один военный начальник объяснил истинную причину предполагавшегося ареста поэта. Когда Петефи поручили проводить занятия в одном из батальонов, этот военный начальник предупреждал его:
— Господин капитан! Я поручил вам обучать солдат. Прошу вас не заходить дальше круга ваших обязанностей и не повторять тех ошибок, которые вы совершили тогда, когда стояли на австрийской границе и читали солдатам радикальные газеты.
Два раза вынуждали Петефи отказываться от воинского звания. И это неудивительно, потому что командование венгерскими войсками большей частью оставалось в руках офицеров, служивших в старой австрийской армии и ведших по указанию «Партии мира» тайные переговоры с интервентами,
0 поведении этих офицеров лучше всего можно судить по сцене, разыгравшейся в ноябре 1848 года, после того, как прибыл указ короля о роспуске Национального собрания, то. есть через шесть недель после сентябрьских событий. «Когда разнесся слух, что мы будем присягать королю, солдаты сами решили, что они присягать не станут. Об этом услышал главнокомандующий Веттер[86]. Мы стояли, выстроившись. четырехугольником, когда явился Веттер со своей свитой и прочитал нам приказ, согласно которому каждый, кто не произнесет вслух имени короля, будет расстрелян на месте, более того, будет расстрелян и тот, кто, заметив, что сосед его не произнес королевского имени, не донес об этом»[87].
В апреле 1849 года дебреценское Национальное собрание лишило австрийского императора венгерского престола, и правителем страны был назначен Кошут. Но одновременно с этим было отстранено и левое крыло собрания, пришедшее к власти после сентябрьских событий, и власть взяла в руки так называемая «Партия мира».
В мае 1849 года венгерские революционные войска вновь овладели Будой. Но эта победа не могла уже изменить положения. Плебейское крыло венгерской революции — Петефи и его товарищи ясно видели, что командующий армией Гёргей и большая часть парламента предали революцию, войдя в тайное соглашение с Австрией. Паскевич со своим войском находился по пути в Венгрию. Австрийский император, «коленопреклоненный», молил Николая I навести порядок в его владениях, тем более что «Венгрия может послужить дурным примером для окружающих государств».
Стотысячное войско Паскевича и двухсоттысячная австрийская армия повели концентрированное наступление против преданной Гёргеем и «Партией мира» истощенной венгерской армии. Австрийская ставка, как это установили позднее, располагала точнейшими данными относительно сил и расположения венгерских войск. Эти сведения исходили либо из военного министерства Венгрии, либо из созданного Гёргеем Центрального военного бюро главнокомандующего.
Вследствие саботажа «Партии мира» у венгерских солдат не было ни снаряжения, ни обмундирования, — они шагали ободранные, босые, ели сырую кукурузу, которую сами ломали тут же, на полях.
11 августа 1849 года Кошут передал всю власть в руки Гёргея, а тот через два дня после назначения сложил оружие под Вилагошем.
Начались расстрелы и казни. Гёргей получил помилование — вероятно, приняли во внимание его «заслуги».
«Гёргей никогда не посмел бы пойти на предательство, если бы он не чувствовал поддержку какой-нибудь из партий Национального собрания», — писал Кошут в одной из своих более поздних статей об освободительной войне, и свое высказывание он заключил следующими словами: «Я умел защищать страну от внешнего врага, но от внутреннего предательства. не умел».
К сожалению, Кошут подверг такой критике свое поведение только тогда, когда все было уже давно потеряно и Венгрия снова изнывала под сапогом Австрии. А Петефи писал еще летом 1848 года, предупреждая родину о грозящей ей опасности:
Истина подтвердилась снова: если народ хочет разгромить реакционных чужеземных захватчиков, он должен прежде всего рассчитаться с реакцией внутри своей страны.
Венгерский народ проклял своих предателей. Скорбно звучала его песня после того, как венгерская свобода была повержена внутренними и внешними врагами:
Проклял Гёргея и чудом спасшийся от рук палачей замечательный венгерский поэт Михай Вёрёшмарти:
Не только свои, но чувства всех лучших людей Венгрии выразил Вёрёшмарти этим стихотворением, и не только Гёргея проклинал он, но и всех предателей революции.
Еще в день освобождения Буды и Пешта генерал Клапка[88], превосходно помнивший вместе с остальными военачальниками, какую роль играл Петефи в мартовские, майские и сентябрьские дни, велел арестовать поэта, «который самовольно рыскал по Пешту, заражая народ своими пагубными наклонностями».
Отдавая приказ об аресте, Клапка еще добавил, что если б он не знал, с кем имеет дело, то через двадцать четыре часа повесил бы такого преступника.
Итак, правители имели целью избавиться от «народного поэта с пагубными наклонностями», «отстранить», изолировать его от пештского народа, чтобы он не мог его дальше «смущать».
Шандор Петефи, поэт венгерских бедняков, батраков, рабочих, поэт венгерского народа, самый последовательный борец за революцию, становился все более одиноким. За исключением двоих или троих, от него постепенно отошли почти все его друзья.
Буржуазные историки литературы, привыкшие все смазывать и перевирать, сто лет подряд старались представить дело так, будто Петефи хотя и был гениальным поэтом (этого у него уж нельзя было отнять), однако отличался очень скверным характером, был груб и ни с кем не мог ужиться из-за чрезмерного самолюбия. Он напал даже на великого поэта Вёрёшмарти, который первый помог ему появиться в печати, и на «кроткого» Йокаи, который долгие годы был его лучшим другом.
На самом деле Петефи выступил против Вёрёшмарти тогда, когда Вёрёшмарти, будучи депутатом Национального собрания, голосовал за сохранение в венгерской армии немецкого языка команды, а это означало в то время, что армия должна была остаться в руках австрийцев, намеревавшихся послать ее на подавление итальянской революции. «Ведь из всех людей, когда-либо любивших и уважавших Вёрёшмарти, я любил и уважал его больше всех, — писал в связи с этим Петефи. — Но принципы свои я уважаю и люблю еще больше. Сердце мое щемит и кровоточит, но я остался бы неумолим даже в том случае, если бы оно вовсе изошло кровью. Быть может, Брут заколол Цезаря, своего отца и благодетеля, плача, но, однако же, заколол его. Осуждением Вёрёшмарти мое сердце приносит огромную жертву ради принципов. Но как бы ни велика была эта жертва, я готов и всегда буду готов принести еще большую — ради вас, священные принципы!»
Для Петефи не существовало таких дружеских отношений, ради которых он пошел бы против убеждений.
«Я предпочитаю стать жертвой своих отважно и непреклонно высказанных убеждений, нежели обвинять себя в трусости».
Как же прав оказался Петефи!
В Дебрецене зимой 1849 года, когда правое крыло Национального собрания, освободившись от давления пештских народных масс, стало выпускать газету «Эшти лапок», редактором ее был назначен бывший друг Петефи Йокаи. «Эти люди (депутаты, члены «Партии мира». —
Йокаи стал редактором газеты «Партии мира», партии, которая воспрепятствовала тому, чтобы Кошут в самый кризисный период революции и одновременно в самый подходящий момент для развертывания революционных действий, опираясь на левое крыло Национального собрания, взял власть в свои руки и предал суду Гёргея, совершавшего одно предательство за другим; Йокаи стал редактором газеты «Партии мира», которая воспротивилась тому, чтобы главнокомандующим всеми венгерскими войсками назначили революционера Бема, и вовсе не из-за того, что он был поляком. Ведь сторонники «Партии мира» ни слова не сказали против того, чтобы главнокомандующим был поляк Дембинский[89], не такой последовательный революционер, как Бем. А против генерала Бема они протестовали потому, что его командование отразилось бы на всем ходе внутренних событий в стране. Газета Йокаи, воспользовавшись излюбленным методом врагов революции всех времен, оклеветала вождя левого крыла Национального собрания Ласло Мадараса, заявив, что он «украл золото и драгоценности». Ликуя, писала она 4 мая 1849 года: «Мадарас исчез, Танчич молчит. Ряды фламингов редеют» (фламингами прозвали левых депутатов Национального собрания за то, что они носили на шляпах красные перья. —
Через несколько десятилетий палач венгерской революции 1848–1849 годов, император Франц Иосиф, вероятно в благодарность за услуги, назначил Йокаи депутатом верхней, аристократической палаты. Нет никакого сомнения в том, что если бы Петефи не погиб, то ему император «назначил» бы смерть на виселице.
Произведения Йокаи сыграли большую роль в истории венгерской литературы. Петефи понял значение Йокаи как писателя сразу же после выхода его первых книг, однако он порвал с ним, потому что Йокаи предал знамя революции. Такова истинная причина «дурного, грубого» характера Петефи. К сожалению, поэт ничего больше не мог сделать, как только резко прервать отношения со всеми теми, кто предал революцию и венгерский народ.
Падающие листья пожелтевших деревьев уже чертили в воздухе: сентябрь 1848 года. Вашвари, как и Петефи, «отстраненный» правителями от пештского народа, организовал партизанский отряд. Позднее этот отряд был преобразован в батальон «красношапочников», и где бы он ни появлялся, он заставлял отступать врага.
«Красношапочники» участвовали уже в знаменитом шукороиском сражении[90] и задали основательную трепку бандам Елашича.
Капитан Петефи, задумчивый, брел по улице. Навстречу ему показался батальон «красношапочников» — его вел двадцатидвухлетний командир Вашвари. Петефи увидел друга.
— Пал! Дружище! — закричал он.
Вашвари остановился, вслед за ним и весь отряд. Друзья обнялись, потом Вашвари таинственно шепнул Петефи:
— Ты лучше взгляни, кто идет позади меня! Петефи обернулся. В пятидесяти шагах от него стоял старик в гонведскои форме, в руках он держал огромное знамя. Петефи смотрел, смотрел на старика и вдруг стремительно бросился к нему:
— Отец! Отец!
Кто-то из товарищей по отряду взял у Петровича знамя из рук, и тогда отец с сыном обнялись. Высокий худой Вашвари стоял возле них и смеялся от радости. «Красношапочники» узнали поэта — они ведь не раз слышали его на народных собраниях.
— Да здравствует Шандор Петефи! — загремел весь отряд.
— Да здравствует его отец, Иштван Петрович! — крикнул Вашвари.
Старик Петрович высвободился из объятий сына, взял в руки знамя, высоко поднял его и сказал:
— Нам надо идти! Если хочешь повидать меня, приходи к нам на постой.
И отряд тронулся.
Через четыре месяца гроб Петровича опустили в ту землю, которую он и тогда не тот бы назвать своею. Он умер весной 1849 года — сын его в это время был на поле битвы. Вскоре, 17 мая, в дни взятия венграми замка Буды, умерла и мать Петефи. Поэт не мог прийти к смертному одру матери, потому что, по милости генерала Клапки, сидел в остроге. Когда под давлением других офицеров Петефи все-таки выпустили, он мог уже поспеть только на похороны матери.
Австрийская монархия была многонациональным государством, в котором немцы представляли только пятую часть всего населения; преобладающее большинство его состояло из венгров, чехов, поляков, украинцев, словаков, сербов, хорватов, румын, итальянцев и др. Население Венгрии во времена Петефи было тоже весьма многообразным: румыны, словаки, украинцы, южные славяне составляли добрую его половину. Австрийский царствующий дом превосходно умел сеять рознь между народами — «властвовать разделяя». Даже в мирное время он держал в Венгрии немецкие войска, а венгерских солдат перебрасывал на территорию чехов, итальянцев, поляков, украинцев. Не зная языка местного населения, солдаты оставались для него чужаками, не понимали нужд его жизни, не сочувствовали его национальным движениям. «Мои народы чуждаются друг друга — и это хорошо, — говорил император Франц I. — Междоусобицы порождают порядок, взаимная ненависть — мир». В смутные времена Меттерних проявлял особую виртуозность в политике. Например, в 1846 году, когда в Галиции поляки восстали против Австрии, агенты Меттерниха подняли против них украинских крепостных крестьян, и после того, как восстание было подавлено, австрийская камарилья еще яростней стала терзать украинских крепостных. Слабость венгерской революции 1848 года, помимо того, что она отстранилась от решения крестьянского вопроса, заключалась еще и в том, что правительство Венгрии, созданное в ходе революции, несмотря на исторические уроки, не предоставило другим национальностям политических и экономических прав, а, наоборот, постоянно подчеркивало «превосходство» венгров (понимай под этим — венгерских помещиков) над «иноязычными подданными венгерской державы». Все это усугублялось еще и тем, что на национальных территориях земли принадлежали большей частью венгерским магнатам, крепостными же у них были румынские, словацкие, сербские и хорватские крестьяне. Экономическое их положение было, в сущности, совершенно одинаковым с положением венгерских крепостных, но так как барин их был венгром, доля ненависти, порожденной угнетением, превращалась, в силу отсталости крестьян, в национальную неприязнь. Спесивость и грубость венгерских властей, подавление национальных культур вызывали ненависть к венграм и у интеллигенции этих национальностей.
Австрийская реакционная пропаганда была построена умело: всем этим народностям от имени австрийского императора были обещаны земли, дешевая соль, равноправие наций, но при условии, если они пойдут против венгров. Вследствие узколобой, корыстно классовой политики венгерских политических деятелей национальные движения объективно оказались поставленными на службу габсбургской реакции. Возможности габсбургской камарильи увеличивались еще благодаря помощи Николая I. Реакционное панславистское движение, возглавляемое им, существовало уже много лет, а недальновидная политика венгерского революционного правительства позволила международной реакции поход Николая I, имевший целью задушить революцию, представить как помощь «братьям славянам».
Но панславистам-реакционерам не удалось обмануть передовые круги славянства.
Герцен с сочувствием приводил слова Кошута о помощи Николая I Австрии: «Какая узкая и
11 июля 1849 года Чернышевский записывал в своем дневнике: «Желаю поражения там (то есть в Венгрии. —
Когда Чернышевский узнал о капитуляции Гёргея под Вилагошем, он отметил в своих записях: «Победа над венграми прискорбна. Сначала поверил, после несколько не поверил, после снова поверил, теперь более верю, чем нет, что Гёргей в самом деле сложил оружие»[93].
«Когда Венгрия восстала, — писал Герцен уже в «Колоколе», — Австрия дышала на ладан и совсем перестала бы дышать, если бы не
Но не только великие представители русской демократической мысли боролись против реакционной международной политики русского самодержавия, разоблачали контрреволюционную сущность военной помощи Николая I, оказываемой Австрии в ее интервенции против революционной Венгрии. Общеизвестно также, что некоторые подразделения царской армии отказались воевать против революционной Венгрии, другие подразделения присоединились к венгерской революционной армии, чтобы бороться против деспотизма Николая I.
«Мы пришли помогать австрийцам, — писал русский офицер Лихутин, — и помогли им, и вдруг наши симпатии оказались на стороне тех, во вред которых мы действовали…»
Офицер Н. Богдановский рассказывал: «Во время венгерской кампании между нами и неприятелями нашими проглядывали дружественные отношения».
Чрезвычайно интересны воспоминания офицера русской армии Фатеева, принимавшего участие в сражении под городом Дебреценом. Фатеев писал о своих переживаниях перед сражением:
«О чем я думал в эту минуту… Во-первых, моему национальному самолюбию льстило и втайне радовало меня, что эта кровопролитная ненужная война скоро окончится. Но преобладающим чувством в душе моей было сожаление об уничтожении неприятеля. Я не только не чувствовал к нему никакой ненависти, напротив, я ощущал к нему уважение и искреннюю симпатию, а к австрийцам равное этому отвращение».
Узнав о капитуляции Гёргея возле Вилагоша, Фатеев писал с еще большим сочувствием:
«1 августа (ст. стиля. —
Слова рядового русского офицера оказались пророческими: в этот день венгерский народ потерял свою свободу на долгие десятилетия, и различные потомки Артура Гёргея, магнаты и буржуа, содействовали тому, чтобы венгерский народ оставался порабощенным еще почти сто лет подряд.
Подобных свидетельств сочувственного, доброжелательного отношения русских офицеров и солдат к борьбе венгерского народа известно множество.
Демократическое общественное мнение угнетенного народа Польши было также на стороне революционной Венгрии. Более того, в Польше нашлось даже множество сторонников совместного польско-венгерского выступления. Уже в декабре 1848 года первые польские отряды, возглавляемые генералом Бемом и Дембинским, пошли воевать за венгерскую свободу. Генерал Бем, с именем которого связаны знаменитые сражения и целый ряд блестящих побед, стал одним из лучших полководцев венгерской армии; у него и служил Петефи. Старый революционный генерал называл великого венгерского поэта сыном. Генерал Бем писал: «Поляки в борьбе против Австрии должны примирить славян и венгров». После выпуска венгерской «Декларации независимости» главнокомандующим армии Верхней Венгрии стал поляк Дембинский.
В июле 1848 года в польской газете «Demokrata polska» Станислав Ворцел напечатал серию статей под заглавием «Венгрия и Польша», в которых призывал поляков и венгров вместе бороться за свободу. Обратился с приветственным воззванием к венграм в «Tribune des Peuples» и великий польский поэт Адам Мицкевич. Он писал:
«Граждане Венгрии!
Когда казалось, что ваше дело уже погибло, когда ясно было видно, что реакционные политики рассчитывают на ваше поражение, считая, что оно будет способствовать осуществлению их эгоистических планов, вы не усомнились в себе, вы сумели сохранить веру в конечное торжество справедливости.
Мы тоже не сомневались в вас!
Когда наши славянские братья, движимые ложной обидой за прошлое, за которое вы не можете нести ответственности, позволили завести себя так далеко, что стали под проклятое знамя тирании и помогли ей в борьбе с вами, мы предостерегали их, мы скорбели над их ошибкой и не переставали надеяться, что когда-нибудь, став более просвещенными, они объединятся с вами, чтобы братски бороться за общую свободу.
…Бему удалось уже объединить под своими знаменами мадьяр со славянами и румынами, и это предвещает вашему восстанию великую судьбу.
Дело уже не только в национальных интересах!
Ваше дело стало делом всеобщей свободы, делом стонущих под вековым гнетом Австрии.
…Совершенные вами дела велики; то, что вам еще остается свершить, — возвышенно.
…Граждане Венгрии!
В ваших руках покоится будущее мира, и если вы сумеете пожать плоды своих побед, как умели заслужить победные лавры, то ваше торжество будет торжеством свободы в Европе. Пусть воодушевляющий вас дух свободы сохранит вас от всяческих соглашений, от всяческих компромиссов с вековыми врагами закона и справедливости…
Вперед! За себя, за славян, за немцев, за итальянцев!
Вперед! Еще один шаг — и вся старая Европа взволнуется, слыша этот боевой клич…
Вперед! Благодарность народов сопутствует вам, их надежды указывают вам путь.
Привет и братство!»
В 1849 году, когда венгерская революция потерпела поражение, польские легионы, покидая страну, обратились к венгерскому народу с прощальным воззванием: «Мы воевали вместе с вами и хотели, чтобы борьба за ваше освобождение и наше участие в ней заложили основу дальнейшей освободительной борьбы…»
Чешские революционные демократы также сочувственно следили за венгерской революционной войной. Они приветствовали друг друга словами: «Да здравствует Кошут!» Пражские «заговорщики» в мае 1849 года требовали прежде всего действий, согласных с действиями венгерской и немецкой революций.
Ошибочное решение Франкфуртского собрания, требовавшее присоединения Чехии к Германской империи, очень облегчило дело чешских реакционеров: они еще решительнее стали требовать слияния с австрийской монархией на федеративных основах. К сожалению, стремления передовых кругов славянства не могли повлиять на политику венгерского правительства в отношении народов, входивших в состав Венгрии. Кошут и венгерский парламент не хотели и слышать о том, чтобы дать национальностям Венгрии хоть какие-нибудь права. Только в июле 1849 года, когда было уже поздно, Кошут решил сделать хоть что-нибудь для уравнения их в правах.
Петефи и его друзья (левое крыло «Мартовской молодежи») уже 31 марта 1848 года, то есть через две недели после начала революции, обратились с воззванием к хорватам:
«Любимые наши братья хорваты!
После трехсот лет угнетения мы вступили, наконец, на порог независимости и свободы. То, что мы завоевали, завоевано в равной мере и для нашей и для вашей пользы. Мы боролись и, если понадобится, будем еще бороться во имя священного девиза свободы и независимости, который объединяет все интересы, и не одной только нации, а всех наций. Дело у нас общее. Враг один: деспотическая бюрократия Австрии. Против нее должны объединиться все народы, населяющие нашу родину: венгры, хорваты, сербы, немцы, румыны. Только таким образом удастся нам завоевать свободу и независимость родины.
Друзья! Милые братья, мы обращаемся к вам во имя священной дружбы, которая верно охраняет нас в счастье и в несчастье на протяжении восьми веков. Брат поймет искренние слова брата. Хорваты! Мы просим вас во имя всего, что свято для вас: не будем браниться меж собой! Забудем о различии в языке, ведь мы едины в борьбе за всеобщую свободу. Не будем слушать тех, которые натравливают нас друг против друга, потому что они хотят использовать усобицу меж нами для того, чтобы ослабить наши общие силы. Братья! Объединимся!»
Той же весной по предложению Петефи была основана газета «Друг народа». 5 мая Петефи оповестил об этом своего друга Яноша Араня: «Главным редактором газеты будет венгерец; ему дадут пять помощников — для перевода венгерского текста на немецкий, словацкий, румынский и сербский языки. Таким образом, газета будет выходить на пяти языках»[96].
Как видим, Петефи и его товарищи «видели лучше и дальше» (Эндре Ади), чем Кошут, и в национальном вопросе.
Очень показательно для высокого уже в то время уровня классового самосознания пролетариата поведение горняка Мелинга, словацкого рабочего, одного из вождей освободительного движения. Уполномоченный венгерского правительства писал о нем в своем донесении так: «Этот человек очень возвышается над своей средой, стремится объединить и организовать рабочих, а это со стороны простого рабочего показалось мне чрезвычайно удивительным».
Как только Мелинг и его товарищи-горняки заметили, что словацкое национальное движение используется реакционной Австрией против революционной Венгрии, они сразу же обратились против него. Только дети рабочего класса могли так глубоко понимать ход событий и так самоотверженно бороться за свободу трудящихся. Уполномоченному венгерского правительства, которое ради своих корыстно-классовых интересов только и делало, что шло на уступки Австрии, было чему подивиться.
Почти сто лет подряд замалчивали венгерские буржуазные историки сочувственное отношение передовых славянских кругов к венгерской революции 1848 года. Вину за подавление революции они целиком переносили с Австрии и ее «доброго, коленопреклоненного» императора Франца Иосифа на Россию. Эти историки сознательно обходили молчанием столкновения русских прогрессивных кругов с Николаем I, столкновения, которые не раз заканчивались для «крамольников» тюрьмой или виселицей. Венгерские буржуазные историки не вспоминали и о постыдной роли западных держав в удушении венгерской революции 1848 года.
В 1849 году венгерский посол во Франции Пульски заявлял, что «французская республика — это настоящая монархия. Во внешней политике она консервативнее, чем была при Луи Филиппе, и является неистовым врагом всяческих республиканских движений».
Буржуазные историки Венгрии тщательно скрыли и воззвание, с которым Кошут обратился в 1849 году ко всем народам мира: «Французская республика, ты забыла о тех принципах, которые ты провозгласила при своем рождении. Ты, гордая Англия… ты не только не защищаешь дело свободы и человечности, но сама содействуешь рабству…»
Английское правительство, как всегда, беспокоилось только о «европейском равновесии», то есть о своем собственном «преимущественном положении» в Европе. Ему выгоднее было поддержать австрийскую монархию, а поэтому, прикрываясь либеральными разглагольствованиями, оно согласилось на интервенцию Николая I.
«…Англия кажется скалою, о которую разбиваются революционные волны, которая хочет уморить голодом новое общество еще в чреве матери»[97], — писали Маркс и Энгельс об Англии как об оплоте контрреволюции в 1849 году.
Когда поверенный Кошута явился к Пальмерстону, министру иностранных дел Англии, с просьбой принять его, Пальмерстон отказал ему в этом и направил к австрийскому посланнику, заявив, что британское правительство знает Венгрию только как составную часть Австрийской империи.
Такое поведение Пальмерстона вытекало из логики всей его политической деятельности истинно английского буржуазного дипломата. -
«Когда он предавал чужие народы, — писали Маркс и Энгельс о Пальмерстоне, — он делал это с величайшей вежливостью, ибо вообще вежливость — это мелкая монета, которою черт оплачивает глупцов, отдающих ему кровь своего сердца.
Притеснители всегда могли рассчитывать на его помощь… Он всегда был готов к услугам, когда дело шло об угнетении поляков, итальянцев, венгров, немцев»[98].
После сдачи оружия у Вилагоша Пальмерстон поспешил послать приветствие от имени «прогрессивного», «либерального», английского правительства правительству Австрии, которое в это время тысячами казнило участников освободительной борьбы.
Рассказывая о душевном состоянии Кошута после нескольких лет пребывания его в эмиграции, Герцен очень точно охарактеризовал и позицию Англии: «Кошут понял, что… Англия плохая союзница революции».
Но лондонские рабочие показали, что существует и другая Англия. Когда палач венгерской революции австрийский генерал Хайнау Приехал в 1850 году в Лондон и посетил большой пивоваренный завод, рабочие завода избили его до крови. «Пристукните австрийского мясника! Убейте кровавую собаку!» — раздавались крики на заводском дворе. Хайнау бросился бежать, рабочие за ним, схватили его и потащили к Темзе. И они утопили бы его, если б не вмешалась полиция и не выхватила генерала из рук лондонских пролетариев, вставших на защиту чести английского народа.
Он уже отслужил в армии генерала Перцеля[99] на австрийской границе. Там за чтение вслух рядовым солдатам радикальных статей его чуть не посадили в тюрьму. Он вел уже политические занятия в дебреценском батальоне и получил за это предупреждение — вести себя «прилично», не так, как на границе Австрии. Он уже написал в письме Кошуту: «История доказывает, что участь некоторых людей такова: чем больше делают они для родины, тем больше претерпевают унижений и несправедливостей. Я принадлежу к этим людям… С генералом Веттером[100] я уже разговаривал и говорить больше не стану… Никто никогда не обращался со мной так гнусно, как Веттер».
Он написал уже министру военных дел Лазару Месарошу: «…Вы можете сорвать с меня военный мундир, но не можете вырвать саблю из рук моих!.. Я буду выполнять свой долг патриота даже в простом гражданском платье и в роли рядового. Я только беру на себя смелость предупредить вас, чтобы вы не очень-то старались срывать форму гонведов[101] с офицеров, которые всеми силами стремятся вернуть этому одеянию его утраченную славу…»
0 нем написала уже газета «Фиделе», выходившая в захваченном Виндишгрецем Пеште, что «Петефи пытался своими никудышными стихами увлечь, по существу, смиренный венгерский народ на опасный путь».
И главнокомандующий австрийских императорских войск и венгерские аристократы сулили поэту венгерского народа одно и то же вознаграждение — секиру палача, веревку или в качестве величайшей милости пулю — во всяком случае, непременно смерть.
Куда же пойти ему сейчас? В чью армию? Может быть, к назначенному Кошутом главнокомандующим всех венгерских армий бывшему императорскому офицеру Гёргею, тому, кто осуждал партизанскую войну и ввел в армии, воевавшей за свободу, телесные наказания?
«По нынешним временам можно избегнуть позора только возле Бема», — писал Петефи Кошуту. Поэт направился снова в трансильванскую армию, которой командовал генерал Бем.
Кто же был этот поляк, о котором столько раз шла речь в этой книге? Бем происходил из польской аристократической семьи. В юности был артиллерийским офицером. В 1830 году он принял участие в польском восстании, командовал артиллерией. После подавления восстания Бем вынужден был бежать. Во время португальской революции он дрался в Лиссабоне на стороне повстанцев, в марте 1848 года бился на венских баррикадах, потом приехал в Венгрию. Здесь ему поручили командование трансильванской армией, находившейся в трудном положении.
Маркс и Энгельс были очень высокого мнения о Беме. «Если кто-либо мог спасти Вену, так это Бем…»[102] — писали они в то время, когда войска Виндишгреца угрожали восставшей Вене, а венгерская армия Перцеля в нерешительности топталась на Лейте, вместо того чтобы пойти на помощь восставшим.
Приняв командование трансильванской армией, Бем прежде всего обратился с воззванием к населению, провозгласив полнейшее равенство между народами, живущими в Трансильвании. Бем приветствовал партизанскую войну, стоял за передачу помещичьих земель крестьянам, так как понимал, что, получив землю, они защитят ее. «Он самовольно снизил цены на соль», — с возмущением говорил о нем Гёргей.
«Мадьяры, саксонцы, румыны! — писал Бем в своем воззвании. — Пожмите друг другу руки, и вы будете счастливы тогда… Все вы равны меж собой, невзирая на различие наций, исповеданий и чинов… Раздел земли произведут законно и справедливо, под руководством комитета, избранного вами же самими».
Румынский революционный поэт Чезар Болиак, словно отвечая на это воззвание, писал 25 марта 1849 года: «После шести месяцев гонений и тюрьмы бежавший за границу румынский изгнанник мог, наконец, открыть глаза и вздохнуть свободно благодаря венгерскому оружию и архангелу свободы генералу Бему, который нанес удар дьяволам тирании и очистил небо. Румынские братья… прочувствуйте, наконец, истину: в нынешних боях… в сущности, вся Европа охвачена борьбой свободы с тиранией, народов с династиями. Династии объединяются, чтобы плечом к плечу защищать свои шаткие троны, и единственную еще уцелевшую надежду возлагают на вражду между народами. Если народы осознают однажды свою подлинную силу, этой борьбе придет конец».
Замечательный румынский революционер Балче-ску был тоже поклонником Бема: «Бем создал братство между венгерцами, саксонцами и румынами», — писал он с восхищением.
Под командованием этого мужественного польского революционера и дрался Петефи за свободу Венгрии в последние месяцы своей жизни. «Тело генерала было, как боевое знамя, пробито пятью пулями. Он носил в себе пули, что собрал за девятнадцать лет, точно награды, полученные за революционные войны», — писал о нем Петефи. Поэт, который всем сердцем был с народом и беспрерывно сталкивался с венгерскими генералами, заигрывавшими с, реакцией, к революционному полководцу относился восторженно: «Армия, которая вела себя так во время четырехдневных, почти беспрерывных боев, армия, которую ведет Бем, не может не победить. Мне хотелось бы и нации и всему миру показать Бема во всем его величии… Какой бы ни была славной и героической наша армия, но тем, что она сохранилась единой и цельной после таких бурных дней, она всецело обязана своему генералу» (17 февраля 1849 года).
Революционер Бем был единственным полководцем венгерской освободительной войны, образ которого Петефи запечатлел в стихах:
На фронте Петефи встретился с тем Кальманом Лионяи, который в Пожоне в 1843 году купил ему одежду.
Увидев Петефи, Лисняи воскликнул:
— Неужто в нашей отчизне нет больше людей, кто бы мог поставить на карту свою жизнь? Ведь ты же гордость Венгрии!
— Сейчас мое место здесь, — отвечал Петефи.
Однажды Петефи ехал в телеге по какому-то служебному поручению. Навстречу ему шли солдаты-пехотинцы и ехали гусары. Это был отряд, который Бем послал в тыл немцев, чтобы он поднял там восстание. Петефи и майор отряда разговорились между собой. Их обступили солдаты и слушали. Прощаясь, майор спросил:
— Господин капитан, разрешите узнать, с кем я имел честь беседовать?
— С Петефи.
— Поэтом? — спросил один гусар, сидевший верхом на коне.
— Да.
Тогда гусар крикнул громовым голосом:
— Люди! Солдаты! Здесь Шандор Петефи! Гусары и пехотинцы столпились вокруг поэта.
Каждый хотел видеть его, пожать ему руку. Сняв фуражку, Петефи смущенно жал руки солдатам. «Никогда и ничто в жизни не производило на меня такого впечатления», — говорил он позднее об этом одному знакомому.
Так как армия готовилась к кровавой битве, а Петефи, несмотря на запрещение командующего, уже несколько раз ходил с конницей в атаку, то Бем, боясь за жизнь поэта, решил послать Петефи в Дебрецен к Кошуту. Генерал написал Кошуту следующее письмо: «Составленные мной вчера письма я отправляю сегодня с господином Петефи, таланты, патриотизм и благородство которого вам безусловно хорошо известны. Вы, господин правитель, направили его ко мне, и за это я вам сердечно благодарен, потому что его идеи, мужество и способности оказали мне большую помощь… Так как я считаю, что он достоин вознаграждения за свою службу, то осмелился присвоить ему звание майора, а вас прошу соблаговолить подтвердить присвоение этого звания».
Что и говорить, звание Петефи «подтвердили». В Дебрецене Петефи попал к генералу Клапке, и тот рассчитался с ним по-своему. Он сердился на Петефи за то, что тот незадолго перед тем опубликовал письмо Бема, который обвинял одного из венгерских генералов в измене родине. Это письмо пришлось Клапке не по нраву, и, не зная, что бы предпринять в бессильной злобе, Клапка заявил Петефи, что он незаконно носит майорские петлицы, так как звание его никем не подтверждено.
Возмущенный Петефи написал Клапке письмо, в котором отказался от майорского звания.
10 апреля 1849 года награждали героев армии Бема. Петефи восторженно писал об этом: «Бем собственной рукой прикрепил орден к моей груди, причем левой рукой, ибо правая была на перевязи. И он сказал: «Левой рукой прикрепляю, она ближе к сердцу!» Он обнял меня и долго, тепло прижимал к сердцу… ей-богу, столько я уже не заслужил».
Венгерская отечественная война дошла до того предела, когда единственным залогом успеха были твердость, непреклонность, революционная решимость, трезвость и отвага. «Из десяти заповедей, — пишет Петефи 10 января 1849 года, — сохрани лишь одну, а из этой одной — только одно слово: «Убей, ибо, если ты не убьешь, убьют тебя!»
Бем не знал венгерского языка, и стихи Петефи ему были недоступны. Однако поэт и полководец очень хорошо понимали друг друга. Их объединяли революционные убеждения и беззаветная преданность делу освобождения народов.
«Проболев несколько недель, я вернулся в начале этого месяца в армию, принадлежностью к которой я горжусь, ибо полководец ее Бем; и вернулся я с радостью, потому что Бем мне отец и друг».
Бему, другу и отцу, поэт рассказывает обо всем. Они разговаривают и переписываются друг с другом по-французски. «Не знаю, что буду делать дальше, душа моя возмущена и потрясена… этими вопиющими оскорблениями… Моего коня, который был мне так дорог, потому что вы подарили м «е его, я вынужден теперь продать — признаюсь в этом со слезами, но иначе мне не на что будет купить хлеба, когда я лишусь офицерского звания».
Письмо было написано поэтом после столкновения с генералом Клапкой, засадившим поэта в острог как раз перед смертью его матери.
Бем послал поэту 200 форинтов и пригласил его к себе. Из ответного письма Петефи, датированного 20 июня 1849 года, мы узнаем:
«Вы добры, вы великодушны, как всегда, обожаемый мой генерал, и я преклоняюсь перед благородством вашей прекрасной души. Однако (хотя благодеяния ваши уже значительно превысили мои заслуги, если таковые у меня имеются) прошу вас оказать мне еще одну милость и простить меня за то, что я отвергаю вашу трогательную и деликатную помощь. Вы знаете, должны знать, как я люблю вас, тому порукой горькие слезы, которые я проливал, уезжая, и вам должно быть понятно, что самое горячее мое желание — ехать к вам, постоянно быть подле вас, мой благодетель, мой отец! Но, увы, по воле судьбы это совершенно невозможно. Всего несколько дней назад я сообщил в газетах, что окончательно, навсегда покидаю военную службу, и вернуться в армию значило бы грубо нарушить собственное слово. Кроме того, в этом мундире я безвинно претерпел такие вопиющие обиды и поношения, что не мог бы носить его далее, не краснея от ярости и не чувствуя, как вновь раскрываются раны, причинившие мне смертельные страдания.
Буду впредь служить отечеству пером, а не саблей, той саблей, которую я, быть может, не прославил, но и не запятнал ничем и которую вырвали у меня из рук. Я не могу оставаться солдатом главным образом потому, что меня оскорбили из мести, из подлой обдуманной мести, и, пока я буду солдатом, мне не перестанут мстить, а возможно, и вы навлечете на себя неприятности, покровительствуя мне. Этого совесть моя велит мне избежать всеми силами. Примите же, пожалуйста, деньги, которые вы были так добры прислать мне на дорогу, и оставьте меня в моем мирном уединении, где я буду жить ради трех целей: служить в тиши моей родине, лелеять мое маленькое семейство и хранить вечную признательную память о ваших отеческих благодеяниях мне и моей родине. Свои дела я кое-как уладил в дружбе со своим старым спутником — бедностью. Если вы пожелаете обогатить меня, озарите время от времени мою душу лучами воспоминания… я почувствую себя богачом. Защищайте дело моей родины и, прошу вас, не забывайте молодого человека, которому глубокое уважение и нерушимая любовь к вам позволяют назваться вашим сыном».
Июль 1849 года — последний месяц венгерской революции 1848–1849 годов — оказался также последним месяцем жизни великого венгерского поэта-революционера Шандора Петефи.
Австрийская армия снова угрожала Пешту. Петефи предлагал создать ополчение, которое должно оборонять столицу. Казалось, что и правительство хочет того же. Кошут вызвал к себе Петефи и его товарищей и попросил их созвать в Пеште народное собрание. «Поэт с пагубными наклонностями» теперь снова был удостоен внимания властей. Они пришли к заключению, что не вредно было бы повторить сентябрьское восстание, вновь организовать распущенные партизанские дружины, а «пештские смутьяны» могли бы в этом помочь.
«В тот день, — пишет Петефи 11 июля Яношу Араню, — когда мы по подстрекательству Кошу та назначили народное собрание, чтобы поднять народ Пешта на кровавый решающий бой, в котором примет участие и Кошут, а если нужно, как он говорил сам, падет под развалинами Пешта, — в тот же день правительство довело, конечно, под сурдинку, до сведения столицы, что оно и не думает драться на подступах к Пешту и тем более не согласно оставить там свои почтенные зубы. Правительство дало тоже понять, что при первом же шорохе сбежит на край света, туда, где враг не бывал уже со времен Арпада, ибо столь спасительная для родины правительственная шкура будет там в большей безопасности».
1 июля 1849 года столица была сдана. До девятого вала, который, накатившись, поглотил венгерскую свободу, оставалось всего лишь несколько недель. «Незавершенный труд 1848 года жестоко отомстил за себя» (Эндре Ади).
В мае 1849 года на пиршестве гонведов, праздновавших освобождение Буды от австрийцев, присутствовал и Петефи.
Он сидел за столом в подавленном состоянии. Неподалеку от него сидел Мор Йокаи — когда-то его друг и единомышленник, теперь сторонник «Партии мира». Петефи уже почти год как порвал с ним всякие отношения. Пиршество было в разгаре, искрилось вино, звенели бокалы, а Петефи мучительно размышлял о том, что станется с этой проданной с торгов свободой.
Йокаи поднялся с бокалом вина, в котором, как показалось Петефи, искры вспыхнули и погасли, и произнес тост:
— Я пью за тех, кто падет за родину!
Петефи медленно поднял свой стакан, чокнулся с Йокаи, взглянул на прежнего своего друга и тихо сказал:
— Спасибо, что ты выпил за меня.
Когда в дебреценском Национальном собрании «Партия мира» разгромила последовательно революционное крыло Мадараса, когда газета «Эшти лапок» назвала опаснейшими врагами освободительной войны членов общества «Мартовская молодежь», Пал Вашвари пошел в армию Бема. Он организовал состоявший из восьмисот человек «Вольный отряд Ракоци».
Отряд Пала Вашвари по приказанию Бема расположился в Муруцельских горах.
Нарушив соглашение, заключенное Кошутом с румынами, желавшими действовать совместно с венграми, другой отряд, под командованием венгерского националиста Хатвани, напал на войска Янку. Румынам, возглавляемым Янку, не оставалось ничего иного, как выступить против венгров. В июле они окружили и отряд Вашвари.
Отступать можно было только по одному-единственному еще свободному пути.
Офицеры советовали отступать немедленно. Вашвари не соглашался. Он ждал приказаний генерала Бема. Тот давно отправил приказ об отступлении, но Вашвари его не получил: гонец не то изменил, не то попал в плен.
— Я предпочитаю, — сказал Вашвари своим солдатам, — сложить голову в славном бою, пусть даже сомнительном по своему исходу; я предпочитаю один принять на себя град вражеских пуль, чем запятнать этот стяг, которому мы присягали. Выставьте усиленный дозор и доложите, если заметите движение в стане врага.
Флаг Вашвари был красным флагом, он развевался над его палаткой. По милости венгерских националистов сыновья двух братских народов стояли друг против друга, полные ненависти, готовые к бою.
Это было 6 июля 1849 года.
На горах высокие сосны зеленели в лучах летнего солнца. Вашвари зашел в свою палатку и сел писать дневник. Некоторое время он писал, потом отложил перо. В откинутом полотнище двери палатки виднелась гора, будто окутанная солнечным светом, как в оправе. Сосны стояли так мирно и спокойно, что спокойствие их было почти пугающим.
«Где-то сейчас Шандор?» — подумал вдруг Вашвари. Ему вспомнился май, пештская улица, озаренная солнцем, маленькая квартирка Петефи и то, как он, Вашвари, поднимался туда, перепрыгивая через три ступеньки сразу, торопясь рассказать про закон о выборах. «Он был прав, — пробормотал Вашвари, — во всем!»
Рядом с ним на одеяле, брошенном на пол, лежало «Путешествие в Икарию» Кабэ. Он поднял книгу и начал читать, потом тряхнул головой, будто отгоняя горькие мысли. Снаружи слышалась тихая песня партизан:
Вашвари отложил книгу. «Человек может сойти со сцены жизни, — пробормотал он, — но дела его остаются… Он знает, что будет жить в памяти благодарного потомства».
«Хорошие ребята, они правы!» Вашвари вздохнул. Он опять взялся за свой дневник и стал его перечитывать. В одном месте он остановился. Это была цитата из его же собственной книги «Философия истории», которая вышла в прошлом году. Все предложение было обведено черными чернилами, а сбоку стояло одно слово: «Развить!» Он стал читать с таким интересом, будто это было написано не им.
Ему вспомнилось 15 марта, проливной дождь и собственное выступление перед толпой, обступившей типографию: «Мы все братские национальности… Протянем же искренне руку нашим соседним народам…»
Сердце у Вашвари защемило. Он почувствовал себя, как человек, который потерял все и не знает, когда это случилось. Ведь он-то вступил в борьбу для того, чтобы народы стали свободны, чтоб они побратались меж собой, а теперь вот венгры и румыны стоят здесь, готовые истребить друг друга. «Как же все это случилось? Как мы дошли до этого?»
Снаружи поднялся шум. «Может быть, подошли войска Бема, — мелькнуло в голове у Вашвари, — а может быть, приказ об отступлении, а может, Янку одумался?»
Вашвари вскочил. Дневник его упал на пол. Юноша вышел из своей палатки. В первое мгновение он сощурился от яркого солнца.
— Господин майор, разрешите доложить: неприятель окружил лагерь и приближается к нам.
Вашвари только сейчас заметил перед собой солдата.
— Горнисты! — крикнул Вашвари. — Строиться! В атаку, и мы пробьемся!
Горнисты затрубили, и восемьсот вольных партизан отряда Ракоци выстроились по команде своего вождя Вашвари. Солдаты стояли молча, понимая, что сейчас должна решиться их судьба. Майор встал во главе отряда.
— Ребята, за свободу! Вперед!
Отряд ринулся и напал на врага. Вследствие неверной политики венгерского правительства солдаты двух народов, призванных жить в дружбе, бросились уничтожать друг друга. Уже израсходовали все патроны, вступили в рукопашный бой. К вечеру небольшой части отряда удалось пробиться через окружение. Уцелевшие солдаты, грязные, окровавленные, пустились на поиски войск Бема. А Вашвари был уже мертв. Погиб один из величайших деятелей венгерской революции 1848 года.
В последнюю минуту жизни, когда смерть подошла уже вплотную, в душе этого двадцатидвухлетнего революционер а и героя, точно последний огонек в гаснущем костре, вспыхнули еще раз те мысли, что он провозглашал всю свою недолгую сознательную жизнь: «Нации не станут враждовать меж собой… человечество будет спаяно братской любовью, которая сольет все народы мира в единую семью».
Останки Вашвари никем никогда не были найдены.
Правительство бежало. Из пештского народного собрания и «решающей битвы» под Пештом не вышло ничего. Приближались австрийские войска. Выехал и Петефи из покинутой столицы, чтобы не попасть в руки немцев, которые — он знал это прекрасно — «высоко оценили» его. Он настолько хорошо знал эту австрийскую «оценку», что даже на могильном кресте родителей велел надписать «Здесь покоятся Отец и Мать», во избежание того, чтобы озлобленная камарилья не выбросила из могилы останки умерших, увидя ненавистную ей фамилию Петрович — Петефи.
А дальше куда идти?
5 июля он вместе с семьей поехал в Мезёберень к своему другу Шоме Орлаи-Петричу и пробыл у него десять дней. Как всегда, в голове у Петефи слагалось множество замыслов. Он хотел написать драму о самой кровавой поре в истории Венгрии, обрисовать эпоху венгерского восстания Тёкёли[103], которое потопил в венгерской крови немец Караффа[104], рассказать, как стойко выдерживал осаду замок Мункач, который защищала с помощью венгров и украинцев мать Ференца Ракоии II — Илона Зрини[105].
Со всех сторон стекались в Мезёберень дурные вести: здесь отступление, там поражение, а тут повальная болезнь опустошает край.
В комнатушке, которую занимала теперь семья, сидела Юлия Сендреи с младенцем на руках, а Петефи, устроившись возле стола, описывал первые месяцы жизни своего первенца: «Мой сын Золтан родился 15 декабря 1848 года, в двенадцать часов дня, в Дебрецене, на Тринадцатой улице, в доме портного Ормош… Вступив в сентябре в солдаты… я перевез семью в Дебрецен, где стоял наш батальон… Двадцатого декабря отец написал мне из Пешта: «Золтану надо раздобыть саблю, ибо он родился в особенный год, в такой год, когда даже младенцы должны носить на поясе саблю. Мне и прежде хотелось воевать, но сейчас это желание удесятерилось, так как я не хочу, чтоб мой внук попал в руки басурман…»
Петефи кончил писать. Сидел, погруженный в размышления.
— Юлия, — обратился он вдруг к жене, — нам нельзя дольше оставаться здесь.
Жена только взглянула на него. Она уже давно устала от «беспрерывных убийств и крови», как она за спиной Петефи в последнее время называла революционную войну. Да к тому же и на долю Шандора выпадала одна неприятность за другой. До революции его и то больше уважали, чем сейчас. Так стоило ли бороться? Она сама тоже стольким пожертвовала ради него! Родители ее любимой подруги запретили дочери даже переписываться с ней. И вот она осталась одна. Нет ни городской жизни, к которой она так стремилась, ни славы, ни почестей. А где же великая роль Петефи в революции, о которой она так мечтала? И где она сама? В тени, никто ее не замечает. Но если это так, если все получилось так грустно, то следовало бы давным-давно покинуть «этих».
Виноват сам Шандор: ему давно пора одуматься — ведь уже и ребенок родился. Но у Шандора всегда особое мнение. Правда, случалось, что их мнения совпадали. Но он поссорился с Йокаи, Клапкой, Кошутом, будто они вовсе и не были революционерами. С одним только Вашвари и дружит. К тому же Шандор невыносимо педантичен. Непонятно, как сочетается такая любовь к порядку с поэзией и революционностью. Ну, а в итоге его же оттеснили. Прошлой весной даже ее встречали повсюду с ликованием. А теперь? Нет, это он виноват кругом. Что делать, если его схватят австрийцы? Куда, она денется с сыном без мужа? Куда? Ведь у них нет ничего. Разве только к отцу? Да, видно, отец был прав… Эти мысли пронеслись у нее в голове за один миг. А мужу она ответила резко:
— Делай как знаешь!
Петефи пошел к Орлаи и услышал от него тяжелые вести об отступлении венгерской армии.
— Вот поэтому… мы завтра утром уедем отсюда.
— Куда?
— В Арад, к генералу Дамьяничу. Бему я уже и без того причинил достаточно неприятностей.
— С женой и сыном?
— Да. Лучше уж оставаться вместе.
На другой день, 14 июля, было пасмурно, ветрено. Петефи отправился на поиски телеги. Он так торопился, что даже не позавтракал. Наняв телегу, он прибыл в ней к дому, посадил на нее жену с ребенком. Вдруг порыв ветра захлопнул растворенные ворота, лошади испугались и понесли. В конце улицы стоял амбар, они мчались прямо на него. Юлия закричала. Петефи бежал за взбесившимися конями. Наконец оглобля стукнулась в стенку амбаря и сломалась. Лошади остановились. Петефи бросился к телеге, снял с «ее бледную как смерть жену и сына. С ними ничего не случилось, но телега была сломана, и отъезд пришлось отложить. Возница обещал починить повозку в тот же день, чтобы они могли уехать. Но он явился только на рассвете. Ночью Петефи спал беспокойно, утром встал с тяжелой головой, усталый. Он медленно собирался в путь, целый час одевался, то и дело выглядывая в окошко.
Как раз в это время под окном проезжали две повозки с гонведами. В одной из них сидел старый добрый друг поэта, венгерский актер Габор Эгреши[106], который 15 марта читал «Национальную песню», а год назад писал своей жене: «Мой друг Шандор Петефи чуточку пристрастен ко мне. Он говорит, что на поле битвы я только один человек, а дома благодаря своему призванию больше чем один. Этого я не знаю! Я знаю только одно: что в такие минуты жизни родины я чувствую себя дома ненужным и так жить дальше не могу. Меня угнетала бы мысль, что я в тягость государству и даже самому себе. А потому я весело и спокойно иду навстречу своей судьбе. Я буду воевать рядом с сыном, а если он падет на поле битвы — отомщу за него! Мой отпуск продлится шесть недель. Я проведу его на гастролях в кровавой драме, которую разыгрывает сейчас венгерская нация перед всем миром и будущими поколениями. С большей пользой мне не дано использовать его. Еще несколько дней назад я играл Брутов, Матяшей и Кориоланов, а теперь я сыграю на сцене суровой действительности свою немую роль — и, может быть, меня не освищут. Друзья мои, вы-то, наверно, будете завидовать моей роли? Не бойтесь, и до вас дойдет черед!»
И вот теперь они встретились. Рядом с Габором Эгреши сидел полковник Шандор Киш, адъютант генерала Бема.
— Куда вы едете? — спросил их Петефи.
— К генералу Бему. А ты куда собираешься? — спросил Эгреши.
— В Арад, к Дамьяничу. Снова пойду в армию — штатская одежда мие уже невыносима… Но если так, то я поеду с вами.
Он передал своему другу Орлаи на хранение целый сундук рукописей и бумажник, сел в повозку вместе с женой и сыном, и они направились в армию Бема.
…Третьи сутки были они в пути. Телега подъезжала к Коложвару. Лошади плелись устало. Кругом царила бесконечная тишина, только поскрипывали колеса повозок. Эгреши попросил Петефи прочесть какое-нибудь новое стихотворение. Поэт замотал. головой:
— Нет, Габор. Лучше ты прочитай монолог Тиборца из «Бан Банка». Помнишь, год назад, 15 марта, в Национальном театре… тебя тогда прервали посреди монолога — зрителям нужна была уже не пьеса, а живая жизнь, они требовали Танчича и «Национальную песню»… Помнишь?
— Помню, — тихо ответил Габор Эгреши. — А сейчас в Пеште немцы хозяйничают… Как же не помнить…
— Знаешь что, Габор? Почитай-ка «Бан Банка». Кто знает, услышим ли мы его еще когда-нибудь, увидим ли еще тебя в роли Тиборца…
И «а пустынном большаке, где трусили их клячи, где не было ни одной живой души и лишь порой показывались вдали одинаково нищие лачуги венгерских и румынских деревень, зазвучали вдруг страстные слова венгерского крестьянина Тиборца, воссгавшего против немецких господ, Тиборца — героя много раз запрещенной пьесы Иожефа Катаны, который скончался двадцать лет назад в безвестности:
Эгреши привстал, и его прекрасный голос горестно несся к венгерским и румынским деревням. Он вопрошал от имени Тиборца:
29 июня генерал Бем в нескольких словах оповестил военного министра: «Мой адъютант майор Петефи, который в связи с возмутительным поведением генерала Клапки совсем было ушел в отставку, теперь вновь вернулся ко мне в армию». Старый революционер был о своих начальниках не лучшего мнения, чем Петефи.
30 июля армия Бема готовилась к сражению. Чтобы не подвергать поэта опасности, генерал скрыл от него час наступления. Но Петефи сам проснулся — это было на рассвете 31 июля — и, быстро одевшись, присоединился к войскам.
Он еще и военной формы не получил. На нем была полуштатская, полувоенная одежда. Габор Эгреши попытался «перехитрить» его, как-нибудь спасти поэта.
— Шандор, куда же ты идешь в таком виде? Ну разве можно идти в бой в штатской одежде?
— Можно, — коротко ответил Петефи.
И пошел. Он покинул тот дом, где провел последнюю ночь своей жизни и где сейчас мемориальная доска возвещает:
«Душа моя, Юдишка, сейчас поздний вечер. Мы только что прибыли сюда. Завтра спозаранку отправляемся в Удвархей… Целую вас, родные мои.
Буду писать каждый раз, как только смогу. Будь насколько можешь спокойной и терпеливой. Верь! Надейся! Люби! До гроба и даже за гробом навеки преданный тебе твой муж Шандор».
А в том доме, откуда он вышел, чтобы «стать звездой», написал он свое последнее письмо: «Милая, дорогая Юлишка… С Бемом я встретился в Берецке; остановился возле его экипажа, поклонился ему, он бросил взгляд в мою сторону, узнал меня, вскрикнул и протянул ко мне руки. Я подбежал к нему, упал ему на грудь, мы обнялись, поцеловались».
Эту встречу описали и другие. «Сын мой!» — воскликнул старый революционер Иосиф Бем, и глаза его наполнились слезами.
Битва началась с орудийной перестрелки, а к полудню Бем приказал идти в штыковую атаку против трижды превосходящих сил противника. Слабость армии Бема обнаружилась очень скоро, и тогда ринулась кавалерия противника и смяла ряды гонведов.
Бем еще в начале сражения заметил, что Петефи, несмотря на его запрет, пришел на поле битвы без сабли, без оружия, в полуштатской одежде. Бем приказал поэту явиться к нему и отойти к резервным отрядам.
— Я не могу рисковать вашей жизнью! Поняли?
Петефи послушался. Вскоре участь сражения была решена, войска бросились бежать, вслед за ними устремились и резервные части. Кавалерия противника преследовала бегущих.
Петефи стоял на мосту. Он что-то записывал себе в книжечку (может быть, это были строки последнего его стихотворения).
— Спасайся! — крикнул ему полковой врач. Петефи сперва даже не шелохнулся, настолько он был погружен в свои мысли. Потом, придя в себя, оглянулся крутом. Было видно вдалеке, как отступает генерал Бем со своим командованием.
В эти мгновения поэта видели в последний раз. Многие и по-разному рассказывают о том, что произошло вслед за этим. По словам одного очевидца, его взял с собой на коня рядовой гусар, и конь понес обоих, тяжело дыша. Но, видя все приближавшегося противника, Петефи закричал:
— Спасайся, брат, сам! Двоих конь все равно не выдержит, мы оба погибнем.
Он соскочил с коня и бросился с дороги в кукурузное поле. Его нагнали двое всадников, и Петефи упал.
По словам других, его ранили еще там, на мосту, перекинутом через узкую речушку; он упал на берегу. Ночью он пришел в себя и, раненный, пополз в прибрежный ивняк.
Поутру, когда собирали мертвецов, нашли и Петефи. Его швырнули в телегу, нагруженную мертвыми телами. Когда воз подъехал к братской могиле, поэт, ослабевший от потери крови, тихо сказал бургомистру-саксонцу:
— Я Петефи. Я живой…
— Ну, так сдохни! — крикнул в ответ саксонец. Его кинули в огромную яму, набросали на него мертвых солдат и, когда яма наполнилась до отказа, ее засыпали негашеной известью. Поэт лежал среди 1030 солдат, павших за свободу, но «скакуны» не мчались галопом «через него к победе».
Почти сто лет понадобилось для того, чтобы родилась венгерская свобода.
За год до смерти Петефи написал одному своему другу:
«Облагородить и просветить народ, по мнению многих, сизифов труд, а я думаю иначе, и как раз поэтому достает у меня сил не покладая рук бороться за интересы народа. Если я не доживу до лучших времен, доживут другие; пусть даже след моих трудов исчезнет в этой огромной работе, пусть не помянут моего имени среди преобразователей народа, все-таки я умру счастливым, с радостью сознавая, что и с моей руки тоже капнула росинка в ту святую воду, которой будут заново крестить человечество…»
Даже года не прошло со времени гибели поэта, как Юлия Сендреи, героиня прекраснейших венгерских лирических стихов, вышла замуж. Брошенный снова в рабство народ Венгрии с гневом и презрением отвернулся от жены Петефи. Не из-за того, что она стала женой другого, а потому, что этим она отреклась от тех идей, которые олицетворял Петефи, примирилась с австрийскими угнетателями, с убийцами поэта и венгерского народа.
Юлия в глубине души всегда оставалась дочкой управляющего имением Игнаца Сендреи, «благородной» барышней, которая совершила экскурсию в народ лишь для удовлетворения мимолетной прихоти, а потом, разочаровавшись и в народе, и в его поэзии, и в его певце, вернулась на насиженное место своих предков. Она отвергла даже сына, напоминавшего ей об отце, и десяти лет отдала его чужим людям на воспитание. Сын Шандора Петефи скончался от туберкулеза двадцати одного года.
Венгерский народ десятки лет не мог смириться с мыслью, что Петефи уже нет в живых, и слагал о нем одну легенду за другой… Говорили, что поздней осенью 1849 года его видели то тут, то там. В 1850 году с ним якобы встретились у одного крестьянина, потом он будто бы появился в другом месте; он скитался и прятался. Потом разнесся слух, что Петефи заходил к одному своему другу, в Бекешчабу, и пошел дальше, но куда, этого никто не знал. В том же 1850 году собирали деньги для голодающего и скрывающегося от австрийцев Петефи; затем через несколько лет, согласно легенде, он появился в Дёрском комитате и провел одну ночь у своего старого школьного товарища. Некоторые утверждали, что в одном молодом человеке, который торговал досками на рынке, узнали Петефи. Другие уверяли, что после Шегешварской битвы крестьяне подобрали Петефи, целый месяц ухаживали за ним и, когда он поправился, проводили его до границ Венгрии. Говорили также, что видели его в одежде словака-лудильщика.
В Пешт приходили письма. «Петефи был у меня, — написано было в одном из них, — но не в 1854, а в 1851 году. Он пришел ко мне в середине июня, в четверг, в три часа пополудни».
Один венгерский гонвед, освободившийся из немецкой тюрьмы Куфштейн, рассказывал, что в первые годы заточения он часто видел поэта и даже разговаривал с ним.
Достоверен ли был этот слух? Действительно ли австрийцы заточили его в темницу и там он пропал бесследно? Или же только в воображении народа он появлялся повсюду, потому что люди не могли с ним расстаться, не хотели мириться с тем, что Петефи больше нет?
Ходила и такая легенда, что после Шегешварской битвы он долгое время жил в одной семье, которая укрывала его целый год. Выздоровев, он, переодетый, поехал в Пешт, чтобы найти Юлию, но прибыл как раз на ее свадьбу, и тогда он повернулся, ушел, и больше его не видел никто.
Еще в 1870 году газеты писали о нем: «А может быть, он сейчас ходит где-то между нами?»
В 1877 году, через двадцать восемь лет после смерти Петефи, один очевидец, утверждавший, что он участник Шегешварской битвы, взятый в русский плен, заявил, что Петефи в России, что он видел его там и говорил с ним.
По запросу венгерского парламента было произведено расследование, но выяснилось, что этот «очевидец» никогда и не служил в венгерской армии и не был в русском плену.
Постепенно поиски Петефи прекратились. Но в Венгрии люди все еще подсчитывали: «Если бы он сейчас жил, ему было бы тридцать шесть лет, он был бы еще молод… Сорок шесть лет — он был бы еще в расцвете сил… Пятьдесят шесть лет — он был бы еще не старым… Шестьдесят шесть лет — он мог бы еще творить…» Потом смирились с тем, что физически он погиб, и стали его искать духовно.
Борьба реакционеров против Петефи началась сразу же после выхода первой его книги стихов, в 1844 году, и не прекращалась столетие.
«Глупость… тупость… издевательство над венгерским языком… кощунство…» — таковы самые мягкие выражения, которыми честили Петефи его враги. Они сразу почуяли, как опасны для них его стихи, и поняли в них то, что он точно сформулировал в одном своем письме: «Если народ будет господствовать в поэзии, он приблизится и к господству в политике».
Реакция злобно пыталась поучать Петефи и его приверженцев:
«Именно партийность мешает поэту воплощать свои чувства в прекрасной гармонии. Партийность ослепляет, делает человека пристрастным, односторонним. Литература, зараженная духом партийности, не способна развиваться. Только приятели да единомышленники по партии раздувают его, а ведь приятельскими отношениями все равно не создать подлинного поэта из того, кто пишет только для одной партии… Самодержавная богиня правосудия и красоты тоже разочаруется в нем навек, и пусть он не обижается, если из судейского кресла критики его вынуждены будут назвать плохим поэтом, несмотря на его достойные уважения политические взгляды», — писал о Петефи один из его врагов, как выяснилось впоследствии — агент императорской камарильи. Этот прохвост умалчивал, конечно, о том, что вовсе не возражает против дворянской «партийности», что поэзия Петефи неприемлема для господствующих классов именно благодаря ее революционно-демократическому духу.
Враги его революционной поэзии выбросили и другой, небезызвестный в истории литературы лозунг: «Петефи плохой поэт», и те, кому это было на руку, с радостью приняли эти лживые, мерзопакостные слова, жонглировали или обсасывали и распространяли по свету.
Но, к счастью, поэзия не всеобщее достояние нескольких десятков людей, и поэтому поэзия Петефи прошла «через хребты веков, чрез головы поэтов и правительств».
После поражения венгерской революции 1848 года реакция старалась виселицами и расстрелами вернуть Венгрию к ее прежнему состоянию. Венгерская аристократия открыто предала венгерский народ. Остальные прослойки господствующих классов, поломавшись немного, также пошли на соглашение с Австрией. Они удовлетворились брошенной им костью, а народ пусть живет как знает. Венгрия снова стала колонией Австрии.
В то время как из лагеря палачей венгерского народа и соглашателей раздавалась брань по адресу Петефи, народ Венгрии относился к нему с таким восторгом и преклонением, какими до него не пользовался ни один венгерский поэт.
Популярность Петефи была столь велика, что после его гибели просто не считаться с его поэзией было невозможно. А поэтому господа, предавшие венгерскую революцию и проводившие пресловутое «соглашение» с австрийским императором, поставили себе целью фальсифицировать его творчество.
«Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы, — писал Владимир Ильич Ленин. — После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для «утешения» угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его»[107].
Для «согласования» творчества Петефи с интересами господствующих классов первым выступил в шестидесятых годах известный критик эпохи соглашения Пал Дюлаи. Он приступил к делу просто: разделил творчество поэта на две части. Одну принял, другую попытался опорочить. «Его несправедливые, пристрастные, гневные стихи не стоят почти ничего», — провозгласил Дюлаи о революционных стихах Петефи и пренебрежительно добавил: «Тщеславие его было безмерно». Этими гнусными словами решил он объяснить истинную причину, породившую революционные стихи Петефи. О борьбе Петефи и его товарищей за народную литературу он отозвался не менее презрительно: «Ценность этих споров с
И, наконец, Дюлаи дал рецепт, по которому следует пользоваться поэзией Петефи: его песни, жанровые стихи, любовные стихотворения прекрасны, но все остальное — словом, те произведения, в которых проявились освободительные стремления венгерского народа, — «туманно и наивно». «Его душа была подвержена капризам, увлечениям, и в этом, а вовсе не в постоянстве его убеждений следует искать причины его пламенного гнева», — приходит Дюлаи к своему «глубокому психологическому» выводу. И надменно добавляет: «Он не мог найти в венгерской истории более достойного героя, чем Дёрдь Дожа… Пренебрегая его политическими стихами, я хочу говорить только о его лирических произведениях, которые составили главную силу его поэзии». Так был дан рецепт, как извращать облик поэта-революционера.
Венгерский прозаик Мор Йокаи, с которым Петефи порвал всяческие отношения еще летом 1848 года, так как считал его предателем «Мартовской молодежи», в своем гнусном ханжестве зашел еще дальше Пала Дюлаи. Для фальсификации творчества Петефи и оправдания своего недостойного поведения в эпоху Франца Иосифа он во время открытия памятника Петефи в 80-х годах писал следующее: «…народная свобода, которую он искал, как драгоценный алмаз… сейчас уже достигнута… Петефи может убедиться, что пророчески написанное им в стихотворении «На железной дороге»: «Всё металла не хватало? Рушьте цепи! Их — немало! Вот и будет вам металл!» — уже осуществилось. Цепей больше нет! Он может убедиться в том, что уже есть свободная печать… может увидеть, что опять есть гонведы… И еще одно может он увидеть: что есть уже король, любимый народом и любящий народ, и это король Венгрии».
И в школах Венгрии времен Франца Иосифа Петефи изучали именно по этим указкам.
А происходило все это после того, как австрийский генерал Хайнау, воспетый Йокаи в романе «Новый помещик», приговорил к смертной казни Танчича, и старику пришлось восемь лет провести под полом своей комнаты, чтобы «король, любимый народом и любящий народ», не предал его казни; происходило это после того, как Танчич, получив амнистию, возглавил десятки тысяч людей, протестовавших против габсбургского угнетения, и пошел с ними по улицам Будапешта навстречу залпам карателей; после того, как Танчича снова схватили во имя «народной свободы» и упрятали туда же, откуда 15 марта 1848 года вызволил его Петефи со своими товарищами; после того, как Танчича снова хотели подвергнуть смертной казни, но в честь «драгоценного алмаза свободы» приговорили «только» к пятнадцати годам заключения; после того, как восьмидесятилетний Танчич, освободившись из тюрьмы, нищим ходил по улицам столицы, вступившей в соглашение с императором, и продавал свои книги, чтобы не умереть с голоду; и, наконец, происходило это в то время, когда этот прекрасный старец вновь направился пешком в свою родную деревню и увидел, что приказчики так же избивают крестьян, как били некогда и его. И в это время портреты Петефи развешивались на всех стенах, а из его поэзии пытались вытравить то, благодаря чему венгерский народ десятки лет не мог примириться с его гибелью.
В защиту Петефи выступил поэт Янош Вайда. Еще в 1860 году писал он в ответ Дюлаи: «Литература захлебнулась у нас в школярском педантизме… Смерть Петефи — это, несомненно, величайшая утрата, которую только понесла венгерская литература, да и не только литература, но и революционная борьба». «Мартовская годовщина — это праздник Петефи. В будущей жизни нашей нации прекраснейшей будет та эпоха, в которой он снова станет идеалом нашей молодежи», — заявил Вайда в 1895 году.
В последнее десятилетие XIX и первое десятилетие XX века в Венгрии вместе с капитализмом развивался и креп рабочий класс. Русская революция 1905 года пробудила сознание венгерского рабочего класса. По всей стране прокатилась волна стачек и крестьянских забастовок. Все яснее становилась неизбежность революционного преобразования Венгрии под руководством рабочего класса.
Революционная поэзия Петефи снова встала в боевой строй свободолюбивого венгерского народа. По мере нарастания политической борьбы разгорелось сражение и в литературе. Реакционеры опять возобновили свои атаки против Петефи. Атаки эти велись двумя способами. Часть реакционеров решила снова «признать» Петефи и даже возглавить культ его поэзии, чтобы лишить творчество поэта его подлинной сущности, сохранить из него ровно столько, сколько выгодно было буржуазной Венгрии. Этим реакционерам и ответил в 1910 году Эндре Ади: «Уже много лет под знаком Петефи почти безнаказанно разыгрывается в Венгрии уродливая комедия, направленная против Петефи. Ухватившись за Петефи, лезут кверху, обманывают, суетятся и плодятся такие люди, которым этот божественный юноша непременно разбил бы морды в кровь, если б он жил с ними. Петефи-то ведь умел сердиться посильнее нас! Со всех сторон сыплются и льются фарисейские речи, бездушные празднества и вдохновенные сделки. И мы еще доживем до того, что Петефи не побоятся провозгласить своим те люди, которых он больше всего ненавидел. Господа, враждебные народу, помещицы, покровительствующие монахиням, попы в пестрых рясах и подлые слуги аристократов, они и выступят против нас, неся в руках Петефи. А также и те, кого он еще больше презирал: трусы, пустословы, лжепатриоты и прежде всего скверные, бездарные писатели.
В ярости и горести своей я уже давно размышляю о том, кто бы лучше всех ударил по этим преступным комедиантам. И я уже давно вижу, что с фальсификаторами Петефи лучше всех расправился бы один человек: Шандор Петефи. Пусть он сам, полный сознания своего общественного призвания, полный несокрушимой и безграничной революционности, отстегает их бичами своих стихов».
Другая часть реакционеров, во главе с эстетом и буржуазным декадентским поэтом Михаем Бабичем, решила произвести другого рода ревизию творчества Петефи, которая также играла на руку господствующим классам Венгрии. «Описательные стихи Петефи, — говорил он, — достигают высочайшего уровня поэзии». А страницей позже, как бы забыв об этом утверждении, нападая на гражданскую лирику Петефи, Бабич писал: «Петефи вообще не большой художник. Впечатления отражаются в его поэзии в сыром виде, они меньше, чем это было бы возможно, переплавляются в горниле души. В нем мало творческого, гораздо больше зеркалоподобного. Зеркало отражает все образы и так же быстро забывает их. Зеркало не преображает образ. Так и Петефи. В языке его мало индивидуальной окраски». Злобствующий мэтр декаданса посмел это заявить о создателе современного венгерского литературного языка, но и этим он не удовлетворился и раскрыл все свои карты: «Петефи демократичен и общедоступен… Мы все знаем, насколько ограниченным и мещанским было его мировоззрение. Столь же ограниченны и наивны были его эстетические взгляды».
Нападками на Петефи Бабич решил убить двух зайцев разом. Он пытался нанести удар и по новой венгерской революционно-демократической литературе, которая поднималась вместе с ростом и созреванием рабочего класса Венгрии, и по великому революционному поэту XX века Эндре Ади. «Мы должны разбить иллюзии тех, — писал Бабич, — кто усматривает в Петефи предшественника современных революционных поэтов».
В ответ на это и выступил со статьей Эндре Ади. В превосходной статье «Петефи не примиряется», статье, разоблачившей буржуазно-шовинистическую легенду о Петефи, Ади с негодованием утверждал: «Мертвые и живые, прожорливые ничтожества, писавшие до сих пор о Петефи, стыдитесь! По-настоящему вы не любили его никогда! Петефи жил ради нашей эпохи, ради нашего поколения… Этот презираемый молодой человек — Шандор Петефи, этот народный поэт… видел ясней и лучше всех… Мы постараемся защитить его и от его жалких друзей… Нам нужна не романтическая свобода, а та свобода, о которой мечтал Петефи. Кто же здесь, кроме Петефи, был подлинным революционером?» И в заключение Ади провозгласил во весь голос: «Венгерские господствующие классы обращались с Петефи бессовестно… Они старались притянуть его к себе, исказить, использовать в своих мелких интересах… Но Петефи не примирялся, Петефи не примиряется, Петефи принадлежит революции…»
А революция приближалась, надвигалась с неотвратимой силой, и тщетны были все старания потопить вековое отчаяние венгерского народа и его стремление к лучшему будущему в море крови первой мировой войны. Уже в 1917 году на фронтах началось братание с русскими солдатами, а осенью 1918 года прокатилась волна восстаний по частям венгерской армии, народные массы овладели улицами Будапешта, но вдруг все остановилось. В Венгрии не было революционной партии, а правые социал-демократы с первых же дней революции играли на руку буржуазии.
И когда в ноябре 1918 года смертельно больному Эндре Ади сказали, что в Венгрии произошла буржуазно-демократическая революция, что он «может торжествовать, потому что победили его идеи», Ади, по словам очевидца, махнув рукой, ответил: «Нет, это не то, чего я ожидал. Придет еще другая революция. Приедет из России Бела Кун со своими товарищами. Настоящее красное солнце взошло над Россией. Свет его дойдет и сюда». И действительно, в ноябре того же года была создана Коммунистическая партия Венгрии, и в 1919 году, когда провозгласили в Венгрии советскую власть, уже казалось, что венгерский народ воздвигнет под водительством рабочего класса новую Венгрию, в которой идеи Петефи, обогащенные идеями пролетариата, восторжествуют на новой экономической и политической основе. Но правые социал-демократы, сомкнувшиеся с международной реакцией, потопили в крови Венгерскую советскую республику. Революционная Венгрия 1919 года потерпела поражение — тем самым был нанесен удар и Петефи.
1 января 1923 года реакционный правитель Венгрии Хорти из замка Буды отметил сто одним выстрелом столетие со дня рождения великого поэта, а 2 января уже арестовали того актера, который читал в день годовщины его революционные стихи. Даже в такой день не отважилась Венгрия Хорти дать амнистию революционеру Петефи.
А буржуазные историки литературы придумали еще один способ опорочить революционера Петефи. Литературовед Янош Хорват выдвинул «теорию», и с его легкой руки она приобрела даже известную популярность в определенных кругах Венгрии. «Теория» сводилась к тому, будто бы Петефи, горячо стремившийся стать актером, всю жизнь играл, и его уменье перевоплощаться в стихах то в чабана, то в бетяра, то в актера и, самое главное, в революционера исходило из одной и той же душевной потребности: играть, выступать, красоваться перед публикой. Из всех «теорий» эта «психологическая теория», конечно, наиболее хитрая и гнусная. Она выдумана специально для того, чтобы опорочить, фальсифицировать, низвести до уровня клоунады всю литературную и прежде всего политическую деятельность Петефи.
Эти пресмыкающиеся «господа критики» разоблачили в данном случае вовсе не Петефи, а собственную жалкую сущность.
Венгерский рабочий класс начертал на своем стяге имя Петефи. С начала XX века почти в каждую годовщину революции 1848 года десятки тысяч трудящихся устремлялись к памятнику Петефи. Эти демонстрации не раз кончались кровавым столкновением с полицией. Даже во время второй мировой войны, несмотря на запрет фашистских властей и сопротивление правых социал-демократов, рабочие пошли к памятнику Петефи с возгласами: «Долой войну!» Сотни рабочих были арестованы после этой демонстрации.
В 1945 году Советская Армия освободила Венгрию от фашизма. С тех пор стремительно воздвигается новая, социалистическая Венгрия. Борьба между старым и новым яростно развернулась и в литературе. Враги народного реалистического искусства, сторонники различных гнилых течений, процветающих в западных империалистических странах, тысячами путей, открыто и в завуалированной форме, старались помешать развитию новой, демократической культуры. Они пытались, таким образом, еще раз восстать и против великих традиций Петефи.
Разве не продолжением происков против Шандора Петефи явилось переиздание в 1947 году книги историка литературы Антала Серба, в которой он развивает такие антинародные и кощунственные теории: «Когда Петефи был народным поэтом, он совершал над собой насилие, он вынужден был обеднить, обесцветить свое творчество, чтобы суметь его втиснуть в узкие рамки. По-настоящему хороши вовсе не те его стихи, что он писал в качестве народного поэта… Народ вообще не читает стихов, он всегда был занят другим, другим занят он и ныне, и так оно будет во веки веков. Стихи — это предмет роскоши господствующих классов». Или разве не пережитком буржуазной идеологии был лозунг, выдвинутый против так называемой «плакатной поэзии»? Разве не под воздействием идеологии буржуазии пытались надменные «знатоки»-эстеты разделить поэзию на два вида: на поэзию «глубокую, удовлетворяющую высоким требованиям эстетики», и на «агитационное, плакатное, хотя, может быть, и полезное, но дилетантское виршеплетство»?
Такого разделения на самом деле не существует и не может существовать. Народ демократической Венгрии не может терпеть, чтобы на поприще искусства работали дилетанты и бездарные виршеплеты. Но народ не потерпит и того, чтобы путем хитрых уловок компрометировали тех писателей, которые кровно связаны своим творчеством с созидательным трудом народа, которые верны традициям гражданской лирики Петефи.
Петефи был поэтом, агитатором, народным трибуном, он с гордо поднятой головой отвечал жалким эстетам своего времени:
Эти строки написаны тем поэтом, лучше, прекраснее которого еще никто не творил на венгерском языке, тем поэтом, стихи которого зовут людей на борьбу.
Новая венгерская демократическая поэзия стремится идти по пути революционной поэзии Советского Союза, той поэзии, во главе которой шагает Маяковский. В Венгрии стихи становятся уже не предметом роскоши господствующего класса, а насущным хлебом народа. Петефи одержит победу — и теперь уже навсегда. Когда
И мы, венгерские поэты, связанные кровью и плотью со своим народом и всем трудовым человечеством в его радостях и страданиях, мы тоже идем со своей «звонкой силой», чтобы помогать в строительстве новой, поистине свободной демократической Венгрии, в котором принял бы участие и Петефи, если бы жил в наши дни. К этой работе и борьбе призывает Петефи и ныне своими горячими песнями венгерский народ.
В ряду всемирно известных поэтов — революционных демократов, которых любит и чтит советский народ, стоит и гениальный венгерский поэт Шандор Петефи.
Петефи был поэтом такого масштаба, такой глубины чувств и мыслей, такой новаторской силы, что ему суждено было оказать огромное влияние на развитие венгерской поэзии. Вместе с тем слава его распространилась далеко за пределами его родины.
Известно восторженное отношение Генриха Гейне к Петефи. В 1849 году Гейне писал: «Петефи — поэт, с которым могут сравниться только Берне и Беранже… Такое поразительное здоровье и простота среди общества, полного болезненности и рефлексии, что в Германии я никого не могу поставить с ним рядом».
Мы знаем о преклонении, с каким относился к Петефи великий чешский поэт-демократ Ян Неруда, создавший ряд великолепных переводов стихотворений Петефи на чешский язык «Я считаю необычайно важным событием то, что Петефи входит в нашу литературу, — писал Неруда. — Я не знаю во всей мировой литературе поэта, который был бы мне милее Петефи. Петефи был не классиком, вовсе нет! Он был только Петефи: самым пламенным певцом любви, патриотизма и свободы… Петефи — это та алмазная застежка, которая скрепила венгерскую литературу с мировой литературой. У прекрасной, огневой венгерской нации нет более великого сына, чем он. И у ней не было более счастливого дня, чем день, когда родился Петефи… Если б об этой нации мы не знали ничего и знали бы только стихи Петефи, то этим самым мы нащупали бы ее тончайшие нервы… Как рекомендовать мне стихи Петефи?.. Пока я могу сказать только одно: если хочется прекрасных романсов — читай Петефи; если хочется вдохновенных гимнов родине — читай Петефи; если хочется веселых песен, любовных стихов — тоже читай Петефи!»
Только недавно узнали мы, что призывные, вольнолюбивые стихи Петефи долетели и до Китая. Великий китайский писатель Лу Синь не только знал и любил Петефи, но и перевел ряд его стихотворений. Лу Синь пишет о сборниках Петефи: «Собственно говоря, это самые обычные книги — том прозы и том стихотворений. И только для меня они сокровища. Я всегда носил их с собой…»
В России имя Петефи известно давно: уже в 50-х годах прошлого столетия стали переводить его стихи; одним из первых его переводчиков был русский революционер-демократ Михаил Ларионович Михайлов. Но цензурные условия самодержавия помешали тому, чтобы поэзия Петефи получила в России широкое распространение. Только после Великой Октябрьской социалистической революции стали появляться первые революционные стихи поэта. В 1925 году в переводе А. В. Луначарского вышел первый небольшой сборник стихов Петефи. Вышедший в 1948 году сборник его избранных произведений и затем вышедшее в 1952 году четырехтомное собрание сочинений, в работе над которыми принял участие ряд виднейших советских поэтов, впервые раскрыли для советских читателей поэзию Петефи в ее полноте и многообразии.
Петефи пришел к людям Советской страны, «как живой с живыми говоря», потому что и столетие назад он был буревестником свободы, трибуном революции.
«Кто знает, — писал в 1848 году Пал Вашвари, — не настанет ли век еще более могучий, не выдвинет ли он идеи более прекрасные и чистые, чем наши? Приятно ли было бы нам, если б этот век, взглянув на могилы XIX века, сказал бы: «Они возились с мелочами… их идеи были большей частью ошибочными, они мыслили иначе, чем мы, так пусть они канут в забвенье. Они не заслуживают даже нашего внимания». Не восстанут ли тогда наши призраки, услышав подобный суд; не подойдут ли они к креслу правосудия, чтобы оправдаться в своих, ошибках, чтобы засвидетельствовать свои благие намерения, свои искренние стремления?.. Не крикнут ли они из могил, что этот век несправедлив, жесток к нам и не учитывает тех условий, в которых мы жили?»
Сто лет прошло со времени героической гибели Петефи. Вашвари оказался прав в том, что «настал век еще более могучий», и он выдвинул «идеи, даже более прекрасные и чистые», настал век пролетарских революций, век осуществления идей марксизма-ленинизма. Но Вашвари ошибся в том, что эта эпоха будет несправедливой к ним, что она не учтет тех условий, в которых они жили. Пролетарские революционеры приняли в свое сердце и идеи Петефи. Эти идеи живы и ныне, и только теперь осуществляются они в Венгрии. Стихи Петефи помогают в великой борьбе за освобождение человечества.
Пример Петефи обязывает нас к тому, чтобы мы ни на мгновение не останавливались в своей великой борьбе за счастье людей, за которое отдал свою жизнь чудесный, бессмертный сын венгерского народа — Шандор Петефи.
Мы закончим нашу книгу строками стихов, которые Петефи написал в последнюю новогоднюю ночь своей жизни.
/528 — Шандор поступает в Феледьхазскую школу.
1
1
На русском языке стихи поэта появлялись начиная со второй половины XIX века. Первый перевод принадлежит В. Бенедиктову (1857), затем Петефи переводили М. Михайлов, Н. Аксенов, Ф. Берг, О. Михайлова, П. Быков, Н. Нович (псевдоним Н. Бахтина), Д. Садовников, М. Шелгунов, В. Мазуркеаич, Д. Корш. Стихи эти печатались в различных журналах, а 35 стихотворений вошли в антологию «Мадьярские поэты» под редакцией Н. Новича (Спб., 1897). Почти все дореволюционные переводы Петефи на русский язык делались не с оригинала.
Только в советское время стихи поэта стали переводиться непосредственно с венгерского языка. Произведения Петефи выходят многими изданиями, массовыми тиражами.
Собрание сочинений в 4 томах. Перев. с венгерского. (Сост. и ред. А. Красновой (А. Кун). Предисловие А. Гидаша.) М., Гослитиздат, 1952–1953.
Т. 1 «Стихотворения. 1842–1846».
Т. 2. «Стихотворения. 1847–1849».
Т. 3. «Поэмы».
Т. 4. «Проза».
Избранные стихотворения. Вступит, статья и перевод А. Луначарского. М., Госиздат, 1925.
«Сорвем с Буды немецкий флаг». Красноуфимск, Гослитиздат, 1942.
«Избранные стихи». М., изд-во «Правда», 1946. (Библио1вка «Огонек».)
«Избранное» М., Гослитиздат, 1948.
«Герои в дерюге». М., изд-во «Правда», 1948. (Библиотека «Крокодил».)
«Избранное». М., Гослитиздат. 1949. (Массовая библиотека.)
«Стихотворения». М., Деггиз, 1949.
«Витязь Янош». М… — Л., Детгиз, 1950.
«Избранное». М., Гослитиздат, 1955.
«Избранное». (Предисловие Бела Куна.) М., Гослитиздат, 1958.
Стихотворения Шандора Петефи, напечатанные в изданиях после 1946 года, переводили М. Замаховская, В. Звягинцева, М. Исаковский, В. Инбер, В. Левик, Л. Мартынов, С. Маршак, И. Миримский, С. Обрадович, Б. Пастернак, А. Ромм, Н. Тихонов, И. Чуковский. Проза переведена Анной Красновой (А. Кун).
П— ов С, Александр Петефи — венгерский поэт. «Русское слово», 1861, март.
«Пятидесятилетие со дня смерти Петефи». «Вестник иностранной литературы», 1899, июль.
Луначарский А., Вступительная статья. В книге: А. Петефи, Избранные стихотворения. М., 1925.
Фоньо А., Поэт революции. «Литературная учеба», 1935, № 8.
Короткевич Г., Стихи Шандора Петефи. «Литературная газета», 3 сентября 1946 г.
Его же, Поэт, революционер, воин. «Красный флот», 31 июля 1949 г.
Зенкевич М., Демократические традиции Петефи. «Литературная газета», 17 марта 1948 г.
Сурков А., Поэт — трибун венгерской революции. «Известия», 14 марта 1948 г.
Книпович Е., Голос самого народа. «Новый мир», 1948, № 9.
Шор А., Поэт венгерской революции. «Звезда», 1949, № 11.
Анисимов И., Великий венгерский поэт-революционер. «Правда», 30 июля 1949 г.
Тихонов Н., Шандор Петефи. «Известия», 30 июля 1949 г.
Малышко А., Благородное сердце. «Литературная газета», 30 июля 1949 г.
Гидаш А., Великий поэт-трибун. «Литературная газета», 30 июля 1949 г.
Его же, Великий поэт венгерского народа. «Красная звезда», 31 июля 1949 г.
Краснова А. (А. Кун), Гениальный поэт венгерского народа. «Труд», 31 июля 1949 г.
Иванский А., Шандор Петефи. «Комсомольская правда», 30 июля 1949 г.
Иллеш, Бела, Традиции Петефи. «Литературная газета», 16 марта 1957 г.
Исламов Т., Петефи и современность. «Огонек», 1957, № 11.
Кун, Бела, Шандор Петефи — поэт мировой свободы. «Иностранная литература», 1958, № 3.
Известный венгерский поэт и прозаик Анатоль Гидаш родился а 1899 году в деревне Геделле, в семье сапожника. С одиннадцати лет, еще учеником Будапештской школы, стал работать по найму.
Начал печататься в 1919 году. Первый сборник сти хов Гидаша — «В стране контрреволюции» — вышел в Вене в 1925 году.
С 1925 года жил в Советском Союзе. Здесь он выпустил ряд книг на венгерском и русском языках, переводил на венгерский язык стихи Пушкина, Лермонтова. Некрасова, Шевченко, Маяковского, Твардовского, Исаковского и др.
Среди русских читателей из произведений Анатоля Гидаша наиболее известны: сборники стихов «Венгрия ликует» (1930), «Москва — родина» (1934), антифашистский памфлет «План графа Курта фон Эйхена», роман «Господин Фицек» (1937), биография Шандора Петефи (1949).
Анатоль Гидаш много сделал для пропаганды венгерской литературы среди русских читателей, В частности, он составил «Антологию венгерской поэзии» (1952).
В 1959 году Гидаш вернулся на родину и сейчас живет в народной Венгрии.
А. Гидаш дважды награжден орденами правительством Венгерской Народной Республики (1949 и 1959 гг.).