Гомер
Античная лирика
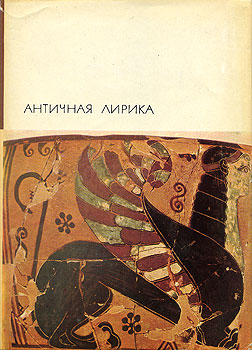
Говоря «античная лирика», мы разумеем лирику двух не только разных, но и весьма различных народов — греков и римлян. Поэзия римская — в прямой зависимости от греческой, но это не продолжение и не копия: у римской поэзии немало своих национальных черт. Объединение лирики греческой и римской в единое понятие лирики «античной» оправдано общностью культуры языческого рабовладельческого общества, заложившей основы культуры Средиземноморья, то есть в большой мере новой Европы.
У поэзии греков и римлян различна и судьба. Римской поэзии лучше была обеспечена жизнь в последующих веках. В таких странах, как Италия или Франция, древнеримская культура, по существу, никогда не угасала, даже тогда, когда восторжествовало христианство и когда эти цветущие, богато цивилизованные области оказались ареной варварских нашествий. Даже в самые глухие годы раннего средневековья она теплилась в монастырских кельях и только ждала времени, когда ее произведения снова станут насущным хлебом филологов и поэтов. У более древней поэзии греков не было этой относительно счастливой обеспеченности. Если Гомер и Гесиод уцелели в общем крушении Эллады, то лирика греков, за малыми исключениями, почти целиком пропала. В Византии ранней греческой лирикой интересовались преимущественно ученые, извлекая из нее нужные им грамматические примеры, которые для нас и остаются иногда единственным материалом, дающим понятие о том или ином поэте.
Непоправимый удар античному литературному наследству нанесла гибель Александрийской библиотеки.
Приходится собирать остатки древней греческой лирики, как колосья в поле после снятия урожая, воссоздавать утраченное по отдельным фрагментам. Пусть же читатель, стремящийся познакомиться с лирикой Древней Эллады, помедлит в недоумении и печали среди этого беспощадного опустошения, не удивляясь тому, что наряду с немногими счастливо сохранившимися образцами его вниманию будут предложены обрывки, обломки, по которым ему трудно будет составить себе понятие о целом. Впрочем, иные краткие стихотворения лишь кажутся фрагментами, — на самом деле они так были написаны.
Ранее VIII века до н. э. лирики, принадлежавшей определенным авторам, в Элладе не существовало. Народ, конечно, пел, но еще не писал. То было время, когда за поэтом-лириком не стояло никаких литературных предшественников.
Зато народное творчество было в расцвете. По всей Греции, по азийскому побережью, по островам Архипелага певцы-рапсоды разносили эпос Гомера, навсегда ставший для античной поэзии сокровищницей тем и словесного выражения. А рядом с профессиональными певцами девушки и юноши, по случаю возвращения весны, сбора винограда или просто сопровождая свои полудетские игры, распевали нехитрые песенки, как у всех народов на земле.
Такие песни, как «О ласточке» или об игре в «черепаху», — вот те узенькие просветы, через которые мы заглядываем в мир греческой народной лирики древнейших времен.
Начиная с VIII и тем более VII века правомочно уже говорить о греческой лирике как о выделившемся жанре литературной поэзии. VII век был временем формирования эллинского политического единства на основе сосуществования ряда отдельных, нередко враждовавших друг с другом племен, из которых рано выдвинулись на культурную арену доряне, ионяне, эолийцы. Они нахлынули с востока и с севера и теперь осваивали малоазийский берег, острова и гавани греческой земли. В этом процессе вырабатывался дух воинственной предприимчивости. В общем подъеме громко заявила о себе лирическая поэзия, связанная уже с определенными, иногда полумифическими именами. Смутной тенью проходит в памяти человечества образ певца Орфея.
В развитии искусств тех отдаленных времен не наблюдается параллелизма. Когда народ успел уже создать величественнейший из эпосов мира, когда и лирика с быстротой неслыханной достигла высокого уровня, другие искусства Греции были еще в периоде становления. Архаическая Ника Архерма кажется принадлежащей эпохе куда более ранней, чем стихи того времени.
Мы впали бы в ошибку, подумав, что тот или иной жанр лирики был бесспорно первым по времени в развитии греческой поэзии. «Мелика», то есть песенный жанр, появился примерно одновременно с поэзией «ямбической», нередко окрашенной сатирически; тогда же возникла поэзия «гимнов», то есть хоровая лирика религиозного или хвалебного рода; вступил в свои права и элегический дистих (двустишие), нашедший позже широкое применение в элегии и эпиграмме. О возможности какого-либо хронологического уточнения тут говорить не приходится.
Особенно горестна утрата столь многих мелических произведений. В них наиболее выражено было личное лирическое начало. В дошедших до нас такая прозрачность и непосредственность чувств, какая может быть лишь у поэзии, еще не удалившейся от своего прямого источника — поэзии народной.
Мелическая лирика была связана неразрывно со струнной музыкой. Исполняя стихи-песни, поэт брал лиру (кифару), садился и пел, держа ее на коленях и перебирая струны пальцами или плектром. Лира издавала чистый и звонкий, но скудный для нашего современного слуха звук, даже когда к лире добавлено бывало еще несколько струн, превращавших ее в «барбитон».
Мелическая лирика изначала имела свое топографическое средоточие: недалекий от азийского побережья остров Лесбос с главным городом Митиленой. На этом обширном и богатом острове, заселенном племенем эолийцев, культура приобрела некоторые своеобразные черты. Женщине предоставлялась на Лесбосе значительная свобода, между тем как в Аттике того же времени женщины были подчинены строгим нормам эллинского «домостроя».
На Лесбосе, как, впрочем, и в некоторых других местах Греции, рано возникли свои музыкально-поэтические студии, куда приезжали учиться из разных областей эллинского мира.
Одну из таких студий возглавляла, в конце VII — начале VI века, знаменитая поэтесса Сафо (точнее — Сапфо). Она родилась на Лесбосе, и только раз ей пришлось уехать временно в изгнание по причинам политическим. Сафо была замужем, знала радости материнства. Она жила в условиях утонченной роскоши. Прекрасная собой, гениально одаренная женщина достигла преклонных лет в окружении своих постоянно сменявшихся учениц. С ними ее связывала восторженная дружба, находившая выход в пламенных, страстных стихах. Для некоторых она сочиняла свадебные песни — эпиталамы. Предание о том, что Сафо покончила с собой из-за несчастной любви к некоему Феону, — досужий вымысел позднейшего времени.
Судьба сохранила для нас один из шедевров великой зачинательницы эллинской медики, озаглавленный у нас «Гимн Афродите» (античная лирика не применяла названий). Кто бы ни был адресатом этих стихов, его обессмертило чувство поэтессы, выраженное с чудесной музыкальностью и стройностью. Другой шедевр Сафо «Богу равным кажется мне по счастью // человек…», через пятьсот лет переведенный на латинский язык Катуллом, может по праву считаться классическим образцом поэзии любви. Сохранившиеся в большом количестве фрагменты свидетельствуют, что умная, многосторонняя поэтесса способна была и на сатирические и на философские высказывания. Она откликалась и на житейские события. Читатель найдет среди ее стихов и чуткие воссоздания природы, как, например, в стихотворении «Пещера нимф».
Рядом с родоначальницей любовной лирики возвышается ее современник, тоже лесбосец, поэт Алкей. Судя по стихам, он был влюблен в свою знаменитую соотечественницу, но она ответила ему отказом, заключенным в суровое четверостишие.
Алкей и Сафо делят между собой славу основоположников эллинской мелики, но они очень различны. Сафо прежде всего — женщина. Алкей всецело мужествен. Политическая борьба заполняет помыслы поэта. Меч в руке сменяет пиршественную чашу. Призывы постоять за родину, то есть за Лесбос, чередуются с резкими инвективами против политических противников. Алкей одновременно с Сафо был изгнан, когда правителем стал Питтак, глава противоположной партии. Прощенный Питтаком, он возвратился и дожил до глубокой старости, отмеченной, судя по его стихам, усталостью от жизненной борьбы. Среди его наследия не могут не привлечь внимания два стихотворения: «Буря» и «Буря не унимается», где живописуется буря на море, не без политической аллегории, или столь примечательное и в познавательном отношении стихотворение о доме, где все готово для военного предприятия, где дом «Медью воинской весь блестит…».
Непосредственность мироощущения и художественная верность дали стихам Сафо и Алкея силу пережить тысячелетия. Мы и сейчас читаем их стихи почти как современную поэзию.
Следуя за композицией тома, то есть, обозревая сначала мелику, перебросим мост через целое столетие. За пределами эолийского Лесбоса мы встретимся с поэтом, чье имя достаточно хорошо известно каждому. Мы имеем в виду ионийца Анакреонта, творчество которого не связано с каким-либо определенным местом — поэт переходил от одного правителя к другому до самой старости. Анакреонт, от стихов которого остались только фрагменты, — певец вина, любви, земных радостей, прекрасных юношей. Его поэзия полна призывов к веселью и вместе с тем вздохов о скоропреходящей молодости, о бренности жизни. Тематика Анакреонта узка, но популярность в последующие века огромна. Он оказал влияние на всю мировую лирику. Образовался специфический «анакреонтический» жанр, обязанный, впрочем, своим возникновением больше сборнику поддельных стихов в духе Анакреонта, созданных уже в римскую и даже византийскую эпоху. У нас слава Анакреонта подкреплена рядом переводов Пушкина.
Наиболее видный представитель ранней «хоровой» лирики — поэт VII века до н. э. Алкман. Несколько сохранившихся стихотворений дают возможность восстановить в общих чертах жизнь и образ поэта. Родившись в Азии, Алкман перебрался в Спарту и здесь утратил обычное для азийцев пристрастие к роскоши и усвоил стиль жизни своей второй родины. В стихотворении «Как-нибудь дам я треногий горшок тебе…» он выражает вкусы вполне «спартанские»: его удовлетворяет «подогретая каша», пища земледельца и воина. Но в душе у приемного спартанца таились родники истинно поэтического мироощущения. Пересеченные ущельями суровые высоты Тайгета внушили Алкману строки редкой красоты. Он чутко прислушивается и присматривается к природе. При чтении его стихотворения «Спят вершины высоких гор…» невольно вспоминаются «Горные вершины…» Лермонтова. Но основное в творчестве Алкмана — это тексты песен, писанных им для девичьих хоров. Алкман был руководителем певческой школы девушек, — пожалуй, точнее назвать ее по-современному «хоровой капеллой». Суровый спартанец нашел для этих хоровых песнопений много женственной мягкости, и свежесть их не может не пленять.
Хоровая лирика непосредственно после Алкмана не дала выдающихся представителей. Впоследствии, к концу VI столетия, она нашла широкое применение на театре, составив лирические части трагедии, преобладавшие еще у Эсхила над речевыми текстами драмы. При пополнении хоровой лирики в качестве сопровождения применялась флейта в форме длинной двойной дуды.
Жанр «гимнов», то есть торжественной лирики, носил сперва преимущественно религиозный характер, но к V веку в значительной степени утратил его. Светскими одами-гимнами прославил себя и свою родину величайший лирик того времени Пиндар (521–441 гг. до н. э.). В отличие от таких лириков, как Алкей, он чуждался политических конфликтов, как внутренних, так и международных. Пиндар неизменно сохранял сознание всеэллинского единства. Он пользовался единодушным признанием. Характер его поэзии и личный характер обеспечили ему дружбу с видными деятелями и государями различных областей. Широта политических воззрений сочеталась у Пиндара с последовательной позицией миролюбца, и это не могло не привлекать к нему сердца народа. К сожалению, наше представление о творчестве Пиндара односторонне. Известно, что его лирические произведения были разнообразны. Они исполнялись под музыку при различных обстоятельствах, от храмовых церемоний до застольного веселья. Надо думать, что такие стихи-песни бывали писаны стилем и языком сравнительно простым. Этого нельзя сказать о тех его произведениях, которые нам знакомы. От Пиндара до нас дошли полностью только его «Эпиникии», числом 45, — похвальные гимны в честь победителей в конских ристаниях на всенародных играх — истмийских, пифийских и других. В Древней Греции победа на спортивном состязании почиталась крупным патриотическим событием, — победитель отстаивал честь своего племени, своего «полиса». Нередко соотечественники увековечивали его подвиг, ставили ему памятник при жизни. Такого рода памятникам соответствуют оды Пиндара.
На поэзию Пиндара падает тенью вся та масса подражаний его стилю, какие возникли в новой европейской поэзии, особенно в торжественном одописании XVIII века. Но отрешимся от этой вторичности восприятия, — все равно поэтика его эпиникий представляется нарочитой, стиль — высокопарным. Не удивительно, что литературная наставница Пиндара, беотийская поэтесса Коринна, неоднократно побеждала его на поэтических состязаниях — она писала понятным народу стилем и языком.
Уже у древних есть указания на то, что Пиндар был малодоступен для своих современников, и это не требует доказательств. В его мифологических отступлениях много мотивов из редких непопулярных мифов, причем, излагая их, поэт пользуется намеками, угадать смысл которых не каждый в состоянии. Всякие недомолвки ведут к недоступности смысла, к выставлению напоказ своей образованности. Это удовлетворяет самолюбие слушателя и угождающего ему автора. А между тем именно мифологические отступления составляют главную массу эпиникий. Непосредственное обращение к герою дня большею частью бывает кратким. Благодаря недоговоренности эти отступления теряют в повествовательности, хотя довольно многословны. Сам Пиндар говорит в одной из од:
Дел великих всегда многословна хвала;
Но из многого малое любит мудрец
В разновидной приять красоте…
Благородные, морально возвышенные мысли, разумные поучения носителям власти вкраплены в мудреный, полный пафоса текст, — ими оправдывается общая легковесность Пиндаровых эпиникий.
Пиндар — первый из поэтов, относившийся к своему творчеству, как профессионал: он писал стихи по заказу общин или отдельных лиц и получал денежное вознаграждение. Нельзя сказать, чтобы эта сторона деятельности не ощущалась в стиле его одописания. Прославление победителей неизбежно приводило к налету лести, — так Пиндар проложил дорогу многим «воспевателям» сильных мира сего. Однако возвышенный пафос Пиндара много благороднее, чем угодливость обычных придворных стихотворцев.
Эпиникии Пиндара написаны сложными, сменяющимися размерами и разделены на строфы и антистрофы, что сближает их с хорами трагедий. Пышное, хотя и искусственное словотворчество, богатая, роскошная образность, наконец, вообще то особое превосходство, какое бывает лишь у высокоодаренных и законченных мастеров своего дела, законно ставят Пиндара на вершину греческой лирики V столетия.
В этом столетии завершилось разобщение лирики с музыкой, лира и флейта перестали быть непременными участницами исполнения стихов. Этот процесс был постепенным и неравномерным: уже в VII столетии поэты стали свои стихи записывать, тогда же начали появляться в стихах обращения к «читателю».
Распространенным жанром древнейшей лирики были и «ямбы». Название определяется размером стиха, который впоследствии, в своем тоническом варианте, стал излюбленным метром русской поэзии. Этот размер с его энергической поступью был приспособлен к выражению не столько пылких и нежных переживаний, сколько таких эмоций, где давался выход трезвой или ожесточенной, нередко едкой и насмешливой мысли.
Отцом ямбической лирики считается Архилох, он же был, по-видимому, и изобретателем ямба как метра. Годы его деятельности приходятся на то время, когда Сафо и Алкей еще не родились, то есть на вторую половину VIII и первую половину VII века. Архилох был как раз из тех новоселов Архипелага, чье вторжение изменило культурный облик Греции. Его жизнь, поскольку можно проследить ее по сохранившимся стихотворениям и фрагментам, — это военные налеты, это подвиги, но и грубые выходки наемного воина-моряка, это трудная, полная опасностей повседневность. Обозначается и характер зачинателя ямбической лирики: Архилох был человек дикий, страстный, вояка и драчун, мстительный и жестокий, мастер выпить, охотник до случайных женщин. Судьба у него была не только беспокойная, но и несчастливая. В личной жизни его произошла драма: он полюбил девушку из богатой семьи. Ее отец сперва обещал Архилоху выдать за него дочь, но потом передумал. Если бы он мог предвидеть, какой грязью обольет оскорбленный жених и его самого, и его неповинную дочку, он, вероятно, предпочел бы все же отдать ее домогателю. Рассвирепевший поэт не погнушался, видимо, и прямой клеветою. Позднейшие времена романтизировали происшедшую семейную распрю: создалась легенда, будто скомпрометированная ямбами Архилоха девушка покончила с собой, и даже не одна, а будто бы вместе с сестрою.
Архилох отразил в своей поэзии то, чему научила его жизнь, — твердость духа перед лицом опасности, спокойное признание силы обстоятельств. Архилох не был избалован жизнью, и его стихи чужды ее очарований. Язык его стихов груб, порою непристоен. Все это весьма далеко от мелики героического и нежного Лесбоса. Никакой лиры не можем мы представить себе в руках Архилоха, только резкую фригийскую дудку. Но так и видишь, как он своей мускулистой ногой притоптывает на каждом «сильном» слоге ямба, — обычный прием при исполнении ямбических стихов.
В стихах Архилоха — энергия молодых народных сил, так и рвущихся в бой. Искренность его предельна. Архилох — это примитивный, первичный двигатель культуры. Кроме того, он не только создатель ямба. Иногда поэт сменяет его, в пределах одного и того же стихотворения, на другие метры. Это заставляет предполагать, что он обладал даром импровизации, что перемена метра или даже выдумка нового стихотворного ритма была для него делом мгновения. В сохранившемся наследии Архилоха чистых ямбов не так много.
Архилох не чужд и «элегического дистиха», то есть сочетания одной строки гекзаметра с одной строкой стиха, который обычно неправильно называют «пентаметром». Об этой форме дает нам понятие двустишие Пушкина:
Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи,
Старца великого тень чую смущенной душой.
Стихи, писанные такой формой, назывались в античности «элегиями». Тогда термин «элегия» не означал непременно стихотворения с печальным содержанием. Правда, и в Греции элегии не полагалось, как застольной песне, славить чувственные радости бытия, но раздумья, обычно присущие элегии, еще не определили ее как жанр. В эллинистическое время любовная тема широко зазвучала в элегической лирике. Пусть во времена аттической гегемонии, в классическом V веке, элегия была еще второстепенным жанром, — вскоре она стала господствующим. Длинный ряд поэтов прославил этот род поэзии в эллинистическое время. Элегию полюбили в Риме. А потом, в эпоху Возрождения, — на искусственной латыни — элегия получила свое второе рождение. Немало элегий создано и европейскими поэтами нового времени.
Элегия обычно имела спокойное течение, она приспособлена была к выражению серьезных мыслей, морализированию, рассуждению; ею удобно было пользоваться и для приветственных выступлений. Простой язык элегий ничего общего не имеет с пышностью Пиндаровых эпиникий и предваряет будущие достоинства ораторского стиля. В отличие от мелики, слагавшейся на различных диалектах, элегия писалась неизменно на ионийском. Исполнялись элегии еще в VI столетии под аккомпанемент флейты. Для этого приглашался специальный флейтист или флейтистка, иногда же сам поэт играл в перерывах декламации.
Среди древнегреческих элегиков читатель встретит знакомые ему имена. Таков Тиртей, ставший символом поэзии, воодушевляющей воинов на битву.
Доля прекрасная — пасть в передних рядах ополченья,
Родину-мать от врагов оберегая в бою, —
эти строки могли бы служить эпиграфом ко всему творчеству Тиртея. Предание говорит, что Тиртей, хромой школьный учитель, был прислан спартанцам в насмешку, когда они, повинуясь оракулу, попросили своих союзников-афинян дать им полководца. Но оракул не ошибся: Тиртей своими стихами сумел воодушевить спартанских воинов и обеспечил Спарте победу.
Писал элегии и Солон, известный законодатель Афин, одна из обаятельных фигур эллинской древности. На элегиях Солона в известной мере отразилась его деятельность. В его стихах видна глубокая вера в «благозаконие». Он сурово обличает пороки, но не в плане сатиры, а лишь морального увещания. В заслугу себе Солон ставит то, что никогда не стремился к тирании, не шел путем насилия, не поощрял дурных людей, — из-за этого он нажил себе врагов. Стихи Солона «Моей свидетельницей пред судом времен…», подводящие итог его государственной деятельности, исполнены величия. Мы не можем не сокрушаться, что из его поэмы о Саламине, содержавшей сто стихов, время сохранило всего восемь. Политическая пламенность этих восьми строк заставляем еще горше сожалеть об утрате остальных.
По имени не так широко известен, но поэтически значителен элегик VI века Феогнид. Это один из немногих относительно пощаженных временем: из созданного им уцелело около ста пятидесяти более или менее цельных стихотворений (не все, однако, в этом наследии достоверно). Феогнид — поэт-скептик, он мучается неразрешенными вопросами бытия, он в недоумении своем дерзко обращается к самому Зевсу. Он недоволен миром, он сердится. Его стихи, обращенные к юноше Кирну, — наставления, исходящие из глубокого, почти родительского чувства. Политическая пристрастность придает стихам Феогнида особую напряженность. Едва ли многие соотечественники могли сочувствовать его даровитым, но в высшей степени антидемократическим элегиям. Некоторые стихи, приписываемые Феогниду, повторяют стихи Солона, — это доказывает, что и древние, составляя поэтические сборники, не могли порою разобраться в наследии своих давних поэтов.
Отцом элегии любовной считается Мимнерм (VI в.). Ему принадлежит знаменитая, часто повторяемая строка:
Что за жизнь, что за радость, коль нет золотой Афродиты!
Кроме первой элегии, начинающейся этим стихом, в ничтожном по количеству уцелевшем наследии Мимнерма нет прямой любовной тематики, зато много обычной скорби о быстропроходящей юности, о неверности человеческого счастья. Каждый, кто дожил до старости, не может не оценить таких строк, как:
Старость презренная, злая. В безвестность она нас ввергает,
Разум туманит живой и повреждает глаза.
Мимнерм стал образцом для многих элегиков александрийского направления и элегиков римских. Древние упоминают, что Мимнерм был и выдающимся музыкантом.
Поэты-элегики не ограничивали себя однажды полюбившейся поэтической формой, поэтому определение «элегик» следует понимать лишь как указание на главную, характерную линию в их творчестве.
Некоторые элегики, не ограничиваясь любимой ими формой, остались в истории поэзии главным образом как изобретатели новых стихотворных размеров. Таков Фалек (III в.), создавший особый одиннадцатисложный стих, носящий его имя и широко применявшийся в поэзии римской. Таков Гиппонакт, своеобразный поэт, неудачник и бедняк, изобретший для своей горько-насмешливой поэзии «хромой ямб». Таков Асклепиад, чье имя сохранено в названии особой строфической системы.
Не меньшим разнообразием отличался и жанр эпиграммы. Эпиграмма близка к элегии по простоте и сжатости языка, а также по преимущественному пользованию элегическим дистихом. Само название жанра многое раскрывает в его особенностях. «Эпиграмма» означает «надпись». Если при слове «медика» перед нами возникает образ поющего поэта с лирою в руках, то термин «эпиграмма» вызывает в воображении гладь мраморной плиты с вырезанными на ней буквами.
Эпиграммы не носили в древности непременно острого характера, не «вцеплялись в глаза», как эпиграммы нового времени. Античная эпиграмма — это коротенькое стихотворение, относящееся к какому-нибудь определенному человеку, обстоятельству, местности, предмету. Среди эпиграмм много надгробных, так называемых «эпитафий», много и эротических. Есть философские эпиграммы, — они составляют раздел «гномов», — есть и социально заостренные.
Нет возможности даже бегло охватить ту массу эпиграмм, какие сохранились до нашего времени, главным образом благодаря популярности этого рода лирики в эллинистическую, римскую и даже ранневизантийскую эпоху, когда из них были составлены обширные сборники. Знакомясь с эпиграммами, представленными в настоящем томе, читатель отметит, что в эпиграмматическом роде упражнялись не только такие выдающиеся поэты, как, например, Феокрит, автор III века, знаменитый своими «буколическими», то есть пастушескими идиллиями, но и писатели, чью славу составили сочинения совсем иного плана: среди эпиграмматиков он найдет и философа Платона, и прозаика Лукиана, и комедиографа Менандра, и поэта-ученого Каллимаха, директора Александрийской библиотеки.
Характер эпиграмматического творчества и само его происхождение из надписи определяет его отношение к музыке. Эпиграмма не пелась и музыкой, как правило, не сопровождалась.
Вступая в эллинистический период, то есть к началу III века, древнегреческая лирика — и не только одна лирика — успела растерять лучшие свои ценности. Это было участью всего эллинского искусства. Мелика замолкла первой. Что же касается элегии и эпиграммы, то эти два рода лирики пришлись по вкусу новой эпохе, особенно в своем любовном и сатирическом аспекте, и закономерно перешли из измельчавшей Эллады в новорожденный центр культуры — Рим, где и медика вскоре получила великолепное, хотя и вторичное развитие.
Лирика Древнего Рима обозримее, нежели греческая. От нее сохранилось если не все, то многое, и крупнейшие поэты представлены с завидной полнотой. Кроме того, вообще развитие римской поэзии шло этапами, более явственно уловимыми.
Греция была овеяна духом музыки. Без лиры или флейты в течение нескольких веков не существовало лирической поэзии. Народная песня продолжала потаенно звучать в произведениях мелики, хотя и утратив с нею непосредственную связь.
Римский народ вообще не был музыкален. До нас не дошло ни единой древнеримской народной песни, хоть и есть указания, что какие-то песни пелись, — по-видимому, больше военные. Не было у римлян и своего Гомера. Римская поэзия развилась из подражания греческим предшественникам, но, и не питая своих корней источниками народного творчества, не имея законных предков, смогла достичь высоты, достойной великого народа.
Расцвет римской лирики приблизительно совпадает с правлением Августа. Этот период обычно называют «золотым веком» римской поэзии: именно в эти годы писали самые прославленные поэты — Вергилий, Гораций, Овидий. Но наше современное восприятие готово отдать предпочтение поэту, творившему еще только в преддверии «золотого века» — Каю Валерию Катуллу.
Катулл, живший в первой половине I столетия до н. э., был, как Цицерон, по слову Тютчева, «застигнут ночью Рима», то есть сменою республиканского строя единовластием. Когда Цезарь перешел Рубикон и подходил к Вечному городу, республиканец Катулл встретил его вызывающей эпиграммой:
Меньше всего я стремлюсь тебе понравиться, Цезарь, —
Даже и знать не хочу, черен ли ты или бел.
В этой эпиграмме и других стихах, гневно язвивших соратников Цезаря, — не только политическая позиция юного поэта, но и проявление его характера. Катулл привез с собою из северной Вероны простодушие и прямолинейность. Впоследствии выпады против Цезаря были милостиво ему прощены. Трудно решить, пренебрегал ли Цезарь колкостями поэта или опасался его едкого языка, но факт тот, что поэтические дерзости Катулла сошли ему с рук.
Обжившись в столичной атмосфере Рима, Катулл вскоре стал центром небольшого, но одаренного кружка сверстников. Стихи, обращенные к Лицинию Кальву и другим друзьям, невольно приводят на память отношение Пушкина к лицейским товарищам. Вообще в темпераменте и многих чертах лирики Катулла замечается сходство с нашим великим поэтом.
Молодые литераторы во главе с Катуллом были увлечены греческой поэзией эллинистической эпохи. Тогда старые ценители литературы недоверчиво называли их «новаторами». Таковыми они и были на самом деле. Сам Катулл переводил александрийца Каллимаха. Но он отдал дань и древнейшей лирике Эллады: перевел, как уже было сказано, мелический шедевр Сафо, применив впервые на латинском языке «сапфическую» строфу. Он ввел и другие, новые для римской поэзии, размеры: одиннадцатисложный стих Фалека и «хромой ямб» Гиппонакта. Греческая лирика была для Катулла вовсе не предметом слепого подражания — ему при его одаренности незачем было кому-либо «подражать», — но поэтической школой. В смысле выработки литературного языка и стихотворной техники у поэтов I века до н. э. были и свои отечественные предшественники: драматурги Плавт и особенно Теренций, в течение многих веков считавшийся образцом классической латыни. У сочленов кружка Катулла обязательным считалось превосходное знание стихосложения и стилистики. За Катуллом даже утвердился эпитет «doctus». Но нет ничего ошибочнее такого определения, если принимать его за основную характеристику. У Каллимаха основой поэзии была именно ученость. У Катулла — она лишь средство владения мастерством, а настоящая стихия его лирики — непосредственное чувство, отклик на все явления жизни, особенно личной. Это естественно, поскольку то было время, когда внимание стало пристально сосредоточиваться на индивидуальном, человеческом.
Все находило отражение в легких, остроумных, изящных, порою малопристойных, порою грубоватых, часто едко сатирических «безделках», как любил называть свои стихи их молодой автор. Приходится с грустью подчеркивать молодость поэта: как и многих гениальных людей, Катулла постигла ранняя смерть, — он умер от неизвестной нам причины, едва перейдя тридцатилетний возраст. Может быть, виновата была изнуряющая жизнь, которую вел Катулл, оказавшись в Риме, — вспомним, какой пример распущенности подавал в свои юные годы сам Цезарь. Но, может быть, причиной быстрого упадка сил была и несчастная, мучительная любовь. То была злосчастная страсть, но благодаря ей Катулл оказался в ряду самых выдающихся авторов любовной лирики.
Стихи, обращенные к Лесбии, отражают все перипетии его любви, о которой даже трудно сказать, была ли она взаимной, и если да, то долго ли. Имя «Лесбия» — поэтический псевдоним Клодии — напоминает нам о далекой мелике Лесбоса. Лесбия принадлежала к небезызвестной и обеспеченной семье, но сама постепенно скатывалась к неразборчивому разврату, и это доставляло глубокое страдание вольному в стихах, но по существу целомудренному поэту.
Цикл стихов, обращенных к Лесбии или относящихся к ней, вызвал впоследствии, особенно в эпоху Ренессанса, множество подражаний и отражений. Даже в искусственных ренессансовых имитациях лирические стихи Катулла не теряют своего изящества. Следует заметить, что тогда особенно ценились именно «изящные» произведения поэта, — его стихи, где тема любви принимает поистине драматические тона и достигает силы потрясающей, оставались в тени.
В стихах Катулла перед нами проходит, вернее, мелькает повседневность этого просвещенного кружка грекофильствующих «новаторов», беспечных юношей, ютящихся в многоэтажных домах с дешевыми квартирами, литераторов, у которых «одна паутина в кармане», которым, будучи приглашенными «откушать», лучше прийти с собственным обедом, приправленным смехом и остротами. Одна из забав — сочинение экспромтов, то, что мы назвали бы «буриме», если бы античность применяла рифму. Стихи Катулла так живы и точны, что чувствуешь себя как будто возлежащим за скудным столом этой веселой молодежи. Кружок Катулла — прообраз будущих литературных богем.
Целый ряд лирических произведений Катулла выходит за рамки любви к Лесбии, отношений с друзьями и ранних политических инвектив. Таковы «Эпиталамы», особенно посвященная бракосочетанию Винии и Манлия, где выступает характерная для римской поэзии черта: слияние греческой поэтики с реалиями италийской жизни, — в этой эпиталаме, вслед за традиционным призыванием бога Гименея, идет обширная вставка с «фесценнинскими шутками», весьма откровенными, составлявшими неотделимую часть римских свадеб.
Преждевременная смерть брата вызвала несравненную по чувству и нежности элегию поэта. Эта элегия показывает, насколько Катулл был достойным преемником греческих элегиков и не менее достойным предвестником элегиков римских.
В целом новшество лирики Катулла и вся деятельность «новаторов» была тем ферментом, который разрушал прежние, устаревшие эпико-драматические формы древнейшей поэзии Рима и обновлял ее новой, как бы весенней свежестью.
Катулл прожил в Риме всего пять-шесть лет. Кроме выезда на Восток в свите префекта, Катулл еще один раз оторвался от своей столичной жизни, чтобы посетить родную виллу на берегу озера Гарда. В двух стихотворениях, относящихся к этому посещению, запечатлелась мягкая, умевшая любить душа поэта.
Горацию было лет десять, когда скончался Катулл. Таким образом, творчество этих крупнейших поэтов-лириков разделено промежутком всего в каких-нибудь двадцать лет или даже того меньше. Между тем они могут по праву служить представителями двух сильно друг от друга отличных эпох, как политических, так и литературных. Ко времени, когда Гораций был облечен в тогу «мужа», республика фактически перестала существовать. Жизнь Горация прошла в кругу просвещенных людей века Августа, то есть того времени, когда народившийся абсолютизм создавал предпосылки к грядущим векам цезаризма с его мировым охватом, с его самовластием военных деятелей, со сменой ярких индивидуальностей, которые, будучи на императорском престоле, иногда возвышались единичными благородными фигурами, но чаще покрывали Рим позором и обливали кровью. Близость к окружению Августа наложила печать на содержание и общий тон его произведений.
Катулл мало заботился о личной славе и своем положении в обществе. Гораций, наоборот, отлично сознавал, какую роль призван он сыграть в истории римской поэзии, понимал, кому и чему служит. Если эпоха Катулла — время становления, исканий, радостной молодости искусства, то эпоха Горация — это уже зрелость со всеми ей присущими качествами. Язык, выработанный опытом ранних авторов и новаторами Катуллова кружка, достиг у Горация совершенной чистоты и ясности, мастерство стиха вышло из состояния первых достижений. В лирике Горация ощущается тот стиль, который с полным правом может называться «классическим», с преобладанием типического над характерным.
После Катулла в лирику Горация входишь, как в обширный благоустроенный атрий, где приятная прохлада граничит с холодом. Но была ли холодность общим свойством дарования Горация? Совсем другие возможности обнаруживаются у этого сдержанного лирика, как только он вне пределов лирического жанра. Об этом говорят две книги написанных им в молодые годы «Сатир», где наблюдательность, острота, юмор, характерность выказались во всей полноте своего реализма.
Приходится думать, что Гораций, поэтическую славу которого составили главным образом «Оды», то есть стихи, самим названием указывающие на мелических предков, не обладал специфическими качествами лирика, если, конечно, ограничивать понятие «лирики» самовыявлением душевной жизни поэта. Тем не менее историк Квинтилиан считал Горация единственным лириком Рима. Высочайшее совершенство формы, близость к образцам древней лесбийской мелики, видимо, заставляли предпочесть возвышенную спокойную музу Горация непосредственным, столь часто дерзким стихам Катулла.
Четырем книгам «Од» предшествовало, кроме «Сатир», издание также написанных в ранней молодости «Эподов». В этих небольших и неровных по стилю произведениях чувствуется прямая связь с ямбами Архилоха. Нет сомнения, что в восприятии Горация, и не его одного, древнейшие ямбы, созданные тому назад шестьсот лет, так же, как и мелика Алкея и Сафо, жили еще полноценной жизнью. Они еще могли служить не только школой мастерства, но и методом эстетического мировосприятия.
«Эподы» с их миротворческой тенденцией заслужили Горацию высокую оценку со стороны видных авторитетов того времени, и сын вольноотпущенника был принят в близкий к Августу круг вельможи Мецената, с которым вскоре оказался связанным прочной дружбой на всю жизнь. Но для нас очевидны недостатки этих молодых произведений. Делая поправку на античность, мы не будем ставить в упрек автору грубость и непристойность некоторых эподов — это было, кроме того, оправдано и примером Архилоха, — но нельзя не признать, что некоторые эподы растянуты, другие недостаточно остры. К ним приходится относиться как к переходному жанру между яркостью и остроумием «Сатир» и строгой, чистой лирикой «Од».
«Оды» в большом количестве посвящены Меценату, которому Гораций обязан был не только введением в высшие литературные круги, но и личным материальным благосостоянием. Эта двойная зависимость окрашивает некоторые оды оттенком, близким к льстивости. Но мы не должны забывать общую обстановку того времени с его покровителями и прихлебателями. Гораций в этом обществе держался все же с достоинством, Август даже выражал недовольство, что поэт мало обращается лично к нему.
Оды подбирались и издавались самим автором. Их четыре книги, из них лучшие — вторая и третья. В четвертой чувствуется, что поэту прискучивает однажды избранная им лирическая форма поэзии, — Гораций тогда уже отходил от этого жанра в пользу поэзии эпистолярной — «посланий», имеющих то обзорно-литературный, то поучительный характер и нередко представляющих собою дружеские беседы в письмах на различные, часто философские темы.
Среди «Посланий» наиболее известно «Послание к Пизонам», содержащее наставление в поэтическом искусстве («De arte poetica») и проложившее дорогу литературной дидактике Буало.
Материал «Од» разнообразен. Однако общий тон их един. В них нет или очень мало «лирического волнения». Поэт умеет оставаться и в пределах выражения чувств на той «золотой середине», которую он одобрял с морально-философских и житейских позиций. Зато в «Одах» много раздумий, мыслей о невозвратности молодости и краткости жизни в духе Анакреонта. Поэт не чуждается нимало наслаждений, чувственных утех, между ними и утех любви, но напрасно стали бы мы искать в его уравновешенных стихах такой страстности, такого накала чувств, как у его образца, лесбосской волшебницы Сафо. Не было у него и своей Лесбии. Одной чертой «Од» Август мог быть доволен: «Оды» свободны от эротической соблазнительности.
Немало од Гораций посвятил политической теме. Среди них неизбежные для поэта с подобным положением похвалы Авесту. Многое в них объясняется и тем обстоятельством, что Августу, через Мецената, поэт был обязан мирным и обеспеченным существованием, особенно ценимым им потому, что в прошлом у него было политическое пятно: он был в рядах армии Брута.
Гораций благодарно принимал дары из рук бывших политических противников, проявлял безоблачно спокойную удовлетворенность жизнью — в нем не обнаружить и крупицы революционного, активно альтруистического темперамента. Горациева «золотая середина» позволяет трактовать себя не только положительно, но и отрицательно.
Гораций находит, однако, и темперамент, и яркие выразительные средства, когда дело идет о победах римского оружия.
Гораций подолгу жил в своем поместье, подаренном ему Меценатом. Живописная и уютная природа, пасущиеся стада, сельские работы изображаются Горацием в красках буколической идиллии, и это придает одам прелесть если не полной правдивости, то тонкого чувства красоты окружающего мира.
Особой заслугой своей Гораций считал введение им в римскую поэзию стихотворных форм эллинской мелики. Действительно, в одах постоянно применяется то сапфическая строфа, то Алкеева, то Асклепиадова, и неизменно «логаэдические», то есть смешанные формы стопосложения. Нельзя не оценить все звуковое богатство стиха Горация, хотя справедливость требует отметить, что эвфония и в стихах Катулла достигала уже редкой изысканности. Сознание всего сделанного им для римской поэзии позволило Горацию написать знаменитое стихотворение, условно называемое «Памятник» (ода 30 книги III), которое вызвало в поэзии новых времен целый ряд подражаний, у нас — Державина и Пушкина. Само оно было частично заимствовано у Пиндара.
Лирика Рима никогда впоследствии не достигала совершенства Горация. Не будем же подчеркивать некоторых мало для нас привлекательных черт поэта. Этому умному, тонкому, доброжелательному, миролюбивому баловню фортуны мы простим многое за все то, чем он обогатил последующие века.
В эпоху Августа в Риме была представлена и «Элегия», причем рядом самых выдающихся поэтов. Двое из них, Тибулл и чуть более молодой Проперций, были только элегиками; третьим был один из величайших поэтов мировой литературы — Овидий, чье творчество далеко выходило за пределы элегического жанра.
Элегии Тибулла и Пропорция имеют больше точек соприкосновения, нежели различий. Нередко двустишие одного легко принять за двустишие другого. Их объединяет общее следование за александрийской элегией — путь, проложенный уже Катуллом. Нам трудно уяснить степень их несамостоятельности, поскольку от поэзии александрийцев почти ничего не сохранилось. Очевидный элемент александринизма — вкрапление в стихи мифологических мотивов, причем у Проперция в большем количестве, чем у Тибулла. Другая черта, идущая от александрийского вкуса, — преобладание любовной темы.
Оба римские элегика воспевают своих возлюбленных. У Тибулла их две: сперва Делия, затем Немесида. Нельзя сказать, чтобы эти образы были обаятельны, — корысть ржавчиной ложится на их молодость и красоту. Воспетая Проперцием Цинтия — просвещенная, понимающая в стихах и музыкальная девушка, по-видимому, из куртизанок. Чувство к ней Проперция относительно горячее, нежели пассивно-лирическое отношение Тибулла к его героиням. Мы едва ли сделаем ошибку, если применим к Тибуллу термин «сентиментальность». Эта черта сказывается у него и в отношении к жизненным наслаждениям. Он видит их в мирной сельской жизни, в деревенском труде, в простоте быта, — нетрудно усмотреть в таком настроении общность с Феокритовыми и Вергилиевыми буколиками, тоже вызванными к жизни побегом просвещенного горожанина в искусственную атмосферу «трианонов». Поэзия Тибулла очень ровна, чиста, благонравна. Она изобличает в авторе прекрасные черты характера, которые могут показаться и «прекраснодушием». Несколько большая страстность Проперция вызывает неровность в его поэтическом стиле, то риторическом, то как будто простоватом, — может быть, сказывается невысокое, провинциальное происхождение поэта.
У обоих римских элегиков, наряду с известной растянутостью, особенно у Тибулла, немало столь удачных строк, что иные из них вошли в литературу как навсегда запомнившиеся поэтические формулы. Этим сказано, что дарования обоих поэтов были выдающимися, и мастерство владения литературной формой обеспечивало их стихам долговечность. Нам, читателям столь отдаленной от них эпохи, Тибулл и Проперций доставляют еще и познавательную радость. В их элегиях отражается бытовая жизнь Рима с такой свежестью, что мы чувствуем себя как бы и не отделенными от них двумя тысячами лет.
Третий элегик Рима — Овидий — пользуется всемирной славой. Его поэма «Метаморфозы» изумляет богатством воображения и блистательностью поэтических качеств. Но и элегии поэта заслужили признание веков не понапрасну. Они составляют три больших цикла. Первый, жизнерадостный, любовный, — плод молодых лет, второй и третий отражают ссылку поэта. Первый цикл, так называемый «Amores», в общем, близок по типу к элегиям Тибулла и Пропорция. Их героиня Коринна — едва ли реально существовавшая женщина, — скорее, собирательный образ. Овидий был еще больше, чем Гораций, лишен прямого лирического дарования. Любовь в его элегиях — это лишь тема, повод для создания стихов, увлекательно свежих, полных юмора и наблюдательности, но никак не излияние восхищенной или отчаявшейся души. Александринизм чувствуется в «Amores», пожалуй, больше, чем даже у Проперция, он переполняет элегии Овидия мифологией и риторикой. Однако исключительность таланта и блеск мастерства ставят Овидия-элегика в то положение победителя, когда его уже не судят.
Поздние элегии Овидия явились результатом постигшей его жизненной катастрофы. Все, вероятно, знают судьбу поэта, о ней неоднократно напоминал нам Пушкин. Август подверг Овидия жестокой каре, основная причина которой так и осталась неизвестной. Официально инкриминируя ему эротическую вольность его ранних сочинений, особенно поэмы «Искусство любви», он сослал поэта на западное побережье Черного моря, в глухой городок, где Овидий и умер в постоянной тоске по Риму. Оттуда-то, из скифских Том, Овидий и посылал в Рим свои скорбные и умоляющие о милости элегии, которые объединены в пять книг под общим названием «Печальные». С ними смыкается цикл «Посланий с Понта». Элегии, написанные в ссылке, — вопль о спасении, но рядом с этим, превосходное поэтическое воспроизведение жизни в скифском захолустье.
Следующий период римской поэзии, именуемый «серебряным веком», обнимает время, приблизительно соответствующее I веку н. э. Рим переживает эпоху, быть может, самую кровавую и развращенную. Болезнь, разложившая впоследствии могучий организм Римской империи, будто проявляется здесь в первой бурной вспышке — это дни Нерона, Тиберия, Калигулы, Домициана. Чистая лирика, и так не слишком свойственная римской душе, в этот период вовсе смолкает. Нарождаются и развиваются новые для Рима жанры поэзии: продолжает жить сатира нравов, в пределах, допустимых цензурой абсолютизма, а наряду с ней быстро завоевывает первенствующее положение уже знакомый нам по греческой, особенно эллинистической эпохе жанр эпиграммы.
Первым голосом в толпе римских эпиграмматистов был поэт Марциал. Можно смело сказать, что эпиграмматическое наследие Марциала перетягивает на чаше весов все остальное, созданное римскими остроумцами в этом жанре. Марциал был родом из Испании. Это характерно для времени: в римскую литературу именно с I века н. э. стали вступать представители «провинций», достигавших, впрочем, культурного уровня столицы. Последние годы жизни он провел на родине, бежав из Рима, где изменились к тому времени политические обстоятельства и где он потерял своих покровителей.
Причисление Марциала к лирике весьма условно. Если лирика действительно — самовыражение души, то тем менее достоин Марциал лирического венка. Его душа обнажена достаточно откровенно в четырнадцати книгах его высокоталантливых мелочей. Но никакая степень талантливости не может в наших глазах оправдать всей низменности его поэзии. В ней виден, конечно, не только автор, видно и то клонящееся к упадку общество, на потребу которому он сочинял свои не всегда чистоплотные творения. Марциал принял на себя роль литературного потешника при императорах и вельможах, которых случай возвел прямо из рабской убогости на высшие ступени общественной лестницы. А кто не знает, что именно такие выскочки более, чем кто-либо, требуют угождения. И Марциал проявил настоящее искусство «поэтической рептилии».
То он забавляет читателя невинными домашними мелочами, вроде описания всяких яств и питий, то едко высмеивает кого-нибудь, а это всегда приятно человеческой злобности. Но не это главное. Главное то, что он — развратен. Сам? Трудно сказать. Но он не мог не понимать, почему над табличками его стихов таким румянцем вспыхивают щеки у подростков, и у матерей семейств, и у молодых девушек. Каких только уроков нет в его эпиграммах! Это прямой ответ циника на требования прощелыг и доброхотных проституток, в каких постоянно превращалось высшее общество столицы.
Но почему все же всемирная слава? Ответ — в пользу поэта. Марциал — не Барков. Марциал — это и Вольтер, и Рабле, и даже отчасти Пушкин, столько истинного блеска в его сатирической едкости, в его неиссякаемом остроумии, в поэтической точности его «зарисовок», в краткости, доступной лишь высокому литературному дарованию. Человечество при проверке временем частенько готово извинить поэтам нравственные пороки, особенно в области эротической, ради их других достоинств. Приходится принимать Марциала, каков он есть, и при этом быть уверенным, что его поэзия всегда найдет ценителя.
Богатейший, но замутненный поток эпиграмм Марциала заканчивает лучший, классический период римской поэзии.
Далее следуют те века, которые обычно объединяют термином «Рим упадка». Политически это несомненно так. Но в то же упадочное время возникают новые поэтические явления, во многом предрешающие особенности последующей литературной эпохи. Поэзия повторяет зады классики, но наряду с этим такие поэты, как Авсоний, или Тибериан, или Клавдиан, дарят нам произведения, непохожие на произведения предшественников. Особенно «Мозелла» Авсония говорят нам о новом видении мира и новых потребностях читателя.
Но мы уже в пределах V столетия. Скоро Рим падет как великая держава, расколется на две половины, и в обеих империях поэзия потечет по новому, христианскому руслу, чтобы вскоре достигнуть расцвета в гимнах церкви.
Медная дева, я здесь возлежу на гробнице Мидаса,
И до тех пор, пока воды текут и леса зеленеют,
На орошенном слезами кургане его пребывая,
Я возвещаю прохожим, что это Мидаса могила.
Феб-повелитель! Гомер за твои вдохновенья прекрасный
Дар тебе этот принес; ты же дай ему вечную славу.
Прилетела ласточка
С ясною погодою,
С ясною весною.
Грудка у нее бела,
Спинка черненькая.
Что ж ей ягод не даешь
Из дому богатого?
Дашь ли в чашке ей вина,
Сыру ли на блюдечке
И пшенички?
И от каши ласточка
Не откажется. Уйти ль нам или же получим?
Открой, открой скорее дверцу ласточке,
Перед тобой не старики, а деточки.
Смоквы приносит
И сдобные булки
Нам Эйресиона,
Светлого меда в горшке
И масло для умащения,
Добрую чару вина,—
Угостился и спи, опьяненный.
О, гряди, Дионис благой,
В храм Элеи,
В храм святой,
О, гряди в кругу харит,
Бешено ярый,
С бычьей ногой,
Добрый бык,
Добрый бык!
Где розы мои?
Фиалки мои?
Где мой светлоокий месяц?
— Вот розы твои,
Фиалки твои,
Вот твой светлоокий месяц.
— Черепаха-пряха, что творишь в кругу?
— Из шафрана милетского шарф я тку.
— Как погиб, открой, этот отпрыск твой?
— Сел на бела коня, да и в море плашмя.
О, что терплю! Не предавай меня, молю.
Уйди! Пора! Вот он войдет к несчастной…
Встань!
Уж близок день. Взгляни в окно: не брезжит ли
Рассвет?
Льем вино — музам в честь,
Дщерям Памяти — в честь,
И водителю муз —
Сыну Лето[9] — в честь.
Зевс, ты всех дел верх,
Зевс, ты всех дел вождь!
Ты будь сих слов царь;
Ты правь мой гимн, Зевс.
Сапфо фиалкокудрая, чистая,
С улыбкой нежной! Очень мне хочется
Сказать тебе кой-что тихонько,
Только не смею: мне стыд мешает.
И звенят и гремят
вдоль проездны́х дорог
За каймою цветов
многоголосые
Хоры птиц на дубах
с близких лагун и гор;
Там вода с высоты
льется студеная,
Голубеющих лоз —
всходов кормилица.
По прибрежью камыш
в шапках зеленых спит.
Чу! Кукушка с холма
гулко-болтливая
Все кукует: весна.
Ласточка птенчиков
Под карнизами крыш
кормит по улицам,
Хлопотливо мелькнет
в трепете быстрых крыл,
Чуть послышится ей
тонкое теньканье.
Когда родился Феб-Аполлон, ему
Златою митрой Зевс повязал чело,
И лиру дал, и белоснежных
Дал лебедей с колесницей легкой.
Слал в Дельфы сына — у касталийских струй[12]
Вещать уставы вечные эллинам.
Бразды схватив, возница гонит
Стаю на север гиперборейский[13].
Сложив хвалебный в оные дни пеан,
Велят дельфийцы отрокам, с пением
И пляской обходя треножник,
Юного звать в хороводы бога.
Гостил год целый в гипербореях Феб —
И вспомнил храм свой. Лето горит: пора
Звучать треножникам дельфийским.
Лёт лебединый на полдень клонит.
Сын отчий в небе, царь Аполлон, гряди!
Бежит по лирам трепет. И сладостней
Зарю встречает щекот славий.
Ласточки щебет звончей. Цикада
Хмельней стрекочет, не о своей глася
Блаженной доле, но вдохновенная
От бога песен. Касталийский
Плещет родник серебром гремучим.
Славься, Гермий[14], царь на Киллене[15]! Сердце,
Майин сын, тебя мне велит восславить,
На святых горах от владыки мира
Тайно зачатый.
Афина-дева, браней владычица!
Ты, что обходишь свой коронейский храм[16]
По заливным лугам священным —
Там, где поток Коралийский плещет!
Всех сил бессмертных юный тот бог страшней,
Кого — богиня в легких сандалиях —
От златокудрого Зефира
Радуга нам родила, Ирида.[17]
Вы, богатыри, Полидевк и Кастор,
Леды сыновья и владыки Зевса,
Воссияйте нам от земли Пелопа[19]
Властью благою.
Пронесетесь вы по земным просторам,
По приволью вод на конях летучих,
Чудом на скаку от прискорбной смерти
Смертных спасая.
Высоко поверх корабельных ска́мей
Вот сверкнули вы на тугих канатах,
В тягостную ночь проливаясь светом
Черному судну.
Гебр[20], близ Эны, ты, красивобережный,
В пурпурную зыбь убегаешь к морю,
Пенясь и гремя, по фракийским гребням,
Славный купаньем.
Девушки кругом у волны толпятся,
Ласковые руки бегут по бедрам.
Словно маслом стан натирая, нежат
Кожу водою.
Но жива молва — от тебя, Елена,
Цепь недобрых дел заплелась Приаму
На погибель всем: Илион не ты ли
Испепелила?
Не такую взял Эакид невесту,
Всех богов созвал он на свадьбу. Деву
Нежную увлек из чертогов моря
К дому кентавра
На желанный брак. Развязала пояс
Девичий любовь, порадев Пелею
И красе морей, нереиде. Только
Год обернулся,
Родила она полубога-сына[22],
Рыжим скакунам удальца-возницу,
А Елена град и народ фригийский
Страстью сгубила.
Ныне гимном тебя
славлю, земля,
нежных питомцев мать:
С цветом граждан могли
поле держать
в первых рядах дружин;
О себе думы нет;
выпал им долг —
каждый по-мужнему,
С той же волей, что муж
дело вершил,
мужеством мужем был.
Будь я мудрым, как бог,
будь одарен
мыслью провидящей,
Волоска б одного
наперекор
Зевсу не вырвать мне.
Мужи зрелые мы,
в свалке судеб
нам по плечу борьба,
Но не мудро ввергать
отроков пыл
в ярость смятенных битв.
Что ж они? — Чуть на град
грозной ордой
вдруг навалился враг,
Вспыхнув детской душой,
не оробев,
в руки мечи — и в бой!
Что из кувшина чéрпать большим ковшом?
К чему усилье? Я убеждал тебя
Не проводить со мною праздно
Дни, опьяняясь вином и песней.
Зачем страшиться моря? Как мóрок злой,
Пройдет морозный холод предутренний,
Нам бы на борт взойти скорее —
В руки кормило, подпоры вырвать.
И от причала прочь, повернув ладью
Навстречу ветру. С легкой душой тогда
Мы предавались бы веселью, —
То-то бы пить и гулять на славу!
А ты, бессильно руку на мой рукав
Повесив, кличешь: «Мальчик, подушку мне
Под голову! Певец, такою
Песней меня не заманишь в море».
Пойми, кто может, буйную дурь ветров!
Валы катятся — этот отсюда, тот
Оттуда… В их мятежной свалке
Носимся мы с кораблем смоленым,
Едва противясь натиску злобных волн.
Уж захлестнула палубу сплошь вода;
Уже просвечивает парус,
Весь продырявлен. Ослабли скрепы.
Что делать, буря не унимается,
Срывает якорь яростью буйных сил,
Уж груз в пучину сброшен. В схватке
С глубью кипящей гребут, как могут.
Но, уступая тяжким ударам волн,
Не хочет больше с бурей бороться струг:
Он рад бы наскочить на камень
И погрузиться на дно пучины.
Такой довлеет жребий ему, друзья,
И я всем сердцем рад позабыть беду,
И с вами разделить веселье,
И насладиться за чашей Вакха.
Тогда нас гибель ждет неминуемо.
Безумец жалкий сам ослепит себя —
Но мы…
Под взметом ветра новый взъярился вал.
Навис угрозой тяжких трудов и бед.
Натерпимся, когда на судно
Бурно обрушится пенный гребень.
Дружней за дело! И возведем оплот,
Как медной броней, борт опояшем мы,
Противоборствуя пучине,
В гавань надежную бег направим.
Да не поддастся слабости круг борцов!
Друзья, грядет к нам буря великая.
О, вспомните борьбу былую,
Каждый пусть ныне стяжает славу.
Не посрамим же трусостью предков прах,
В земле под нами здесь упокоенных:
Они воздвигли этот город
На благоденствие нам, потомкам.
Но есть иные — люди, не властные
В своих желаньях. Темным страстям служа,
Их опозоренные руки
Предали город рукам таким же.
Он знай шагает по головам, а вы
Безмолвны, словно оцепенелые
Жрецы перед загробной тенью,
Грозно восставшей из мрака мертвых.
Пока не поздно, вдумайтесь, граждане,
Пока поленья только чадят, дымясь,
Не мешкая, глушите пламя,
Иль запылает оно пожаром.
Метит хищник царить,
Самовластвовать зарится,
Все вверх дном повернет.—
Накренились весы. Что спим?
Ни грозящим кремлем
Не защититесь вы,
Ни стеной твердокаменной:
Башни, града оплот, —
Бранники храбрые.
Ты киркой шевели,
Каменотес,
Бережно хрупкий пласт:
Не осыпал бы с круч
Каменный град
Буйную голову!
Медью воинской весь блестит,
Весь оружием убран дом —
Арею[23] в честь!
Тут шеломы как жар горят,
И колышутся белые
На них хвосты.
Там медяные поножи
На гвоздях поразвешаны;
Кольчуги там.
Вот и панцири из холста;
Вот и полные, круглые
Лежат щиты.
Есть булаты халкидские,
Есть и пояс и перевязь;
Готово все!
Ничего не забыто здесь;
Не забудем и мы, друзья,
За что взялись!
Пить, пить давайте! Каждый напейся пьян,
Хоть и не хочешь, пьянствуй! Издох Мирсил[24].
Как проходимец, страстно мечтающий
По знатным барам запросто хаживать,
Тебя не съел он и, бытуя
Трудно, в домашнем кругу был сносен.
Когда же в буйстве высокомерия,
Упившись властью, стал лиходейничать,
Как все безумцы-лиходеи, —
Мы не стерпели его безумья.
Не раз скользили мы над погибелью,
Но повернулось все к стародавнему:
С оскоминою эта сладость,
Да не бывает добра без худа.
Не помню, право, — я малолетком был.
Когда милы́ нам руки кормилицы, —
Но знаю, от отца слыхал я:
Был возвеличен он Пентилидом.
Пусть злорадетель родины свергнут им:
Меланхр низвергнут! Но низвергатель сам
Попрал тирана, чтоб тираном
Сесть царевать над печальным градом.
Всенародным судом
Отдали вы
Родину бедную,
Злополучный наш град,
В руки — кому ж?
Родины пасынку!
Стал тираном Питтак,
Города враг,
Родины выродок.
Ты был мне другом — сиречь одним из тех,
Кого послаще потчевать — козочкой,
Молочной свинкою — пригоже,
Как неспроста нам велит присловье…
Нам сказать бы ему: флейта он сладкая,
Да фальшиво поет дудка за пиршеством.
Присоседился он к теплым приятелям,
В глотку льет заодно с глупою братией.
За женою он взял, кровной атридянкой,
Право град пожирать, словно при Ми́рсиле,
Пока жребий войны не обратит Арей
Нам в удачу. Тогда — гневу забвение!
Мы положим конец сердце нам гложущей
Распре. Смуту уймем. Поднял усобицу
Олимпиец один; в горе народ он ввел,
А Питтаку добыл славы желанной звон.
Не всегда продувной
Бестией был Питтак
И беспечен умом.
Нам, главарям, клялся́,
На алтарь положа
Руку, а сам берег
Злорадетелей родины,
И за тем лишь глядел,
Как бы предатели
Не открылись его
Давним союзникам.
За кружкой кружку — только бы бражничать…
И днем, и ночью полон весь дом вином.
Он песни пьяные горланит,
И умолкает глагол закона.
Тех буйных оргий не позабыл и Гирр,
Когда внезапно бурно возвысился:
Он ночи напролет в разгуле…
Только и слышно — черпак по днищу.
И ты, пропойцы темное детище,
Такою взыскан славой и почестью,
Какие подобают мужу
Доблести кровной, честно́го рода.
Там оградили жители Лéсбоса
Большой участок, издали видимый,
И жертвенники для служенья
Установили богам блаженным.
Там призывают Зевса-Дарителя,
Там славословит Геру Эолии,
Живой исток рождений, — третьим
Славят безрогого Диониса.
Склоните ж, боги, благословенный слух
К моленьям нашим, дайте же, дайте нам
От этой тягости изгнанья —
Сердцу скорбящему избавленье.
И пусть обрушит ярость эриния
На сына Гирра[26], — некогда братству он
Над кровью овна клялся свято
Недругам друга вовек не выдать.
Иль биться насмерть и под мечами пасть
За землю — к славе временщиков лихих,
Или, до корня истребив их,
Бремя безвременья снять с народа.
Брюхан же властный наедине с собой
Не вел беседы — душу не выспросив,
Он, клятвы попирая, жадно
Жрет Митилены, как жрал их Ми́рсил.
…………………………………………..
«Пусть на землю падет. В уединении
Глухо ночь проведет. Пусть на урочище
За высокой оградой Геры
Непорочным пребудет в святилище».
Так живу я, горюн, — как деревенщина
Захолустья. В мечтах слышу глашатая
Зов привычный, меня на вече
Зычно кличущий: «Агесилая сын!»
Кличет, в думу зовет. Клич этот слышали
И отец мой, и дед. Слушали, старились
Между склок и раскола граждан.
Грустно! Сам же себя обездолил я.
В эту глушь убежал, словно Онóмаклес,
Уподобился здесь волку-отшельнику
В пору междоусобий. Распрю
Не к добру затевать, коль родник один.
Я, сойдя с корабля на́ землю черную,
У блаженных богов скрылся в обители,
Вдалеке от тревог мятежных —
И на сходбищах только бываю я:
В длинных платьях текут хоры лесби́янок,
Меж собой в красоте там состязаются.
Клики. Жен ежегодный праздник.
Завываний священных повторный глас.
Какой, поведай, бог соблазнил тебя,
Злодей, ответить: «Мне не представился
Предлог тебя вернуть». Где совесть,
Что неповинного ты караешь?
Но чист мой демон. Или ты мнишь: отказ
Твой сумасбродный звезды не слышали
На небесах? Умолкни! Небо
Тьмы наших бедствий моли ослабить
Твой праздник жизни — время твое прошло.
Плоды, что были, дочиста собраны.
Надейся, жди: побег зеленый
Отяжелеет от пышных гроздий.
Но поздно, поздно! Ведь от такой лозы
Так трудно зреет грузная кисть, склонясь.
Боюсь, до времени нарядный
Твой виноград оборвут незрелым.
Где те, кто прежде здесь пребывал в трудах?
Ушли. Не гнать бы от виноградников
Их прочь. Бывалый виноградарь
С поля двойной урожай снимает.
Зевс, в лихие дни неудач лидийцы
Нам две тысячи золотых давали,
Только бы войти мы смогли всей силой
В город священный.
Благ от нас они не видали. Толком
Не узнали нас. Насулила много
Хитрая лиса, улизнуть лелея
Втайне надежду.
От пределов земли
Меч ты принес домой;
Рукоять на мече
Кости слоновой,
Вся в оправе златой.
Знать, вавилонянам
Воин пришлый служил
Доблестью эллинской!
Ставкой — жизнь. Чья возьмет?
И великана ты
Из царевых убил,
Единоборствуя,
Чей единый был дрот
Мерою в пять локтей.
Моим поведай: сам уцелел Алкей,
Доспехи ж взяты. Ворог аттический,
Кичась, повесил мой заветный
Щит в терему совоокой Девы[28].
Пей же, пей, Меланипп,
До забвения пей со мной.
Если рок в Ахеронт,
В эту грустную мглу, меня
Окунул, — что мечтать,
Будто к солнцу вернемся вновь!
Полно, так высоко
Заноситься умом не нам.
И Сизиф возомнил
Превзойти здравый толк людской:
Смерть надменно смирить.
Но принудил бахвала рок.
Хоть и был царь хитер,
Безвозвратно, покорно вновь
Переплыть Ахеронт.
И придумал ему Кронид
Небывалую казнь,
Неизбывный Сизифов труд,
Там, под черной землей.
Не горюй же о смерти, друг.
Ты же ропщешь, — к чему?
Плачь не плачь — неминуем путь.
Нам без жалоб терпеть
Подобает утрату. Пусть
Свирепеет буран
И безумствует север. Мы
Будем пить и хмелеть:
Нам лекарство от зол — вино.
Дождит отец Зевс с неба ненастного,
И ветер дует стужею севера;
И стынут струйки дождевые,
И замерзают ручьи под вьюгой.
Как быть зимой нам? Слушай: огонь зажги,
Да, не жалея, в кубки глубокие
Лей хмель отрадный, да теплее
По уши в мягкую шерсть укройся.
Будем пить! И елей
Время зажечь:
Зимний недолог день.
Расписные на стол,
Милый, поставь
Чаши глубокие!
Хмель в них лей — не жалей!
Дал нам вино
Добрый Семелин сын
Думы в кубках топить…
По два налей
Полные каждому!
Благо было б начать:
Выпить один —
И за другим черед.
Сохнет, други, гортань, —
Дайте вина!
Звездный ярится Пес.[29]
Пекла летнего жар
Тяжек и лют;
Жаждет, горит земля.
Не цикада — певец!
Ей нипочем
Этот палящий зной:
Все звенит да звенит
В чаще ветвей
Стрекотом жестких крыл.
Все гремит, — а в лугах
Злою звездой
Никнет сожженный цвет.
Вот пора: помирай!
Бесятся псы,
Женщины бесятся.
Муж — без сил: иссушил
Чресла и мозг
Пламенный Сириус.
Черплем из кубков мы
Негу медвяную,
С негой медвяною
В сердце вселяются
Ярого бешенства
Оводы острые.
Мнится: все бы нам пить да пить!
Сладко в голову бьет вино, —
А там — хоть плачь!
Тяжким облаком ляжет хмель.
В мыслях — чад, на душе — тоска.
Себя коришь,
Сожалеешь невесть о чем,
И веселый не весел зов:
«Ну пей же! Пей!»
К чему раздумьем сердце мрачить, друзья?
Предотвратим ли думой грядущее?
Вино — из всех лекарств лекарство
Против унынья. Напьемся ж пьяны!
Из душистых трав и цветов пахучих
Ожерелием окружите шею
И на грудь струей благовонной лейте
Сладкое мирро!
Позовите мне, други,
Приятного сердцу Менона!
Без него же невесело мне
На попойке веселой.
На седую главу —
Буйная бед
Мало ль изведала? —
Лей мне мирро! На грудь,
В космах седых,
Лей благовонное!
Помнят в Спарте Аристодема[30]
Крылатое слово; в силе слово то.
Царь сказал: «Человек — богатство».
Нет бедному славы, чести — нищему.
…общий лесби́яне
Большой земли участок отрезали,
Красивый для богов бессмертных,
Всюду на нем алтари расставив.
Отца богов призвав милосердного,
Затем почтенную эолийскую
Богиню-мать, всего начало,
Третьим — Диониса-Сыроядца.
Призвавши также бога Кемелия[31]…
Так ныне дружелюбно склоните слух
К заклятьям нашим: от страданий
Тяжких в изгнании нас спасите.
На сына ж Гирра впредь да обрушится
Эриний злоба: мы все клялись тогда,
Заклав овец, что не изменим
В веки веков нашей крепкой дружбе:
Но иль погибнем, землей закутавшись,
От рук всех тех, кто правил страной тогда,
Иль, их сразивши, от страданий
Тяжких народ наконец избавим.
А он, пузатый, не побеседовал
С душой своей, но без колебания,
Поправ ногами нагло клятвы,
Жрет нашу родину, нам же…
Радужно-престольная Афродита,
Зевса дочь бессмертная, кознодейка!
Сердца не круши мне тоской-кручиной!
Сжалься, богиня!
Ринься с высей горних, — как прежде было:
Голос мой ты слышала издалече;
Я звала — ко мне ты сошла, покинув
Отчее небо!
Стала на червонную колесницу;
Словно вихрь, несла ее быстрым лётом,
Крепкокрылая, над землею темной
Стая голубок.
Так примчалась ты, предстояла взорам,
Улыбалась мне несказанным ликом…
«Са́пфо! — слышу. — Вот я! О чем ты молишь?
Чем ты болеешь?»
«Что тебя печалит и что безумит?
Все скажи! Любовью ль томится сердце?
Кто ж он, твой обидчик? Кого склоню я
Милой под иго?»
«Неотлучен станет беглец недавний;
Кто не принял дара, придет с дарами;
Кто не любит ныне, полюбит вскоре —
И безответно…»
О, явись опять — по молитве тайной
Вызволить из новой напасти сердце!
Стань, вооружась, в ратоборстве нежном
Мне на подмогу!
Богу равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко-близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос
И прелестный смех. У меня при этом
Перестало сразу бы сердце биться:
Лишь тебя увижу, уж я не в силах
Вымолвить слова.
Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же —
Звон непрерывный.
По́том жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становлюсь травы, и вот-вот как будто
С жизнью прощусь я.
Но терпи, терпи: чересчур далёко
Все зашло…
Близ луны прекрасной тускнеют звезды,
Покрывалом лик лучезарный кроют,
Чтоб она одна всей земле светила
Полною славой.
Сверху низвергаясь, ручей прохладный
Шлет сквозь ветви яблонь свое журчанье,
И с дрожащих листьев кругом глубокий
Сон истекает.
Приди, Киприда,
В чаши золотые, рукою щедрой
Пировой гостям разливая нектар,
Смешанный тонко.
Вы сюда к пещере, критя́не, мчитесь,
К яблоневой роще, к священным нимфам,
Где над алтарями клубится о́блак
Смол благовонных,
Где звенит в прохладе ветвей сребристых
Гулкий ключ, где розы нависли сенью
И с дрожащих листьев струится сонно
Томная дрема.
Там на луговине цветущей — стадо.
Веет ароматами трав весенних,
Сладостным дыханьем аниса, льется
Вздох медуницы.
Ты любила там пировать, Киприда,
В золотые кубки рукою нежной
Разливая нектар — богов напиток
Благоуханный.
Если ты не к доброй, а к звонкой славе
Жадно льнешь, друзей отметаешь дерзко, —
Горько мне. Упрек мой — тебе обуза:
Так уязвляя,
Говоришь и пыжишься от злорадства.
Упивайся ж досыта. Гнев ребенка
Не преклонит сердце мое к поблажке —
И не надейся.
Оплошаешь. Старую птицу в петли
Не поймать. Дозналась, каким пороком,
Щеголяя, прежде болел, какому
Злу я противлюсь.
Лучшее найдется на белом свете.
Помыслы к иному направь. Поверь мне,
Ум приветливостью питая, — ближе
Будем к блаженным.
Предо мной во сне ты предстала, Гера,
Вижу образ твой, благодати полный,
Взор, который встарь наяву Атридам
Дивно открылся.
Подвиг завершив роковой Арея
И причалив к нам от стремнин Скамандра[34],
Им отплыть домой удалось не прежде
В Аргос родимый,
Чем тебя мольбой, и владыку Зевса,
И Тионы сына склонить сумели.
Так и я тебя умоляю: дай мне
Вновь, как бывало,
Чистое мое и святое дело
С девственницами Митилен продолжить,
Песням их учить и красивым пляскам
В дни твоих празднеств.
Если помогли вы царям Атридам
Корабли поднять, — заступись, богиня,
Дай отплыть и мне. О, услышь моленье
Жаркое Сапфо!
Конница — одним, а другим — пехота,
Стройных кораблей вереницы — третьим…
А по мне — на черной земле всех краше
Только любимый.
Очевидна тем, кто имеет очи,
Правда слов моих. Уж на что Елена
Нагляделась встарь на красавцев… Кто же
Душу пленил ей?
Муж, губитель злой благолепья Трои.
Позабыла все, что ей было мило:
И дитя и мать — обуяна страстью,
Властно влекущей.
Женщина податлива, если клонит
Ветер в голове ее ум нестойкий,
И далеким ей даже близкий станет,
Анактори́я.
Я же о тебе, о далекой, помню.
Легкий шаг, лица твоего сиянье
Мне милей, чем гром колесниц лидийских
В блеске доспехов.
Знаю, не дано полноте желаний
Сбыться на земле, но и долей дружбы
От былой любви — утоленье сердцу
Лучше забвенья.
Мне Гонгила сказала:
«Быть не может!
Иль виденье тебе
Предстало свыше?»
«Да, — ответила я, — Гермес —
Бог спустился ко мне во сне».
К нему я:
«О владыка, — взмолилась,—
Погибаю».
«Но клянусь, не желала я
Никогда преизбытка
Благ и счастья.
Смерти темным томленьем
Я объята»,
«Жаждой — берег росистый, весь
В бледных лотосах, видеть
Ахерона,
В мир подземный сойти,
В дома Аида».
Я к тебе взываю, Гонгила, — выйди
К нам в молочно-белой своей одежде!
Ты в ней так прекрасна. Любовь порхает
Вновь над тобою.
Всех, кто в этом платье тебя увидит,
Ты в восторг приводишь. И я так рада!
Ведь самой глядеть на тебя завидно
Кипророжденной!
К ней молюсь я…
Им сказала: женщины, круг мне милый,
До глубокой старости вспоминать вам
Обо всем, что делали мы совместно
В юности светлой.
Много мы прекрасного и святого
Совершили. Только во дни, когда вы
Город покидаете, изнываю,
Сердцем терзаясь.
Твой приезд — мне отрада. К тебе в тоске
Я стремилась. Ты жадное сердце вновь —
Благо, благо тебе! — мне любовью жжешь.
Долго были в разлуке друг с другом мы,
Долгий счет прими пожеланий, друг, —
Благо, благо тебе! — и на радость нам.
Мнится, легче разлуки смерть, —
Только вспомню те слезы в прощальный час,
Милый лепет и жалобы:
«Сапфо, Сапфо! Несчастны мы!
Сапфо! Как от тебя оторваться мне?»
Ей в ответ говорила я:
— Радость в сердце домой неси!
С нею — память! Лелеяла я тебя.
Будешь помнить?.. Припомни все
Невозвратных утех часы, —
Как с тобой красотой услаждались мы.
Сядем вместе, бывало, вьем
Из фиалок и роз венки,
Вязи вяжем из пестрых первин лугов, —
Нежной шеи живой убор,
Ожерелья душистые, —
Всю тебя, как Весну, уберу в цветы.
Мирром царским волну кудрей,
Грудь облив благовоньями,
С нами ляжешь и ты — вечерять и петь.
И прекрасной своей рукой
Пирный кубок протянешь мне:
Хмель медвяный подруге я в кубок лью…
Стоит лишь взглянуть на тебя, — такую
Кто же станет сравнивать с Гермионой[35]!
Нет, тебя с Еленой сравнить не стыдно
Золотокудрой,
Если можно смертных равнять с богиней…
Между дев, что на свет
солнца глядят,
вряд ли, я думаю,
Будет в мире когда
хоть бы одна
дева столь мудрая.
Словно ветер, с горы на дубы налетающий,
Эрос души потряс нам…
…Те, кому я
Отдаю так много, всего мне больше
Мук причиняют.
Венком охвати,
Дика моя,
волны кудрей прекрасных…
Нарви для венка
нежной рукой
свежих укропа веток.
Где много цветов,
тешится там
сердце богов блаженных.
От тех же они,
кто без венка,
прочь отвращают взоры…
Эрос вновь меня мучит истомчивый —
Горько-сладостный, необоримый змей.
Издалече, из отчих Сард[36]
К нам стремит она мысль, в тоске желаний.
Что таить?
В дни, как вместе мы жили, ты
Ей богиней была одна!
Песнь твою возлюбила Аригнота.
Ныне там,
В нежном сонме лидийских жен,
Как Селена, она взошла —
Звезд вечерних царицей розоперстой.
В час, когда
День угас, не одна ль струит
На соленое море блеск,
На цветистую степь луна сиянье?
Весь в росе,
Благовонный дымится луг;
Розы пышно раскрылись; льют
Сладкий запах анис и медуница.
Ей же нет,
Бедной, мира! Всю ночь она
В доме бродит… Аттиды нет!
И томит ее плен разлуки сирой.
Громко нас
Кличет… Чуткая ловит ночь
И доносит из-за моря,
С плеском воды, непонятных жалоб отзвук.
Перевод Вяч. Иванова
Дети! Вы спросите, кто я была. За безгласную имя
Не устают возглашать эти у ног письмена.
Светлой деве Латоны меня посвятила Ариста,
Дочь Гермоклида; мне был прадедом Саинеад.
Жрицей твоей, о владычица жен, величали Аристу;
Ты же, о ней веселясь, род наш, богиня, прославь.
Тело Тимады — сей прах. До свадебных игр Персефона
Свой распахнула пред ней сумрачный брачный чертог.
Сверстницы, юные кудри отсекши острым железом,
Пышный рассыпали дар милой на девственный гроб.
У меня ли девочка
Есть родная, золотая,
Что весенний златоцвет —
Милая Клеида!
Не отдам ее за все
Золото на свете.
И какая тебя
так увлекла,
в сполу[38] одетая,
Деревенщина?
Не умеет она
платья обвить
около щиколки.
Срок настанет: в земле
Будешь лежать,
Ласковой памяти
Не оставя в сердцах.
Тщетно живешь!
Розы Пиерии[39]
Лень тебе собирать
С хором подруг.
Так и сойдешь в Аид,
Тень без лика, в толпе
Смутных теней,
Стертых забвением.
Кто прекрасен — одно лишь нам радует зрение,
Кто ж хорош — сам собой и прекрасным покажется.
Я роскошь люблю;
блеск, красота,
словно сияние солнца,
Чаруют меня…
…но своего
гнева не помню я:
Как у малых детей,
сердце мое…
Покрывал этих пурпурных
Не отвергни, блаженная!
Из Фокеи[40] пришли они,
Ценный дар…
Киферея[41], как быть?
Умер — увы! —
нежный Адонис!
«Бейте, девушки, в грудь,
платья свои
рвите на части!»
Критянки, под гимн,
Окрест огней алтарных
Взвивали, кружась,
Нежные ноги стройно,
На мягком лугу
Цвет полевой топтали.
Уж месяц зашел; Плеяды
Зашли… И настала полночь.
И час миновал урочный…
Одной мне уснуть на ложе!
Ты мне друг. Но жену
в дом свой введи
более юную.
Я ведь старше тебя.
Кров твой делить
я не решусь с тобой.
А они, хвалясь, говорили вот что:
«Ведь опять Дориха-то[42] в связь вступила,
Как и мечтала».
Ты, Киприда! Вы, нереиды-девы!
Братний парус правьте к отчизне милой!
И путям пловца и желаньям тайным
Дайте свершенье!
Если прежде в чем прегрешил — забвенье
Той вине! Друзьям — утешенье встречи!
Недругам — печаль… Ах, коль и врагов бы
Вовсе не стало!
Пусть мой брат сестре не откажет в чести,
Что воздать ей должен. В былом — былое!
Не довольно ль сердце мое крушилось
Братней обидой?
В дни, когда его уязвляли толки,
На пирах градских ядовитый ропот:
Чуть умолкнет молвь — разгоралось с новым
Рвеньем злоречье.
Мне внемли, богиня: утешь страдальца!
Странника домой приведи! На злое
Темный кинь покров! Угаси, что тлеет!
Ты нам ограда!
Мать милая! Станок
Стал мне постыл,
И ткать нет силы.
Мне сердце страсть крушит;
Чары томят
Киприды нежной.
Эй, потолок поднимайте, —
О Гименей! —
Выше, плотники, выше!
О Гименей!
Входит жених, подобный Арею,
Выше самых высоких мужей!
Яблочко, сладкий налив, разрумянилось там, на высокой
Ветке, — на самой высокой, всех выше оно. Не видали,
Знать, на верхушке его? Аль видали, да взять — не достали.
Все, что рассеет заря, собираешь ты, Геспер[44], обратно:
Коз собираешь, овец, — а у матери дочь отнимаешь.
«Невинность моя, невинность моя,
Куда от меня уходишь?»
«Теперь никогда, теперь никогда
К тебе не вернусь обратно».
С амвросией там
воду в кратере смешали,
Взял чашу Гермес
черпать вино для бессмертных.
И, кубки приняв,
все возлиянья творили
И благ жениху
самых высоких желали.
…Глашатай пришел,
Вестник Идэй быстроногий, и вот что поведал он:
……………………………………………………..
Слава по Азии всей разнеслася бессмертная:
«С Плакии[45] вечнобегущей, из Фивы божественной
Гектор с толпою друзей через море соленое
На кораблях Андромаху везет быстроглазую,
Нежную. С нею — немало запястий из золота,
Пурпурных платьев и тканей, узорчато вышитых,
Кости слоновой без счета и кубков серебряных».
Милый отец, услыхавши, поднялся стремительно.
Вести дошли до друзей по широкому городу.
Мулов немедля в повозки красивоколесные
Трои сыны запрягли. На повозки народом всем
Жены взошли и прекраснолодыжные девушки.
Розно от прочих Приамовы дочери ехали.
Мужи коней подвели под ярмо колесничное, —
Все молодые, прекрасные юноши…………..
…………………………………….. закурилися ладаном.
В радости жены вскричали, постарше которые,
Громко мужчины пеан затянули пленительный,
Звали они Дальновержца, прекрасного лирника,
Славили равных богам Андромаху и Гектора.
Пели мы всю ночь про твою, счастливец,
Про ее любовь и девичьим хором
Благовоннолонной невесты с милым
Славили ночи.
Но не все ж тебе почивать в чертоге!
Выйди: светит день, и с приветом ранним
Друга ждут друзья. Мы ж идем дремотой
Сладкой забыться.
Когда б твой тайный помысл невинен был,
Язык не прятал слова постыдного, —
Тогда бы прямо с уст свободных
Речь полилась о святом и правом.
Мать моя говорила мне: [Доченька]:
«Помню, в юные дни мои
Ленту ярко-пунцовую
Самым лучшим убором считали все,
Если волосы черные;
У кого ж белокурые
Кудри ярким, как факел, огнем горят,
Той считали к лицу тогда
Из цветов полевых венок».
Ты ж велишь мне, Клеида, тебе достать
Пестро шитую шапочку
Из богатых лидийских Сард,
[Что прельщают сердца митиленских дев,],
Но откуда мне взять, скажи,
Пестро шитую шапочку?
Ты на наш митиленский [народ пеняй,],
Ты ему расскажи, не мне
О желанье своем, дитя.
У меня ж не проси дорогую ткань.
О делах Клеонактидов,
О жестоком изгнании —
И досюда об этом молва дошла…
Преклоняю я колена,
Артемида, пред тобой,
Русой дочерью Зевеса,
Ланестрельною богиней,
Зверовластницей лесной!
Снизойди на оный берег,
Где крутит волну Лефей[49],
Взором ласковым обрадуй
Город страждущих мужей:
Ты найдешь достойных граждан —
Не свирепых дикарей.
Ты, с кем Эрос властительный,
Афродита багряная,
Черноокие нимфы
Сообща забавляются
На вершинах высоких гор, —
На коленях молю тебя:
Появись и прими мою
Благосклонно молитву.
Будь хорошим советником
Клеобулу! Любовь мою
Не презри, о великий царь,
Дионис многославный!
Клеобула, Клеобула я люблю,
К Клеобулу я как бешеный лечу,
Клеобула я глазами проглочу.
О дитя с взглядом девичьим,
Жду тебя, ты же глух ко мне:
Ты не чуешь, что правишь мной, —
Правишь, словно возница!
Глянул Посидеон[50] на двор,
В грозных тучах таится дождь,
И гудит зимней бури вой
Тяжко-громным раскатом.
Не сули мне обилье благ,
Амалфеи[51] волшебный рог,
И ни сто, да еще полста,
Лет царить не хотел бы я
В стоблаженной Тартессе[52].
Бросил шар свой пурпуровый
Златовласый Эрот в меня
И зовет позабавиться
С девой пестрообутой.
Но, смеяся презрительно
Над седой головой моей,
Лесбиянка прекрасная
На другого глазеет.
…бросился я
в ночь со скалы Левкадской
И безвольно ношусь
в волнах седых,
пьяный от жаркой страсти.
Поредели, побелели
Кудри, честь главы моей,
Зубы в деснах ослабели,
И потух огонь очей.
Сладкой жизни мне немного
Провожать осталось дней:
Парка счет ведет им строго,
Тартар тени ждет моей.
Не воскреснем из-под спуда,
Всяк навеки там забыт:
Вход туда для всех открыт —
Нет исхода уж оттуда.
Кобылица молодая,
Честь кавказского таврá,
Что ты мчишься, удалая?
И тебе пришла пора;
Не косись пугливым оком,
Ног на воздух не мечи,
В поле гладком и широком
Своенравно не скачи.
Погоди; тебя заставлю
Я смириться подо мной:
В мерный круг, твой бег направлю
Укороченной уздой.
Что же сухо в чаше дно?
Наливай мне, мальчик резвый,
Только пьяное вино
Раствори водою трезвой.
Мы не скифы, не люблю,
Други, пьянствовать бесчинно:
Нет, за чашей я пою
Иль беседую невинно.
На пиру за полной чашей
Мне несносен гость бесчинный:
Охмеленный, затевает
Он и спор, и бой кровавый.
Мил мне скромный собеседник,
Кто, дары царицы Книда
С даром муз соединяя,
На пиру беспечно весел.
Дай воды, вина дай, мальчик,
Нам подай венков душистых,
Поскорей беги — охота
Побороться мне с Эротом.
По три венка на пирующих было:
По два из роз, а один —
Венок навкратидский.[54]
Десять месяцев прошло уж,
как Мегист наш благодушный,
Увенчав чело лозою,
тянет сусло слаще меда.
Пирожком я позавтракал,
отломивши кусочек,
Выпил кружку вина, — и вот
за пектиду берусь я,
Чтобы нежные песни петь
нежной девушке милой.
Люблю, и словно не люблю,
И без ума, и в разуме.
Свежую зелень петрушки
в душистый венок заплетая,
Мы посвятим Дионису
сегодняшний радостный праздник.
С ланью грудною,
извилисторогою,
мать потерявшею
В темном лесу,
боязливо дрожащая
девушка схожа.
Что ты бежишь от меня
как на крыльях, натерши духами
Тощие перси, пустые,
как дудки пастушьей свирели?..
О Левкастида!
Я двадцатиструнною
лирой владею:
Ты же владеешь
цветущею юностью,
дева!
А кто сражаться хочет,
Их воля: пусть воюют!
Бросив щит свой на берегах
Речки прекрасноструйной…
С тирсом Геликониада, а следом за нею и Главка
И Ксантиппа, спеша к Вакхову хору примкнуть,
Сходят с пригорка. Венки из плюща и плоды винограда
С тучным ягненком несут в дар Дионису они.
К Теллию милостив будь и ему, за его приношенье,
Даруй приятную жизнь, Майи божественной сын.
Дай ему в деме прямых и правдивых душой Эвонимов
Век свой прожить, получив жребий благой от судьбы.
Дальше паси свое стадо, пастух, чтобы телку Мирона,
Словно живую, тебе с прочим скотом не угнать.
Мил мне не тот, кто, пируя, за полною чашею речи
Только о тяжбах ведет да о прискорбной войне;
Мил мне, кто, Муз и Киприды благие дары сочетая,
Правилом ставит себе быть веселее в пиру.
Мужествен был Тимокрит, схоронённый под этой плитою.
Видно, не храбрых Арей, а малодушных щадит.
Об Агафоне могучем, погибшем в бою за Абдеру,
Весь этот город, скорбя, громко рыдал у костра,
Ибо среди молодежи, сраженной кровавым Ареем
В вихре жестокой борьбы, не было равных ему.
Тебя я больше всех друзей, Аристоклид, жалею;
Ты юность отдал, край родной от рабства охраняя.
С болью думаю о том я,
Что краса и гордость женщин
Все одно лишь повторяет
И клянет свою судьбу:
«Хорошо, о мать, бы было,
Если б ты со скал прибрежных,
Горемычную, столкнула
В волны синие меня!»
Нежный Гиг средь нас носился,
Точно юный бог блаженный,
И, тряся фракийской гривой,
Приводил нас всех в восторг,
Что же с ним теперь случилось?
Устыдись, злодей цирюльник!
Ты состриг такой прекрасный
Нежный цвет его кудрей,
Золотых, как луч заката,
Золотых, как мед пчелиный,
Тех кудрей, что так чудесно
Оттеняли нежный стан.
Но теперь — совсем он лысый,
А венец кудрей роскошный
Брошен мерзкими руками
И валяется в пыли.
Грубо срезан он железом
Беспощадным, я ж страдаю
От тоски. Что будем делать?
Фракия от нас ушла!
Три времени в году — зима
И лето, осень — третье,
Четвертое ж — весна, когда
Цветов немало, досыта ж
Поесть не думай…
Спят вершины высокие гор и бездн провалы,
Спят утесы и ущелья,
Змеи, сколько их черная всех земля ни кормит,
Густые рои пчел,
звери гор высоких
И чудища в багровой глубине морской.
Сладко спит и племя
Быстролетающих птиц.
Часто на горных вершинах, в то время как
Праздник блестящий тешил бессмертных,
В чашу из золота, в кружку огромную, —
У пастухов подобные кружки, —
Выдоив львицу рукою бестрепетной,
Сыр ты готовила острый, огромный…
Не деревенщина-мужик ты,
Не простак и не дурачина,
Не из фессалийских стран,
Не эрисихеец[60], не пастух ты, —
Родом ты из Сард высоких!
Как-нибудь дам я треногий горшок тебе, —
В нем собирай ты различную пищу.
Нет еще жара под ним, но наполнится
Скоро он кашей, которую в стужу
Любит всеядный Алкман подогретою.
Он разносолов различных не терпит,
Ищет он пищи попроще, которую
Ест и народ…
Вот семь столов и столько же сидений.
На тех столах — все маковые хлебцы,
Льняное и сесамовое семя,
И для детей в горшочках — хрисокола[61].
Он уж подаст бобовую нам кашу,
……………………………
Убитого Полидевком.[65]
Не Ликайса лишь в числе усопших я вспомню, —
Вспомню Энарсфора с быстроногим Себром,
Многомощного Бокола,[66]
В ярких латах Гиппофоя,
И Эвтейха-царя, и Аретия
С Акмоном, славным меж полубогов.
Скея, пастыря дружин
Великого, и Эврита,
В битвах стойкого бойца,
И Алкона — всех их, храбрых,
Не забудет песнь моя.
Сломили Судьба и Порос[67]
Тех мужей, — старейшие
Меж богов. Усилья тщетны.
На́́ небо взлететь, о смертный, не пытайся,
Не дерзай мечтать о браке с Афродитой,
Кипрскою царицей, или
С дочерью прекрасной Порка[68],
Бога морского. Одни страстноокие
Входят хариты в Кронидов дворец.
Из мужей сильнейшие —
Ничто. Божество над всеми
Царствует. Друзьям богов
Оно посылает блага,
Как из почвы бьющий ключ.
Врагов же смиряет. Силой
Грозной некогда пошли
На Зевсов престол Гиганты.
Бой был тщетен. От стрелы одни погибли,
И от мраморного жернова — другие.
Всех Аид их ныне принял,
Их, что собственным безумьем
Смерть на себя навлекли. Замышлявшие
Зло претерпели ужасный конец.
Есть богов бессмертных месть.
Блажен, кто с веселым духом,
Слез не зная, дни свои
Проводит. А я блистанье
Агидó пою. Гляжу,
Как солнце блестит: его нам
Агидо дает познать.
Но мне ни хвалить прекрасной,
Ни хулить не позволяет та, что хором
Словно правит. Ведь сама она меж прочих
Выдается, словно кто-то
Посреди коров поставил
Быстрого в беге коня звонконогого,
Сходного с быстролетающим сном.
Не видишь? Вон пред нами конь
Енетский[69]. Агесихоры
Волосы, моей сестры
Двоюродной, ярко блещут
Золотом беспримесным.
Лицо же ее серебро —
Но что еще тут говорить?
Ведь это — Агесихора!
После Агидо вторая красотою, —
Колаксаев конь[70] за приз с ибенским[71] спорит.
Поднимаются Плеяды
В мраке амбросийной ночи
Ярким созвездьем и с нами, несущими
Плуг для Орфрии[72], вступают в битву.
Изобильем пурпура
Не нам состязаться с ними.
Змеек пестрых нет у нас
Из золота, нет лидийских
Митр, что украшают дев
С блистающим томно взором.
Пышнокудрой нет Наннó
С Аретою богоподобной,
Нет ни Силакиды, ни Клисисеры:
И, придя к Энесимброте, ты не скажешь:
«Дай свою мне Астафиду!
Хоть взглянула б Янфемида
Милая и Дамарета с Филиллою!»
Агесихора лишь выручит нас.
Разве стройноногая
Не с нами Агесихора?
Стоя возле Агидо,
Не хвалит она наш праздник?
Им обеим, боги, вы
Внемлите. Ведь в них — начало
И конец. Сказала б я:
«Сама я напрасно, дева,
Хором правя, как сова, кричу на крыше,
Хоть и очень угодить хочу Аóтис[73]:
Ибо всех она страданий
Исцелительница наших.
Но желанного мира дождалися
Только через Агесихору девы».
Правда, пристяжной пришлось
Ее потеснить без нужды.
Но на корабле должны
Все кормчему подчиняться.
В пенье превзошла она
Сирен, а они — богини!
Дивно десять дев поют,
С одиннадцатью равняясь.
Льется песнь ее, как на теченьях Ксанфа[74]
Песня лебеди; кудрями золотыми…
Я несу тебе с молитвой
Тот венок из златоцветов
Вместе с кипером[75] прелестным.
А он на флейте будет нам
Мелодию подыгрывать.
Звонкоголосые, нежно поющие девы, не в силах
Ноги носить меня в пляске… О, если бы я красноперым
Был зимородком, богами любимым, — тогда бы бесстрашно
Я с гальцонами вместе носился над пенной волною!
Слова и мелодию эту
Сочинил Алкман-певец,
У куропаток заимствовав их.
Знаю все напевы я
Птичьи…
Тщетно крик все девушки подняли,
Как стая, в которую ястреб влетел.
Златокудрая Мегалострата,
В девах блаженная,
Явила нам
Этот дар сладкогласных муз.
И сладкий Эрос, милостью Киприды,
Нисходит вновь, мне сердце согревая.
Нет, не Афродита это, Эрос это бешеный дурачится, как мальчик.
Сердце, берегись его! Несется по цветущим он верхушкам кипериска…
Гелиос[79], сын Гиперионов, в чащу пошел золотую,
Чтоб, реку Океан переплывши, достигнуть
Глубины обиталища сумрачной Ночи священной,
Чтобы матерь увидеть, супругу законную, милых детей.
Сын же Зевсов пешком пошел в многотенную
Рощу лавровую…
…Ибо царь Тиндарей,
Жертвы богам принося, о Киприде не вспомнил,
Радость дарящей. В гневе дочерей его
Двубрачными сделала и трибрачными богиня,
И мужебежными…
Много, много яблок кидонских[81] летело там в колесницу к владыке,
Много и миртовых листьев,
Густо сплетенных венков из роз и гирлянд из фиалок.
Не по правде гласит преданье:
Не взошла ты на палубу судна,
Не плыла ты в Пергам троянский[83].
Муза, о войнах забудь и вместе со мною восславь
И свадьбы богов, и мужей обеды пышные, и блаженных пиры!
Песнь всенародную в честь харит
Надо петь лепокудрых,
Фригийский напев[84] применяя,
Нежный напев, —
При наступленье весны.
Муза, звонкую песнь
ты заведи,
песнь любовную,
Про самосских детей, —
с лирою в лад,
с лирой певучею.
…больше всего
Игры и песни приятны Аполлону,
Горе и тяжкие стоны — Аида удел.
Бесполезно и вовсе не нужно
О тех, кто умер,
Рыдать.
К умершему никто у нас не знает благодарности.
Мой Эвриал, синеоких Харит дитя,
Их, дивнокудрых, зазноба, Кипридою
И мягковзорой Пейто[86] ты взращен среди
Роз, ароматом полных.
Только весною цветут цветы
Яблонь кидонских, речной струей
Щедро питаемых, там, где сад
Дев необорванный. Лишь весною
И плодоносные почки набухшие
На виноградных лозах распускаются.
Мне ж никогда не дает вздохнуть
Эрос. Летит от Киприды он,—
Темный, вселяющий ужас всем,—
Словно сверкающий молнией
Северный ветер фракийский,
Душу мне мощно до самого дна колышет
Жгучим безумием…
Эрос влажно мерцающим взглядом очей
Своих черных глядит из-под век на меня
И чарами разными в сети Киприды
Крепкие вновь меня ввергает.
Дрожу и боюсь я прихода его.
Так на бегах отличавшийся конь неохотно под старость
С колесницами быстрыми на состязанье идет.
И горю, как долгою ночью горят
Звезды блестящие в небе.
Мирты, и яблони, и златоцветы,
Нежные лавры, и розы, и фиалки.
И соловьев
полная звуков заря
будит, бессонная.
На дереве том,
на вершине его,
утки пестрые сидят
В темной листве:
много еще
там яркозобых пурпурниц[87]
И алькион быстрокрылых[88]…
Из камней
Гладких ту сушу создали руки людей,
Где лишь хищные стаи рыб
Раньше паслись среди улиток.
Белоконных сыновей
Молионы убил я,[90] —
Сверстников, крепко сращенных друг с другом,
Храбрых. В яйце родилися серебряном
Вместе они.
Кассандра, Приама дочь,
Синеокая дева в пышных кудрях,
В памяти смертных живет.
Боюсь, чтоб чести у людей
Не купить ценой нечестья пред богами.
Чья жизнь уж погасла, для тех
Найти невозможно лекарства.
Пел он давнее сказанье
О пещере, где куреты[94]
Благодатного младенца,
Зевса, выкормили втайне
От обманутого Реей
Злоизмысливого Крона.
С той поры высокочтима
У бессмертных мать-богиня.
Так он пел. Мгновенно муза
Побудила олимпийцев
Бросить камешек судейский
В златоблещущие урны.
Боги встали, порадели
Киферону. Тотчас Гермий
Возгласил громоподобно
О победе, и овчину
Небожители венками
Разукрасили счастливцу.
Но под бременем обиды
Геликон рванул ревниво
Гладкосточенную глыбу:
Подалась гора, — и ринул
С воплем жалобным громаду
На теснившийся народ…
Муз фиалкоувенчанных
Дар поведаю — песнями
Славословить бессмертных.
О ту пору, как Зевс-отец,
Благ податель, избрал одну
Асопиду-Эгину: срок
Ей придет, — будет счастлива
На путях громовержца.
Оракул Асопу
Трех дочерей Зевс возлюбил,
Зевс — отец и вселенной царь,
Трех увлек владыка морей
Посейдон, двух преклонил
Феб на брачное ложе,
И могучий Гермий одну,
Майи сын. Так Эроса зов
Властно завлек волю богов
Тайно войти в дом девяти:
Дев похитить — избранниц.
Будет пышен сев матерей.
Рок им судил: племя родить —
Род героев-полубогов.
Так говорю. Ведомо так.
Так пророчит треножник.
Сан мой высок. Вверили мне
Храм пятьдесят грозных моих
Кровников. Здесь, в месте святом,
Я, Акрефéй, призван вещать
Правды верное слово.
Дал Аполлон некогда в дар
Эвониму право вещать;
На треножник Феба воссев,
Эпонима сверг Ириéй,
Стал преемником вещим
Посейдона сын, Ирией!
Орион эти земли взял,
Мой родитель. Нá небе он,
Вознесенный, ныне звездой
Нам во славе сияет.
Непреложно слово мое.
Все, что знаю, — знаю от них.
Ты же, друг, о родич богов,
Сбрось тревог безрадостный груз,
Будь подобен бессмертным.
Так говорил вещий святой.
И, слезу роняя из глаз,
Прикоснулся к правой руке
Прорицателя бог Асоп
С лаской. Речью ответил.
Дела героев и героинь
На ионийский лад я пою.
Я Миртиде[96]
Ставлю в упрек звонкоголосой:
Спорить за приз с Пиндаром ей —
Женщине — смысл был ли какой?
Мать моя, труд для тебя, для Фив златощитных
Всем я трудам предпочту, и Делос крутой
Пусть на меня не гневится[98], хоть должен был песню
Раньше сложить я ему.
Что сердцам благородным дороже, чем мать и отец?
Ради них отступи, Аполлонова сень!
Песни окончу обе я по воле богов.
И длиннокудрого Феба прославлю я в пляске
Между приморских селян, где Кеос[99] вода
Вкруг обтекает, и будет воспет перешеек
Истм, огражденный волной.
Шесть венков подарил он на играх Кадмейской стране[100],
Дар прекрасно-победный, для родины честь.
Сын был Алкменой здесь рожден[101]; был тверже, чем сталь.
В страхе пред ним
У псов Герионовых лютых[102]
Шерсть вздымалась.
Ныне хвалу Геродоту
С его колесницей
Четвероконной сложу.
Он не доверил узды своей
Чужой руке — и за то
Я вплету ему похвалу
С Иолаем и Кастором[103]
В гимн хвалебный.
Этих двух героев нам
Лакедемон и Фивы родили,
Возниц сильнейших.
О златая лира! Общий удел Аполлона и муз
В темных, словно фиалки, кудрях.
Ты основа песни, и радости ты почин!
Знакам, данным тобой, послушны певцы,
Лишь только запевам, ведущим хор,
Дашь начало звонкою дрожью.
Язык молний, блеск боевой угашаешь ты,
Вечного пламени вспышку; и дремлет
Зевса орел[105] на его жезле,
Низко к земле опустив
Быстрые крылья, —
Птиц владыка. Ты ему на главу[106] с его клювом кривым
Тучу темную сама излила,
Взор замкнула сладким ключом — и в глубоком сне
Тихо влажную спину вздымает он,
Песней твоей покорен. И сам Арей,
Мощный воин, песнею сердце свое
Тешит, вдруг покинув щетинистых копий строй.
Чарами души богов покоряет
Песни стрела из искусных рук
Сына Латоны[107] и дев —
Муз пышногрудых.
Те же, кого не полюбит Зевс,
Трепещут, заслышав зов
Муз-пиерид; он летит над землей
И над бездной никем не смиренных морей.
Тот всех больше, кто в Тартар страшный низвергнут, противник богов,
Сам стоголовый Тифон[108]. Пещера в горах
Встарь, в Киликийских[109], его воспитала, носившая много имен,
Ныне же Кумские скалы[110], омытые морем,
И Сицилийской земли пределы[111]
Тяжко гнетут косматую грудь.
Этна — столп небосвода,
Снежно-бурная Этна, весь год
Ледников кормилица ярких.
Там из самых недр ее неприступного пламени ключ
Бьет священной струей. И текут
Днем потоки рек, испуская огнистый дым;
Ночью же блеском багровым пышет огонь;
Глыбами скалы вниз он, вращая, мчит
С грохотом, с грозным шумом в бездну пучины морской.
Страшный ток Гефеста[112] чудовищный этот зверь
Ввысь посылает. И дивное диво
Это для всех, кто увидит сам;
Диво для всех, кто об этом
Слышит рассказы.
Тому, кто в Этне связан лежит, с темнолистых вершин
Вплоть до самой подошвы горы,
Острый край утесов согбенную спину рвет.
Если мог бы угодным стать я тебе,
Зевс! Посещаешь эту вершину ты,
Этих стран богатых чело. И теперь
Град соседний именем этой горы нарек
Славный строитель его. Это имя
Крикнул глашатай пифийских игр,
Где победил Гиерон
В конском ристанье.
Если задумали люди плыть
В далекий по морю путь,
Будет на радость великую им,
Если дует им ветер попутный. Тогда
Будет плаванью их наверно дарован удачный конец.
Так же и этой победой ныне дана
Верная впредь нам надежда, что будет наш город отныне богат
Славой коней и венков, и на звонких пирушках
Будет его восхваляться имя.
Феб Ликийский, ты, Делоса царь,
Любишь Кастальский ты ключ[113]
Близ Парнаса. Даруй в этот край
Ты мужей отважных и сильных!
Доблесть людей — от воли богов. Лишь от них
Мудры мы, и они нам дают
Мощь, и силу рук, и искусство речей. Теперь
Я хочу одного лишь мужа воспеть.[114]
Крепко надеюсь я, что, не дрогнув, в цель
Мощным взмахом дрот меднощекий метну.
Пусть летит он дальше, чем стрелы моих врагов[115].
Этому мужу грядущее время
Счастье пускай принесет и даст
Много богатств, а скорбь
Пусть он забудет!
Вспомнит пусть он, сколько тяжких походов и битв[116] перенес
Он душой непреклонной. За то
Высшей чести волей богов удостоен был
Он, и чести такой никто не имел
Между мужей Эллады. В удел ему
Дан богатства пышный венец. Но, на бой
Ныне сам пойдя, повторил Филоктетов рок[117].
Стал перед ним, как пред другом, сгибаться
Тот, кто был горд. Говорит молва,
Будто герои, богам
Равные силой,
С Лемноса сына Поанта[118] встарь
С собой привели; он был
Раной терзаем, но славный стрелок.
И данайцев трудам положил он конец,
Град Приамов разрушив. Телом был слаб, но был
избран судьбой.
Пусть с Гиероном в грядущем будет всегда
Бог-совершитель. И пусть ниспошлет ему случай благой,
чтобы все
Мог он желанья исполнить. В дому Дейномена[119],
Муза, воспой мне коней четверку
Славных. Ведь там не будет чужда
Радость отцовских побед.
Так начни же! Мы Этны царю
Сочиним приветствия песню.
Этот град для сына, вместе с свободой, созданьем богов,
Сам отец, Гиерон, заложил.
Он заветы Гилла хранит.[120] Ведь Памфила род,
Также род Гераклидов, тех, что живут
Возле вершин Тайгетских[121], хотят всегда
Свой закон дорийский хранить, как велел
Им Эгимий. Род их блаженный Амиклы[122] взял
Некогда, с Пинда сойдя[123]. Белоконным
Тиндара детям,[124] копейщикам,
Стал этот род с той поры
Славным соседом.
Зевс-вершитель! Людям всем, что живут близ аменской струи[125],
Счастье вместе с владыками их
Дай в удел, чтоб всюду людей правдивая речь
Их хвалила. Всегда с подмогой твоей,
Верно ведущей сына своею рукой,
Муж-властитель пусть направляет народ
Свой к согласью, к миру, почетом венчав его.
Пусть же в домах остается пуниец,
Смолкнет тирренов военный клич![126]
Вспомнят пусть Кумский морской
Бой[127] многостонный.
Что претерпели они в тот день,
Когда сиракузян вождь
Их расцветавшую юность поверг
С кораблей быстроходных в пучину морей,
Спас Элладу от тяжких рабства оков. Я хотел бы теперь
Дружбу афинян стяжать, воспев Саламин[128],
Спарте же песню сложу я про бой Киферонский[129], где пал перед ней
Строй криволуких лидийских стрелков. Огласится
Пусть полноводный Гимеры берег[130]
Новой победы хвалой
В честь Дейномена храбрых сынов.[131]
Эта песнь — им награда за то,
Что врагов бежали дружины.
Если песнь свою размерить разумно и в краткую речь
Вложить многим деяньям хвалу,
Меньше будет трогать тебя пересуд людской.
Слух пресытиться может. Быстрых надежд
Пыл погасает. Часто гнетет
Душу граждан весть о заслугах чужих.
Все же лучше зависть, чем жалость, терпеть. Стремись
К благу всегда. И народ свой кормилом
Правь справедливым. И свой язык
Ты на правдивой, без лжи,
Куй наковальне.
Если даже чуть оступишься ты, то за много тебе
Это будет всегда зачтено.
Ты для многих страж. И свидетелей много есть
Всем поступкам твоим, и добрым и злым.
Пылу благому верен навек пребудь.
Если ж хочешь доброй молве ты внимать,
Щедрым будь всегда. И рулем направляй корабль,
Ветром попутным свой парус наполнив.
Проискам тех, кто наживы ждет,
Друг, не вверяйся. Молва
Славы посмертной
Только одна лишь пройденный путь
Людей, что ушли давно,
Может певцам показать и раскрыть
Летописцам. О Крезовой ласке[132] жива
Весть поныне. О том, кто сердцем безжалостен был и людей
В медном быке сожигал — то был Фаларид[133], —
Слава дурная идет. Не звучит на форминге под крышей домов
Имя его на пирах молодежи веселых.
В жизни удачу стяжать — награда
Первая. Дар второй — заслужить
Добрую славу себе.
Тот, кто их и приял и достиг,
Получил венец наивысший.
Согласуй с харитами стройными песнь,
Меднощитного славить хочу
Победителя в играх пифийских,
Телесикрата, мужа блаженного,
Коневластной Кирены красу.[134]
Из долин ветрошумных Пелиона
Сын Латоны кудрявый ее
В дни былые похитил. В златой
Колеснице он деву лесную увез
И владеть ей назначил землей
Многостадной, обильной плодами,
Чтоб жила в цветущей, желанной
Третьей отрасли суши.
Приняла среброногая
Афродита делийского гостя[135]
И, касаясь легкой рукой,
С богозданной свела колесницы.
Им обоим над сладостным ложем
Стыд любовный она пролила,
Сочетая в общении брачном
Дочь Гипсея могучего — с богом.
Он тогда горделивых лапифов царем
Был,[136] второй Океанова рода герой.
Родила, меж утесами славного Пинда,
Дочь Геи, наяда Креуса, его
В наслаждении брачном с Пенеем.
И Гипсей себе вырастил дочь,
Белорукую деву Кирену.
Ни станка, в обе стороны ткущего нить,
Ни забавы с подругами сладкой
На домашних пирах не любила она,
Но с мечом или дротиком медным
Выходила на диких зверей
И, сражая их, долгий, счастливый покой
Доставляла отцовским стадам,
И друг ложа, пленительный сон,
Ненадолго сходил к ней на очи
Перед самой только денницей.
Аполлон, стрел далеких метатель,
Шел, с колчаном широким на плечах,
И увидел однажды ее,
Как со львом-великаном боролась
Безоружная дева одна.
Призывает он тотчас из дому Хирона[137]:
«Сын Филиры, священный свой грот
Покидай и дивись на отвагу
И великую силу жены!
Вот в какую борьбу
С безмятежным вступила челом!
Сердце в ней не страшится,
И душа не смущается страхом.
Кто из смертных такую родил,
От какого родилася корня?..
Гор тенистых ложбины — жилище ее;
Ей утехой — безмерная сила.
Но прилично ли славной рукой
Мне коснуться ее и с ложа любви
Плод медовый сорвать?..»
И суровый кентавр,
Прояснивши улыбкой сердитую бровь,
Богу речью ответил такою:
«Тайный ключ для священной любви —
Убеждения мудрое слово.
Феб, считается это за стыд
У богов и равно у людей —
Первый раз без боязни, открыто
Приступать ко любовному ложу.
У тебя, недоступного лжи,
Увлеченье понудило страсти
Это слово сказать! Но зачем
Тебе спрашивать, царь,
От кого родилась эта дева?
Предназначенный всякому делу конец,
Все пути тебе знаемы в мире.
Ясно видишь ты, сколько земля
Даст нам листьев зеленых с весною,
Сколько в море и в реках клубится песков
От ударов ветров и от волн;
Что свершается, что свершится,
Все ты знаешь. Но, если и с мудрым
Состязаться я должен, скажу.
Ты в долину пришел, чтобы стать
Этой девы супругом. Ее унесешь
Через море в Зевесов прекраснейший сад.
Там владычицей града поставишь ее,
Весь собравши народ островов
На холму, окруженном полями.
Ныне примет священная Ливия,
Средь обширных красуясь лугов,
Благосклонно супругу прекрасную
В золотые чертоги свои.
Чтоб законную власть разделять,
Часть земли ей дарует она,
Не лишенную многих богатств
В плодовых деревах и стадах.
Там родит она сына, которого славный Гермес,
Взяв от матери милой,
К трону Гор золотому и к Гее снесет:
На колени к себе посадив,
Будут нектар по каплям они
И амброзию в ротик младенцу вливать —
И бессмертным его сотворят,
Как Зевес или Феб непорочный,
Чтобы лучшею радостью был
Он для милых родных и друзей,
Был защитником стад, и пускай
У одних он «ловцом и хранителем паств»,
У других — «Аристеем» зовется».
Говоря так, Хирон преклоняет его
К наслаждению брачным союзом.
Если боги спешат, вмиг окончено дело;
Их коротки пути: в тот же день
Все свершилось — они сочетались
В разукрашенном зла́том ливийском чертоге,
Где под властью Кирены — прекраснейший
город,
Знаменитый искусством бойцов.
И в Пифоне божественном ныне[138]
Вновь прекрасноцветущее счастье
В дар приносит ей сын Карнеады.
Победив, он прославил Кирену.
Благосклонно она его примет,
Как из Дельф[139] — в край родной,
Жен прелестных страну,
Принесет он желанную славу.
Дел великих всегда многословна хвала;
Но из многого малое любит мудрец
В разновидной приять красоте.
Своевременный труд первенствует над всем.
Иолая когда-то не презревшим это
Семивратные видели Фивы.
Как меча острием,
Эврисфею[140] он голову снял,
Там по смерти сокрыли его
Под землею, в могиле
Знаменитого Амфитриона[141] возницы.
Там кадмейцев посеянных гость,[142]
Его дед по отцу, поселенец
Белоконных фиванских полей, почивал.
Сочеталась любовью Алкмена разумная
С ним и с Зевсом и свету дала,
Раз единый зачав, двух сынов,
Победителей ратную силу.
И пускай будет нем, кто уста
Для хвалы Геркулеса замкнет,
Кто не вспомнит стократ вод диркейских[143],
Воспитавших его с Ификлеем[144].
Им хочу за добро, по обету,
Я хвалебною песнью воздать.
Чистый огнь сладкозвучный харит
Пусть меня не оставит. Скажу я:
На мегарском холму и в Эгине
Этот град Телесикрат
Гласным подвигом трижды прославил.
Потому, будет друг или недруг
Кто из граждан ему, пусть не скроет во тьме
Перед всеми свершенного славного дела;
Пусть последует старца морского[145] совету, —
Он сказал, что от полного сердца
Справедливо хвалить и врага
За прекрасный поступок.
Я не раз победителем видел тебя
И во время Паллады торжеств годовых:
Верно, каждая дева безмолвно
Ненаглядным супругом тебя, Телесикрат,
Или сыном мечтала иметь…
И в кругу олимпийских борцов,
И на играх глубокодолинной земли,[146]
И в туземных агонах встречал я тебя, —
И теперь я хочу утолить
Песнопения жажду, и вновь
Понуждает желанье меня
Славу предков твоих пробудить.
Расскажу, как за дочерью славной Антея,[147]
За прекраснокудрявою девой ливийской,
Женихи приходили ко граду Ирасы[148].
Много лучших мужей соплеменных,
Много сильных из чуждой земли
Обладать ею думали — всех
Красотой она дивной пленяла.
В цвете юности златовенчанной
Наливавшийся плод им хотелось сорвать.
Но отец ей готовил в уме
Брак славнее: он слышал тогда
Об аргивском Данае, который —
И не минуло дня половины —
Всем своим сорока восьми девам[149]
Без раздумья супругов нашел.
Целый хор он их выставил в ряд
На пределы арены и вмиг
Состязанием в беге решить приказал,
Кто из юных героев —
Сколько их ни явилось в зятья —
В жены деву какую возьмет.
Так достойного мужа нашел
И ливиец для дочери милой.
Он у меты, последней наградой,
Разодетую пышно поставил ее
И сказал, обращаясь ко всем:
«Тот возьмет, кто, других упредив,
До одежд ее первый коснется».
Алекси́дам крылатый тогда,
Легконогий свой бег совершив,
Деву милую за руку взял
И повел чрез собрание конных номадов.
Много разных венков и ветвей
Все бросали ему. Так и прежде
Был крылатой победе он другом не раз.
…Пленяет разум
Сладкой неволей отрада кубков полных.
Бьется сердце, шепчет мне: «Близка любовь…»
Ты сам, Дионис, нам вливаешь в грудь отвагу.
Мы высоко залетели мыслью, други!
Мы сокрушаем в мечтах своих твердыни:
Над вселенной побежденной мы царим!
Палаты — все в золоте, все в кости слоновой;
Много богатств корабли тропой лазурной,
Много пшеницы везут нам из Египта:
Так за кубком над вселенной мы царим.
Нет ни тучных стад, ни злата; нет и тканей пурпуровых.
Только в сердце есть веселье, сладкий мир.
Есть и муза нежных песен, — да в сосудах беотийских
Гроздьев нектар!
Волны грудью синей рассекая,
Море критское триера[152] пробегала,
А на ней, к угрозам равнодушный,
Плыл Тесей и светлые красою
Семь юниц, семь юных ионийцев…
И пока в угоду Деве браней[153]
На сиявший парус бореады[154]
Налегали девы, Афродита,
Что таит соблазны в диадеме,
Меж даров ужасных жало выбрав,
В сердце Миносу-царю его вонзила,
И, под игом страсти обезволен,
Царь рукой ланит коснулся девы,
Эрибеи с ласкою коснулся…
Но в ответ потомку Пандиона[155]:
«Защити» — юница завопила…
Обернулся витязь, и, сверкая,
Заметались темные зеницы;
Жало скорби грудь ему пронзило
Под ее блистающим покровом,
И уста промолвили: — «О чадо
Из богов сильнейшего — Кронида:
У тебя бушуют страсти в сердце,
Да рулем не правит совесть, видно,
Что герой над слабыми глумится.
Если жребий нам метали боги
И его к Аиду Правда клонит,
От судьбы мы не уйдем, но с игом
Произвола царского помедли.
Вспомни, царь, что если властелином
Зачат ты на ложе Зевса дщерью
Феникса, столь дивно нареченный,
Там, на склонах Иды[156], то рожденьем
И Тесей не жалок: Посейдону
Дочь меня Питфеева[157] родила,
Что в чертоге выросла богатом,
И на пире брачном у невесты
Золотое было покрывало,
Нереид подарок темнокосых.
Говорю ж тебе и повторяю,
О кносийских ратей повелитель,[158]
Или ты сейчас же бросишь сам
Над ребенком плачущим глумиться,
Иль пускай немеркнущей денницы
Мне сиянья милого не видеть,
Если я сорвать тебе позволю
Хоть одну из этих нежных веток.
Силу рук моих изведай раньше —
А чему потом случиться надо,
Это, царь, без нас рассудят боги».
Так доблестный витязь сказал и умолк;
И замерли юные жертвы
Пред этой отвагою дерзкой…
Но Гелиев зять[159] в разгневанном сердце
Узор небывалый выводит,
И так говорит он: «О Зевс, о отец
Могучий, коль точно женою
Рожден я тебе белорукой,
С небес своих молнию сыну
Пошли ты, и людям на диво
Пусть огненной сыплется гривой!
Ты ж, мощный, коль точно Эфра
Тебя колебателю суши
Дала, Посейдону, в Трезене[160],
Вот эту златую красу,[161]
Которой десница сияла,
Отважно в отцовский чертог снизойдя,
Вернешь нам из дальней пучины.
А внемлет ли Кроний сыновней мольбе,
Царь молний, увидишь немедля…»
И внял горделивой молитве Кронид,
И сыну, без меры могучий,
И людям на диво почет он родит.
Он молнией брызнул из тучи, —
И, славою полный, воспрянул герой,
Надменное сердце взыграло,
И мощную руку в эфир голубой
Воздел он, а речь зазвучала;
Вещал он: «Ты ныне узрел, о Тесей,
Как взыскан дарами отца я.
Спускайся же смело за долей своей
К властителю тяжко гремящих морей,
И, славой Тесея бряцая,
Заросшая лесом земля загудит,
Коль так ей отец твой державный велит».
Но ужас осилить Тесея не мог:
Он за борт, он в море шагает, —
И с лаской приемлет героя чертог,
А в Миносе мужество тает:
Триеру велит он на веслах держать, —
Тебе ли, о смертный, судьбы избежать?
И снова по волнам помчалась ладья,
Покорна устам бореады…
Да в страхе теснилась афинян семья,
Бросая печальные взгляды
На пену, в которой сокрылся герой;
И в волны с сияющих линий
Горячие слезы сбегали порой
В предчувствии тяжких насилий…
Тесея ж дельфины, питомцы морей,
В чертог Посейдона примчали,—
Ступил за порог — и отпрянул Тесей,
Златого Нерея узрев дочерей:
Тела их как пламя сияли…
И локоны в пляске у дев развились,
С них ленты златые каскадом лились…
И, мерным движеньем чаруя сердца,
Сребрились их гибкие ноги,
Но гордые очи супруги отца[162]
Героя пленяли в чертоге…
И, Гере подобясь, царица меж дев
Почтила Тесея, в порфиру одев.
И кудри герою окутал венец:
Его темно-розовой гущей
Когда-то для брачного пира
Ей косы самой увенчала Киприда,
Чаруя, златые увила.
И чудо свершилось… для бога оно
Желанье, для смертного чудо:
У острой груди корабельной —
На горе и думы кносийцу —
Тесей невредим появился…
А девы, что краше денницы,
Восторгом объяты нежданным,
Веселые крики подъяли,
А море гудело, пеан
Товарищей их повторяя,
Что лился свободно из уст молодых —
Тебе, о Делосец блаженный,
Да будешь ты спутником добрых,
О царь хороводов родимых!
К славному хору картеян[163], владычица Ника[164], Палланта
Многоименная дочь, ласково взоры склоняй
И Вакхилиду-кеосцу увенчивай чаще, богиня,
На состязаниях муз кудри победным венком.
В поле за стенами града святилище это Зефиру,
Щедрому ветру, воздвиг муж благодарный Эвдем,
Ибо Зефир по молитве его от праха колосьев
Легким дыханьем своим зерна отвеять помог.
Скорпион под любым
камнем тебе
может попасться, друг:
Бойся жала его.
Скрытность всегда
хитрости яд таит.
Вспомни то, что сказал
как-то Адмет[166]:
«Добрых люби душой,
Но от низких держись
дальше: они —
неблагодарные».
Пей же вместе со мной,
вместе люби,
вместе венки плети
И безумствуй, как я;
вместе со мной
благоразумен будь.
Вот что прекрасней всего[167] из того, что я в мире оставил:
Первое — солнечный свет, второе — блестящие звезды
С месяцем, третье же — яблоки, спелые дыни и груши.
Я — служитель царя Эниалия[169], мощного бога.
Также и сладостный дар муз хорошо мне знаком.
В остром копье у меня замешен мой хлеб. И в копье же
Из-под Исмара вино.[170] Пью, опершись на копье!
То не пращи засвистят и не с луков бесчисленных стрелы
Вдаль понесутся, когда бой на равнине зачнет
Арес могучий: мечей многостонная грянет работа.
В бое подобном они опытны боле всего —
Мужи-владыки Эвбеи[171], копейщики славные…
Чашу живее бери и шагай по скамьям корабельным.
С кадей долбленых скорей крепкие крышки снимай…
Красное черпай вино до подонков. С чего же и нам бы
Стражу такую нести, не подкрепляясь вином?
Носит теперь горделиво саиец[173] мой щит безупречный:
Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах.
Сам я кончины зато избежал. И пускай пропадает
Щит мой. Не хуже ничуть новый могу я добыть.
Скорбью стенящей крушась, ни единый из граждан, ни город
Не пожелает, Перикл, в пире услады искать.
Лучших людей поглотила волна многошумного моря,
И от рыданий, от слез наша раздулася грудь.
Но и от зол неизбежных богами нам послано средство:
Стойкость могучая, друг, — вот этот божеский дар.
То одного, то другого судьба поражает: сегодня
С нами несчастье, и мы стонем в кровавой беде,
Завтра в другого ударит. По-женски не падайте духом,
Бодро, как можно скорей, перетерпите беду.
Все человеку, Перикл, судьба посылает и случай.
Если, мой друг Эсимид, нарекания черни бояться,
Радости в жизни едва ль много изведаешь ты.
Если б его голова, милые члены его,
В чистый одеты покров, уничтожены были Гефестом.
Я ничего не поправлю слезами, а хуже не будет,
Если не стану бежать сладких утех и пиров.
Жарко моляся средь волн густокудрого моря седого
О возвращенье домой…
Главк, до поры лишь, покуда сражается, дорог наемник.
Очень много ворон смоковница горная кормит,
Всем Пасифила[175] гостям, добрая, служит собой!
Наксоса были столпами Аристофонт и Мегатим,
Ныне в себе ты, земля, держишь, великая, их.
Кудри скрывавший покров Алкибия с себя низлагает,
В брак законный вступив, Гере-владычице в дар.
…как осла хребет,
Заросший диким лесом, он вздымается.
Невзрачный край, немилый и нерадостный,
Не то что край, где плещут волны Сириса[177].
Ни ямбы, ни утехи мне на ум нейдут.
В свои объятья взяли волны души их.
Мне дела нет до Гига[179] многозлатного.
Чужда мне зависть, на богов не сетую
И царской власти не ищу величия, —
Все это далеко от взора глаз моих.
Из дочерей Ликамба только старшую.
Своей прекрасной розе с веткой миртовой
Она так радовалась. Тенью волосы
На плечи ниспадали ей и на спину.
…старик влюбился бы
В ту грудь, в те миррой пахнущие волосы.
Не стала бы старуха миррой мазаться.
И ты, владыка Аполлон, виновников
Отметь и истреби, как истребляешь ты.
Главк, ты видишь: глубь морская всколыхнулась от волны
И нависли грозно тучи над Гирейскою скалой[181].
То — знак бури! Страх на сердце: мы застигнуты врасплох.
Предоставь все божьей воле — боги часто горемык,
После бед к земле приникших, ставят на ноги опять,
А стоящих низвергают и лицом склоняют ниц.
И тогда конца нет бедам: в нищете и без ума
Бездомовниками бродят эти люди на земле.
Мне не мил стратег высокий, с гордой поступью стратег,
С дивно-пышными кудрями, с гладко выбритым лицом!
Пусть он будет низок ростом, пусть он будет кривоног,
Лишь бы шел он твердым шагом, лишь бы мощь в душе таил.
Кто падет, тому ни славы, ни почета больше нет
От сограждан. Благодарность мы питаем лишь к живым, —
Мы, живые. Доля павших — хуже доли не найти.
Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой.
Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!
Пусть везде кругом засады — твердо стой, не трепещи.
Победишь — своей победы напоказ не выставляй,
Победят — не огорчайся, запершись в дому, не плачь.
В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй.
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт.
Настроения у смертных, друг мой Главк, Лептинов сын,
Таковы какие в душу в этот день вселит им Зевс.
И как сложатся условья, таковы и мысли их.
Леофил теперь начальник, Леофил над всем царит,
Все лежит на Леофиле, Леофила слушай все.
И упасть на… и прижаться животом
К животу, и бедра в бедра…
Можно ждать чего угодно, можно веровать всему,
Ничему нельзя дивиться, раз уж Зевс, отец богов,
В полдень ночь послал на землю, заградивши свет лучей
У сияющего солнца. Жалкий страх на всех напал.
Всё должны отныне люди вероятным признавать
И возможным. Удивляться нам не нужно и тогда,
Если даже зверь с дельфином поменяются жильем
И милее суши станет моря звучная волна
Зверю, жившему доселе на верхах скалистых гор.
…Бурной носимый волной.
Пускай близ Салмидесса[184] ночью темною
Взяли б фракийцы его
Чубатые[185], — у них он настрадался бы,
Рабскую пищу едя!
Пусть взяли бы его, закоченевшего,
Голого, в травах морских,
А он зубами, как собака, лязгал бы,
Лежа без сил на песке
Ничком, среди прибоя волн бушующих.
Рад бы я был, если б так
Обидчик, клятвы растоптавший, мне предстал, —
Он, мой товарищ былой!
Пророк неложный меж богов великий Зевс, —
Сам он над будущим царь.
Что в голову забрал ты, батюшка Ликамб,
Кто разума лишил тебя?
Умен ты был когда-то. Нынче ж в городе
Ты служишь всем посмешищем.
О Зевс, отец мой! Ты на небесах царишь,
Свидетель ты всех дел людских,
И злых, и правых. Для тебя не все равно,
По правде ль зверь живет иль нет.
Тенелла!
Светлопобедный — радуйся, о царь Геракл, —
Тенелла —
светлопобедный —
И сам, и Иолай твой — два копейщика! —
Тенелла!
Светлопобедный — радуйся, о царь Геракл!
Внимай, дитя, над всем — один властитель: Зевс.
Как хочет, так вершит гремящий в небесах.
Не смертным разум дан. Наш быстротечен день,
Как день цветка, и мы в неведенье живем:
Чей час приблизил бог, как жизнь он пресечет.
Но легковерная надежда всех живит,
Напрасно преданных несбыточной мечте.
Один считает дни: «Вот, вот…», другой — года.
«Едва минует год, — мнит каждый, — и ко мне
Богатства притекут и прочие дары».
Но вот один в когтях у старости — конец!
А цель — все впереди. Других сразил недуг,
Иных в бою Арей-воитель сокрушил:
Их шлет уже Аид в предвечный мрак земли.
Тех — море унесло… Как гнал их ураган
И грозные валы багрово-мрачных вод!
Погибли. А могли спокойно жить они.
Тот затянул петлю. О, горькая судьба!
По доброй воле, сам, отвергнул солнца свет.
Все беды налицо, — но Керам нет числа,
И смертных горести ни выразить, ни счесть.
Но если бы они послушались меня,
Мы б не любили зла и горя не несли б,
Порывом яростным влекомые в беде.
О мертвом, если б были мы разумнее,
Не дольше б горевали мы, как день один.
Различно женщин нрав сложил вначале Зевс:
Одну из хрюшки он щетинистой слепил —
Все в доме у такой валяется в грязи,
Разбросано кругом, — что где, не разберешь.
Сама ж — немытая, в засаленном плаще,
В навозе дни сидит, нагуливая жир.
Другую из лисы коварной создал бог —
Все в толк берет она, сметлива хоть куда,
Равно к добру и злу ей ведомы пути,
И часто то бранит, то хвалит ту же вещь,
То да, то нет. Порыв меняется что час.
Иной передала собака верткий нрав.
Проныра — ей бы все разведать, разузнать,
Повсюду нос сует, снует по всем углам,
Знай лает, хоть кругом не видно ни души.
И не унять ее: пусть муж угрозы шлет,
Пусть зубы вышибет булыжником в сердцах,
Пусть кротко, ласково упрашивает он —
Она и у чужих в гостях свое несет.
Попробуй одолеть ее крикливый нрав!
Иную, вылепив из комьев земляных,
Убогою Олимп поднес мужчине в дар,
Что зло и что добро — не по ее уму.
И не поймет! Куда! Одно лишь знает — есть.
И если зиму Зевс суровую послал,
Дрожит, а к очагу стул пододвинуть лень.
Ту из волны морской. Двоится ум ее:
Сегодня — радостна, смеется, весела.
Хвалу ей воздает, увидев в доме, гость:
«Нет на земле жены прекраснее ее,
Нет добродетельней, нет лучше средь людей…»
А завтра — мочи нет; противно и взглянуть.
Приблизиться нельзя: беснуется она,
Не зная удержу, как пес среди детей,
Ко всем неласкова, ни сердца, ни души,
Равно — враги пред ней иль лучшие друзья.
Так море иногда затихнет в летний день:
Спокойно, ласково, отрада морякам —
Порой же, грозное, бушует и ревет,
Вздымая тяжкие, ударные валы.
Похожа на него подобная жена
Порывов сменою, стихийных, словно Понт.
Иной дал нрав осел, облезлый от плетей;
Под брань, из-под кнута, с большим трудом она
Берется за дела — кой-как исполнить долг.
Пока же ест в углу подальше от людей —
И ночью ест и днем, не свят ей и очаг,
А вместе с тем, гляди, для дел любовных к ней
Приятелю-дружку любому вход открыт.
Иную сотворил из ласки — жалкий род!
У этой ни красы, ни прелести следа,
Ни обаяния — ничем не привлечет.
А к ложу похоти — неистовый порыв,
Хоть мужу своему мерзка до тошноты.
Да вороватостью соседям вред чинит
И жертвы иногда не в храм несет, а в рот.
Иная род ведет от пышного коня:
Заботы, черный труд — ей это не под стать,
Коснуться мельницы, взять в руки решето,
Куда там! — труд велик из дому выместь сор.
К печи подсесть — ни-ни! От копоти бежит.
Насильно мил ей муж. Привычку завела
Купаться дважды в день и трижды, коль досуг.
А умащениям — ни меры, ни числа.
Распустит локонов гривастую волну,
Цветами обовьет и ходит целый день.
Пожалуй, зрелище прекрасное жена,
Как эта, для иных; для мужа — сущий бич!
Конечно, если он не царь или богач,
Чтоб тешиться такой ненужной мишурой.
Иную сотворил из обезьяны Зевс:
Вот худшее из зол, что дал он в дар мужам:
Лицом уродлива. Подобная жена
Идет по городу — посмешище для всех.
И шея коротка; едва-едва ползет;
Беззадая, как жердь. Увы, бедняга муж!
Что за красотку он обвить руками рад!
На выдумки ж хитра, уверткам счету нет.
Мартышка чистая! Насмешки ж — нипочем.
Добра не сделает, пожалуй, никому.
Но занята одной лишь думой день-деньской:
Какую пакость бы похуже учинять.
Иную — из пчелы. Такая — счастья дар.
Пред ней одной уста злословия молчат:
Растет и множится достаток от нее;
В любви супружеской идет к закату дней,
Потомство славное и сильное родив.
Средь прочих жен она прекрасней, выше всех,
Пленяя прелестью божественной своей,
И не охотница сидеть в кругу подруг,
За непристойными беседами следя.
Вот лучшая из жен, которых даровал
Мужчинам Зевс-отец на благо, вот их цвет.
А прочие — увы! — по промыслу его
И были бедствием, и будут для мужей.
Да, это зло из зол, что женщиной зовут,
Дал Зевс, и если есть чуть пользы от нее —
Хозяин от жены без меры терпит зло.
И дня не проведет спокойно, без тревог,
Кто с женщиной судьбу свою соединил,
И голод вытолкнет не скоро за порог;
А голод — лютый враг, сожитель — демон злой.
Чуть муж для праздника повеселиться рад —
Во славу ль божию иль там почтить кого, —
Жена, найдя предлог, подымет брань и крик.
Верь, у кого жена, тому не к дому гость.
Заезжего с пути радушие не ждет,
И та, что с виду всех невинней и скромней,
Как раз окажется зловреднее других.
Чуть зазевался муж… а уж соседи здесь:
Злорадствуют над тем, как слеп он и как прост,
Свою-то хвалит всяк — похвал не перечесть,
Чужую, не скупясь, поносит и бранит.
Хоть участь общая, — о том не знаем мы;
Ведь это зло из зол зиждитель создал, Зевс,
Нерасторжимые он узы наложил
С тех пор, когда одни сошли в подземный мрак
В борьбе за женщину — герои и вожди.
«Кандавл[191] по-меонийски[192], по-людски — Гермий! —
Так звал он: — Майи сын, цепной своры
Начальник, друг ночных воров[193], спаси, милый!»
Гермес Килленский[194], Майи сын, Гермес, милый!
Услышь поэта! Весь в дыра́х мой плащ, дрогну.
Дай одежонку Гиппонакту, дай обувь!
Насыпь червонцев шестьдесят в мошну — веских!
Ты не дал мне хламиды шерстяной, теплой
В подарок перед стужей, ни сапог прочных;
И, полуголый, мерзну я зимой лютой.
Богатства бог, чье имя Плутос, — знать, слеп он!
Под кров певца ни разу не зашел в гости
И не сказал мне: «Гиппонакт, пока тридцать
Мин серебра тебе я дам; потом — больше».
Ни разу так он не зашел в мой дом: трус он.
Привольно жил когда-то он, тучнел в неге,
Из тонких рыб ел разносолы день целый;
Как евнух откормился, как каплун жирный,
Да все наследство и проел. Гляди, нынче
В каменоломне камни тешет, жрет смоквы
Да корку черную жует он — корм рабий.
Я злу отдам усталую от мук душу,
Коль не пришлешь ты мне ячменных круп меру.
Молю не медлить. Я ж из круп сварю кашу.
Одно лекарство от несчастья мне: каша!
Художник! Что ты на уме, хитрец, держишь?
Размалевал ты по бортам корабль. Что же
Мы видим? Змей ползет к корме с носа.
Наворожишь ты на пловцов, колдун, горе,
Зане проклятым знаменьем судно метишь!
Беда, коль змием уязвлен в пяту кормчий!
Прошу, любезный, не толкайся! Пусть барин
Не в духе ныне — знаю: не дерись все же!
Два дня всего бывают милы нам жены:
В день свадьбы, а потом в день выноса тела.
Скоро ль воспрянете вы? Когда ваше сердце забьется
Бранной отвагой? Ужель, о нерадивые, вам
Даже соседей не стыдно? Вы мыслите, будто под сенью
Мира живете, страна ж грозной объята войной.
……………………………………………………………..
Требует слава и честь, чтоб каждый за родину бился,
Бился с врагом за детей, за молодую жену.
Смерть ведь придет тогда, когда мойры прийти ей назначат.
Пусть же, поднявши копье, каждый на битву спешит,
Крепким щитом прикрывая свое многомощное сердце
В час, когда волей судьбы дело до боя дойдет.
Сам ведь Кронион, супруг прекрасноувенчанной Геры,
Зевс, Гераклидам[198] вручил город, нам ныне родной.
С ними, оставив вдали Эриней, обдуваемый ветром,
Мы на широкий простор в землю Пелопа пришли.
Так нам из пышного храма изрек Аполлон-дальновержец,
Златоволосый наш бог, с луком серебряным царь:
«Пусть верховодят в совете цари богочтимые, коим
Спарты всерадостный град на попечение дан,
Вкупе же с ними и старцы людские, а люди народа,
Договор праведный чтя, пусть в одномыслии с ним
Только благое вещают и правое делают дело,
Умыслов злых не тая против отчизны своей, —
И не покинет народа тогда ни победа, ни сила».
Так свою волю явил городу нашему Феб.
Доля прекрасная — пасть в передних рядах ополченья,
Родину-мать от врагов обороняя в бою;
Край же покинуть родной, тебя вскормивший, и хлеба
У незнакомых просить — наигорчайший удел.
Горе тому, кто бродить обречен по дорогам чужбины
С милой женою, детьми и престарелым отцом.
Впавший в нужду человек покрыл свое имя позором, —
Кто ему дверь отопрет, кто же приветит его?
Всюду несутся за ним восклицанья хулы и презренья,
Как бы ни бы́л именит, как бы красой ни сиял.
Если скиталец такой нигде не находит приюта,
Не возбуждает ни в ком жалости к доле своей,
Биться отважно должны мы за милую нашу отчизну
И за семейный очаг, смерти в бою не страшась.
Юноши, стойко держитесь, друг с другом тесно сомкнувшись,
Мысль о бегстве душе будет отныне чужда.
Мужеством сердце свое наполнив, о ранах и смерти,
Подстерегающих вас, не помышляйте в бою.
Не покидайте своих товарищей, старших годами,
Духом отважных, но сил прежних лишенных, — увы!
Разве не стыд, не позор, чтобы, предан врагам молодежью,
Первым в передних рядах воин лежал пожилой,
Весь обнаженный, и прах подметал седой бородою,
Срам окровавленный свой слабой прикрывши рукой?
Право же, зрелища нет на свете ужасней, чем это;
И у кого из людей слез не исторгнет оно?
Тем же, чьи юны года, чьи цветут, словно розы, ланиты,
Все в украшенье, все впрок. Ежели юноша жив,
Смотрят мужи на него с восхищеньем, а жены с любовью;
Если он пал — от него мертвого глаз не отвесть.
Так как потомки вы все необорного в битвах Геракла,
Будьте бодры, еще Зевс не отвратился от нас!
Вражеских полчищ огромных не бойтесь, не ведайте страха,
Каждый пусть держит свой щит прямо меж первых бойцов,
Жизнь ненавистной считая, а мрачных посланниц кончины —
Милыми, как нам милы солнца златые лучи!
Опытны все вы в делах многослезного бога Арея,
Ведомы вам хорошо ужасы тяжкой войны,
Юноши, вы и бегущих видали мужей и гонящих;
Зрелищем тем и другим вдоволь насытились вы!
Воины те, что дерзают, смыкаясь плотно рядами,
В бой рукопашный вступать между передних бойцов,
В меньшем числе погибают, а сзади стоящих спасают;
Труса презренного честь гибнет мгновенно навек:
Нет никого, кто бы мог до конца рассказать все мученья,
Что достаются в удел трусу, стяжавшему стыд!
Трудно решиться ведь честному воину с тылу ударить
Мужа, бегущего вспять с поля кровавой резни;
Срамом покрыт и стыдом мертвец, во прахе лежащий,
Сзади пронзенный насквозь в спину копья острием!
Пусть же, широко шагнув и ногами в землю упершись,
Каждый на месте стоит, крепко губу закусив,
Бедра и голени снизу и грудь свою вместе с плечами
Выпуклым кругом щита, крепкого медью, прикрыв;
Правой рукою пусть он потрясает могучую пику,
Грозный шелома султан над головой всколебав;
Пусть среди подвигов ратных он учится мощному делу
И не стоит со щитом одаль летающих стрел;
Пусть он идет в рукопашную схватку и длинною пикой
Или тяжелым мечом насмерть врага поразит!
Ногу приставив к ноге и щит свой о щит опирая,
Грозный султан — о султан, шлем — о товарища шлем,
Плотно сомкнувшись грудь с грудью, пусть каждый дерется с врагами.
Стиснув рукою копье или меча рукоять!
Вы же, гимниты, иль здесь, или там, под щиты припадая,
Вдруг осыпайте врагов градом огромных камней
Или мечите в них легкие копья под крепкой защитой
Воинов тех, что идут во всеоружии в бой!
Я не считаю достойным ни памяти доброй, ни чести
Мужа за ног быстроту или за силу в борьбе,
Если б он даже был равен киклопам и ростом и силой.
Или фракийский Борей в беге им был превзойден,
Если б он даже лицом был прелестней красавца Тифона[200],
Или богатством своим Мида с Киниром[201] затмил,
Если б он был величавей Танталова сына Пелопа[202],
Или Адрастов[203] язык сладкоречивый имел,
Если б он славу любую стяжал, кроме воинской славы, —
Ибо не будет вовек доблестным мужем в войне
Тот, чьи очи не стерпят кровавого зрелища сечи,
Кто не рванется вперед в бой рукопашный с врагом:
Эта лишь доблесть и этот лишь подвиг для юного мужа
Лучше, прекраснее всех смертными чтимых наград.
Общее благо согражданам всем и отчизне любимой
Муж приносит, когда между передних бойцов,
Крепости полный, стоит, забывая о бегстве постыдном,
Жизнь и стойкий свой дух битве вверяя в борьбе,
Бодрость соседа в строю возбуждая отважною речью:
Вот какой муж на войне доблестью славен всегда!
Грозные вражьи фаланги он в бегство тотчас обращает,
Быстро смиряет один бурную сечи волну!
Если он жизни лишится, в передних рядах пораженный,
Город, народ и отца доброю славой покрыв,
Спереди множество ран на груди могучей зияют:
Панцирь и выпуклый щит всюду пробиты копьем, —
Плачут по нем одинаково юные люди и старцы,
Город родной удручен тяжкою скорбью по нем,
Славится всюду могила его средь народа, и дети,
Дети детей и весь род славой покрыты навек.
Добрая слава и имя его никогда не погибнут:
В царстве Аида живя, будет бессмертен тот муж,
Коего сгубит ужасный Арей среди подвигов ратных,
В жарком бою за детей и за родную страну.
Если ж удастся ему избежать усыпляющей смерти
И, врагов победив, ратную славу стяжать,
Старый и юный его уважают, и, радостей жизни
Полную чашу испив, в мрачный Аид он идет.
Славится он среди граждан, старея; никто не дерзает
Чести иль праву его сколько-нибудь повредить.
Юноши, сверстники, старцы повсюду в собраньях народа
Друг перед другом спешат место ему уступить.
Этой-то доблести ратной высоких пределов достигнуть
Всякий душою стремись, не избегая войны!
Вперед, о сыны отцов, граждан
Мужами прославленной Спарты!
Щит левой рукой выставляйте,
Копьем потрясайте отважно
И жизни своей не щадите:
Ведь то не в обычаях Спарты.
Все горожане, сюда! Я торговый гость саламинский,
Но не товары привез, — нет, я привез вам стихи.
………………………………………………………..
Быть бы мне лучше, ей-ей, фолегандрием иль сикинитом,[206]
Чем гражданином Афин, родину б мне поменять!
Скоро, гляди, про меня и молва разнесется дурная:
«Этот из тех, кто из рук выпустили Саламин!»
…………………………………………………………
На Саламин! Как один человек, за остров желанный
Все ополчимся! С Афин смоем проклятый позор!
Наша страна не погибнет вовеки по воле Зевеса
И по решенью других присно-блаженных богов.
Ибо хранитель такой, как благая Афина Паллада,
Гордая грозным отцом, длани простерла над ней.
Но, уступая корысти, объятые силой безумья,
Граждане сами не прочь город великий сгубить.
Кривдой полны и владыки народа, и им уготован
Жребий печальный: испьют чашу несчастий до дна.
Им не привычно спесивость обуздывать и, отдаваясь
Мирной усладе пиров, их в тишине проводить, —
Нет, под покровом деяний постыдных они богатеют
И, не щадя ничего, будь это храмов казна
Или народа добро, предаются, как тати, хищенью, —
Правды священный закон в пренебреженье у них!
Но, и молчанье храня, знает Правда, чтó есть и чтó было:
Пусть хоть и поздно, за грех все-таки взыщет она!
Будет тот час для народа всего неизбежною раной,
К горькому рабству в полон быстро народ попадет!
Рабство ж пробудит от дремы и брань и раздор межусобый:
Юности радостный цвет будет войной унесен…
Благозаконье же всюду являет порядок и стройность,
В силах оно наложить цепь на неправых людей,
Сгладить неровности, наглость унизить, ослабить кичливость,
Злого обмана цветы высушить вплоть до корней,
Выправить дел кривизну, и чрезмерную гордость умерить,
И разномыслья делам вместе со злобной враждой
Быстрый конец положить навсегда, и тогда начинает
Всюду, где люди живут, разум с порядком царить.
Маленький мальчик, еще неразумный и слабый, теряет,
Чуть ему минет семь лет, первые зубы свои;
Если же бог доведет до конца седмицу вторую,
Отрок являет уже признаки зрелости нам.
В третью у юноши быстро завьется, при росте всех членов,
Нежный пушок бороды, кожи меняется цвет.
Всякий в седмице четвертой уже достигает расцвета
Силы телесной, и в ней доблести явствует знак.
В пятую — время подумать о браке желанном мужчине,
Чтобы свой род продолжать в ряде цветущих детей.
Ум человека в шестую седмицу вполне созревает
И не стремится уже к неисполнимым делам.
Разум и речь в семь седмиц уже в полном бывают расцвете,
Также и в восемь — расцвет длится четырнадцать лет.
Мощен еще человек и в девятой, однако слабеют
Для веледоблестных дел слово и разум его.
Если ж десятое бог доведет до конца семилетье,
Ранним не будет тогда смертный конец для людей.
Нет, хоть теперь убедись, исключи это слово из песни
И не гневись, что тебя лучше я выразил мысль,
Лигиастид! Пожелай, изменив свою злую молитву,
Лет восьмидесяти смерти предела достичь.
…………………………………………
Также без слез да не будет кончина моя: умирая,
Стоны друзьям и тоску я бы оставить желал.
«Нет в Солоне мысли мудрой, нет отваги стойкой в нем:
В дверь к нему стучалось счастье — и не принял он его.
В неводе улов имея, не решился он на брег
Вытянуть его: умом, знать, он и сердцем ослабел.
Боги! Мне б добиться власти, мне бы полнотой богатств
Насладиться и в Афинах день процарствовать один —
На другой дерите шкуру, род мой с корнем истребив!»
………………………………………..
Если ж родину свою
Я щадил, не стал тираном и насилий над страной
Не творил, своей же славы не позорил, не сквернил,
В том не каюсь: так скорее я надеюсь превзойти
Всех людей.
…………………………………………
…А они, желая грабить, ожиданий шли полны,
Думал каждый, что добудет благ житейских без границ,
Думал: под личиной мягкой крою я свирепый нрав.
Тщетны были их мечтанья… Ныне, в гневе на меня,
Смотрят все они так злобно, словно стал я им врагом.
Пусть их! Все, что обещал я, мне исполнить удалось,
И труды мои не тщетны. Не хочу я, как тиран,
По пути идти насилий иль дурным дать ту же часть,
Что и добрым горожанам, в тучных родины полях.
………………………………………….
Моей свидетельницей пред судом времен
Да будет черная земля, святая мать
Богов небесных! Я убрал с нее позор[210]
Повсюду водруженных по межам столбов.
Была земля рабыней, стала вольною.
И многих в стены богозданной родины
Вернул афинян, проданных в полон чужой
Кто правосудно, кто неправдой. Я домой
Привел скитальцев, беглецов, укрывшихся
От долга неоплатного, родную речь
Забывших средь скитаний по чужим краям.
Другим, что здесь меж ними, обнищалые,
В постыдном рабстве жили, трепеща владык,
Игралища их прихотей, свободу дал.[211]
Законной властью облеченный, что сулил,
С насильем правду сочетав, — исполнил я.
Уставы общих малым и великим прав[212]
Я начертал; всем равный дал и скорый суд.
Когда б другой, корыстный, злонамеренный,
Моим рожном вооружился, стада б он
Не уберег и не упас. Когда бы сам
Противников я слушал всех и слушал все,
Что мне кричали эти и кричали те,
Осиротел бы город, много пало бы
В усобице сограждан. Так со всех сторон
Я отбивался, словно волк от своры псов.
Что за жизнь, что за радость, коль нет золотой Афродиты!
Смерти я жаждать начну, если мне скажут «прости»
Прелести тайной любви, и нежные ласки, и ложе.
Только ведь юности цвет людям желанен и мил;
Старость же горе несет, красавца с уродом равняя.
Стоит приблизиться ей, сразу томиться начнет
Черными думами сердце, и солнца лучи золотые
Старца не радуют взор, старцу не нужны они:
Юношам он опостылел и девам внушает презренье.
Вот сколь тяжелым ярмом старость ложится на нас.
Вдруг распускаемся мы, как листва под весенним дыханьем:
Быстро в зеленый убор солнце оденет леса.
Ах, но недолог прелестный расцвет! Мимолетна услада
Дней тех, когда от богов нет нам ни счастья, ни мук.
Счастье — в неведенье милом. Но близятся черные керы,
Старостью мрачной одна, смертью другая грозит.
Шире палящий пожар простирает лютое солнце:
Бурая сохнет листва, блекнет одежда лугов.
Лучше тогда умереть, чем влачить безотрадное бремя,
Если настала пора юной красе увядать.
Сколько ждет нас в грядущем до смертного часа кручины!
Полною чашей был дом — по миру ходит богач,
Тот сыновей не родил — сиротой умирает бездетный,
Этого гложет недуг… Кто проживет без беды?
Минет пора — и прекраснейший некогда муж пробуждает
Пренебреженье одно в детях своих и друзьях.
Вечную, тяжкую старость послал Молневержец[214] Тифону.
Старость такая страшней даже и смерти самой.
…Но пролетает стрелой, словно пленительный сон,
Юность почтенная. Вслед безобразная, трудная старость,
К людям мгновенно явясь, виснет над их головой, —
Старость презренная, злая. В безвестность она нас ввергает,
Разум туманит живой и повреждает глаза.
Если бы в мире прожить мне без тяжких забот и страданий
Лет шестьдесят, — а потом смерть бы послала судьба!
…Одни из беспечных сограждан
Будут злословить тебя, но и похвалит иной.
…да встанет меж нами с тобою правдивость!
Выше, святей, чем она, нет ничего на земле.
Пилос покинув высокий, Нелеев[216] божественный город,
В Азию милую мы прибыли на кораблях
И в Колофоне желанном осели, чрезмерные силой,
Всем показуя другим гордости тяжкий пример.
После того, и оттуда уйдя, эолийскую Смирну
Взяли мы волей богов, Алис-реку перейдя.
Ввек не увез бы из Эи[217] большого руна золотого
Собственной силой Ясон, трудный проделавши путь
И совершив для безбожного Пелия тягостный подвиг,
Ввек бы достигнуть не смог вместе с толпою друзей
Струй океана прекрасных…
……………………………………
Гелию труд вековечный[218] судьбою ниспослан на долю.
Ни быстроногим коням отдых неведом, ни сам
Он передышки не знает, едва розоперстая Эос
Из океанских пучин на небо утром взойдет.
Быстро чрез волны несется он в вогнутом ложе крылатом,
Сделано дивно оно ловкой Гефеста рукой
Из многоцветного золота. По́верху вод он несется,
Сладким покояся сном, из гесперидской страны
В край эфиопов. Восхода родившейся в сумерках Эос
Ждут с колесницею там быстрые кони его.
Встав, Гиперионов сын на свою колесницу восходит…
Сын Кронида, владыка, рожденный Лето! Ни в начале
Песни моей, ни в конце я не забуду тебя.
Первого буду тебя, и последнего, и в середине
Петь я, а ты приклони слух свой и благо мне дай!
Феб-Аполлон — повелитель, прекраснейший между богами!
Только лишь нá свет тебя матерь Лето родила
Близ круговидного озера, пальму обнявши руками, —
Как амброзический вдруг запах широко залил
Делос бескрайный. Земля-великанша светло засмеялась,
Радостный трепет объял море до самых глубин.
Зевсова дочь, Артемида-охотница! Ты, что Атридом
Жертвой была почтена[221] в час, как на Трою он шел, —
Жарким моленьям внемли, охрани от напастей! Тебе ведь
Это легко, для меня ж очень немалая вещь.
Зевсовы дщери, Хариты и Музы! На Кадмовой свадьбе[222]
Слово прекрасное вы некогда спели ему:
«Все, что прекрасно, то мило, а что не прекрасно — не мило!».
Не человечьи уста эти слова изрекли.
Кирн! Пусть будет печать[223] на этих моих сочиненьях.
Их не сумеет никто тайно присвоить себе
Или жалкой подделкой хорошее слово испортить.
Скажет любой человек: «Вот Феогнида стихи.
Родом он из Мегары». Меж всеми смертными славный,
Жителям города всем нравиться я не могу.
Этому ты не дивись, о сын Полипая. Ведь даже
Зевс угождает не всем засухой или дождем!
С умыслом добрым тебя обучу я тому, что и сам я,
Кирн, от хороших людей малым ребенком узнал.
Будь благомыслен, достоинств, почета себе и богатства
Не добивайся кривым или позорным путем.
Вот что заметь хорошенько себе: не завязывай дружбы
С злыми людьми, но всегда ближе к хорошим держись,
С этими пищу дели и питье, и сиди только с ними,
И одобренья ищи тех, кто душою велик.
От благородных и сам благородные вещи узнаешь,
С злыми погубишь и тот разум, что есть у тебя.
Помни же это и с добрыми знайся, — когда-нибудь сам ты
Скажешь: «Советы друзьям были не плохи его!»
Город беременен наш, но боюсь я, чтоб, им порожденный,
Муж дерзновенный не стал грозных восстаний вождем.
Благоразумны пока еще граждане эти, но очень
Близки к тому их вожди, чтобы в разнузданность впасть.
Люди хорошие, Кирн, никогда государств не губили,
То негодяи, простор наглости давши своей,
Дух развращают народа и судьями самых бесчестных
Делают, лишь бы самим пользу и власть получить.
Пусть еще в полной пока тишине наш покоится город, —
Верь мне, недолго она в городе может царить,
Где нехорошие люди к тому начинают стремиться,
Чтоб из народных страстей пользу себе извлекать.
Ибо отсюда — восстанья, гражданские войны, убийства, —
Также монархи, — от них обереги нас, судьба!
Город все тот же, мой Кирн, да не те же в городе люди.
Встарь ни законов они не разумели, ни тяжб.
Козьими шкурами плечи покрыв, за плугом влачились,
Стадо дубравных лосей прочь от ворот городских
В страхе шарахалось… Ныне рабы — народ-самодержец,
Челядь — кто прежде был горд доблестных предков семьей.
Лжет гражданин гражданину, и все друг над другом смеются,
Знаться не хочет никто с мненьем ни добрых, ни злых.
Кирн, не завязывай искренней дружбы ни с кем из тех граждан,
Сколько бы выгод тебе этот союз ни сулил.
Всячески всем на словах им старайся представиться другом,
Важных же дел никаких не начинай ни с одним.
Ибо, начавши, узнаешь ты душу людей этих жалких,
Как ненадежны они в деле бывают любом.
Пó сердцу им только ложь, да обманы, да хитрые козни,
Как для людей, что не ждут больше спасенья себе.
К низким людям, о Кирн, никогда не иди за советом,
Раз собираешься ты важное дело начать,
Лишь к благородным иди, если даже для этого нужно
Много трудов перенесть и издалека прийти.
Также не всякого друга в свои посвящай начинанья:
Много друзей, но из них мало кто верен душой.
Если бы даже весь мир обыскать, то легко и свободно
Лишь на одном корабле все уместиться б могли
Люди, которых глаза и язык о стыде не забыли,
Кто бы, где выгода ждет, подлостей делать не стал.
Что мне в любви на словах, если в сердце и в мыслях иное!
Любишь ли, друг мой, меня? Верно ли сердце твое?
Или люби меня с чистой душою, иль, честно отрекшись,
Стань мне врагом и вражду выкажи прямо свою.
Кто ж при одном языке два сердца имеет, — товарищ
Страшный, о Кирн мой! Таких лучше врагами иметь.
Если тебя человек восхваляет, пока на глазах он,
А удалясь, о тебе речи дурные ведет, —
Неблагородный тот друг и товарищ: приятное слово
Только язык говорит, — мысли ж иные в уме.
Другом да будет мне тот, кто характер товарища знает
И переносит его, как бы он ни был тяжел,
С братской любовью. Мой друг, хорошенько все это обдумай,
Вспомнишь ты позже не раз эти советы мои.
Низкому сделав добро, благодарности ждать за услугу
То же, что семя бросать в белые борозды волн.
Если глубокое море засеешь, посева не снимешь;
Делая доброе злым, сам не дождешься добра.
Ибо душа ненасытна у них. Хоть разок их обидел —
Прежнюю дружбу тотчас всю забывают они.
Добрые ж все принимают от нас, как великое благо,
Добрые помнят дела и благодарны за них.
Милых товарищей много найдешь за питьем и едою,
Важное дело начнешь — где они? Нет никого!
Самое трудное в мире, о Кирн, распознать человека
Лживого. Больше всего здесь осторожность нужна.
Золото ль, Кирн, серебро ли фальшиво — беда небольшая,
Да и сумеет всегда умный подделку узнать.
Если ж душа человека, которого другом зовем мы,
Лжива и прячет в груди сердце коварное он,
Самым обманчивым это соделали боги для смертных,
И убеждаться в такой лжи нам всего тяжелей.
Душу узнаешь — мужчины ли, женщины ль — только тогда ты
Как испытаешь ее, словно вола под ярмом.
Это но то что в амбар свой зайти и запасы измерить.
Очень нередко людей видимость вводит в обман.
Кирн! Выбираем себе лошадей мы, ослов и баранов
Доброй породы, следим, чтобы давали приплод
Лучшие пары. А замуж ничуть не колеблется лучший
Низкую женщину брать, — только б с деньгами была!
Женщина также охотно выходит за низкого мужа, —
Был бы богат! Для нее это важнее всего.
Деньги в почете всеобщем. Богатство смешало породы.
Знатные, низкие — все женятся между собой.
Полипаид, не дивись же тому, что порода сограждан
Все ухудшается: кровь перемешалася в ней.
Знает и сам, что из рода плохого она, и однако,
Льстясь на богатство ее, в дом ее вводит к себе,
Низкую знатный. К тому принуждаются люди могучей
Необходимостью: дух всем усмиряет она.
Если от Зевса богат человек, справедливо и чисто
Нажил достаток, тогда прочно богатство его.
Если ж, стяжательный духом, неправедно он и случайно
Или же ложно клянясь, средства свои приобрел,
Сразу как будто и выгода есть, но в конце торжествует
Разум богов и бедой делает счастье его.
Вот что, однако, сбивает людей: человеку не тотчас
Боги блаженные мстят за прегрешенья его.
Правда, бывает, и сам он поплатится тяжко за грех свой.
И наказанье не ждет милых потомков его,
Но иногда беспощадная смерть, приносящая гибель,
Веки смыкает ему раньше, чем кара придет.
Нет в богатстве предела, который бы видели люди.
Тот, кто имеет уже множество всяческих благ,
Столько же хочет еще. И всех невозможно насытить.
Деньги для нас, для людей, — это потеря ума.
Так ослепленье приходит. Его посылает несчастным
Зевс, и сегодня один, завтра другой ослеплен.
Для легкомысленной черни твердынею служит и башней
Муж благородный, и все ж чести так мало ему!
Пьют не вино в мою честь. В гостях у девочки милой
Кто-то сегодня другой, много он хуже меня.
Мать и отец ее пьют за меня холодную воду.
Слезы роняя, она воду приносит им в дом,
В дом, где крошку мою, рукой обхватив, целовал я
В шею и нежно в ответ губы шептали ее.
Бедность, даже чужую, всегда без труда распознаешь.
Бедность не явится в суд, нет на собраньях ее.
Всем она ненавистна, везде на нее нападают,
Вечно ворчат на нее, где бы она ни была.
Вот что, поверь мне, ужасней всего для людей, тяжелее
Всяких болезней для них, даже и смерти самой, —
После того, как детей воспитал ты, все нужное дал им
И накопил, сколько мог, много понесши трудов, —
Дети отца ненавидят и смерти отцовской желают,
Смотрят с враждой на него, словно к ним нищий вошел.
Что справедливо, что нет — не ведают низкие люди,
Страха не знают совсем, кары не ждут впереди:
Несколько первых шагов неуклюже пройдут — и довольны:
Думают: все хорошо, все превосходно у них.
Друг мой, с доверьем в душе, к любому из граждан из этих
Делать ни шагу не смей, клятве и дружбе не верь.
Даже если тебе призовут в поручители Зевса —
Он над бессмертными царь, — все-таки верить нельзя.
Граждане наши настолько к дурным порицаньям привыкли,
Что не хватает ума собственный город спасти.
Ныне несчастия добрых становятся благом для низких
Граждан; законы теперь странные всюду царят;
Совести в душах людей не ищи; лишь бесстыдство и наглость,
Правду победно поправ, всею владеют землей.
Льву и тому не всегда угощаться случается мясом.
Как ни силен, и его может постигнуть нужда.
Кто болтлив, для того молчанье — великая тягость,
Без толку он говорит — сразу заметит любой.
Все ненавидят его. И если с таким человеком
Рядом сидишь на пиру — это несчастье, поверь.
Если в беде человек, никто ему другом не станет,
Даже и тот, кто в одном чреве лежал с ним, о Кирн.
Люди дурные не все на свет явились дурными.
Нет, с дурными людьми многие в дружбу вступив,
Наглости, низким делам, проклятьям от них научились,
Веря, что те говорят сущую правду всегда.
Пусть за столом человек всегда умно себя держит,
Пусть полагают, что он мало что видит кругом,
Словно и нет его здесь. Пусть будет любезен и весел,
Выйдя, он должен молчать, каждого ближе узнав.
Множество низких богато, и в бедности много достойных.
Все же у подлых людей мы бы не стали менять
Качества наши на деньги. Надежна всегда добродетель,
Деньги же нынче один, завтра другой загребет.
Кирн, благородный везде сохраняет присутствие духа,
Плохо ль ему, хорошо ль — держится стойко всегда.
Если же бог негодяю довольство пошлет и богатство,
Этот, лишившись ума, явит негодность свою.
Если бы мы на друзей за любую провинность сердились,
Вовсе тогда бы у нас близких людей и друзей
Не было. От ошибок никто из людей не свободен
Смертных. Свободны от них боги одни лишь, мой Кирн.
Быстрого умный догонит, не будучи вовсе проворным.
Кирн, помогает ему суд справедливый богов.
Так же, спокойно, как я, иди посредине дороги,
Кирн, не заботься о том, где остальные пройдут.
Кирн, ни в чем не усердствуй. Во всем выбирай середину.
Тот же увидишь успех, что и трудясь тяжело.
Сделать с врагами расчет, за любовь расплатиться с друзьями,
Кирн, да позволит мне Зевс, силы мне бо́льшие дав.
Богом среди людей наверно бы я показался,
Если бы умер, успев полностью всем заплатить.
Вовремя, Зевс-Олимпиец, мою исполни молитву.
Вместо несчастий, молю, дай мне отведать добра.
Если конца не найду своим тяжелым заботам,
Пусть я погибну, но пусть горем за горе воздам,
Было бы это по праву. Но вот не приходит расплата
С теми, кто деньги мои силой похитить посмел.
Я же подобен собаке, поток переплывшей в ущелье,
Сбросил я в бурную хлябь все достоянье свое.
Пить бы их черную кровь! И пусть божество бы смотрело
Доброе, то, что моим чаяньям сбыться дало.
Кирн, будь стоек в беде. Ведь знал же ты лучшее время.
Было ведь так, что судьба счастье бросала тебе.
Что ж, коль удача — увы! — обернулась бедой, не робея,
Силься, молитву творя, всплыть на поверхность опять.
Слишком с бедой не носись. Немногих заступников сыщешь,
Если несчастья свои выставишь всем напоказ.
Кирн! При великом несчастье слабеет душа человека,
Если ж отмстить удалось, снова он крепнет душой.
Злись про себя. А язык всегда пусть будет приятен.
Вспыльчивость — это, поверь, качество низких людей.
Мыслей сограждан моих уловить я никак не умею;
Зло ли творю иль добро — всё неугоден я им.
И благородный и низкий бранят меня с равным усердьем,
Но из глупцов этих мне не подражает никто.
Кирн, если я не хочу, своей не навязывай дружбы.
Это тебе не вола силой в повозку запрячь.
Милый Зевс! Удивляюсь тебе я: всему ты владыка,
Все почитают тебя, сила твоя велика,
Перед тобою открыты и души и помыслы смертных,
Высшею властью над всем ты обладаешь, о царь!
Как же, Кронид, допускает душа твоя, чтоб нечестивцы
Участь имели одну с теми, кто правду блюдет,
Чтобы равны́ тебе были разумный душой и надменный,
В несправедливых делах жизнь проводящий свою?
В жизни бессмертными нам ничего не указано точно,
И неизвестен нам путь, как божеству угодить.
…Все-таки, горя не зная, богаты. А тем, что душою
Низких поступков чужды, правду и право блюдут,
Бедность, отчаянья мать, достается. Она к преступленью,
Силой жестокой нужды душу в груди повредив,
Часто ведет человека. И он соглашается часто
Воле своей вопреки вынести страшный позор.
Он уступает нужде. А та уж научит дурному —
Спорам, что гибель несут, низким обманам и лжи —
Даже того, кто не хочет, кому не пристало дурное.
Ясное дело: нужда тяжкую крайность родит.
Бедными низкий подлец и муж благородный и честный,
Если захватит нужда, сделаться могут равнó.
Честный всегда справедливости верен, ему от рожденья
И до скончания дней честное сердце дано;
Над душою его ни властны ни горе, ни радость,
Плохо ль ему, хорошо ль — тверд он и стоек всегда.
Слишком ни в чем не усердствуй. В делах человеческих мера
Должная — лучше всего. Часто, к успеху стремясь,
Ищет себе барыша человек, обреченный судьбою.
К страшной ошибке его злое ведет божество.
Так пожелало оно, чтоб зло ему благом казалось,
Чтобы казалось плохим то, что полезно ему.
Многое мимо ушей пропускаю, хоть понял отлично.
Вынужден я промолчать, помня значенье свое.
Двери у многих людей к языку не прилажены плотно,
Даже малейший пустяк трогает этих людей.
Часто, внутри оставаясь, дурное становится лучше,
Выйдя наружу, добро хуже становится зла.
Лучшая доля для смертных — на свет никогда не родиться
И никогда не видать яркого солнца лучей.
Если ж родился, войти поскорее в ворота Аида
И глубоко под землей в темной могиле лежать.
Смертного легче родить и вскормить, чем вложить ему в душу
Дух благородный. Никто изобрести не сумел,
Как благородными делать дурных и разумными глупых.
Если бы нашим врачам способы бог указал,
Как исцелять у людей их пороки и вредные мысли,
Много бы выпало им очень великих наград.
Если б умели мы разум создать и вложить в человека,
То у хороших отцов злых не бывало б детей:
Речи разумные их убеждали б. Однако на деле,
Как ни учи, из дурных добрых людей не создашь.
Глупый, мысли мои он вздумал держать под охраной.
Лучше б о собственных он мыслях побольше радел.
Есть невозможные вещи. О них никогда и не думай,
То, чего сделать нельзя, сделать не сможешь вовек.
То, от чего никому ни жарко, ни холодно, боги
Людям даруют легко. Слава — в тяжелом труде.
Не заставляй никого против воли у нас оставаться,
Не заставляй уходить, кто не желает того,
И не буди, Симонид мой, заснувших — из тех, кто упился
Крепким вином и теперь сладким покоится сном.
Тех же, кто бодрствует, спать не укладывай против желанья.
Нет никого, кто б любил, чтоб принуждали его.
Если же хочет кто пить, наливай ему полную чашу.
Радость такую иметь можно не каждую ночь.
Что до меня, то вина медосладкого пил я довольно
И отправляюсь домой вспомнить о сладостном сне.
Пить прекращаю, когда от вина наибольшая радость.
Трезвым я быть не люблю, но и сверх меры не пью.
Тот же, кто всякую меру в питье переходит, не властен
Ни над своим языком, ни над рассудком своим,
Речи срамные ведет, за которые трезвый краснеет,
Дел не стыдится своих, совесть вином замутив.
Прежде разумный, теперь он становится глупым. Об этом
Помни всегда и вина больше, чем нужно, не пей.
Из-за стола поднимайся, пока допьяна не напился,
Чтоб не блевать за столом, словно поденщик иль раб.
Или сиди и не пей. А ты, передышки не зная,
Только твердишь: «Наливай!» Вот отчего ты и пьян.
То за любовь, то для спора, то в честь небожителей выпьешь,
То потому, что с вином чаша стоит под рукой.
«Нет» же сказать не умеешь. Совсем для тебя недостижен
Тот, кто и выпить горазд, но не теряет ума.
Добрые речи ведите, за чашей веселою сидя,
И избегайте душой всяческих ссор и обид.
Пусть и застольные песни звучат — в одиночку и хором.
Так вот бывают для всех очень приятны пиры.
Легок становится мыслью любой человек, если выпьет
Больше, чем нужно, вина, глуп ли он был иль умен.
Вот и пришел ты, Клеáрист, проплыв глубокое море,
К тем, у кого ни гроша, бедный мой, сам без гроша.
Мы под скамью корабля у борта положим, Клеарист,
Все, что осталось у нас, все, что нам боги дают.
Самое лучшее мы принесем. И если увидишь
Друга, поведай ему, что за друзья у тебя.
Прятать не стану того, что есть у меня, и не стану
Ради приезда гостей большего где-то искать.
Если же спросят тебя, хорошо ли живу, то скажи им:
Плохо — с богатым сравнить, с бедным сравнить — хорошо.
Гостя нашей семьи одного принять я сумею.
Если же больше гостей, всех одарить не смогу.
Нет, голова раба никогда не держится прямо,
Вечно она склонена, шея кривая под ней.
Как гиацинтов и роз из лука морского не выйдет,
Так и свободных детей чрево рабы не родит.
Кирн, линейка и циркуль должны разрешить это дело.
К той и другой стороне должен я быть справедлив.
Злом никогда никого принуждать не старайся.
Услуга —
Вот что честнее всего, вот что прекрасней всего.
Вестник безмолвный, мой Кирн, войну возвещает и слезы.
Он на вершине горы, видно его далеко.
Ну-ка, давайте скорей коней быстролетных взнуздаем,
Выйти навстречу, как враг, людям я этим хочу.
Очень мало расстоянье. Они его скоро покроют,
Если сужденьям моим правда богами дана.
Нужно в тяжелой беде оставаться по-прежнему стойким,
Нужно бессмертных просить выход послать из беды.
Будь осторожен. Итог на лезвии держится бритвы:
Нынче удача, глядишь, завтра, глядишь, неуспех.
Лучше всего человеку не быть чрезмерно богатым,
Лучше всего для него бедности крайней не знать.
Гостем явившись на пир, с достойным садись человеком,
Рядом с тем, кто сумел всякую мудрость постичь.
Мудрое слово его старайся внимательно слушать,
Чтобы вернуться домой, ценное что-то неся.
Добрый, добро получай! Какой тебе нужен ходатай?
Лучший ходатай тебе — доброе дело твое.
Нет, не враги, а друзья меня предают, потому что,
Словно утеса моряк, я избегаю врагов.
Сделать низкого добрым труднее, чем доброго низким.
Можешь меня не учить. Я не мальчишка тебе.
Слишком на беды не сетуй, не радуйся слишком удаче,
Прежде чем ты увидал скрытое в самом конце.
О человек! Друг другу мы издали будем друзьями.
Кроме богатства, поверь, можно пресытиться всем.
Долго мы будем дружить. Но только общайся с другими —
С теми, кто лучше меня склонности знает твои.
Скрыться ты не сумел. Я видел тебя на дороге.
Часто ты хаживал здесь, дружбу мою обманув.
Прочь, противный богам, людей бесчестный предатель.
Был на моей ты груди хитрой, холодной змеей.
То, от чего магнесийцы[224] погибли — насилье и наглость, —
Это сегодня царит в городе нашем святом.
Сытость чрезмерная больше людей погубила, чем голод, —
Тех, кто богатством своим тщился судьбу превзойти.
Есть поначалу во лжи какая-то польза. В итоге
Страшным позором она, злом для обеих сторон
Быстро становится. Тем, кто живет за спиною обмана,
Тем, кто однажды солгал, блага уже не видать.
Трудно разумному долгий вести разговор с дураками,
Но и все время молчать — сверх человеческих сил.
Те, у кого рассудок слабее души, пребывают
В тяжком отчаянье, Кирн, в темном, глухом тупике.
Все, что приходит на ум, обдумывай дважды и трижды.
Кто необуздан, тому зло угрожает всегда.
Цену одну у людей имеют Надежда и Дерзость.
Эти два божества нравом известны крутым.
Сверх ожиданья подчас дела удаются людские,
Замыслам нашим зато сбыться подчас не дано.
Кто расположен к тебе и кто настроен враждебно,
Это ты можешь узнать только в серьезных делах.
Верных заступников ты и товарищей мало отыщешь,
Если отчаянье вдруг душу охватит твою.
С тем, кому плохо пришлось, всегда огорчаемся вместе,
Только чужая беда быстро проходит, мой Кирн.
Клясться не следует в том, что что-то вовек не случится.
Это богов разозлит, властны они над концом.
Делай дело свое. Беда обращается в благо,
Благо выходит бедой. Смотришь — последний бедняк
Вдруг богатеет, а тот, кто средства имеет большие,
Их за одну только ночь сразу теряет порой.
Умный подчас ошибется, глупец же поступит разумно,
Или почетное вдруг место получит подлец.
Если бы я, Симонид, богатство сберег, то, конечно,
Так бы не мучился я в обществе добрых людей.
Гибнет богатство мое у меня на глазах, и молчу я,
Бедностью скован, хотя вовсе не хуже других
Знаю, ради чего понеслись мы в открытое море,
В черную канули ночь, крылья ветрил опустив.
Волны с обеих сторон захлестывают, но отчерпать
Воду они не хотят. Право, спастись нелегко!
Этого им еще мало. Они отстранили от дела
Доброго кормчего, тот править умел кораблем.
Силой деньги берут, загублен всякий порядок,
Больше теперь ни в чем равного нет дележа,
Грузчики стали у власти, негодные выше достойных.
Очень боюсь, что корабль ринут в пучину валы.
Вот какую загадку я гражданам задал достойным,
Может и низкий понять, если достанет ума.
Знания нет у одних, но есть богатство. Другие,
Мучась тяжелой нуждой, благо стремятся найти.
К делу и эти и те равно неспособны, однако:
Деньги мешают одним, разум — помеха другим.
Только одну признает большинство людей добродетель —
Быть богатым. В другом смысла не видят они.
Пусть с самим Радамантом[225] ты в мудрости можешь тягаться,
Пусть не имеет твоих знаний Сизиф Эолид[226] —
Он ухитрился однажды живым из Аида подняться,
Он Персефону[227] сумел словом своим обмануть —
Ту, что приносит забвенье и разума смертных лишает;
Кроме Сизифа, никто так изловчиться не мог.
Нет, кто будет окутан печальным облаком смерти,
Кто в тенистый покой царства усопших сойдет —
Всем предстоит миновать ворота, которые крепко
Души умерших запрут, как ни противятся те.
Ну, а Сизифу-герою вернуться даже оттуда
Снова на солнечный свет ловкость его помогла.
Пусть языком ты своим боговидному Нестору[228] равен,
Так что и вымысел твой очень на правду похож,
Пусть превосходишь ты в беге стремительных гарпий и даже
Быстрых Борея детей — ноги проворны у них, —
Все одинаково. Люди запомнить должны хорошенько:
Только богатство одно силу имеет у всех.
Зевс-повелитель, пусть боги пошлют невоздержность бесчестным,
Пусть бы устроила так воля бессмертных богов:
Кто ужасные вещи творил, не ведая в сердце
Страха, богов позабыв, кары ничуть не страшась, —
Сам и платится пусть за свои злодеянья, и после
Пусть неразумье отца детям не будет во вред.
Дети бесчестных отцов, но честные в мыслях и в деле,
Те, что боятся всегда гнева, Кронид, твоего,
Те, что выше всего справедливость ценили сограждан,
Пусть за проступки отцов кары уже не несут.
Это да будет угодно блаженным богам. А покамест —
Грешник всегда невредим, зло постигает других.
Зевс, живущий в эфире, пусть держит над городом этим
К нашему благу всегда правую руку свою.
Пусть охраняют нас и другие блаженные боги.
Ты же, о бог Аполлон, ум наш исправь и язык.
Пусть форминга[229] и флейта священный напев заиграют,
Мы же, во славу богов должный исполнив обряд,
Пить вино и вести приятные всем разговоры
Будем, ничуть не боясь мидян, идущих войной.
Самое лучшее это: с веселой, довольной душою
Быть в стороне от забот, в радостях жизнь проводить,
Мысли подальше отбросив о том, что несчастная старость,
Страшные керы и смерть всех поджидают в конце.
Вестник муз и слуга, особое знанье имея,
Мудрость не должен свою только себе оставлять.
Он обязан еще искать, показывать, делать.
Что в нем за прок, если он прячет свое мастерство?
Благоволя к Алкафою[230], Пелопову славному сыну,
Сам ты, о Феб, укрепил город возвышенный наш.
Сам же от нас отрази и надменные полчища мидян,
Чтобы с приходом весны граждане наши могли
С радостным духом во славу тебе посылать гекатомбы
И, твой алтарь окружив, душу свою услаждать
Кликами, пеньем пеанов, пирами, кифарным бряцаньем.
Страх мою душу берет, как погляжу я кругом
На безрассудство, и распри, и войны гражданские греков.
Милостив будь, Аполлон, город от бед защити!
Некогда быть самому мне пришлось и в земле Сикелийской[231],
И виноградники я видел эвбейских равнин,
В Спарте блестящей я жил, над Эвротом, заросшим осокой;
Люди любили меня всюду, где я ни бывал;
Радости мне ни малейшей, однако, они не давали:
Всюду рвался я душой к милой отчизне моей.
Пусть никогда у меня другой не будет заботы:
Доблесть и мудрость — о них думать хочу я всегда.
Только бы мне наслаждаться формингою, пляскою, пеньем,
Только бы ясность ума в радостях мне сохранять.
Радость не в том, чтобы вред причинять чужестранцам и нашим
Гражданам. В правых делах ты научись находить
Радость для сердца. Конечно, жестокий тебя не похвалит,
Но у хороших зато будешь на лучшем счету.
Добрых ругают одни, усиленно хвалят другие,
А о подлых и речь даже не станут вести.
Нет на земле никого, кто был бы совсем безупречен.
Лучше, однако, когда меньше о нас говорят.
Быть точнее, чем циркуль, точней, чем часы и линейка,
Быть осторожным всегда должен священный посол,
Тот, которому бог устами жрицы в Пифоне[232],
В пышном святилище, Кирн, вещие знаки дает.
Лишнее слово прибавь — ничем не исправить ошибки.
Слово пропустишь одно — в грех пред богами впадешь.
То, что случилось со мной, с одной только смертью сравнится.
Все остальное, поверь, менее страшно, о Кирн:
Предали подло меня друзья. С врагами поближе
Я сойдусь, чтоб узнать, что же за люди они.
Бык могучей пятой наступил на язык мой, и это
Мне не дает говорить, как я болтать ни горазд.
Кирн, что нам суждено, того никак не избегнуть.
Что суждено испытать, я не боюсь испытать.
Вот и накликали мы себе же горе. Пускай бы,
Кирн, и тебя и меня смерть захватила сейчас.
В ком уважения нет к своим родителям старым,
Право же, тот человек стоит немногого, Кирн.
Как же дерзаете вы распевать беззаботно под флейту?
Ведь уж граница страны с площади нашей видна!
Кормит плодами родная земля…
…беспечно пируя.
В пурпурных ваших венках на волосах золотых.
Скиф![233] Пробудись, волоса остриги и покончи с пирами!
Пусть тебя болью пронзит гибель душистых полей!
К гибели, к воронам[234] все наше дело идет! Но пред нами,
Кирн, из блаженных богов здесь не виновен никто:
В бедствия нас из великого счастья повергли — насилье,
Низкая жадность людей, гордость надменная их.
Смело ногами топчи, стрекалом коли, не жалея,
Тяжким ярмом придави эту пустую толпу!
Право, другого народа с такою же рабской душою
Нет среди тех, на кого солнце глядит с высоты.
Зевс-Олимпиец пускай человека погубит, который
Хочет друзей обмануть, сладкие речи ведя.
Это и раньше я знал, а нынче и сам убедился:
Если уж подл человек, нет благодарности в нем.
Как уже часто наш город, ведомый дурными вождями,
Словно разбитый корабль, к суше причалить спешил!
Если меня друзья в каком-нибудь видят несчастье, —
Спину мне показав, в сторону смотрят они.
Если редкое счастье на долю мою выпадает —
Сразу же я нахожу много любезных друзей.
Две для несчастных смертных с питьем беды сочетались:
Жажда — с одной стороны, хмель нехороший — с другой.
Я предпочту середину. Меня убедить не сумеешь
Или не пить ничего, или чрез меру пьянеть.
Многим нестоящим людям дается богами богатство
Очень большое, но в том пользы ни им, ни друзьям
Нет никакой. Не погибнет одной лишь доблести слава:
Город и вся страна в воине видят оплот.
Сверху пусть на меня падет огромное небо,
Медное, то, что людей в ужас приводит земных,
Если моим друзьям не буду я в жизни подмогой,
Если моим врагам горькой не буду бедой.
Радуйся жизни, душа. Другие появятся скоро
Люди. А вместо меня черная будет земля.
Выпей вина, что под сенью высокой Тайгетской вершины
Мне виноградник принес. Вырастил лозы старик
В горных укромных долинах, любезный бессмертным Феотим,
С Платанистунта-реки влажную воду нося.
Выпьешь его — отряхнешь ты заботы тяжелые с сердца.
В голову вступит вино — станет легко на душе.
Если уж рядом война оседлала коней быстроногих,
Стыдно не видеть войны, слезы несущей и плач.
Горе мне, я бессилен. Керинта[235] нет уже больше,
Вместо лелантских[236] лоз черный простерся пустырь.
Изгнаны лучшие люди, у власти стоят негодяи.
Пусть бы Зевс погубил род Кипселидов[237] совсем.
Разум — прекрасней всего, что только ни есть в человеке.
Глупость — из качеств людских самое худшее, Кирн.
Если б Кронид за все на людей на смертных сердился,
Зная о каждом из них, что у кого на уме,
Зная поступки людей, дела бесчестных и честных, —
Это была бы для нас очень большая беда.
Кто расходы свои со своим соразмерил богатством,
Верх добродетели в том умный найдет человек.
Если б нам знать наперед, какова продолжительность жизни,
Сколько лет проживешь, прежде чем вступишь в Аид, —
Тем из людей, конечно, что дольше пробудут на свете,
Средства бы к жизни пришлось больше, чем прочим, беречь.
Но ведь этого нет, и мучусь я тяжким сомненьем,
Душу изводит оно, дни отравляет мои.
Я на распутье стою. Мне две открыты дороги.
Но какую избрать — это вопрос для меня.
То ли мне денег не тратить, убогой довольствуясь жизнью,
То ли весело жить, долгих не зная трудов?
Я ведь богатых встречал, которые вдосталь ни разу
Даже поесть не могли, все берегли про запас.
Так и спустились в Аид, не успев израсходовать деньги.
Хоть норовили всегда деньги отнять у людей.
Зря трудились они и себе не давали свободы.
Я знавал и других. Чреву в угоду они
Все промотали вконец, повторяя: «Умрем, насладившись».
Эти просят всегда, стоит им встретить друзей.
Лучше всего, Демокл, свои приспособить расходы
К деньгам своим и всегда счет и порядок блюсти.
Так ты другим не отдашь плодов чрезмерных усилий,
Но и не станешь рабом, ибо не будешь просить,
Да и на старости лет не останешься вовсе без денег.
Право же, лучше всего с деньгами так поступать.
Если в достатке живешь — немало друзей. Обеднеешь —
Мало, и сам по себе ты уж тогда нехорош.
Лучше всего бережливость. Никто по тебе не поплачет,
Ежели после тебя денег не видно твоих.
Мало кому из людей красота и доблесть присущи.
Счастлив тот, у кого то и другое найдешь.
Он в почете у всех. Одинаково младший и старший,
Если увидят его, место уступят ему.
К старости он на виду среди горожан. Справедливо
Все обращаются с ним, вежливость помня и долг.
Громко, как соловей, распевать не могу я сегодня.
Я ведь прошедшую ночь всю напролет пировал.
Нет, флейтист ни при чем. Но я совершенно лишился
Голоса. Петь я горазд, только вот голоса нет.
Буду идти по прямой, ни в ту не клонясь, ни в другую
Сторону. Мне надлежит ясность ума сохранять.
Родину буду беречь, прекраснейший город. Не сдамся
Черни, не буду внимать слову бесчестных людей.
Крови не пил я, как лев, детеныша вырвав у лани,
Я не гнался ни за кем, хвастая силой своей.
Я не взбирался на стены, чтоб город предать разоренью,
И в колесницу коней мне не случалось впрягать.
Я не познал, испытав, конца не увидел, закончив, —
Сделав, не сделал, свершив, я завершить не сумел.
Ежели ты за добро благодарностью мне не заплатишь,
Я бы хотел, чтоб с нуждой снова пришел ты ко мне.
Ты не хвали человека, узнать не успев хорошенько,
Что за нрав у него, что за характер и склад.
Часто бывает, что люди со лживой, лукавой душою
Прячут ее, что ни день мысли меняя свои.
Душу этих людей лишь время откроет правдиво.
Вот ведь и я поступил с разумом здравым вразлад:
Я поспешил с похвалой, во всем тебя не проверив.
Впредь я, как судно скалу, буду тебя обходить.
Это что за заслуга — призы получать на попойках?
Здесь благородных всегда подлый сумеет побить.
Только лишь скроет земля любого из смертных и только
Спустится он в Эреб[238], в дом Персефоны войдет —
Звуки лиры и флейты его не порадуют больше,
Больше не радость ему — дар Диониса[239] принять.
Вот они, доблесть и подвиг, которых славнее и выше,
Ежели мудр человек, нет для него ничего,
Вот оно — благо народа и города высшее благо:
Твердо стоять на ногах, в первом сражаясь ряду.
Людям дам я совет, чтоб они постоянно, покамест
Юности цвет не увял, в сердце огонь не погас,
Черпали радость свою в своем достоянье. Ведь дважды
Быть молодым не дано, смерти нельзя избежать
Людям, подверженным смерти. Несчастная старость наступит —
Сделает жалким лицо, волосы красок лишит.
Счастлив, удачлив, блажен, кто, всех не пройдя испытаний,
Спустится в черный Аид, в мрачные домы уйдет,
Так и не зная греха, что вызван бывает нуждою,
Страха пред сильным врагом, истинных мыслей друзей.
Пот обильный с меня начинает катиться ручьями,
Я от волненья дрожу, стоит мне только взглянуть,
Как чудесно и пышно цветет быстротечная юность.
Дольше бы ей процветать! Милая эта пора
Быстро, как сон, улетает. Увы, безобразная старость
Вот уж висит над тобой, вот уже ждет за углом.
Шею свою врагам никогда под ярмо не подставлю,
Даже если и Тмол[240] сядет на голову мне.
В подлости гнусной своей суетится и мечется низкий.
Лишь благородный всегда к цели идет по прямой.
Чтобы напакостить, Кирн, труда не нужно большого,
Право же, много трудней доброе дело свершить.
Сердце, спокойно терпи, как ни были б тяжки страданья,
Вспыльчивость — это, поверь, качество низких людей.
Там, где ничем не поможешь, не нужно вздыхать и сердиться,
Рану свою бередя, радовать злейших врагов,
Близких друзей огорчать. Богами положенной доли
Даже с великим трудом нам избежать не дано,
Даже если спуститься на дно багряного моря,
Даже если навек в Тартар печальный уйти.
Тот глупец и дурак, кто вином утешаться не хочет
В дни, когда звездного Пса вновь наступила пора.
Кто на этом пиру уснул, потеплее укрывшись, —
Зевсом клянусь, для того радости много в питье.
Я, как ребенку отец, тебе наставленья благие
Дам и хочу, чтоб они в душу запали твою:
Ты опрометчив не будь, чтоб зла не наделать, старайся
Всякое дело свое взвешивать здравым умом.
Резкие взлеты ума и души бесноватым присущи.
Трезвый расчет и совет — вот что к добру приведет.
Кончим наш разговор. Сыграй-ка мне лучше на флейте.
Вспомнить о музах сейчас время обоим пришло.
Муз восхитительный дар в безраздельное отдан владенье
Мне и тебе. Остальным только вниманье дано.
Нрав человека узнать, наблюдая за ним в отдаленье,
Как бы ты ни был мудр, трудно подчас, Тимагор.
Подлость скрывают одни под великим богатством. Другие
Лучшие качества все в бедности прячут своей.
В юности можно всю ночь провести со сверстницей милой,
Сладких любовных трудов полную меру неся,
Или во время пиров распевать под музыку флейты —
Нет ничего на земле этих занятий милей
Всем до единого смертным. И что мне почет и богатство,
Если милее всего — в радостях весело жить.
Те дураки и глупцы, которые плачут о мертвых.
Юности вянет цветок — надо бы плакать о нем.
Очень трудно судить о конце несвершенного дела,
Как его бог завершит, трудно сказать наперед.
Мрак перед нами простерся. Пока не наступят событья,
Смертный не может сказать, где же незнанью предел.
Как бы мыслей своих ни менял человек благородный,
Верность другу хранить нужно ему до конца.
Многое трудно тебе. Ведь ты, Демонакт, не умеешь
Тем заниматься, к чему сердце твое не лежит.
Лучше теперь поищи другого. Мне незачем это
Делать. За прежнее мне будь благодарен еще.
Время придет, погоди, вспорхну, как над озером птица,
Птица, которая вдруг, петлю свою разорвав,
Прочь от плохого летит хозяина. Ты же позднее,
Дружбы лишившись моей, мудрость узнаешь мою.
Тот человек, что меня пред тобой очернил и заставил
Вдруг удалиться тебя, дружбу со мной прекратив…
Кирн, погубила уже Колофон, Магнесию, Смирну[241]
Наглость. Конечно, и вас тоже погубит она.
Кирн, благородный вчера — сегодня унижен, а низкий
Стал благородным теперь. Кто б это вынести мог?
Добрый вконец обесчещен, почет подлецу достается.
В брачный войти договор с подлыми знатный готов.
Будучи с деньгами сам, ты назвал меня нищим. Однако
Кое-что есть у меня, кое-что боги дадут.
Всех ты божеств, о богатство, желаннее, всех ты прекрасней.
Как бы кто ни был дурен, будет с тобою хорош.
Феб-Аполлон, Летоид, и Зевс, повелитель бессмертных,
Вдосталь мне сил молодых пусть благосклонно пошлют,
Чтобы праведно жить вдали от всяких несчастий,
Радуясь юным годам, сердце богатством согрев.
Бедствия лучше забыть. С Одиссеем сравнюсь я в страданьях,
С тем, кто, Аид посетив, выйти оттуда сумел,
С тем, кто с жестокой душой сумел женихов Пенелопы,
Отданной в жены ему, радуясь в сердце, убить.
Долго ждала она и с сыном своим оставалась,
Прежде чем он, возвратясь, к пышному ложу пришел.
Кирн, несчастья друзей губить в зародыше будем.
Только появится боль — будем лекарство искать.
Людям одно божество благое осталось — Надежда.
Прочие все на Олимп, смертных покинув, ушли.
Скромность ушла от людей. Богиня великая — Верность
Тоже оставила нас вместе с харитами, друг.
Клятвам верить нельзя. Они даются нечестно.
Нет на земле никого, кто бы боялся богов.
Род благочестных людей прекратился. О праведной жизни
Знать не желает никто, нет благочестья ни в ком.
Но покамест живешь и видишь сияние солнца,
Нужно богов почитать, ждать, что Надежда придет,
Нужно молиться богам и, прекрасное мясо сжигая,
С жертвы Надежде начав, жертвой Надежде кончать.
Нужно быть начеку, бесчестные речи услышав
Тех, кто, ничуть не боясь гнева бессмертных богов,
Все о достатке чужом, о чужом помышляет богатстве,
Тех, кто для подлых затей в мерзкую сделку вошел.
Если умен человек, в груди у него поместятся
Уши его и глаза, мысли его и язык.
Слово достойных людей не расходится с делом хорошим.
Подлые речи дурных только на ветер идут.
Самое лучшее, Кирн, что дали бессмертные людям, —
Разум. Любые дела можно рассудком обнять.
Счастлив, кто им обладает. Гораздо приятней разумно,
Нежели в чванстве пустом, в гибельной гордости жить.
Гордость — несчастье для смертных. Страшнее, чем чванство и гордость,
Нет на земле ничего. Всякие беды от них.
Если позора ты сам не терпел и других не позорил,
Кирн, добродетель свою ты хорошо доказал.
Ум и язык — это благо. Немного, однако, найдется
Смертных, чтоб тем и другим верно могли б управлять.
Птицы пронзительный крик услышал я, сын Полипая:
Нам возвещает она время весенних работ —
Пахоты время и сева. И черная боль охватила
Сердце мое — не про нас пышного поля простор!
Можешь остаться у нас. Но тебя приглашать мы не станем.
Бремя для всех на пиру, мил ты за дверью, как друг.
Родом я неизвестный. Я в Фивах живу, крепкостенном
Городе. Мне привелось землю покинуть отцов.
Милых предков моих не смей поносить, Аргирида,
Ради забавы. Тебе рабская доля дана,
Мне же, о женщина, беды другие достались в изгнанье,
Множество бед. Но не мне рабство тяжелое знать.
Нет, меня не продашь. Вдали, у равнины Летейской,
Город прекрасный стоит. Это мой город родной.
Рядом с рыдающим, Кирн, никогда мы не станем смеяться,
Как бы ни радовал нас в собственном деле успех.
Трудно заставить врага-ненавистника верить обману.
Друга же очень легко другу, о Кирн, обмануть.
Слово приносит обычно великий урон человеку,
Если окажется он слишком взволнован, мой Кирн.
Нет справедливости в гневе, он только вредит человеку,
Делая душу его подлой и низкою, Кирн.
О Киферея-Киприда, искусная в кознях[242], могучим
Даром тебя одарил Зевс, отличая тебя.
Ты покоряешь умнейших, и нет никого, кто настолько
Был бы могуч или мудр, чтобы тебя избежать.
Нет у людей ничего долговечного. Истину эту
Выразил лучше всего славный хиосец[244], сказав:
«Так же, как листья деревьев, сменяются роды людские».
Редко, однако же, кто, слушая эти слова,
Воспринимает их сердцем своим — потому что надежда
В каждом живет, с юных лет укореняясь в груди.
Каждый, пока не увял еще цвет его юности милой,
Много несбыточных дум носит в незрелом уме;
Мысли о старости, смерти грозящей его не тревожат,
Нет до болезней ему дела, пока он здоров.
Жалок, чей ум так настроен, кто даже подумать не хочет,
Сколь ненадолго даны смертному юность и жизнь!
Ты же, постигнувший это, ищи до конца своей жизни
Благ, от которых душе было б отрадно твоей.
Гроздьев живительных мать, чародейка лоза винограда!
Ты, что даешь от себя отпрыски цепких ветвей!
Вейся по стеле высокой над Анакреонтом-теосцем,
Зеленью свежей покрой низкую насыпь земли.
Пусть он, любивший вино и пиры и в чаду опьяненья
Певший на лире всю ночь, юношей, милых ему,
Видит и, лежа в земле, над своей головою висящий,
В гроздьях на гибких ветвях, спелый, прекрасный твой плод;
Пусть окропляются влагой росистой уста, из которых
Слаще, чем влага твоя, некогда песня лилась!
Милостью муз песнопевца бессмертного, Анакреонта,
Теос родной у себя в недрах земли приютил.
В песнях своих, напоенных дыханьем харит и эротов,
Некогда славил певец юношей нежных любовь.
И в Ахероне теперь он грустит не о том, что, покинув
Солнечный свет, к берегам Леты печальной пристал,
Но что пришлось разлучиться ему с Мегистеем, милейшим
Из молодежи, любовь Смердия кинуть пришлось.
Сладостных песен своих не прервал он, однако, и мертвый,
Даже в Аиде не смолк звучный его барбитон[245].
Военачальник Эллады, Павсаний[246], могучему Фебу,
Войско мидян поразив, памятник этот воздвиг.
Эллины, силою рук, и Арея искусством, и смелым
Общим порывом сердец персов изгнав из страны,
В дар от свободной Эллады освободителю Зевсу
Некогда здесь возвели этот священный алтарь.
Доблести этих мужей обязан ты, город Тегея[248],
Тем, что от стен твоих дым не поднялся к небесам.
Детям оставить желая цветущий свободою город,
Сами в передних рядах бились и пали они.
Граждан афинских сыны, победив на войне беотийцев
И халкидян племена, гнетом железных цепей
Дерзость уняли врагов. Как десятую долю добычи
В дар получила коней этих Паллада от них.
Помер я — рад Феодор; а сам помрет, так другие
Будут рады тому. Все мы у смерти в долгу.
Лишь погляжу на надгробье Мегакла, становится сразу,
Каллия, жалко тебя: как ты терпела его?
Греции и мегарянам свободную жизнь увеличить
Сердцем стремясь, мы в удел смерть получили: одни —
Пав под высокой скалою Эвбеи, где храм Артемиды,
Девы, носящей колчан, славный в народе, стоит,
Или у мыса Микалы; другие — вблизи Саламина,
Где финикийских судов ими погублена мощь;
Те, наконец, — на равнине Беотии: пешие, смело
В битву вступили они с конною ратью врага…
Граждане наши за это на площади людной Нисеи[250]
Памятник нам возвели, честью великой почтив.
Женщины эти за греков и с ними сражавшихся рядом
Граждан своих вознесли к светлой Киприде мольбы;
Слава богине за то, что она не хотела акрополь,
Греков твердыню, отдать в руки мидийских стрелков.
В этой могиле лежит Симонида Кеосского спасший.
Мертвый, живому добром он отплатил за добро.
Мне, козлоногому Пану, аркадцу, враждебному персам,
Верному другу Афин, место здесь дал Мильтиад.
Некогда против трехсот мириад здесь сражались четыре
Тысячи ратных мужей Пелопоннесской земли.
Славных покрыла земля — тех, которые вместе с тобою
Умерли здесь, Леонид, мощный Лаконики царь!
Множество стрел и коней быстроногих стремительный натиск
В этом сраженье пришлось выдержать им от мидян.
Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне,
Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли.
Между животными я, а между людьми всех сильнее
Тот, кого я теперь, лежа на камне, храню.
Если бы, Львом именуясь, он не был мне равен и духом,
Я над могилой его лап не простер бы своих.
Памятник это Мегистия славного. Некогда персы,
Реку Сперхей[256] перейдя, жизни лишили его.
Вещий, он ясно предвидел богинь роковых приближенье,
Но не хотел он в бою кинуть спартанских вождей.
О потерпевших здесь гибель от персов в борьбе за Элладу
Правдолюбивый Опунт, родина локров, скорбит.
Странник, мы жили когда-то в обильном водою Коринфе,
Ныне же нас Саламин, остров Аянта, хранит;
Здесь победили мы персов, мидян и суда финикийцев
И от неволи спасли земли Эллады святой.
Неугасающей славой покрыв дорогую отчизну,
Черным себя облекли облаком смерти они.
Но и умерши, они не умерли; доблести слава,
Ввысь воспарив, унесла их из Аидовой тьмы.
Пали в ущелье Дирфисской горы мы. Вблизи же Эврипа[259]
Граждане нам возвели этот могильный курган.
Да и недаром! Ведь мы дорогую утратили юность,
Храбро приняв на себя грозную тучу войны.
Радуйтесь, лучшие дети афинян, цвет конницы нашей!
Славу великую вы в этой стяжали войне.
Жизни цветущей лишились вы ради прекрасной отчизны,
Против большого числа эллинов выйдя на бой.
В этой могиле лежит Архедика, дочь Гиппия — мужа,
Превосходившего всех в Греции властью своей.
Муж и отец ее были тираны, и братья, и дети,
Но никогда у нее не было спеси в душе.
Всякий грустит по своим умирающим, по Никодику ж
Плачут не только друзья, но и весь город скорбит.
День, в который Гиппарх убит Аристогитоном
И Гармодием, был светлым поистине днем.
Их, отвозивших однажды из Спарты дары свои Фебу,
Море одно, одна ночь, лодка одна погребла.
Эта могила, прохожий, не Креза, а бедного. Впрочем,
Сколько она ни мала, будет с меня и ее.
Много я пил, много ел и на многих хулу возводил я;
Нынче в земле я лежу, рóдянин Тимокреонт.
Родом критя́нин, Брота́х из Гортины, в земле здесь лежу я,
Прибыл сюда не затем, а по торговым делам.
Смертью убивших меня накажи, о Зевс-страннолюбец!
Тем же, кто предал земле, радости жизни продли.
Думаю я, и по смерти твоей и в могиле, Ликада,
Белые кости твои все еще зверя страшат.
Памятна доблесть твоя Пелиону высокому, Оссе[262]
И киферонским холмам, пастбищам тихим овец.
Вот он, смотри, Феогнет, победитель в Олимпии, мальчик,
Столь же прекрасный на вид, как и искусный в борьбе,
И на ристалищах ловко умеющий править конями.
Славою он увенчал город почтенных отцов.
Был Адимант[264] у афинян архонтом, когда за победу
Чудный треножник как приз Антиохида взяла.
Хор в пятьдесят человек, хорошо обученный искусству,
Ей снарядил Аристид, сын Ксенофила, хорег[265];
Славу ж учителя хора стяжал себе сын Леопрена,
Восемь десятков уже числивший лет Симонид.
Как Алкмены сын —
Он друга убил,[267] —
Калидон[268] покинув,
К соседям бежал.[269]
С ним жена-дитя Деянира.
Поперек пути
Сердитый поток:
Там за плату кентавр,
Перевозчик Несс,
Чрез Эвен переправу держал.
И кентавру сын Зевса, Геракл,
Отдает дитя Деяниру.
Зверь простушку руками
На плечи берет —
Локти розовые
Над водой,
А Геракл при конях,
С младенцем в руках
Стоит над Эвеном-рекой.
Но, когда уже был
Близок берег, кентавр
Вдруг, исполненный яростной страсти, взыграл
И к сближению вздыбился бурно…
Звонко вскрикнула тут Деянира,
Умоляя милого мужа
Отвратить погибель супруги.
У Геракла — пожар под бровями,
И в уме убийство с бедою
В роковой завязались узел.
Он безмолвен. Он, не с ревом,
Как, бывало, громоносным —
С тяжкой палицей в деснице
На чудовище обрушась,
Гнет, хрящи ушей терзает,
Кость щеки крушит косматой,
Грозных глаз гасит сверканье,
По надбровью бьет и топчет
В прах поверженное тело,
Сам неистово-бесстрашный,
И, стрелой сверля, пронзает
Сердце Нессу-зверомужу.
Светел жребий и подвиг прекрасен
Убиенных перед дверью фермопильской!
Алтарь — их могила; и плач да смолкнет о них, но да будет
Память о славных живою в сердцах! Время
Не изгладит на сей плите письмен святых,
Когда все твердыни падут и мох оденет их следы!
Тут схоронила свой цвет Эллада, любовь свою.
Ты, Леонид, мне свидетель о том, спартанский воин,
Чей не увянет вечный венец.
Крепкозданный ковчег по мятежным валам ветер кидал,
Бушевала пучина.
В темном ковчеге лила, трепеща, Даная слезы.
Сына руками обвив, говорила: «Сын мой, бедный сын!
Сладко ты спишь, младенец невинный,
И не знаешь, что я терплю в медных заклепах
Тесного гроба, в могильной
Мгле беспросветной! Спишь и не слышишь, дитя, во сне,
Как воет ветер, как над нами хлещет влага,
Перекатывая грузными громадами валы, вторя громам;
Ты ж над пурпурной тканью
Милое личико поднял и спишь, не зная страха.
Если б ужас мог ужаснуть тебя,
Нежным ушком внял бы ты шепоту уст родимых.
Спи, дитя! Дитятко, спи! Утихни, море!
Буйный вал, утомись, усни!
И пусть от тебя, о Зевс-отец, придет избавленье нам.
Преклонись! Если ж дерзка мольба,
Ради сына, вышний отец, помилуй мать!»
Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают;
Все уж увенчаны гости; иной обоняет, зажмурясь,
Ладана сладостный дым; другой открывает амфору,
Запах веселый вина разливая далече; сосуды
Светлой студеной воды, золотистые хлебы, янтарный
Мед и сыр молодой: все готово; весь убран цветами
Жертвенник. Хоры поют. Но в начале трапезы, о други,
Должно творить возлиянья, вещать благовещие речи,
Должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою
Правду блюсти: ведь оно ж и легче. Теперь мы приступим:
Каждый в меру свою напивайся. Беда не велика
В ночь, возвращаясь домой, на раба опираться; но слава
Гостю, который за чашей беседует мудро и тихо!
Что среди смертных позорным слывет и клеймится хулою —
То на богов возвести ваш Гомер с Гесиодом дерзнули:
Красть, и прелюбы творить, и друг друга обманывать хитро.
Если быки, или львы, или кони имели бы руки,
Или руками могли рисовать и ваять, как и люди,
Боги тогда б у коней с конями схожими были,
А у быков непременно быков бы имели обличье;
Словом, тогда походили бы боги на тех, кто их создал.
Черными пишут богов и курносыми все эфиопы,
Голубоокими их же и русыми пишут фракийцы.
Муж, ревнитель добра, Паррасий, эфесянин родом,
Знающий толк в красоте, эту картину писал.
Также родитель его, Эвенор, да будет помянут:
Первый художник страны эллинов им порожден.
Пусть не поверят, но все же скажу: пределы искусства,
Явные оку людей, мною достигнуты здесь.
Создан моею рукой, порог неприступный воздвигся.
Но ведь у смертных ничто не избегает хулы.
Здесь он таким предстоит, каким ночною порою
Множество раз его видел Паррасий во сне.
Зная, что смертным родился, старайся питать свою душу
Сладостной негой пиров, — после смерти ведь нет нам отрады.
В прах обратился и я, Ниневии великой властитель.
Только с собой и унес я, что выпил и съел и что взято
Мной от любви; вся же роскошь моя и богатство остались;
Мудрости это житейской мое поучение людям.
Лучшая мера для Вакха — без лишку, ни много, ни мало;
Иначе к буйству он нас или к унынью ведет.
Любит он с нимфами смесь, если три их и сам он четвертый;
Больше всего и к любви он расположен тогда.
Будучи ж крепким, он духом своим отвращает эротов
И нагоняет на нас сходный со смертию сон.
Если и ненависть нам и любовь причиняют страданья,
Лучше пусть буду страдать от уязвлений любви.
Смелость, с умом сочетаясь, бывает нам очень полезна;
Но без ума только вред людям приносит она.
Чуждая войнам, зачем ты взялась за Ареево дело?
Кто, о Киприда, тебя ложно в доспехи облек?
Сердцу милы твоему лишь эроты да радости ложа,
Любишь кроталов[280] ты треск, воспламеняющий страсть.
Дай же Тритонской богине[281] копье, обагренное кровью,
И с Гименеем опять, богом кудрявым, дружи.
Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Гордость внушающий нам, шумный заступник любви!
Юноша! скромно пируй и шумную Вакхову влагу
С трезвой струею воды, с мудрой беседой мешай.
Спи без тревог в Пиерийской, одетой туманом, долине,
В месте, где вечная ночь кроет тебя, Эврипид!
Знай и зарытый в земле, что твоя непреложная слава
Светлой и вечно живой славе Гомера равна.
Хоть и плачевный удел, Эврипид, тебе выпал и жалко
Кончил ты дни, послужив пищей волчатникам-псам,[284]
Ты, украшенье Афин, соловей сладкозвучный театра,
Соединявший в себе грацию с мудростью муз!
Но схоронен ты в Пеллейской земле[285] и теперь обитаешь,
Жрец пиерид, от своих неподалеку богинь.
Душу свою на губах я почувствовал, друга целуя:
Бедная, верно, пришла, чтоб перелиться в него.
Яблоко это тебе я кидаю. Поймай, если любишь,
И отведать мне дай сладость твоей красоты.
Если ж, увы, ты ко мне холодна, подыми его: сможешь
Видеть на нем, сколь кратка пышного цвета пора.
Яблоко я. Меня бросил тобою плененный, Ксантиппа.
Полно, строптивой не будь! Краток твой век, как и мой.
Ты на звезды глядишь, о звезда моя! Быть бы мне небом,
Чтоб мириадами глаз мог я глядеть на тебя.
Ты при жизни горел средь живущих денницей, Астер мой,
Ныне вечерней звездой ты средь усопших горишь.
Мойры еще на роду Гекубе[289] и женам троянским
Скорбный напряли удел — слезы горючие лить,
О мой Дион, а тебе, воспевавшему славные битвы,
Боги сулили благих осуществленье надежд;[290]
Ты же лежишь под землей, родимым городом чтимый,
О в мое сердце любовь властно вселивший Дион!
Стоило мне лишь однажды назвать Алексея красавцем,
Как уж прохода ему нет от бесчисленных глаз;
Да, неразумно собакам показывать кость! Не таким ли
Образом я своего Федра навек потерял?
Родом мы все эретрийцы, с Эвбеи; могилы же наши —
Около Суз[292]. Как далек край наш родимый от нас!
Шумно бурлящие волны Эгейского моря покинув,
Здесь мы навеки легли средь Экбатанских[293] равнин.
Нас не забудь, о Эретрия наша, прощайте, Афины,
Доблестный город-сосед! Милое море, прощай!
Золото некто нашел, обронив при этом веревку;
Тот, кто его потерял, смог себе петлю связать.
Золото этот нашел, а тот потерял его. Первый
Бросил сокровище прочь, с жизнью покончил второй.
Молвила музам Киприда: «О девушки, вы Афродиту
Чтите, не то напущу мигом Эрота на вас!»
Музы в ответ: «Болтовню эту ты сбереги для Арея,
Нам же не страшен, поверь, мальчик крылатый ничуть».
Тише, источники скал и поросшая лесом вершина!
Разноголосый, молчи, гомон пасущихся стад!
Пан начинает играть на своей сладкозвучной свирели,
Влажной губою скользя по составным тростникам,
И, окружив его роем, спешат легконогие нимфы,
Нимфы деревьев и вод, танец начать хоровой.
Сядь отдохнуть, о прохожий, под этой высокой сосною,
Где набежавший зефир, ветви колебля, шумит, —
И под журчанье потоков моих и под звуки свирели
Скоро на веки твои сладкий опустится сон.
В этой могиле лежит потерпевший кораблекрушенье,
Рядом же — пахарь; сильней моря и суши Аид.
Море убило меня и бросило на́ берег, только
Плащ постыдилось отнять, что прикрывал наготу.
Но человек нечестивой рукой сорвал его с трупа:
Жалкой корыстью себя в грех непомерный он ввел.
Пусть же он явится в нем в преисподнюю, к трону Миноса,[295] —
Тот не преминет узнать, в чьем нечестивец плаще.
Мимо могилы моей, о счастливый моряк, проплывая,
Знай, что покоится в ней твой незадачливый брат.
Где бы навек поселиться и жить, искали хариты;
Место такое нашлось: Аристофана душа.
Я, Лайда[297], чей смех оглашал горделиво Элладу,
В чьих дверях молодежь вечно теснилась толпой,
Ныне тебе, Афродита, дарю это зеркало: в нем я
Быть вот такой не хочу, прежней же быть не могу.
Девять лишь муз называя, мы Сапфо наносим обиду:
Разве мы в ней не должны музу десятую чтить?
Был этот муж согражданам мил и пришельцам любезен;
Музам он верно служил, Пиндаром звали его.
Пять коровок пасутся на этой маленькой яшме;
Словно живые, резцом врезаны в камень они.
Кажется, вот разбредутся… Но нет, золотая ограда
Тесным схватила кольцом крошечный пастбищный луг.
Вакхов сатир вдохновенной рукою изва́ян и ею,
Только ею одной, камню дарована жизнь;
Я же наперсником сделан наяд: вместо алого меда
Я из амфоры своей воду студеную лью.[298]
Ты, приближаясь ко мне, ступай осторожнее, чтобы
Юношу не разбудить, сладким объятого сном.
Я — Диониса служитель, прекраснорогого бога, —
Лью серебристой струей чистую воду наяд;
Мною ко сну убаюкан прилегший для отдыха отрок…
Точно не отлит сатир, а уложен ко сну Диодором:
Спит серебро, не буди прикосновеньем его.
Образ служанки наяд, голосистой певуньи затонов,
Скромной лягушки с ее влаголюбивой душой,
В бронзе отлив, преподносит богам возвратившийся путник
В память о том, как он в зной жажду свою утолил.
Он заблудился однажды, но вот из росистой лощины
Голос раздался ее, путь указавший к воде;
Путник, идя неуклонно за песней из уст земноводных,
К многожеланным пришел сладким потока струям.
В Книдос однажды пришла по вспенённому морю Киприда,
Чтоб увидать наконец изображенье свое,
И, оглядевшись кругом в огражденном приделе, вскричала:
«Где же Пракситель мою мог подсмотреть наготу?»
Нет, запретного он не видел; резец Афродите
Придал тот образ, каким воспламенен был Арей[300].
Нет, не Праксителем создана ты, не резцом, а такою
В оные дни ты пришла выслушать суд над собой[301].
Время всесильно: порой изменяют немногие годы
Имя и облик вещей, их естество и судьбу.
Горькая выпала мне, придорожной орешине, доля:
Быть мишенью для всех мимо бегущих ребят.
Сучья и ветви мои цветущие сломаны градом
Вечно летящих в меня, метко разящих камней.
Дереву быть плодоносным опасно. Себе я на горе
В дерзкой гордыне своей вздумала плод понести.
Только в тенистую рощу вошли мы, как в ней увидали
Сына Киферы, малютку[302], подобного яблокам алым.
Не было с ним ни колчана, ни лука кривого, доспехи
Под густолиственной чащей ближайших деревьев висели;
Сам же на розах цветущих, окованный негою сонной,
Он, улыбаясь, лежал, а над ним золотистые пчелы
Роем медовым кружились и к сладким губам его льнули.
С рыбою вместе в сетях извлекли из воды рыболовы
Полуизъеденный труп жертвы скитаний морских.
И, оскверненной добычи не взяв, они с трупом зарыли
Также и рыб под одной малою грудой песка.
Все твое тело в земле, утонувший! Чего не хватало,
То возместили тела рыб, пожиравших тебя.
Сплошь окружают могилу волчец и колючий терновник, —
Ноги изранишь себе, если приблизишься к ней.
Я обитаю в ней — Тимон, людей ненавистник. Уйди же!
Сколько угодно кляни, жалуйся, — только уйди!
Путник, ты зришь Илион, гремевший некогда славой,
Некогда гордый венцом башен высоких своих, —
Ныне ж пожрал меня пепел времен; но в песнях Гомера
Все я стою невредим с медным оплотом ворот.
Мне не страшны, для меня не губительны копья ахивян:
Ведь у Эллады детей вечно я буду в устах.
Вот Демодоково слово: милетяне, право, не глупы,
Но поступают во всем жалким подобно глупцам.
Вот Демодоково слово: хиосцы, — не тот или этот, —
Все, кроме Прокла, дурны; но из Хиоса и Прокл.
Все киликийцы — прескверные люди; среди киликийцев
Только Кинир лишь хорош; но — киликиец и он!
Каппадокийца ужалила злая ехидна и тут же
Мертвой упала сама, крови зловредной испив.
Зная, что смертным родился, старайся питать свою душу
Сладостью мудрых речей, не в еде для души ведь отрада.
Жалок я, евший так много и так наслаждавшийся в жизни!
Только с собой и унес я что ум мой познал и что музы
Дали прекрасного мне; все же прочие блага остались.
Честь вам, два сына Неокла[309]: отчизну от тяжкого рабства
Древле избавил один, от неразумья — другой.
Рыба помпил![311] Мореходцам счастливое плаванье шлешь ты!
Сопровождай за кормой и подругу мою дорогую!
Рук мастерских это труд. Смотри, Прометей несравненный!
Видно, в искусстве тебе равные есть меж людьми.
Если бы тот, кем так живо написана девушка, голос
Дал ей, была бы, как есть, Агафархида сама.
Это могила Бавкиды, невесты. К слезами омытой
Стеле ее подойдя, путник, Аиду скажи:
«Знать, ты завистлив, Аид!» Эти камни надгробные сами,
Странник, расскажут тебе злую Бавкиды судьбу:
Факелом свадебным, тем, что светить должен был Гименею,
Свекру зажечь привелось ей погребальный костер,
И суждено, Гименей, перейти было звукам веселым
Свадебных песен твоих в грустный напев похорон.
Вы, о колонны мои, вы, сирены, ты, урна печали,
Что сохраняешь в себе пепла ничтожную горсть, —
Всех, кто пройдет близ могилы, встречайте приветливым словом,
Будут ли то земляки иль из других городов.
Всем вы скажите, что юной невестой легла я в могилу,
Что называл мой отец милой Бавкидой меня,
Что родилась я на Теносе и что подруга Эринна
Здесь, на могиле моей, высекла эти слова.
Оттуда, из жизни,
Эхо пустое одно лишь доходит до царства Аида.
Тьма покрывает глаза мертвецам, и молчанье меж ними.
Не растерзали собаки тебя, Эврипид, и не похоть
К женам сгубила — ты чужд был незаконной любви.
Старость свела тебя в гроб. В Македонии всеми ты чтимый,
Друг Архелая, лежишь, близ Аретусы[315] зарыт.
Мнится, однако, не там, на могиле, твой памятник вечный, —
Истинный памятник твой — Вакха святыня, театр.
Против быка, из глухих выходившего дебрей Добера,[317]
Выехал раз на коне смелый охотник Певкест.
Словно гора, на него надвигаться стал бык; но смертельно
Он пеонийским[318] копьем зверя в висок поразил,
Снял с головы его рог и с тех пор каждый раз, как из рога
Цельное тянет вино, хвалится ловом своим.
Трифон заставил индийский берилл превратиться в Галену,[319]
Сделал искусной рукой волосы, дал мне, смотри,
Губы, способные море разгладить своим дуновеньем,
Перси, что могут унять шумное буйство ветров…
Если бы только мне камень ревнивый позволил, — чего я
Страстно хочу, — ты бы мог видеть плывущей меня.
В увеличенном виде представляю
Я собою творца смешных комедий;
В триумфальном венке, плющом покрытый,
Монументом служу я для Ликона.
Больше многих он был достоин славы,
И поставлен затем его здесь образ,
Чтобы память о нем, в пирах приятном
И в беседах, жила среди потомков.
Дела морского беги. Если жизни конца долголетней
Хочешь достигнуть, быков лучше в плуги запрягай:
Жизнь долговечна ведь только на суше, нередко удастся
Встретить среди моряков мужа с седой головой.
Милый мой друг, о тебе я не плачу: ты в жизни немало
Радостей знал, хоть имел также и долю скорбей.
Никто из нас не говорит, живя без бед,
Что счастием своим судьбе обязан он;
Когда же к нам заботы и печаль придут,
Готовы мы сейчас во всем винить судьбу.
Несколько слез от души мне пролей, слово ласки промолви
И вспоминай обо мне, если не станет меня.
Перевод Я. Голосовкера
Прах — твои кости, Дориха, повязка, скреплявшая кудри,
Благоуханный покров, миррой надушенный, — прах…
Было… когда-то к Хараксу, дружку, под покровом прильнувши
Телом вплотную нагим, с кубком встречала зарю.
Было… а Сапфовы строки остались — останутся вечно:
В свиток записанный стих песней живою звучит.
Имя твое незабвенно. Его сохранит Навкратида
Впредь, пока путь кораблю нильскому в море открыт.
Брызни, Кекропов сосуд[324], многопенною влагою Вакха,
Брызни! Пускай оросит трапезу нашу она.
Смолкни, Зенон, вещий лебедь! Замолкни, и муза Клеанфа,[325]
Пусть нами правит один сладостно-горький Эрот!
Сами эроты в тот миг любовались Иренион нежной,
Как из палат золотых Пафии[326] вышла она,
Точно из мрамора вся и с божественным сходная цветом,
Вся, от волос до стопы, полная девичьих чар.
И, поглядев на нее, с тетивы своих луков блестящих
Много эроты тогда бросили в юношей стрел.
Чтимая Кипром, Киферой, Милетом, а также прекрасной,
Вечно от стука копыт шумной Сирийской землей,
Будь благосклонна, богиня, к Каллистион! Ею ни разу
Не был любивший ее прогнан с порога дверей.
Нет, Филенида! Слезами меня ты легко не обманешь.
Знаю: милее меня нет для тебя никого,
Только пока ты в объятьях моих. Отдаваясь другому,
Будешь, наверно, его больше любить, чем меня.
Душу, цикаду певучую муз, привязавши к аканфу[328],
Думала Страсть усыпить, пламя кидая в нее.
Но, умудренная знаньем, Душа презирает другое,
Только упрек божеству немилосердному шлет.
Архианакт, ребенок трех лет, у колодца играя,
В воду упал, привлечен к ней отраженьем своим.
Мать извлекла из воды его мокрое тельце и долго
Глаз не сводила с него, признаков жизни ища.
Неоскверненными нимфы остались воды; на коленях
Лежа у матери, спит сном непробудным дитя.
Что, моряки, меня близко к воде вы хороните? Дальше
Надо землей засыпа́ть тех, кто на море погиб.
Жутко мне шуму внимать роковой мне волны. Но спасибо
Вам, пожалевшим меня, шлю я, Никет, и за то.
Мастер со смелой рукою, Лисипп, сикионский ваятель,
Дивно искусство твое! Подлинно мечет огнем
Медь, из которой ты образ отлил Александра. Не вправе
Персов хулить мы: быкам грех ли бежать перед львом?
В храм Филадельфовой славной жены, Арсинои[330]-Киприды,
Морем и сушей нести жертвы спешите свои.
Эту святыню, царящую здесь, на высоком прибрежье
Зефиреиды, воздвиг первый наварх Калликрат[331].
Добрый молящимся путь посылает богиня и море
Делает тихим для них даже в средине зимы.
Башню на Фаросе[332], грекам спасенье, Сострат Дексифанов,
Зодчий из Книда, воздвиг, о повелитель Протей[333]!
Нет сторожей, как на острове, нет и утесов в Египте,
Но от земли проведен мол для стоянки судов,
И высоко, рассекая эфир, поднимается башня,
Всюду за множество верст видная путнику днем;
Ночью же издали видят плывущие морем все время
Свет от большого огня в самом верху маяка,
И хоть до Таврова Рога[334] готовы идти они, зная,
Что покровитель им есть, гостеприимный Протей.
В жизни какую избрать нам дорогу? В общественном месте —
Тяжбы да спор о делах, дома — своя суета;
Сельская жизнь многотрудна; тревоги полно мореходство;
Страшно в чужих нам краях, если имеем мы что,
Если же нет ничего — много горя; женатым заботы
Не миновать, холостым — дни одиноко влачить;
Дети — обуза, бездетная жизнь неполна; в молодежи
Благоразумия нет, старость седая слаба.
Право, одно лишь из двух остается нам, смертным, на выбор:
Иль не родиться совсем, или скорей умереть.
С белою кожей Дафнис[337], который на славной свирели
Песни пастушьи играл, Пану приносит дары:
Ствол тростника просверленный, копье заостренное, посох,
Шкуру оленью, суму — яблоки в ней он носил.
Этот шиповник в росинках и этот пучок повилики,
Густо сплетенный, лежат здесь геликонянкам в дар,
Вот для тебя, для Пеана пифийского, лавр темнолистый —
Камнем дельфийской скалы вскормлен он был для тебя.
Камни забрызгает кровью козел длиннорогий и белый —
Гложет он там, наверху, ветви смолистых кустов.
Вам угождая, богини, для всех девяти в подношенье
Мраморный этот кумир дал Ксеноклет-музыкант.
Кто б его нáзвал иначе? Он, именно этим искусством
Славу стяжавши себе, также и вас не забыл.
Этот треножник поставил хорег Демомел Дионису.
Всех ты милей для него был из блаженных богов.
Был он умерен во всем. И победы для хора добился
Тем, что умел почитать он красоту и добро.
Это не плотской Киприды кумир. У богини небесной
Должен ты милость снискать, дар Хрисогоны благой.
В доме с Амфиклом совместно она свою жизнь проводила,
С ним не рождала детей. Жизнь их прекрасно текла.
Всё начинали с молитвой к тебе, о могучая. Смертным
Пользу большую несет милость бессмертных богов.
Дафнис, ты дремлешь, устав, на земле, на листве прошлогодней,
Только что ты на горах всюду расставил силки.
Но сторожит тебя Пан, и Приап[338] заодно с ним подкрался,
Ласковый лик свой обвил он золотистым плющом.
Вместе в пещеру проникли. Скорее беги же, скорее,
Сбросивши разом с себя сон, что тебя разморил!
Тирсис[339] несчастный, довольно! Какая же польза в рыданьях?
Право, растает в слезах блеск лучезарных очей.
Маленькой козочки нет! Пропала, бедняжка, в Аиде.
Верно, когтями ее стиснул безжалостный волк.
Жалобно воют собаки. Но что же ты можешь поделать?
Даже костей и золы ты ведь не можешь собрать.
Друг мой, прошу, ради муз, сыграй на флейте двухтрубной
Что-нибудь нежное мне! Я ж за пектиду возьмусь;
Струны мои зазвенят, а пастух зачарует нас Дафнис,
Нам на свирели напев, воском скрепленной, сыграв.
К дубу косматому станем поближе мы, сзади пещеры,
Пана, пасущего коз, мигом разбудим от сна!
Гражданам нашим и пришлым здесь стол для размена поставлен.
Можешь свой вклад получить. Счеты всегда сведены.
Просят отсрочки другие. Но даже ночною порою,
Если захочешь, тебе все подсчитает Каик.
Этой тропой, козопас, обогни ты дубовую рощу;
Видишь — там новый кумир врезан в смоковницы ствол.
Он без ушей и треногий; корою одет он, но может
Все ж для рождения чад дело Киприды свершить.
Вкруг он оградой святой обнесен. И родник неумолчный
Льется с утесов крутых; там обступили его
Мирты и лавр отовсюду; меж них кипарис ароматный;
И завилася венком в гроздьях тяжелых лоза.
Ранней весенней порой, заливаясь звенящею песней,
Свой переменный напев там выкликают дрозды.
Бурый певец, соловей, отвечает им рокотом звонким,
Клюв раскрывая, поет сладостным голосом он.
Там я, присев на траве, благосклонного бога Приапа
Буду молить, чтоб во мне к Дафнису страсть угасил.
Я обещаю немедля козленка. Но если откажет
Просьбу исполнить мою — дар принесу я тройной:
Телку тогда приведу я, барашка я дам молодого,
С шерстью лохматой козла. Будь же ты милостив, бог!
С вниманьем ты взгляни на статую, пришелец!
В дом к себе ты придешь и всем расскажешь:
В Теосе видел я Анакреонта лик;
Первым был он певцом в былые годы.
Прибавь еще к тому, что к юношам пылал, —
Всю о нем ты тогда расскажешь правду.
Здесь звучит дорийцев речь, а этот муж был Эпихарм,
Комедии мастер.
И лик его, из меди слит, тебе, о Вакх,
В замену живого
В дар приносят те, кто здесь, в огромном городе, живет.
Ты дал земляку их
Богатство слов; теперь они хотят тебе
Воздать благодарность.
Много слов полезных он для жизни детям нашим дал —
За то ему слава.
Стань и свой взгляд обрати к Архилоху ты: он певец старинный.
Слагал он ямбы в стих, и слава пронеслась
От стран зари до стран, где тьма ночная.
Музы любили его, и делийский сам Феб любил владыка.
Умел с тончайшим он искусством подбирать
Слова к стиху и петь его под лиру.
Вот кто нам рассказал про сына Зевса,
Мужа с быстрой рукой, про льва убийцу.
Вот он, первый из всех певцов древнейших,
Он, Писандр из Камира[342], нам поведал,
Сколько тот совершил деяний славных.
Этот образ певца, из меди слитый,
Здесь поставил народ; взгляни и ведай —
Лун и лет с его пор прошло немало.
Нынче в Милета жилища спускается отпрыск Пеана,
Хочет увидеть он там многих болезней врача,
Никия. Этот ему что ни день, то подарки приносит;
Нынче душистый он кедр выточить в статую дал
Эетиона искусным рукам за плату большую.
Мастер же в этот свой труд всю свою ловкость вложил.
Сына-малютку покинул, и сам, чуть расцвета достигнув,
Эвримедонт, ты от нас в эту могилу сошел.
Ты меж бессмертных мужей восседаешь. А граждане будут
Сыну почет воздавать, доблесть отца вспомянув.
Девочка сгибла без срока, достигши лишь года седьмого.
Скрылась в Аиде она, всех обогнавши подруг.
Бедная, верно, стремилась она за малюткою братом:
В двадцать лишь месяцев он смерти жестокой вкусил.
Горе тебе, Перистерис, так много понесшей печалей!
Людям на каждом шагу горести шлет божество.
Вот что, прохожий, тебе говорит сиракузянин Ортон:
«Если ты пьян, никогда в бурю и в темь не ходи.
Выпала эта мне доля. И я не на родине милой —
Здесь я покоюсь теперь, землю чужую обняв».
Здесь Эвстенея могила, искусно читавшего лица;
Тотчас он мог по глазам помыслы все разгадать.
С честью его погребли, чужестранца, друзья на чужбине.
Тем, как он песни слагал, был он им дорог и мил.
Было заботою их, чтобы этот учитель умерший,
Будучи силами слаб, все, в чем нуждался, имел.
Лежит здесь Гиппонакт, слагавший нам песни.
К холму его не подходи, коль ты дурен.
Но если ты правдив да из семьи честной,
Тогда смелей садись и, коль устал, спи тут.
Адониса Киприда
Когда узрела мертвым,
Со смятыми кудрями
И с ликом пожелтелым,
Эротам повелела,
Чтоб кабана поймали.
Крылатые помчались
По всем лесам и дебрям,
И был кабан ужасный
И пойман и привязан.
Один эрот веревкой
Тащил свою добычу,
Другой шагал по следу
И гнал ударом лука.
И шел кабан уныло:
Боялся он Киприды.
Сказала Афродита:
«Из всех зверей ты злейший,
Не ты ль, в бедро поранив,
Не ты ль убил мне мужа?»
И ей кабан ответил:
«Клянусь тебе, Киприда,
Тобой самой и мужем,
Оковами моими,
Моими сторожами,
Что юношу-красавца
Я погубить не думал.
Я в нем увидел чудо,
И, не стерпевши пыла,
Впился я поцелуем
В бедро его нагое.
Меня безвредным сделай:
Возьми клыки, Киприда,
И покарай их, срезав.
Зачем клыки носить мне,
Когда пылаю страстью?»
И сжалилась Киприда:
Эротам приказала,
Чтоб развязали путы.
С тех пор за ней ходил он,
И в лес не возвратился,
И, став рабом Киприды,
Как пес, служил эротам.
Менит из Дикта[349] в храме сложил свои доспехи
И молвил: «Вот, Серапис, тебе мой лук с колчаном;
Прими их в дар. А стрелы остались в гесперитах».
Четверо стало харит, ибо к трем сопричислена прежним
Новая; миррой еще каплет она и сейчас.
То — Вереника, всех прочих своим превзошедшая блеском
И без которой теперь сами хариты ничто.
Пусть и тебе так же спится, Конопион, как на холодном
Этом пороге ты спать здесь заставляешь меня!
Пусть и тебе так же спится, жестокая, как уложила
Друга ты! Даже во сне жалости нет у тебя.
Чувствуют жалость соседи, тебе ж и не снится. Но скоро,
Скоро, смотри, седина это припомнит тебе.
Счастлив был древний Орест, что, при всем его прочем безумстве,
Все-таки бредом моим не был так мучим, Левкар, —
Не подвергал искушенью он друга факидского, с целью
Дружбу его испытать, делу же только учил.
Иначе скоро, пожалуй, товарища он потерял бы.
И у меня уже нет многих Пиладов моих.
Ищет везде, Эпикид, по горам с увлеченьем охотник
Зайца иль серны следов. Инею, снегу он рад…
Если б, однако, сказали ему: «Видишь, раненный насмерть
Зверь здесь лежит», он такой легкой, добычи б не взял.
Так и любовь моя: рада гоняться она за бегущим,
Что же доступно, того вовсе не хочет она.
Не выношу я поэмы киклической[351], скучно дорогой
Той мне идти, где снует в разные стороны люд;
Ласк, расточаемых всем, избегаю я, брезгаю воду
Пить из колодца: претит общедоступное мне.
Кто-то сказал мне о смерти твоей, Гераклит, и заставил
Тем меня слезы пролить. Вспомнилось мне, как с тобой
Часто в беседе мы солнца закат провожали. Теперь же
Прахом ты стал уж давно, галикарнасский мой друг!
Но еще живы твои соловьиные песни: жестокий,
Все уносящий Аид рук не наложит на них.
Труд Креофила, в чьем доме божественный принят когда-то
Был песнопевец, скорблю я об Эврита[353] судьбе,
О златокудрой пою Иолее. Поэмой Гомера
Даже слыву. Велика честь Креофилу, о Зевс!
Эти стихи Архилоха, его полнозвучные ямбы, —
Яд беспощадной хулы, гнева кипучего яд…
Баттова сына могилу проходишь ты, путник. Умел он
Песни слагать, а подчас и за вином не скучать.
Кто бы ты ни был, прохожий, узнай: Каллимах из Кирены
Был мой родитель, и сын есть у меня Каллимах.
Знай и о них: мой отец начальником нашего войска,
Сын же искусством певца зависть умел побеждать.
Не удивляйся — кто был еще мальчиком музам приятен,
Тот и седым стариком их сохраняет любовь.
Кто ты, скиталец, погибший в волнах? Твое тело Леонтих,
На побережье найдя, в этой могиле зарыл,
Плача о собственной доле, — и сам ведь, не зная покоя,
Чайкою всю свою жизнь носится он по морям.
Здесь почивает Саон, сын Дикона, аканфиец родом.
Сон добродетельных свят — мертвыми их не зови.
Немногословен был друг-чужеземец, и стих мой таков же:
Сын Аристея, Ферид, с Крита, был стадиодром[356].
Девушки Самоса часто душою скорбят по Крефиде,
Знавшей так много о чем порассказать, пошутить,
Словоохотливой милой подруге. Теперь почивает
В этой могиле она сном, неизбежным для всех.
Пасшего коз Астакида на Крите похитила нимфа
Ближней горы, и с тех пор стал он святой Астакид.
В песнях своих под дубами диктейскими уж не Дафниса,
А Астакида теперь будем мы петь, пастухи.
Солнцу сказавши «прости», Клеомброт-амбракиец[357] внезапно
Кинулся вниз со стены прямо в Аид. Он не знал
Горя такого, что смерти желать бы его заставляло:
Только Платона прочел он диалог о душе[358].
— Тимон, ты умер, — что ж, лучше тебе или хуже в Аиде?
— Хуже! Аид ведь куда больше людьми заселен.
— Здесь погребен Харидант? — Если сына киренца Аримны
Ищешь, то здесь. — Харидант, что там, скажи, под землей?
— Очень темно тут. — А есть ли пути, выводящие к небу?
— Нет, это ложь. — А Плутон? — Сказка. — О, горе же нам!
Новой дорогой пошел Феэтет. И пускай ему этим
Новым путем до сих пор, Вакх, не дается твой плющ,
Пусть на короткое время других восхваляет глашатай, —
Гений его прославлять будет Эллада всегда.
Если ты в Кизик[359] придешь, то сразу отыщешь Гиппака,
Как и Дидиму: ведь их в городе знает любой.
Вестником горя ты будешь для них, но скажи, не скрывая,
Что подо мной погребен Критий, любимый их сын.
Если бы не было быстрых судов, то теперь не пришлось бы
Нам горевать по тебе, сын Диоклида, Сопол.
Носится где-то твой труп по волнам, а могила пустая,
Мимо которой идем, носит лишь имя твое.
Может ли кто наверное знать наш завтрашний жребий?
Только вчера мы тебя видели с нами, Хармид.
С плачем сегодня тебя мы земле предаем. Тяжелее
Здесь Диофонту-отцу уже не изведать беды.
Пьяницу Эрасиксена винные чаши сгубили:
Выпил несмешанным он сразу две чаши вина.
Здесь, Артемида, тебе эта статуя — дар Филераты;
Ты же, подарок приняв, деве защитницей будь.
В этой могиле Феон, сладкозвучный флейтист, обитает.
Радостью мимов он был и украшеньем фимел[363].
Умер, ослепнув под старость, он, Скирпалов сын. Еще в детстве,
Славя рожденье его, Скирпал прозванье ему
Дал Эвпалама[364] и этим прозваньем на дар от природы —
Ловкость ручную его, предугадав, указал.
Песенки Главки[365], шутливой внушенные музой, играл он,
Милого пьяницу он, Ба́ттала, пел за вином,
Ко́тала, Па́нкала славил… Почтите же словом привета
Память флейтиста-певца, молвите: «Здравствуй, Феон!»
Сила предательских кубков вина и любовь Никагора
К ложу успели вчера Аглаонику склонить.
Нынче приносится ею Киприде дар девичьей страсти,
Влажный еще и сейчас от благовонных мастей:
Пара сандалий, грудные повязки — свидетели первых,
Острых мучений любви, и наслажденья, и сна.
Выпьем! Быть может, какую-нибудь еще новую песню,
Нежную, слаще, чем мед, песню найдем мы в вине.
Лей же хиосское, лей его кубками мне, повторяя:
«Пей и будь весел, Гедил!» Жизнь мне пуста без вина.
Тихо, венки мои, здесь на двустворчатой двери висите,
Не торопитесь с себя сбрасывать на пол листки,
Каплями слез залитые, — слезливы у любящих очи! —
Но лишь появится он здесь, на пороге дверей,
Сразу же капли стряхните дождем на него, чтоб обильно
Светлые кудри ему слезы омыли мои.
Трижды, трескучее пламя, тобою клялась Гераклея
Быть у меня — и нейдет. Пламя, коль ты божество,
То отвратись от неверной. Как только играть она станет
С милым, погасни тотчас и в темноте их оставь.
Если бы, крылья себе золотые достав и повесив
На белоснежном плече полный стрелами колчан,
Рядом с Эротом ты стал, то, Гермесом клянусь, не узнала б
И Афродита сама, кто из двоих ее сын.
Лука еще не носящий, не зрелый, а новорожденный,
К Пафии взоры свои мой поднимает Эрот
И, с золотою дощечкой в руке, ей лепечет о чарах
Как Филократа души, так и твоей, Антиген.
Страсти улика — вино. Никагора, скрывавшего долго
Чувства свои, за столом выдали чаши вина:
Он прослезился, потупил глаза и поник головою,
И на висках у него не удержался венок.
Прежде, бывало, в объятьях душил Археад меня; нынче ж
К бедной ко мне и шутя не обращается он.
Но не всегда и медовый Эрот нам бывает приятен, —
Часто, лишь боль причинив, сладок становится бог.
Снегом и градом осыпь меня, Зевс! Окружи темнотою,
Молнией жги, отряхай с неба все тучи свой!
Если убьешь, усмирюсь я; но если ты жить мне позволишь,
Бражничать стану опять, как бы ни гневался ты.
Бог мною движет сильнейший тебя: не ему ли послушный,
Сам ты дождем золотым в медный спускался чертог?
Брось свою девственность. Что тебе в ней? За порогом Аида
Ты не найдешь никого, кто полюбил бы тебя.
Только живущим даны наслажденья любви; в Ахероне[370]
После, о дева, лежать будем мы — кости и прах.
Сладок холодный напиток для жаждущих в летнюю пору:
После зимы морякам сладок весенний зефир;
Слаще, однако, влюбленным, когда, покрываясь одною
Хленой[371], на ложе вдвоем славят Киприду они.
Я наслаждался однажды игрою любви с Гермионой.
Пояс из разных цветов был, о Киприда, на ней.
И золотая была на нем надпись: «Люби меня вволю,
Но не тужи, если мной будет другой обладать».
Долгая ночь, середина зимы, и заходят Плеяды.
Я у порога брожу, вымокший весь под дождем,
Раненный жгучею страстью к обманщице этой… Киприда
Бросила мне не любовь — злую стрелу из огня.
Чары Дидимы пленили меня, и теперь я, несчастный,
Таю, как воск от огня, видя ее красоту.
Если черна она, что за беда? Ведь и уголья даже,
Стоит их только нагреть, рдеют, как чашечки роз.
Сбегай, Деметрий, на рынок к Аминту. Спроси три главкиска,
Десять фикидий[372] да две дюжины раков-кривуш.
Пересчитай непременно их сам! И, забравши покупки,
С ними сюда воротись. Да у Фавбория шесть
Розовых купишь венков. Поспешай! По пути за Триферой
Надо зайти и сказать, чтоб приходила скорей.
Нáннион и Биттó, обе с Самоса, храм Афродиты
Уж не хотят посещать узаконённым путем,
А перешли на другое, что гадко. Царица Киприда!
Взор отврати свой от них, кинувших ложе твое.
Археанасса, гетера, зарыта здесь, колофоня́нка,
Даже в морщинах у ней сладкий ютился Эрот.
Вы же, любовники, первый срывавшие цвет ее жизни,
Можно представить, каким вас опалило огнем!
Двадцать два года прожить не успев, уж устал я от жизни.
Что вы томите, за что жжете, эроты, меня?
Если несчастье случится со мною, что станете делать?
В кости беспечно играть будете вы, как всегда.
Пей же, Асклепиад! Что с тобою? К чему эти слезы?
Не одного ведь тебя Пафия в сеть завлекла,
И не в тебя одного посылались жестоким Эротом
Стрелы из лука. Зачем в землю ложиться живым?
Чистого выпьем вина Дионисова! Утро коро́тко.
Станем ли лампы мы ждать, вестницы скорого сна?
Выпьем же, весело выпьем! Несчастный, конец уже близок,
Будем покоиться мы долгую, долгую ночь.
Вспять хоть на восемь локтей отступи, беспокойное море,
Там поднимись высоко, волны кидай и бушуй.
Если ж разроешь могилу Эвмара, добра никакого
В ней все равно не найдешь — кости увидишь и прах.
Здесь, у могилы Аянта, сижу я, несчастная Доблесть,
Кудри обрезав свои, с грустью великой в душе.
Тяжко скорблю я о том, что теперь у ахеян, как видно,
Ловкая, хитрая Ложь стала сильнее меня.
Полный отважности взор Александра и весь его облик
Вылил из меди Лисипп. Словно живет эта медь!
Кажется, глядя на Зевса, ему говорит изваянье:
«Землю беру я себе, ты же Олимпом владей».
Изображенье Киприды здесь видим мы, не Вереники:
Трудно решить, на кого больше походит оно.
Музы тебя, Гесиод, увидали однажды пасущим
В полдень отару овец на каменистой горе
И, обступивши кругом всей толпою, тебе протянули
Лавра священного ветвь с пышною, свежей листвой.
Также воды из ключа геликонского дали, который
Прежде копытом своим конь их крылатый пробил.
Этой водою упившись, воспел ты работы и роды
Вечно блаженных богов, как и героев былых.
Лидой зовусь я и родом из Лидии. Но надо всеми
Внучками Кодра[377] меня славой вознес Антимах.
Кто не поет обо мне? Кем теперь не читается «Лида» —
Книга, которую он с музами вместе писал?
Это Эринны пленительный труд, девятнадцатилетней
Девушки труд — оттого и невелик он; а все ж
Лучше он многих других. Если б смерть не пришла к ней так рано,
Кто бы соперничать мог славою имени с ней?
Будь я тобою воспитан, о родина, древние Сарды,
Я бы с кратером ходил или в тимпан ударял,
Раззолочённый евну́х. А в богатой трофеями Спарте
Став гражданином, теперь имя Алкмана ношу.
Муз геликонских узнал и щедротами их возвеличен
Больше могучих царей, больше, чем Гиг и Даскил.
Восемь высоких щитов, восемь шлемов, нагрудников тканых,
Столько же острых секир с пятнами крови на них
Корифасийской Афине[382] — от павших луканов добычу —
Сын Эвантеев принес, Гагнон, могучий в бою.
Эти большие щиты от луканов, уздечки и копья,
Бьющие в оба конца, гладкие, сложены в ряд
В жертву Палладе. Тоскуют они по коням и по людям,
Но и людей и коней черная смерть унесла.
В храме Итонской Афины[384] повешены Пирром-молоссом[385]
Смелых галатов щиты.[386] В дар их принес он, разбив
Войско царя Антигона. Дивиться ль тому? Эакиды[387] —
С давних времен до сих пор славные всюду бойцы.
Тайная, кротко прими в благодарность себе от скитальца,
Что по своей бедноте мог принести Леонид:
Эти лепешки на масле, хранимые долго оливы,
Свежий, недавно с ветвей сорванный фиговый плод,
Малую ветку лозы виноградной с пятком на ней ягод,
Несколько капель вина — сколько осталось на дне…
Если, богиня, меня, исцелив от болезни, избавишь
И от нужды, принесу в жертву тебе я козу.
Молвил однажды Киприде Эрот: «Одевайся в доспехи,
Или из Спарты уйди! Бредит наш город войной».
Но, усмехнувшись, сказала она: «Как была безоружной,
Так и останусь, а жить все-таки в Спарте хочу».
Нет у Киприды доспехов: бесстыдники лишь утверждают,
Не знатоки, будто здесь ходит богиня в броне.
В Феспиях[388] чтут одного лишь Эрота, дитя Афродиты,
И признают только тот образ Эрота, в каком
Бога познал сам Пракситель, в каком его видел у Фрины
И, изваяв, ей как дань собственной страсти поднес…
Киприду, вставшую сейчас из лона вод
И мокрую еще от пены, Апеллес[390]
Не написал здесь, нет! — воспроизвел живой,
Во всей ее пленительной красе. Смотри:
Вот руки подняла, чтоб выжать волосы,
И взор уже сверкает страстью нежною,
И — знак расцвета — грудь кругла, как яблоко.
Афина и жена Кронида говорят:
«О Зевс, побеждены мы будем в споре с ней».
Прочь от лачуги моей убегайте, подпольные мыши!
Вас не прокормит пустой ларь Леонида. Старик
Рад, коли есть только соль у него да два хлебца ячменных,
Этим довольными быть нас приучили отцы.
Что же ты, лакомка, там в уголке понапрасну скребешься,
Крошки от ужина в нем не находя ни одной?
Брось бедняка и беги поскорее в другие жилища,
Где ты побольше себе корма добудешь, чем здесь.
Не подвергай себя, смертный, невзгодам скитальческой жизни,
Вечно один на другой переменяя края.
Не подвергайся невзгодам скитанья, хотя бы и пусто
Было жилище твое, скуп на тепло твой очаг,
Скуден был хлеб твой ячменный, мука не из важных, хотя бы
Тесто месилось рукой в камне долбленом, хотя б
К хлебу за трапезой бедной приправой единственной были
Тмин, да порей у тебя, да горьковатая соль.
Время отправиться в путь! Прилетела уже щебетунья
Ласточка; мягко опять западный ветер подул,
Снова луга зацвели, и уже успокоилось море,
Что под дыханием бурь волны вздымало свои.
Пусть же поднимут пловцы якоря и отвяжут канаты;
Пусть отплывает судно́, все паруса распустив!
Так я напутствую вас, Приап, охраняющий пристань:
Смело с товаром своим в путь отправляйся, пловец!
Смотри, как от вина старик шатается
Анакреонт, как плащ, опустясь к ногам его,
Волочится. Цела одна сандалия,
Другой уж нет. Но все еще на лире он
Играет и поет, все восхваляет он
Бафилла иль, красавец Мегистей, тебя…
Храни его, о Вакх, чтоб не упал старик.
Звезды и даже Селены божественный диск затмевает
Огненный Гелий собой, правя по небу свой путь.
Так и толпа песнопевцев бледнеет, Гомер, пред тобою,
Самым блестящим огнем между светилами муз.
Деву-певицу Эринну, пчелу меж певцами, в то время
Как на лугах пиерид ею срывались цветы,
В брачный чертог свой похитил Аид. Да, сказала ты правду,
Умная девушка, нам, молвив: «Завистлив Аид».
Это могила Теллена. Под насыпью малою старец,
Первый умевший слагать песни смешные, лежит.
Мрачный служитель Аида, которому выпала доля
Плавать на черной ладье по ахеронским водам,
Мне, Диогену-собаке[394], дай место, хотя бы и было
Тесно от мертвых на нем, этом ужасном суднé.
Вся моя кладь — это сумка, да фляжка, да ветхое платье;
Есть и обол[395] — за провоз плата умерших тебе.
Все приношу я в Аид, чем при жизни своей обладал я, —
После себя ничего я не оставил живым.
От Италийской земли и родного Тарента далеко
Здесь я лежу, и судьба горше мне эта, чем смерть.
Жизнь безотрадна скитальцам. Но музы меня возлюбили
И за печали мои дали мне сладостный дар.
И не заглохнет уже Леонидово имя, но всюду,
Милостью муз, обо мне распространится молва.
Посох и пара сандалий, добытых от Сохарея,
Старого киника, здесь, о Афродита, лежат
С грязною фляжкой для масла и с полною мудрости древней,
Очень дырявой сумой — или остатком сумы,
А положил их в обильном венками преддверии храма
Ро́дон-красавец за то, что полонил мудреца.
Вечность была перед тем, как на свет появился ты, смертный;
В недрах Аида опять вечность пройдет над тобой.
Что ж остается для жизни твоей? Велика ль ее доля?
Точка, быть может, одна — если не меньше того.
Скупо урезана жизнь, но и в ней не находим мы счастья;
Хуже, напротив, она, чем ненавистная смерть.
Лучше беги от нее, полной бурь, и, подобно Фидону,
Критову сыну, скорей в пристань Аида плыви.
Дорогой, что в Аид ведет, спокойно ты
Иди! Не тяжела она для путника
И не извилиста ничуть, не сбивчива,
А так пряма, ровна и так полога вся,
Что, и закрыв глаза, легко пройдешь по ней.
Кри́тяне все нечестивцы, убийцы и воры морские,
Знал ли из критских мужей кто-либо совесть и честь?
Вот и меня, Тимолита несчастного, плывшего морем
С малою кладью добра, бросили в воду они.
Плачут теперь надо мною живущие на море чайки;
Здесь, под могильным холмом, нет Тимолита костей.
Похоронён и в земле я и в море, — такой необычный
Жребий был Фарсию, мне, сыну Хармида, сужден.
В глубь Ионийского моря пришлось мне однажды спуститься,
Чтобы оттуда достать якорь, застрявший на дне.
Освободил я его и уже выплывал на поверхность,
Даже протягивать стал спутникам руки свои,
Как был настигнут внезапно огромною хищною рыбой,
И оторвала она тело до пояса мне.
Наполовину лишь труп мой холодный подобран пловцами,
А половина его хищницей взята морской.
Здесь, на прибрежье, зарыты останки мои, о прохожий!
В землю ж родную — увы! — я не вернусь никогда.
Древний годами Ферид, живший тем, что ему добывали
Верши его, рыболов, рыб достававший из нор
И невода́ми ловивший, а плававший лучше, чем утка,
Не был однако, пловцом многовесе́льных судов,
И не Аркту́р[397] погубил его вовсе, не буря морская
Жизни лишила в конце многих десятков годов,
Но в шалаше тростниковом своем он угас, как светильник
Что, догорев до конца, гаснет со временем сам.
Камень же этот надгробный поставлен ему не женою
И не детьми, а кружком братьев его по труду.
Вы, пастухи, одиноко на этой пустынной вершине
Вместе пасущие коз и тонкорунных овец,
В честь Персефоны подземной уважьте меня, Клитагора,
Скромный, но дружеский дар мне от земли принеся.
Пусть надо мной раздается блея́нье овец, среди стада
Пусть на свирели своей тихо играет пастух;
Первых весенних цветов пусть нарвет на лугу поселянин,
Чтобы могилу мою свежим украсить венком.
Пусть, наконец, кто-нибудь из пасущих поднимет рукою
Полное вымя овцы и оросит молоком
Насыпь могильную мне. Не чужда благодарность и мертвым;
Также добром за добро вам воздают и они.
Кто тут зарыт на пути? Чьи злосчастные голые кости
Возле дороги лежат в полуоткрытом гробу?
Оси проезжих телег и колеса, стуча то и дело,
В лоск истирают, долбят камень могильный и гроб.
Бедный! Тебе и бока уж протерли колеса повозок,
А над тобою никто, сжалясь, слезы не прольет.
Кости мои обнажились, о путник! И порваны связи
Всех сочленений моих, и завалилась плита.
Черви уже показались на свет из могилы. Чего же
Дольше скрываться теперь мне под могильной землей?
Видишь — тропинку уже проложили здесь новую люди
И, не стесняясь, ногой голову топчут мою.
Но именами подземных Аида, Гермеса и Ночи
Я заклинаю тебя: этой тропой не ходи.
Молча проследуйте мимо этой могилы; страшитесь
Злую осу разбудить, что успокоилась в ней.
Ибо недавно еще Гиппонакт[398], и родных не щадивший,
В этой могиле смирил свой необузданный дух.
Но берегитесь его: огненосные ямбы поэта
Даже из царства теней могут вам зло причинить.
Гроба сего не приветствуй, прохожий! Его не касаясь,
Мимо спеши и не знай, кто и откуда я был.
Если ты спросишь о том, да будет гибелью путь твой;
Если ж и молча пройдешь, гибель тебе на пути.
Часто и вечером поздним, и утром ткачиха Платфида
Сон отгоняла от глаз, бодро с нуждою борясь.
С веретеном, своим другом, в руке иль за прялкою сидя,
Песни певала она, хоть и седа уж была,
Или за ткацким станком вплоть до самой зари суетилась,
Делу Афины служа, с помощью нежных харит;
Иль на колене худом исхудалой рукою, бедняга,
Нитку сучила в уток. Восемь десятков годов
Прóжила ткавшая так хорошо и искусно Платфида,
Прежде чем в путь отошла по ахеронским волнам.
Прах Марониды здесь, любившей выпивать
Старухи прах зарыт. И на гробу ее
Лежит знакомый всем бокал аттический;
Тоскует и в земле старуха; ей не жаль
Ни мужа, ни детей, в нужде оставленных,
А грустно оттого, что винный кубок пуст.
Малого праха земли мне довольно. Высокая стела
Весом огромным своим пусть богача тяготит.
Если по смерти моей будут знать обо мне, получу ли
Пользу от этого я, сын Каллитела, Алкандр?
Бедный Антикл! И несчастная я, что единственный сын мой
В самых цветущих летах мною был предан огню.
Ты восемнадцатилетним погиб, о дитя мое! Мне же
В горькой тоске суждено сирую старость влачить.
В темные недра Аида уйти бы мне лучше — не рада
Я ни заре, ни лучам яркого солнца. Увы,
Бедный мой, бедный Антикл! Исцелил бы ты мне мое горе,
Если бы вместе с собой взял от живых и меня.
«Как виноград на тычину, на этот свой посох дорожный
Я опираюсь. В Аид смерть призывает меня.
Зова послушайся, Горг! Что за счастие лишних три года
Или четыре еще солнечным греться теплом?»
Так говорил, не тщеславясь, старик, и сложил с себя бремя
Долгих годов, и ушел в пройденный многими путь.
Козий супруг, бородатый козел, забредя в виноградник,
Все до одной ощипал нежные ветки лозы.
Вдруг из земли ему голос послышался: «Режь, окаянный,
Режь челюстями и рви мой плодоносный побег!
Корень, сидящий в земле, даст по-прежнему сладостный нектар,
Чтоб возлиянье, козел, сделать — над трупом твоим».
Сын Софилла, Софокл, трагической музы в Афинах
Яркой блиставший звездой, Вакховых хоров певец,
Чьи волоса на фимелах и сценах нередко, бывало,
Плющ ахарнийский[401] венчал веткой цветущей своей,
В малом участке земли ты теперь обитаешь. Но вечно
Будешь ты жить среди нас в книгах бессмертных твоих.
Тихо, о плющ, у Софокла расти на могиле и вейся,
Тихо над ним рассыпай кудри зеленых ветвей,
Пусть расцветают здесь розы повсюду, лоза винограда
Плодолюбивая пусть сочные отпрыски шлет
Ради той мудрой науки, которой служил неустанно
Он, сладкозвучный поэт, с помощью муз и харит.
Здесь Аристокл почивает, божественный муж, воздержаньем
И справедливостью всех превосходивший людей.
Больше, чем кто-либо в мире, стяжал себе громкую славу
Мудрого он, и над ним зависть бессильна сама.
Сводят с ума меня губы речистые, алые губы;
Сладостный сердцу порог дышащих нектаром уст;
Взоры бросающих искры огней под густыми бровями,
Жгучие взоры — силки, сети для наших сердец;
Мягкие, полные формы красиво изваянной груди,
Что услаждают наш глаз больше, чем почки цветов…
Но для чего мне собакам показывать кости? Наукой
Служит Мидасов камыш тем, чей несдержан язык.
В белую грудь ударяя себя на ночном твоем бденье,
Славный Адонис, Клео́ сердце пленила мое.
Если такую ж и мне, как умру, она сделает милость,
Без отговорок меня вместе с собой уведи.
Мертвым внесли на щите Фрасибула в родную Питану.
Семь от аргивских мечей ран получил он в бою.
Все на груди были раны. И труп окровавленный сына
Тинних-старик на костер сам положил и сказал:
«Пусть малодушные плачут, тебя же без слез хороню я,
Сын мой. Не только ведь мой — Лакедемона ты сын».
Восемь цветущих сынов послала на брань Деменета.
Юноши бились — и всех камень единый покрыл.
Слез не лила огорченная мать, но вещала над гробом:
«Спарта, я в жертву тебе оных родила сынов!»
Я — тот Феспид, что впервые дал форму трагической песне,
Новых харит приведя на празднествó поселян
В дни, когда хоры водил еще Вакх, а наградой за игры
Были козел да плодов фиговых короб. Теперь
Преобразуется все молодежью. Времен бесконечность
Много другого внесет. Но что мое, то мое.
То, что Феспид изобрел — и сельские игры, и хоры, —
Все это сделал полней и совершенней Эсхил.
Не были тонкой ручною работой стихи его песен,
Но, как лесные ручьи, бурно стремились они.
Вид изменил он и сцены самой. О, поистине был ты
Кем-то из полубогов, все превозмогший певец!
Это могила Софокла. Ее, посвященный в искусство,
Сам я от муз получил и, как святыню, храню.
Он, когда я подвизался еще на флиунтском помосте[409],
Мне, деревянному, дал золотом блещущий вид;
Тонкой меня багряницей одел. И с тех пор как он умер,
Здесь отдыхает моя, легкая в пляске, нога.
«Счастлив ты местом своим. Но скажи мне, какую ты маску
Стриженой девы в руке держишь. Откуда она?»
«Хочешь, зови Антигоной ее иль, пожалуй, Электрой, —
Не ошибешься: равно обе прекрасны они».
Ты, кто до мозга костей извёлся от страсти к Смердису,
Каждой пирушки глава и кутежей до зари,
Музам приятен ты был и недавно еще о Бафилле,
Сидя над чашей своей, частые слезы ронял.
Даже ручьи для тебя изливаются винною влагой,
И от бессмертных богов нектар струится тебе.
Сад предлагает тебе влюбленные в вечер фиалки,
Дарит и сладостный мирт, вскормленный чистой росой,
Чтоб, опьяненный, и в царство Деметры ты вел хороводы,
Томно рукою обняв стан Эврипиды златой.
Как охраняет один из собратьев останки Софокла
В городе сáмом, так я, краснобородый плясун[412],
Прах Сосифея храню. Ибо с честью, клянусь я флиунтским
Хором сатиров[413], носил плющ этот муж на себе[414].
Он побудил и меня, уж привыкшего к новшествам разным,
Родину вспомнить мою, к старому вновь возвратясь.
Снова и мужеский ритм он нашел для дорической музы,
И под повышенный тон песен охотно теперь,
Тирс[414] потрясая рукою, пляшу я в театре, который
Смелою мыслью своей так обновил Сосифей.
Пыль, разносимая ветром, неси на могилу Махона —
Комедографа живой, любящий подвиги плющ.
Не бесполезного трутня скрывает земля, но искусства
Старого доблестный сын в этой могиле лежит.
И говорит он: «О, город Кекропа! Порой и на Ниле
Также, приятный для муз, пряный растет тимиан».
Аристагор исполнял роль галла[416], а я Теменидов[417]
Войнолюбивых играл, много труда приложив.
Он с похвалами ушел, Гирнефо́[418] же несчастную дружным
Треском кроталов, увы, зрители выгнали вон.
Сгиньте в огне вы, деянья героев! Невеждам в искусстве
Жавронка голос милей, чем лебединая песнь.
Раб я, лидиец. Но ты, господин, мой, в могиле свободным
Дядьку Тиманфа велел похоронить своего.
Долгие годы живи беспечально, когда же, состарясь,
В землю ко мне ты сойдешь, — знай: и в Аиде я твой.
Плачу о девушке я Алкибии. Плененные ею,
Многие свататься к ней в дом приходили к отцу.
Скромность ее и красу разгласила молва, но надежды
Всех их отвергнуты прочь гибельной были Судьбой.
Кто бы ты ни был, садись под зелеными ветвями лавра,
Жажду свою утоли этой прозрачной струей.
Пусть легкокрылый зефир, навевая повсюду прохладу,
Члены твои освежит в трудные знойные дни.
Видишь, как важно и гордо на свой подбородок лохматый
Смотрит, уставя глаза, Вакхов рогатый козел?
Чванится тем он, что часто в горах ему нимфа Наида
Космы волос на щеке розовой гладит рукой.
Мальчики, красной уздечкой козла зануздав и намордник
На волосатый ему рот наложивши, ведут
Около храма игру в состязание конное, чтобы
Видел сам бог, как они тешатся этой игрой.
Это участок Киприды. Отсюда приятно богине
Видеть всегда пред собой моря зеркальную гладь;
Ибо она благосклонна к пловцам, и окрестное море
Волны смиряет свои, статую видя ее.
Пан-селянин, отчего в одинокой тенистой дубраве
Ты на певучем своем любишь играть тростнике?
— Чтоб, привлеченные песней, подальше от нив хлебородных
Здесь, на росистых горах, ваши паслися стада.
Больше не будешь уж ты, как прежде, махая крылами,
С ложа меня поднимать, встав на заре ото сна,
Ибо подкравшийся хищник убил тебя, спавшего, ночью,
В горло внезапно тебе острый свой коготь вонзив.
Памятник этот поставил Дамид своему боевому,
Павшему в битве коню. В грудь его ранил Арей;
Темной струей потекла его кровь по могучему телу
И оросила собой землю на месте борьбы.
В недрах Лидийской земли схоронён сын Филиппа, Аминтор,
В битве железной не раз силу являвший свою;
И не злосчастный недуг унес его в царство Аида,
Но, покрывая щитом друга, в бою он погиб.
В битве отвага, Проарх, тебя погубила, и смертью
Дом ты отца своего, Фидия, в горе поверг;
Но над тобою поет эту песню прекрасную камень,
Песню о том, что погиб ты за отчизну свою.
Перед кончиной, обняв дорогого отца и роняя
Горькие слезы из глаз, молвила так Эрато[421]:
«Я не живу уже больше, отец мой. Уже застилает
Мне, умирающей, смерть черным покровом глаза».
Не допустив над собою насилия грубых галатов,
Кончили мы, о Милет[422], родина милая, жизнь,
Мы, три гражданки твои, три девицы, которых заставил
Кельтов жестокий Арей эту судьбу разделить.
Так нечестивых объятий избегнули мы и в Аиде
Всё — и защиту себе, и жениха обрели.
Маном[423] когда-то при жизни он был; а теперь, после смерти,
Дарию стал самому равен могуществом он.
В роще тенистой, в Локриде, нашедшие труп Гесиода
Нимфы омыли его чистой водой родников
И, схоронив его, камень воздвигли. Потом оросили
Землю над ним пастухи, пасшие коз, молоком
С примесью меда — за то, что, как мед, были сладостны песни
Старца, который вкусил влаги парнасских ключей.
Я ненавижу Эрота. Людей ненавистник, зачем он,
Зверя не трогая, мне в сердце пускает стрелу?
Дальше-то что? Если бог уничтожит вконец человека,
Разве награда ему будет за это дана?
Без похорон и без слез, о прохожий, на этом кургане
Мы, фессалийцы, лежим — три мириады[426] борцов, —
Пав от меча этолийцев или латинян, которых
Тит за собою привел из Италийской земли.
Тяжко Эмафии[427] горе; а дух дерзновенный Филиппа
В бегство пустился меж тем, лани проворной быстрей.
Не одного лишь тебя и кентавра[428] вино погубило,
О Эпикрат! От вина юный наш Каллий погиб.
Винным Хароном[429] совсем уже стал одноглазый[430]. Послал бы
Ты из Аида скорей кубок такой же ему.
В зимнюю пору однажды, спасаясь от снежной метели,
Галл, жрец Кибелы,[432] нашел в дикой пещере приют.
Но не успел волоса́ осушить он, как в то же ущелье
Следом за ним прибежал лев, пожиратель быков.
Галл испугавшийся начал тогда, потрясая тимпаном,
Бывшим в руке у него, звуками грот оглашать;
Звуков священных богини не вынес лесов обитатель
И, убоявшись жреца, в горы пустился стремглав.
А полуженственный жрец с благодарностью горной богине
Эту одежду принес с косами русых волос.
Коль хороши мои песни, то славу уже мне доставят
Даже и те лишь одни, что доселе мне муза внушила.
Если ж не сладки они, то зачем мне дальше стараться?
Если б нам жизненный срок был двоякий дарован Кронидом
Или изменчивой Мойрой — и так, чтоб один проводили
В счастии мы и в утехах, другой был бы полон трудами, —
То потрудившийся мог бы позднейшего ждать награжденья.
Если же боги решили назначить нам, людям, для жизни
Срок лишь один, и притом столь короткий, короче, чем прочим,
Что же, несчастные, мы совершаем такие работы?
Что же, для цели какой мы в наживу и в разные знанья
Душу влагаем свою и все к большему счастью стремимся?
Видно, мы все позабыли, что мы родились не бессмертны
И что короткий лишь срок нам от Мойры на долю достался.
Геспер[434], ты светоч златой Афродиты, любезной для сердца!
Геспер святой и любимый, лазурных ночей украшенье!
Меньше настолько луны ты, насколько всех звезд ты светлее.
Друг мой, привет! И когда к пастуху погоню мое стадо,
Вместо луны ты сиянье пошли, потому что сегодня
Чуть появилась она и сейчас же зашла. Отправляюсь
Я не на кражу, не с тем, чтобы путника ночью ограбить.
Нет, я люблю. И тебе провожать подобает влюбленных.
Грустно стенайте, долины в лесах и дорийские воды,
Плачьте, потоки речные, о милом, желанном Бионе!
Ныне рыдайте вы, травы и рощи, предайтесь печали,
Ныне, повесив головки, цветы, испускайте дыханье,
Ныне алейте от горя вы, розы, и вы, анемоны,[437]
Ныне на всех лепестках еще ярче: «О, горе, о, горе!» —
Ты, гиацинт, начертаешь — скончался певец наш прекрасный.
Грустный начните напев, сицилийские музы, начните!
Вы, соловьи, что в вершинах густых рыдаете горько,
Вы сицилийским дубравам вблизи Аретусы снесите
Весть, что скончался Бион наш, пастух, и скажите, что вместе
Умерли с ним и напевы, погибла дорийская песня.[438]
Грустный начните напев, сицилийские музы, начните!
Лебеди, в горести тяжкой стенайте близ вод стримонийских,
Пойте своими устами дрожащими песню печали.
Песню, какая и прежде близ ваших брегов раздавалась.
Девам Эагровым[439] также скажите и всем возвещайте
Нимфам бистонских краев[440]: «Орфей наш скончался дорийский».
Грустный начните напев, сицилийские музы, начните!
Тот, кто со стадом был дружен, напевов своих не играет,
Песен своих не поет он, в тиши под дубами усевшись.
Нет, он в Плутея жилище поет уже песню забвенья.
Горы в молчанье стоят, и коровы печально с быками
Бродят, рыдая, вокруг и щипать свою траву не могут:
Грустный начните напев, сицилийские музы, начните!
Сам Аполлон зарыдал над твоею внезапной кончиной,
Тяжко вздыхали сатиры и в темных одеждах приапы,
Паны[441] о песне твоей тосковали; в трущобах дремучих
Плакали нимфы ручьев, и в поток превращались их слезы.
Плакала Эхо[442] меж скал, что ее обрекли на молчанье.
С уст твоих песням уже подражать не придется ей. В горе
Плод уронили деревья, увяли цветы полевые.
Сладкого овцы уже не дают молока, а из ульев
Мед не течет, в восковых своих сотах умерший. Не должно
Меда вкушать никому, если смертью твой мед был погублен.
Грустный начните напев, сицилийские музы, начните!
Так никогда не грустила сирена[443] у берега моря,
Так никогда не кричала на скалах крутых Аэдона,
Жалобно так Хелидона на высях горы не стонала.
Так Алькионы беду никогда не оплакивал Кеикс,[444]
И никогда в Илионских теснинах над отпрыском Эос,
Возле гробницы кружась, не рыдала Мемнонова птица[445] —
Так, как все вместе они горевали о смерти Биона.
Грустный начните напев, сицилийские музы, начните!
Ласточки все, соловьи, все, кого своей радовал песней,
Все, кого он научил щебетать, все, на ветках деревьев,
Горе друг с другом деля, выкликали, и птиц раздавались
Крики: «Ах, плачьте о нем и горюйте! И вы с нами плачьте!»
Грустный начните напев, сицилийские музы, начните!
Кто на свирели твоей заиграет, о трижды желанный?
Кто к тростникам твоим губы приложит? Кто был бы так дерзок?
В них твои будто бы дышат уста и хранятся дыханье,
Трубки еще сохраняют напевов твоих отголосок.
Пану снесу ли свирель? Но, пожалуй, и он побоялся б
Трубки к губам приложить, чтоб не стал он на место второе.
Грустный начните напев, сицилийские музы, начните!
Плачет о песнях твоих Галатея[446], которой немало
Радости ты доставлял, с нею вместе у берега сидя.
Пел ты не так, как киклоп. Галатея прекрасная часто
Прочь от него убегала, но ты был ей слаще, чем море.
Нынче ж забыла она о волнах и на мели песчаной
Грустно сидит одиноко, с любовью пася твое стадо.
Грустный начните напев, сицилийские музы, начните!
Вместе с тобою погибло, пастух, все, что музы нам дарят,
Дев поцелуи увяли прелестных и юношей губы.
Плачут в печали эроты над телом твоим, а Киприда
Нежно целует тебя; не дарили таких поцелуев
Даже Адонису губы ее в час последней разлуки.
Грустный начните напев, сицилийские музы, начните!
Ты, что звучнее всех рек, для тебя это новое горе,
Новое горе, Мелеса[447]. Гомер был потерею первой,
Был Каллиопы глашатай он сладкий; о сыне чудесном
Плакала ты, говорят, разливаясь струей многостонной,
Море, рыданьем своим наполняя; и снова сегодня
Слезы о сыне ты льешь, разливаешься в новой печали.
Были любимцы они родников; из ключей пагасидских[448]
Первый вкушал свой напиток, другой — из волны Аретусы.
Тот в своей песне воспел прекрасную дочь Тиндарея[449],
Мощного сына Фетиды[450] воспел, Менелая Атрида.
Этот же пел не о войнах и плаче. Он Пана лишь славил.
Пел пастухам свои песни и с песнею пас свое стадо.
Ладил свирель и доил он стоящую смирно корову.
Юношей он поцелуям учил, на груди своей нежно
Эроса грел и ласкал и высоко вознес Афродиту.
Грустный начните напев, сицилийские музы, начните!
Все города о Бионе рыдают, рыдают селенья.
Аскра[451] сильнее скорбит, чем встарь, Гесиода утратив;
Лес беотийский тебя, а не Пиндара жаждет услышать.[452]
С грустью такой об Алкее ни Лесбос прелестный не плакал,
Ни о певце своем Теос[453] в печали такой не крушился.
Так Архилох не оплакан на Паросе; Сапфо забывши,
Плачет о песне твоей и скорбит по сей день Митилена.
Все те певцы, кому звонкую песню пастушью вложили
Музы в уста, все рыдают о том, что ты смертью настигнут.
Самоса слава, скорбит Сикелид[454]; в кидонийских пределах
Тот, в чьих глазах искони затаилась, сияя, улыбка, —
Слезы льет нынче Ликид[455]; и среди триопидских сограждан
Там, где Галент[456] протекает, Филет предается печали;
Меж сиракузян грустит Феокрит; я ж о горе авсонян
Песню слагаю. И сам не чужд я песне пастушьей;
Многих ведь ты обучил пастушеской музы напевам,
Я ж этой музы дорийской наследник. Мне в дар ее дал ты.
Прочим богатство свое ты оставил, но мне — свою песню.
Грустный начните напев, сицилийские музы, начните!
Горе, увы! Если мальвы в саду, отцветая, погибнут,
Иль сельдерея листва, иль аниса цветы завитые,
Снова они оживут и на будущий год разрастутся;
Мы ж, кто велики и сильны, мы, мудрые разумом люди,
Раз лишь один умираем, и вот — под землею глубоко,
Слух потеряв, засыпаем мы сном беспробудным, бесцельным.
Так же и ты под землею лежишь, облеченный молчаньем,
Нимфам же было угодно, чтоб квакали вечно лягушки;
Им не завидую я. Ведь поют некрасивую песню.
Грустный начните напев, сицилийские музы, начните!
Яд, о Бион, прикоснулся к устам твоим[457]; как же отрава
Этих коснулася губ и тотчас же не сделалась сладкой?
Кто был тот смертный жестокий, который осмелился яду
Дать тебе, даже по просьбе твоей? Его имя сокрыто.
Грустный начните напев, сицилийские музы, начните!
Все это Дике[458] откроет. А я в моей горести слезы
Лью, и с рыданьем пою я надгробную песнь. Если б мог я
В Тартар спуститься, как древле Орфей, Одиссей нисходили
Иль еще раньше Алкид[459]! Я вошел бы в обитель Плутея,
Там бы увидеть я смог, ты поешь ли Плутею напевы,
Я бы услышал опять, что поешь ты. О, спой же для Коры
Песнь сицилийскую ты, сладчайшую песню пастушью!
Родом она сицилийка.[460] Когда-то на Этны утесах
В детстве играла она и дорийские знает напевы;
Будешь ты петь не напрасно, и так, как обратно Орфею
Встарь Эвридику[461] она отдала за игру на форминге,
Так же, Бион, и тебя холмам возвратит. На свирели
Если б играть я умел, сам сыграл бы я песню Плутею.
Факел и лук отложив, взял рожок, чем волов погоняют,
Бог пышнокрылый Эрот вместе с наплечной сумой
И, возложивши ярмо на затылки волов терпеливых,
Тучную стал засевать ниву богини Део́[463].
Зевсу ж, на небо взглянувши, сказал: «Ороси мою ниву,
Чтобы Европы быка[464] я под ярмо не подвел!»
Где красота твоя, город дорийцев, Коринф величавый,
Где твоих башен венцы, прежняя роскошь твоя,
Храмы блаженных богов, и дома, и потомки Сизифа —
Славные жены твои и мириады мужей?
Даже следов от тебя не осталось теперь, злополучный.
Все разорила вконец, все поглотила война.
Только лишь мы, Нереиды, бессмертные дочери моря,
Как алькионы, одни плачем о доле твоей.
Видел я стены твои, Вавилон, на которых просторно
И колесницам; видал Зевса в Олимпии[468] я,
Чудо висячих садов Вавилона, колосс Гелиóса[469]
И пирамиды — дела многих и тяжких трудов;
Знаю Мавзола гробницу[470] огромную. Но лишь увидел
Я Артемиды чертог, кровлю вознесший до туч, —
Все остальное померкло пред ним; вне пределов Олимпа
Солнце не видит нигде равной ему красоты.
Кто перенес парфенон[471] твой, богиня, с Олимпа, где прежде
Он находился в ряду прочих небесных жилищ,
В город Андрокла[472], столицу ретивых в бою ионийцев,
Музами, как и копьем, славный повсюду Эфес?
Видно, сама ты, сразившая Тития[473], больше Олимпа
Город родной возлюбя, в нем свой воздвигла чертог.
Что подняла ты к Олимпу, о женщина, дерзкую руку,
С богоотступной главы пряди волос разметав?
Страшное мщенье Латоны увидев, теперь проклинаешь
Ты, многодетная, спор свой необдуманный с ней.
В судорогах бьется одна твоя дочь, бездыханной другая
Пала; над третьей висит тот же удел роковой.
Но не исполнилась мера страданий твоих, покрывает
Землю собой и толпа павших твоих сыновей.
Жребий тяжелый оплакав, убитая горем Ниоба,
Скоро ты станешь, увы, камнем бездушным сама.
Пять этих женщин, прислужниц спасителя Вакха, готовят
Все, что священный обряд хоростасии[476] велит:
Тело могучего льва поднимает одна, длиннорогий
Ликаонийский[477] олень взвален на плечи другой,
Третья несет быстрокрылую птицу, четвертая — бубен,
Пятая держит в руке медный тяжелый кротал.
Все в исступленье они, и вакхическим буйством у каждой
Из пятерых поражен заколобродивший ум.
Малая эта могила — Приама отважного. Пусть он
Большей достоин, но нас ведь погребают враги.
Кажется, телка сейчас замычит. Знать, живое творилось
Не Прометеем одним, но и тобою, Мирон.
Никия это работа — живущая вечно «Некия».
Памятник смерти для всех возрастов жизни она.
Как первообраз служила художнику песня Гомера,
Чей испытующий взгляд в недра Аида проник.
Краем, вскормившим тебя, Колофон называют иные,
Славную Смирну — одни, Хиос — другие, Гомер.
Хвалится тем еще Иос, равно Саламин благодатный,
Также Фессалия, мать рода лапифов. Не раз
Место иное отчизной твоей величалось. Но если
Призваны мы огласить вещие Феба слова,
Скажем: великое небо отчизна твоя, и не смертной
Матерью был ты рожден, а Каллиопой самой.
Почва сухая Катаны[480] в себя приняла Стесихора.
Музы устами он был, полными слов через край;
B нем, говоря языком Пифагора[481], душа обитала
Та же, что раньше его в сердце Гомера жила.
Как заглушаются звуком трубы костяные свирели,
Так уступают, Пиндáр, лиры другие твоей.
Видно, недаром у губ твоих нежных роилися пчелы,
Соты из воска на них, полные меда, лепя.
Ведомы чары твои и рогатому Пану, который,
Дудку пастушью забыв, пенью внимал твоему.
Неутомимого славь Антимаха за стих полновесный,
Тщательно кованный им на наковальне богинь,
Древних героев достойный. Хвали его, если и сам ты
Тонким чутьем одарен, любишь серьезную речь
И не боишься дороги неторной и малодоступной.
Правда, что скипетр певцов все еще держит Гомер,
И, без сомнения, Зевс Посейдона сильнее. Но меньший,
Нежели Зевс, Посейдон больше всех прочих богов.
Так и певец колофонский хотя уступает Гомеру,
Все же идет впереди хора певцов остальных.
Мало стихов у Эринны, и песни не многоречивы,
Но небольшой ее труд музами был вдохновлен.
И потому все жива еще память о нем, и доныне
Не покрывает его черным крылом своим Ночь.
Сколько, о странник, меж тем увядает в печальном забвенье
Наших певцов молодых! Нет и числа их толпе.
Лебедя краткое пенье милее, чем граянье галок,
Что отовсюду весной ветер несет к облакам.
Страх обуял Мнемосину[484], лишь только Сапфо услыхала:
Как бы не стала она музой десятой у нас.
Скорую смерть предвещают астрологи мне, и, пожалуй,
Правы они; но о том я не печалюсь, Селевк.
Всем ведь одна нам дорога в Аид. Если раньше уйду я,
Что же? Миноса зато буду скорей лицезреть.
Станем же пить! Говорят, что вино — словно конь для дорожных;
А ведь дорогу в Аид пешим придется пройти.
Анакреонт, средь почивших ты спишь, потрудившись достойно.
Спит и кифара — в ночи сладко звучала она.
Спит и Смердис, твоей страсти весна: на своем барбитоне
Ты для него пробуждал нектар гармоний. Кругом
Юноши были, а сам ты служил для Эрота мишенью:
Только в тебя одного он, дальновержец, стрелял.
Анакреонта гробница. Покоится лебедь теосский;
С ним, охватившая все, страсть его к юношам спит.
Но раздается еще его дивная песнь о Бафилле,
Камень надгробный досель благоухает плющом.
Даже Аид не сумел погасить свою страсть: в Ахеронте
Снова тебя охватил пылкой Киприды огонь.
Смерти искали они во брани; их праха не давит
Мрамор блестящий: венец доблести — доблесть одна!
Вестник Кронида, почто ты, мощные крылья простерши,
Здесь, на гробе вождя Аристомена, стоишь?
Смертным вещаю: как я из целого сонма пернатых
Силою первый, так он — первым из юношей был.
Робкие к робкого праху пускай прилетят голубицы,
Мы же — бесстрашных мужей любим могилу хранить.
Пали мы обе, Боиска и я, дочь Боиски, Родопа,
Не от болезни какой, не от удара копья.
Сами Аид мы избрали, когда обречен на сожженье
Был беспощадной войной город родной наш, Коринф.
Мать, умертвивши меня смертоносным железом, бедняжка,
Не пощадила потом также и жизни своей,
Но удавилась веревкой. Так пали мы — ибо была нам
Легче свободная смерть, нежели доля рабынь.
Здесь почивает Лаида[486], которая, в пурпуре, в злате,
В дружбе с Эротом жила, нежной Киприды пышней;
В морем объятом Коринфе сияла она, затмевая
Светлый Пирены[487] родник, Пафия между людьми.
Знатных искателей род, многочисленней, чем у Елены,
Ласк домогался ее, жадно стремился купить
Миг наслажденья продажной любовью. Душистым шафраном
Здесь, на могиле ее, пахнет еще и теперь;
И до сих пор от костей, впитавших в себя благовонья,
И от блестящих волос тонкий идет аромат…
В скорби по ней истерзала прекрасный свой лик Афродита,
Слезы Эрот проливал, громко стеная о ней.
Если бы не были ласки ее покупными, Элладе
Столько же бед принесла б, как и Елена, она.
Сын Инó, Меликерт[489], и владычица светлая моря,
Ты, Левкофея, от бед верно хранящая нас!
Вы, нереиды и волны, и ты, Посейдон-повелитель,
И фракиец Зефир, ветер кротчайший из всех!
Благоволите ко мне и до гавани милой Пирея[490]
Целым по глади морской перенесите меня.
Киприя, тишь океана, связуемых браком подруга,
Правых союзница, мать быстрых, как буря, страстей!
Киприя, мне, из чертога шафранного взятому роком,
Спасшему душу едва в вихре кельтийских снегов,
Мне, тихонравному, вздорных ни с кем не ведущему споров,
Морем багряным твоим ныне объятому, дай,
Киприя, в гавань ведущая, к оргиям склонная, целым
И невредимым скорей в гавань прийти Наяко́!
В почке таится еще твое лето. Еще не темнеет
Девственных чар виноград. Но начинают уже
Быстрые стрелы точить молодые эроты, и тлеться
Стал, Лисидика, в тебе скрытый на время огонь.
Впору бежать нам, несчастным, пока еще лук ненатянут!
Верьте мне — скоро большой, тут запылает пожар.
Прежде любил я Демó, из Пароса родом, — не диво!
После другую Демо, с Самоса, — диво ль и то?
Третья Демо наксиянка была, — это тоже не шутка;
Край Арголиды родным был для четвертой Демо.
Сами уж мойры, должно быть, назвали меня Филодемом,[491]
Что постоянно к Демо страсть в моем сердце горит.
Ростом мала и чернява Филенион. Но у смуглянки
Волос кудрявей плюща, кожа нежнее, чем пух;
Речь ее сердце чарует сильнее, чем пояс Киприды;
Все позволяет она, требуя редко наград.
Право, люблю я Филенион, о Афродита! — покуда
Ты не пошлешь мне другой, лучшей еще, чем она.
Ярко свети, о Селена[492], двурогая странница ночи!
В окна высокие к нам взор свой лучистый бросай
И озаряй своим блеском Каллистион. Тайны влюбленных
Видеть, богиня, тебе не возбраняет никто.
Знаю, счастливыми нас назовешь ты обоих, Селена, —
Ведь и в тебе зажигал юный Энди́мион страсть.
О, эта ножка! О, голень! О, тайные прелести тела,
Из-за чего я погиб — ах, и недаром погиб!
О, эта грудь, эти руки, и тонкая шея, и плечи,
Эти глаза, что меня взглядами сводят с ума!
Чары искусных движений и полных огня поцелуев,
Звуки короткие слов, сердце волнующих… Пусть
Римлянка Флора и песен Сапфо не поет, — Андромеду,
Речи, лукавые взгляды, кифара и пенье Ксантиппы, —
И уж начавший опять вспыхивать страсти огонь
Жжет тебя, сердце. С чего, и давно ли, и как — я не знаю.
Будешь ты, бедное, знать, в этом огне обгорев.
Лампу, немую сообщницу тайн, напои, Филенида,
Масляным соком олив и уходи поскорей,
Ибо противно Эроту свидетеля видеть живого.
Да, уходя, за собой дверь, Филенида, запри.
Ну же, целуй меня крепче, Ксанфо! И пускай испытает
Ложе любви, сколько есть у Кифереи даров.
Платит за раз пять талантов прелестнице некоей некий
И с некрасивой — клянусь, — дело имея, дрожит.
Лисианассе же я отдаю лишь пять драхм и за это
Без опасений лежу с лучшей гораздо, чем та.
Или я вовсе рассудка лишен, или подлинно надо
Нечто у мота того взять да секирой отсечь.
Я не гонюсь за венком из левкоев, за миррой сирийской,
Пеньем под звуки кифар да за хиосским вином.
Пышных пиров не ищу и объятий гетер ненасытных, —
Вся эта роскошь, друзья, мне ненавистна, как блажь.
Голову мне увенчайте нарциссом, шафранною мазью
Члены натрите, мой слух флейтой ласкайте кривой,
Горло мне освежите дешевым вином Митилены,
С юной дикаркой делить дайте мне ложе любви!
Спишь ты, я вижу, мой нежный цветок, Зенофила. О, если б
Мог на ресницы твои Сном я бескрылым сойти!
Чтобы к тебе даже тот, кто смыкает и Зевсовы очи,
Не подходил и тобой я обладал бы один.
Быстрый мой вестник, комар, полети! На ушко Зенофиле,
Нежно коснувшись ее, эти слова ты шепни:
«Он тебя ждет и не может уснуть; а ты, друга забывши,
Спишь!» Ну, лети же скорей! Ну, песнопевец, лети!
Но берегись, потихоньку скажи, не то — мужа разбудишь;
С мужем воспрянут тотчас ревности муки с одра.
Если ж ее приведешь, то в награду тебя я одену
Львиною кожей и дам в руки тебе булаву.
Паном аркадским клянусь, Зенофила, под звуки пектиды
Мило ты песни поешь! Мило играешь, клянусь!
Как от тебя убегу я? Меня обступили эроты,
Ни на минуту они мне отдохнуть не дают.
Сердце мое зажигает то образ твой чудный, то муза,
То твоя грация — все! Весь я горю, как в огне.
Вот уж левкои цветут. Распускается любящий влагу
Нежный нарцисс, по горам лилий белеют цветы,
И, создана для любви, расцвела Зенофила, роскошный
Между цветами цветок, чудная роза Пифо.
Что вы смеетесь, луга? Что кичитесь весенним убором?
Краше подруга моя всех ароматных цветов.
Винная чаша ликует и хвалится тем, что приникли
К ней Зенофилы уста, сладкий источник речей.
Чаша счастливая! Если б, сомкнув свои губы с моими,
Милая разом одним выпила душу мою!
Пусть на власах, Зенофила, твоих увядает венок мой:
Пышно цветешь ты сама, лучший венок из венков!
Прелести дал Зенофиле Эрот, хариты — любезность;
Пафия с поясом ей власть над сердцами дала.
Всем объявляю о бегстве Эрота. Вот только что, утром,
Быстро с постели спорхнув, он улетел и исчез.
Мальчик он плачущий сладко, болтливый, живой и бесстрашный,
Склонен к насмешкам, крылат, носит колчан за спиной.
Чей он, сказать не сумею: его, шалуна, своим сыном
Не признают ни Эфир, ни Океан, ни Земля,
Ибо он всем и всему ненавистен. Смотрите теперь же:
Не расставляет ли он где-нибудь сети для душ?
Э, да ведь вот он — в засаде! Меня не обманешь. Напрасно
Ты притаился, стрелок, у Зенофилы в глазах.
Знаю! К чему твои клятвы, когда, обличитель гулящих,
След благовонных мастей свеж на твоих волосах?
Ночи бессонной улика, и глаз твоих взгляд утомленный,
И обвитая вокруг нить на кудрях — от венка.
Только что в оргии бурной измяты волос твоих пряди,
Ноги нетверды твои, руки дрожат от вина…
С глаз моих скройся, блудница! Пектида и треск погремушек,
Вестники пира, зовут к оргии новой тебя.
Горе! Не сладостный брак, но Аид, Клеариста, суровый
Девственный пояс тебе хладной рукой развязал.
Поздней порой у невесты, пред дверью растворчатой, флейты
Сладко звучали; от них брачный покой весь гремел;
Утром — весь дом огласился рыданием, и Гименея
Песни веселой напев в стон обратился глухой;
Факелы те ж и невесте у храмины брачной светили,
И усопшей на путь в мрачное царство теней.
Пышные кудри Тимо и сандалии Гелиодоры,
Миррой опрысканный вход в доме у милой Демо,
Полные неги уста и большие глаза Антиклеи,
Свежий всегда на висках у Дорифеи венок, —
Нет, не осталось теперь у тебя уже больше в колчане
Стрел оперенных, Эрот! Все твои стрелы во мне.
Ты, моей ночи утеха, обманщица сердца, цикада,
Муза — певица полей, лиры живой образец!
Милыми лапками в такт ударяя по крылышкам звонким,
Что-нибудь мне по душе нынче, цикада, сыграй,
Чтобы избавить меня от ярма неусыпной заботы,
Сладостным звуком во мне жажду любви обмануть, —
И, в благодарность за это, я дам тебе утром, цикада,
Свежей чесночной травы с каплями чистой росы.
Вы, корабли — скороходы морские, в объятьях Борея
Смело державшие путь на Геллеспонтский пролив[496],
Если, идя мимо Коса, увидите там на прибрежье
Милую Фа́нион, вдаль взор устремившую свой,
Весть от меня передайте, прекрасные, ей, что желанье
К ней переносит меня не на ладье, на ногах.
Только скажите ей это, и тотчас же Зевс милосердный
Ветром попутным начнет вам раздувать паруса.
Клей — поцелуи твои, о Тимо, а глаза твои — пламя:
Кинула взор — и зажгла, раз прикоснулась — и твой!
Утро, враждебное мне! Что так рано ты встало над ложем?
Только пригреться успел я на груди у Демо.
Свет благодатный, — который теперь мне так горек! — о, лучше б,
Быстро назад побежав, снова ты вечером стал!
Было же прежде, что вспять устремлялся ты волею Зевса
Ради Алкмены, — не нов ход и обратный тебе.
Утро, враждебное мне! Что так тихо ты кружишь над миром
Нынче, когда у Демо млеет в объятьях другой?
Прежде, как с нею, прекрасной, был я, ты всходило скорее,
Точно спешило в меня бросить злорадным лучом.
Асклепиада глазами, подобными светлому морю,
Всех соблазняет поплыть с нею по волнам любви.
Сбегай, Доркада, скажи Ликениде: «Вот видишь — наружу
Вышла неверность твоя: время не кроет измен».
Так и скажи ей, Доркада. Да после еще непременно
Раз или два повтори. Ну же, Доркада, беги!
Живо, не мешкай! Справляйся скорей. Стой! Куда же, Доркада,
Ты понеслась, не успев выслушать все до конца?
Надо прибавить к тому, что сказал я… Да что я болтаю!
Не говори ничего… Нет, обо всем ей скажи,
Не пропусти ни словечка, Доркада… А впрочем, зачем же
Я посылаю тебя? Сам я с тобою иду.
Звезды и месяц, всегда так чудесно светящий влюбленным!
Ночь и блужданий ночных маленький спутник — игрун!
Точно ль на ложе еще я застану прелестницу? Все ли
Глаз не смыкает она, жалуясь лампе своей?
Или другой обнимает ее? О, тогда я у входа
Этот повешу венок, вянущий, мокрый от слез,
И надпишу: «Афродита, тебе Мелеагр, посвященный
В тайны твои, отдает эти останки любви».
В мяч он умеет играть, мой Эрот. Посмотри, он бросает
Сердцем, что бьется во мне, Гелиодора, в тебя.
Страстью взаимной ответь. Если прочь меня кинешь, обиды
Не потерплю я такой против законов игры.
Сжалься, Эрот, дай покой наконец мне от страсти бессонной
К Гелиодоре, уважь просьбу хоть музы моей!
Право, как будто твой лук не умеет и ранить другого,
Что на меня одного сыплются стрелы твои.
Если убьешь ты меня, я оставлю кричащую надпись:
«Кровью убитого здесь, странник, запятнан Эрот».
Пчелка, живущая соком цветов, отчего так, покинув
Чашечки луга, к лицу Гелиодоры ты льнешь?
Хочешь ли тем показать, что и сладких и горьких до боли
Много Эротовых стрел в сердце скрывает она?
Если пришла ты мне это сказать, то лети же обратно,
Милая! Новость твою сами мы знаем давно.
Мать небожителей, Ночь! Об одном я тебя умоляю,
Лишь об одном я прошу, спутница наших пиров:
Если другой кто-нибудь обладает чарующим телом
Гелиодоры моей, с ней ее ложе деля,
О, да погаснет их лампа, и пусть, как Энди́мион, вяло
И неподвижно лежит он у нее на груди!
Кубок налей и опять и опять назови дорогую
Гелиодору, с вином сладкое имя смешай!
Кудри вчерашним венком убери мне — он память о милой,
Влагой душистых мастей он до сих пор напоен.
Видишь, как роза, подруга влюбленных, слезинки роняет,
Видя ее не со мной и не в объятьях моих.
Слезы сквозь землю в Аид я роняю, о Гелиодора!
Слезы, останки любви, в дар приношу я тебе.
Горькой тоской рождены, на твою они льются могилу
В память желаний былых, нежности нашей былой.
Тяжко скорбит Мелеагр о тебе, и по смерти любимой
Стоны напрасные шлет он к Ахеронту, скорбя…
Где ты, цветок мой желанный? Увы мне, похищен Аидом!
С прахом могилы сырой смешан твой пышный расцвет…
О, не отвергни, земля, всенародная мать, моей просьбы:
Тихо в объятья свои Гелиодору прими!
Радуйся, матерь-земля! И не будь тяжела Эсигену.
Ведь и тебя Эсиген мало собой тяготил.
Ночь, священная ночь, и ты, лампада, не вас ли
Часто в свидетели клятв мы призывали своих!
Вам принесли мы обет: он — друга любить, а я — с другом
Жить неразлучно, — никто нас не услышал иной.
Где ж вероломного клятва, о ночь!.. Их волны умчали,
Ты, лампада, его в чуждых объятиях зришь!
Бури и вьюги печальной зимы улетели с эфира,
Вновь улыбнулась весне цветоносной румяная Ора[498],
Мрачное поле украсилось бледно-зеленой травою,
Вновь дерева, распускаясь, младыми оделись листами.
Утро, питатель цветов, мураву напояет росою;
Луг засмеялся угрюмый, и роза на нем заалела.
Звонкой свирели в горах раздалися веселые звуки;
Белое стадо козлят пастуха забавляет играньем.
Вдаль по широким валам мореходец отважный понесся;
Веяньем легким зефира наполнился трепетный парус.
Все торжествует на празднике грозделюбивого Вакха,
Веткой плюща и лозой виноградной власы увивая.
Делом своим занялись из тельца происшедшие пчелы[499]:
С дивным искусством и пламенным рвением в улье слепляют
Белые, медом златым и душистым текущие соты.
Яркие клики и песни пернатых несутся отвсюду:
С волн алькионы стенанье, чирликанье ласточки с кровли,
Крик лебединый с реки, соловьиные свисты из рощи.
Если ж и листья приятно шумят, и поля расцветают,
Голос свирели в горах раздается и рéзвится стадо,
Вдаль мореходец плывет, Дионис заплясал от восторга,
Весело птицы поют и трудом наслаждаются пчелы, —
Можно ль весною певцу удержаться от радостных песней?
Тир, окруженный водою, кормильцем мне был, а Гадара
Аттика Сирии — край, где появился на свет
Я, Мелеагр, порожденный Эвкратом; хариты Мениппа[501]
Были на поприще муз первые спутницы мне.
Если сириец я, что же? Одна ведь у всех нас отчизна —
Мир, и Хаосом одним, смертные, мы рождены.
А написал это я на дощечке, уж будучи старым,
Близким к могиле своей, — старость Аиду сосед.
Если ж меня, старика болтуна, ты приветствуешь, боги
Да ниспошлют и тебе старость болтливую, друг!
Путник, спокойно иди. Средь душ благочестных умерших
Сном, неизбежным для всех, старый здесь спит Мелеагр.
Он, сын Эвкратов, который со сладостнослезным Эротом
Муз и веселых харит соединял с юных лет,
Вскормлен божественным Тиром и почвой священной Гадары,
Край же, меропам родной, Кос его старость призрел.
Если сириец ты, молви: «салам»; коль рожден финикийцем,
Произнеси: «аудонис»; «хайре» скажи, если грек.
Надо бежать от Эрота! Пустое! За мною на крыльях
Он по пятам, и пешком мне от него не уйти.
Право, достойны фракийцы похвал, что скорбят о младенцах,
Происходящих на свет из материнских утроб,
И почитают, напротив, счастливым того, кто уходит,
Взятый внезапно рукой Смерти, прислужницы кер.
Те, кто живет, те всегда подвергаются бедствиям разным;
Тот же, кто умер, нашел верное средство от бед.
Вместе с богами когда-то сидел на пирах он и часто
Чрево свое наполнял нектара сладкой струей.
Ныне он жаждет земного питья, но завистница влага
Прочь убегает сама от пересохшего рта.
«Пей, — говорит изваянье, — держи сокровенное в тайне;
Вот наказанье для тех, чей невоздержан язык».
Дайте рукам отдохнуть, мукомолки; спокойно дремлите,
Хоть бы про близкий рассвет громко петух голосил:
Нимфам пучины речной ваш труд поручила Деметра;
Как зарезвились они, обод крутя колеса!
Видите? Ось завертелась, а оси крученые спицы
С рокотом движут глухим тяжесть двух пар жерновов.
Снова нам век наступил золотой: без труда и усилий
Начали снова вкушать дар мы Деметры[507] святой.
Их, этих женщин, владевших божественной речью, вскормили
Гимнами муз Геликон и Пиерийский утес:
Славных Миро и Праксиллу с Анитою, женским Гомером,
Гордостью Лесбоса дев пышноволосых — Сапфо,
И Телесиллу с Эринной, а также Коринну, чья лира
Песней прославила щит грозной Афины, уста
Женственно-нежной Носсиды и певшую сладко Миртиду —
Всех их, оставивших нам вечные строфы свои.
Девять божественных муз происходят от неба, и девять
Этих певиц родила, смертным на радость, земля.
Имя Сапфо я носила, и песнями так же всех женщин
Я превзошла, как мужчин всех превзошел Меонид.
Аристофановы книги — божественный труд, на который
Плющ ахарнейский[509] не раз листья свои осыпал.
Сколько в страницах его Диониса! Какие рассказы,
Полные страшных харит, слышатся с этих страниц!
О, благороднейший ум и правдивый по эллинским нравам
Комик, которого гнев так же заслужен, как смех!
В Вакха Пилад самого воплотился в то время, когда он
С хором вакханок пришел к римской фимеле[511] из Фив.
Радостным страхом сердца он наполнил и пляской своею
В городе целом разлил бога хмельного восторг.
В Фивах из пламени бог тот родился, а он с его даром
Все выражающих рук был небесами рожден.
Дело с Гермесом иметь вам легко, пастухи: возлиянью
Он и молочному рад, медом доволен лесным.
Много труднее с Гераклом: он требует либо барана,
Либо ягнят покрупней, жертву взимая за все.
— Он охраняет зато от волков. — А какая вам прибыль
В том, что ягнят истреблять будет не волк, а Геракл?
Все хорошо у Гомера, но лучше всего о Киприде
Молвил поэт, золотой эту богиню назвав,
Если с деньгами придешь, будешь мил, и тебя ни привратник
Не остановит, ни пес сторожевой у дверей.
Если ж без денег ты, встретит сам Цербер. О жадное племя,
Сколько напрасных обид бедность выносит от вас!
Может за драхму Европу[512], гетеру из Аттики, всякий
Без пререканий иметь и никого не боясь.
Безукоризненно ложе, зимою есть уголья… Право,
Незачем было тебе, Зевс, обращаться в быка.
Утро настало, Хрисилла. Денницы завистливой вестник,
Вот уже ранний петух провозглашает восход.
Сгинь, ненавистная птица! Зачем своим криком из дома
К шумной ватаге юнцов ты прогоняешь меня?
Знать, постарел ты уж очень, Тифон, если начал так рано
С ложа теперь отпускать Зорю, супругу свою.
От вифиня́нки[514] Киферы тебе по обету, Киприда,
Образ твоей красоты мраморный в дар принесен;
Ты же за малое щедро воздай, как богиня, Кифере:
Будет довольно с нее счастия с мужем своим.
Лучше б доныне носиться по воле ветров переменных
Мне, чем кормилицей стать для бесприютной Лето.
Я бы не сетовал так на заброшенность. Горе мне, горе!
Сколько проходит судов эллинских мимо меня,
Делоса, славного встарь, а теперь опустелого! Поздно,
Но тяжело за Лето Гера мне, бедному, мстит.
Шествуй войной на Евфрат, сын Зевса! Уже на Востоке
Сами парфяне теперь передаются тебе.
Шествуй, державный, — и луки, увидишь, расслабятся страхом.
Кесарь, с Востока свой путь, с края отцов[517], начинай
И отовсюду водой окруженному Риму впервые
Новый предел положи там, где восходит Заря.
Все еще слышим мы плач Андромахи, падение Трои,
До оснований своих в прах повергаемой, зрим;
Видим Аянта в бою и влекомый конями чрез поле
Под городскою стеной Гектора связанный труп —
Видим все это, внимая Гомеру, чьи песни не только
Родина славит, но чтут страны обеих земель[519].
В камне над гробом моим изваяй мне и горе[521] и море,
Феба-свидетеля мне тут же в средине поставь,
Вырежь глубокие реки, в которых для воинства Ксеркса
С флотом огромным его все ж не хватило воды,
И начертай Саламин — чтобы с честью на гроб Фемистокла
Путнику здесь указать мог магнесийский народ.
Аргос! Гомерова сказка, священная почва Эллады!
Весь раззолоченный встарь замок Персея! Давно
Слава угасла героев[522], которые Трои твердыню,
Дело божественных рук[523], некогда рушили в прах,
Но оказался сильней этот город[524], а ваши руины
Пастбищем служат теперь громко мычащим стадам.
Бог, затвори на Олимпе стоящие праздно ворота,
Бдительно, Зевс, охраняй замок эфирных богов!
Рима копье подчинило себе уже землю и море,
Только на небо еще не проложило пути.
Мало родных ваших гнезд остается нам видеть, герои,
Да и они уж теперь чуть не сровнялись с землей.
В виде таком я нашел, проезжая, и вас, о Микены!
Стали пустыннее вы всякого пастбища коз.
Вас пастухи только знают. «Здесь некогда златом обильный
Город киклопов стоял», — молвил мне старец один.
Остров — кормилец рожденных Латоной богов, неподвижно
Ставший в эгейских водах волею Зевса, — тебя
Не назову я несчастным, клянусь божествами твоими!
Не повторю я того, что говорит Антипатр.[527]
Счастлив ты: Фебу приютом ты был, и зовет Артемида
Только, тебя одного, после Олимпа, родным.
В дар посылаю тебе, Родоклея, венок: из прекрасных
Вешних цветов для тебя, милая, сам его сплел.
Есть тут лилеи и розы душистые, есть анемоны,
Нежный, пушистый нарцисс, бледны фиалки цветы.
Ими чело увенчав, перестань, о краса, быть надменной.
Как сей венок, ты цветешь, — так же увянешь, как он.
Боги! Не знал я, не знал, что купается здесь Киферея,
Кинув на плечи рукой волны развитых кудрей.
Будь милосердна ко мне, о богиня! Прости, не преследуй
Гневом за то, что узрел образ божественный твой…
Но — это ты, Родоклея, — не Пафия! Где же такую
Взять ты могла красоту? Не у богини ль отняв?
Очи Мелита, твои — очи Геры, а руки — Паллады,
Пафии — белая грудь, ноги — Фетиды младой!
Счастлив, кто видит тебя; трикраты блажен, кто услышит,
Кто целовал — полубог; равен Зевесу супруг.
Где я Праксителя нынче найду? Где рука Поликлета,
Прежде умевшая жизнь меди и камню придать?
Кто изваяет теперь мне душистые кудри Мелиты,
Взор ее, полный огня, блеск ее груди нагой?
Где вы, ваятели? Где камнерезы? Ведь надо же строить
Храм для такой красоты, как для подобья богов.
Ты обладаешь устами Пифо[529], красотою Киприды,
Блещешь, как Горы весны, как Каллиопа поешь;
Разум и нрав у тебя от Фемиды[530], а руки — Афины[531];
Четверо стало харит, милая, нынче с тобой.
Пользуясь тем, что Продику застал я одну, ей колени
Нежные начал с мольбой я обнимать и сказал:
«Сжалься, спаси человека, почти уж погибшего! Жизни
Слабой остаток ему дай сохранить до конца!»
Выслушав это, она прослезилась, но вскоре отерла
Слезы и нежной рукой прочь оттолкнула меня.
Кто тебя высек нещадно и голою выгнал из дому?
Зрения был он лишен? Сердце из камня имел?
Может, вернувшись не в час, у тебя он любовника встретил?
Случай не новый, дитя, — все поступают, как ты.
Только вперед, если будешь ты с милым в отсутствие мужа,
Дверь запирай на засов, чтоб не попасться опять.
Если в обоих, Эрот, одинаково стрелы пускаешь,
Бог ты; когда ж в одного ими ты сыплешь — не бог.
Против Эрота мне служит оружием верным рассудок,
Выйдя один на один, не победит он меня;
Смертный, с бессмертным готов я бороться. Но если Эроту
Вакх помогает, один что я могу против двух?
Бедность и страсть — мои беды. С нуждою легко я справляюсь,
Но Афродиты огня перенести не могу.
Все я люблю у тебя, но глаза твои ненавижу,
Ибо невольно они дарят блаженство другим.
К милым отчизны брегам приближался, «завтра, — сказал я, —
Долгий и бурный мой путь кончится: пристань близка».
Но не сомкнулись уста еще — море, как ад, потемнело,
И сокрушило меня слово пустое сие.
«Завтра» с надеждою смелой вещать не дерзай: Немезида[533]
Всюду настигнет тебя, дерзкий карая язык.
Нивы ужель не осталось другой для сохи селянина?
Что же стенящий твой вол пашет на самых гробах,
Ралом железным тревожа усопших? Ты мнишь, дерзновенный,
Тучные кинув поля, жатву от праха вкусить!
Смертен и ты. И твои не останутся кости в покое;
Сам святотатство начав, им же ты будешь казним.
Нимфы источника, где вы? Ужели обильные воды,
Вечно журчавшие здесь, Гелия зной иссушил?
Смерть Агриколы пресекла наш ток; слезами печали
В гроб излилися струи́ — жаждущий прах напоить.
— Это пурпурное платье тебе, Леонид, посылает
Ксеркс, оценивший в бою доблести подвиг твоей.
— Не принимаю. Пускай награждает изменника; мне же
Щит мой покров. Не нужны мне дорогие дары.
— Ты же ведь умер. Ужели и мертвый ты так ненавидишь
Персов? — К свободе любовь не умирает во мне.
— Что здесь за насыпь, скажи, Дикеархия, брошена в море
И в середину воды врезалась массой своей?
Точно руками циклопов построены мощные стены.
Долго ль насилие мне, морю, терпеть от земли?
— Целого мира я флот принимаю. Взгляни лишь на близкий
Рим и скажи, велика ль гавань моя для него.
Смелость, ты — мать кораблей, потому что ведь ты мореходство
Изобрела и зажгла жажду наживы в сердцах.
Что за коварную вещь ты из дерева сделала! Сколько
Предано смерти людей ради корысти тобой!
Да, золотой ты для смертных поистине век был, когда лишь
Издалека, как Аид, видели море они!
Путеводитель плывущих по междуостровным проливам
И старожил берегов острова Фасоса, Главк,
Опытный пахарь морей, чья рука безошибочно твердо
Править умела рулем, даже когда он дремал, —
Обремененный годами, истрепанный жизнью морскою,
И умирая, своей он не покинул ладьи.
Так вместе с нею, его скорлупой, и сожгли его тело,
Чтобы на лодке своей старый отплыл и в Аид.
Изображая Медею, преступницу, в сердце которой
С ревностью к мужу любовь к детям боролась, большой
Труд приложил Тимомах, чтобы выразить оба противных
Чувства, рождавших то гнев, то сострадание в ней.
То и другое ему удалось. Посмотри на картину:
Видишь, как в гневе слеза, в жалости злоба сквозит!
«Этой борьбы мне довольно, — решил он, — то дело Медеи,
Не Тимомаховых рук, детскую кровь проливать».
Старится временем даже и медь. Но и целая вечность
Не уничтожит отнюдь славы твоей, Диоген,
Ибо один ты о жизни правдивое высказал мненье,
Смертным легчайший из всех жизненный путь указан.
Вакх изобрел этот род поучения музы игривой,
Сам по себе, Сикион[539], шествуя в сонме харит.
И в порицаньях своих он приятен, и жалит он смехом,
И, опьяненный вином, разуму учит граждáн.
На Геликон восходя, я немало трудился. За это
Был Гиппокрены ключом сладостным я напоен.
Так и труды, и стремление к знаньям способны доставить
Муз благосклонность к тебе, если ты цели достиг.
Жизнь береги, человек, и не вовремя в путь не пускайся
Ты через волны морей; жизнь ведь и так недолга.
Ты, злополучный Клео́ник, на Тасос[541] богатый стремился
Раньше с товаром прибыть; вез Келесирии[542] груз,
Вез ты, Клеоник, товар; и когда заходили Плеяды,
Вслед за Плеядами ты канул в морскую волну.
По вечерам, за вином, мы бываем людьми; но как только
Утро настанет, опять звери друг другу мы все.
Я пообедал вчера козлиной ногою и спаржей,
Желтой и вялой: давно срезали, видно, ее.
Но побоюсь я назвать пригласившего, это опасно:
Страшно мне, как бы опять он не позвал на обед.
Бог ли на землю сошел и явил тебе, Фидий, свой образ,
Или на небо ты сам, бога чтоб видеть, взошел?
Старая грымза Нико увенчала могилу Мелиты,
Девушки юной. Аид, где ж справедливость твоя?
Труп Леонида кровавый увидевши, Ксеркс-победитель,
Дивную доблесть почтив, сам багряницей одел.
Мертвый тогда возгласил спартанский герой незабвенный:
«Нет, не приму никогда должной предателю мзды!
Щит — украшенье могиле моей: прочь персидское платье!
Я спартанцем хочу в царство Аида прийти».
Прежде погаснет сияние вечных светил небосклона,
Гелия луч озарит Ночи суровой лицо;
Прежде волны морские дадут нам отраду от жажды
Или усопшим Аид к жизни отворит пути, —
Прежде чем имя твое, Меонид, Ионии слава,
Древние песни твои в лоно забвенья падут.
Критским стрелком уязвленный, орел не остался без мести[546]:
Жизни лишаясь, ему жалом за жало воздал.
С горного неба ниспал он стремглав и, настигши убийцу,
Сердце той сталью пронзил, коей был сам поражен.
Будете ль, критяне, вы бросанием стрел неизбежных
Ныне гордиться? Хвала Зевсовой меткой руке!
Зевсова птица, орел, до сих пор не знакомый родосцам
И о котором они знали по слухам одним,
Я прилетел к ним на крыльях могучих из дали воздушной,
Только когда посетил солнечный остров[547] Нерон[548].
Ставши ручным для владыки, в хоромах его обитал я,
И неотлучно при нем, будущем Зевсе, я был.[549]
Золотом течь не хочу. Другой пусть в быка превратится
Или же, лебедем став, сладостно песнь запоет.
Пусть забавляется Зевс всем этим, а я вот Коринне,
И не подумав летать, дам два обола — и все.
Кифотарида-болтунья под бременем лет поседела, —
Нестора[552] после нее старцем нельзя называть.
Смотрит на свет больше века оленьего[553] и начала уж
Левой рукою[554] своей новый отсчитывать век.
Здравствует, видит прекрасно и в резвости спорит с девчонкой.
В недоумении я: как это терпит Аид?
Круг генитуры[556] своей исследовал Авел-астролог:
Долго ли жить суждено? Видит — четыре часа.
С трепетом ждет он кончины. Но время проходит, а смерти
Что-то не видно; глядит — пятый уж близится час.
Жаль ему стало срамить Петосирсиса[557]: смертью забытый,
Авел повесился сам в славу науки своей.
Раз астролог Диофант напророчил врачу Гермогену,
Что остается ему девять лишь месяцев жить.
Врач, засмеявшись, сказал: «Девять месяцев? Экое время!
Вот у меня так с тобой будет короче расчет».
Так говоря, он коснулся рукой Диофанта, и сразу
Вестник несчастия сам в корчах предсмертных упал.
Если желаешь ты зла, Дионисий, кому, ни Исиду
Не призывай на него, ни Гарпократа[558] не кличь.
Вместо слепящих богов только Симона кликни, и скоро
Сам убедишься ты, кто, бог или Симон, сильней.
Всякий безграмотный нищий теперь уж не станет, как прежде,
Грузы носить на спине или молоть за гроши,
Но отрастит бороденку и, палку подняв на дороге,
Первым объявит себя по добродетели псом. Так решено
Гермодотом[560] премудрым: «Пускай неимущий,
Скинув хитонишко свой, больше не терпит нужды!»
Скряге Гермону приснилось, что он израсходовал много.
Из сожаленья о том утром повесился он.
Асклепиад, увидав в своем доме однажды мышонка,
Крикнул в тревоге ему: «Что тебе нужно, малыш?»
И, усмехнувшись, ответил мышонок: «Не бойся, любезный,—
Корма не жду от тебя, нужно мне только жилье».
Лгут на тебя, будто ты волоса себе красишь, Никилла,
Черными, как они есть, куплены в лавке они.
Мед покупаешь ты с воском, румяна, и косы, и зубы.
Стало б дешевле тебе сразу купить все лицо.
Если бы ноги Диона с его были схожи руками,
То не Гермес, а Дион звался б крылатым тогда.
Вызвал однажды на суд глухой глухого, но глуше
Был их гораздо судья, что выносил приговор.
Плату за нанятый дом за пять месяцев требовал первый;
Тот говорил, что всю ночь он напролет промолол.
«Что же вам ссориться так? — сказал им судья беспристрастный. —
Мать вам обоим она — оба кормите ее».
Девушка с розами, роза сама ты. Скажи, чем торгуешь:
Розами или собой? Или и тем и другим?
Ветром хотел бы я быть, чтоб, гуляя по берегу моря,
Ты на открытую грудь ласку мою приняла.
Розой хотел бы я быть, чтоб, сорвавши своею рукою,
Место на белой груди ты ей, пурпурной, дала.
Не мудрено и упасть, если смочен и Вакхом и Зевсом.[564]
Как устоять против двух, смертному — против богов?
Делая зло, от людей еще можешь укрыться; но боги
Видят не только дела, — самые мысли твои.
Тратить разумно не бойся добро свое — помни о смерти.
В тратах же будь бережлив — помни, что надобно жить.
Мудрым зову я того, кто, постигнув и то и другое,
Тратить умел и беречь, должную меру блюдя.
Нет, не Эрот обижает людей, но рабы своей страсти
Вечно стремятся ему вины свои приписать.
Смертных владение смертно, и вещи во времени гибнут;
Все же и вещи порой могут людей пережить.
Будешь любезен ты смертным, покуда удача с тобою,
Боги охотно внимать станут молитвам твоим.
Если же доля твоя переменится к худшему — всякий
Недругом станет тебе с первым ударом судьбы.
Горше на свете никто досадить человеку не может,
Нежели тот, кто друзей искренних вводит в обман.
Ибо льстеца не врагом ты считаешь, но другом и, душу
Всю открывая ему, терпишь сугубый ущерб.
Все, что обдумано зрело, стоит нерушимо и крепко.
То, что решил второпях, будешь менять, и не раз.
Моешь индуса зачем? Это дело пустое: не сможешь
Ты непроглядную ночь в солнечный день обратить.
Целая жизнь коротка для счастливых людей, а несчастным
Даже и ночь-то одна неизмеримо долга.
Следует класть на язык свой печать, чтобы слóва не молвить
Лишнего, — пуще богатств надо словá охранять.
Только богатство души настоящее наше богатство,
Все же другое скорбей больше приносит, чем благ.
Тот лишь действительно может по праву назваться богатым,
Кто из добра своего пользу способен извлечь;
Кто не корпит над счетами, всегда об одном помышляя —
Как бы побольше скопить; сходный с прилежной пчелой,
Многоячейные соты, трудясь, он медом наполнит —
Медом, который потом будут другие сбирать.
Артемидор, обладая десятками тысяч, не тратит
Сам ничего и влачит жизнь свою так же, как мул,
Что на спине своей носит нередко тяжелую груду
Золота, сам между тем кормится сеном одним.
Будь благосклонна ко мне, о грамматика! Славное средство
Ты для голодных нашла: «Гнев, о богиня, воспой»![566]
Храм бы роскошный за это тебе надлежало поставить,
Жертвенник, где б никогда не потухал фимиам.
Ведь и тобою полны все пути[567] и на суше и в море,
Каждая гавань полна, — так завладела ты всем!
В школу мою обучаться грамматике лекарь однажды
Сына прислал своего. Мальчик прошел у меня
«Гнев, о богиня, воспой» и «Тысячи бедствий соделал»,
Начал и третий уже было разучивать стих:
«Многие души героев могучих в Аид он низринул», —
Как перестали его в школу ко мне посылать.
Встретившись после, родитель сказал мне: «Спасибо за сына;
Только науку твою может он дома пройти:
Мною ведь тоже в Аид низвергаются многие души,
И не нужна для того ваша грамматика мне».
Трезвым в компании пьяных старался остаться Акиндин.
И оттого среди них пьяным казался один.
Главку, Нерею, Ино и рожденному ей Меликерту,
Самофракийским богам, как и Крониду пучин,
Спасшись от волн, я, Лукиллий, свои волоса посвящаю, —
Кроме волос, у меня больше ведь нет ничего.
Волосы — ум у тебя, когда ты молчишь; заболтаешь —
Как у мальчишки, в тебе нет ни на волос ума.
Все это я, Лукиан, написал, зная глупости древних.
Глупостью людям порой кажется мудрость сама:
Нет у людей ни одной, безупречно законченной мысли;
Что восхищает тебя, то пустяки для других.
В жизни любая годится дорога. В общественном месте —
Слава и мудрость в делах, дома — покой от трудов;
В селах — природы благие дары, в мореплаванье — прибыль,
В крае чужом нам почет, если имеем мы что,
Если же нет ничего, мы одни это знаем; женитьба
Красит очаг, холостым — более легкая жизнь.
Дети — отрада, бездетная жизнь без забот. Молодежи
Сила дана, старики благочестивы душой.
Вовсе не нужно одно нам из двух выбирать — не родиться
Или скорей умереть; всякая доля блага.
Что ты за Вакх и откуда? Клянусь настоящим я Вакхом,
Ты мне неведом; один сын мне Кронида знаком.
Нектаром пахнет он, ты же — козлом. Из колосьев, наверно,
За неимением лоз делали кельты тебя.
Не Дионисом тебя величать, а Деметрием надо,[574]
Наг я на землю пришел, и нагим же сойду я под землю.
Стоит ли стольких трудов этот конец мой нагой?
Всякая женщина — зло. Но дважды бывает хорошей:
Или на ложе любви, или на смертном одре.
Когда ты предо мной и слышу речь твою,
Благоговейно взор в обитель чистых звезд
Я возношу, — так все в тебе, Ипатия,
Небесно — и дела, и красота речей,
И чистый, как звезда, науки мудрой свет.
Медного Зевсова сына, которому прежде молились,
Видел поверженным я на перекрестке путей
И в изумленье сказал: «О трехлунный[581], защитник от бедствий,
Непобедимый досель, в прахе лежишь ты теперь!»
Ночью явился мне бог и в ответ произнес, улыбаясь:
«Времени силу и мне, богу, пришлось испытать».
Став христианами, боги, владельцы чертогов Олимпа,
Здесь обитают теперь невредимыми, ибо отныне
Не предают их сожженью плавильня и мех поддувальный.
Мне кажется, давно мы, греки, умерли,
Давно живем, как призраки несчастные,
И сон свой принимаем за действительность.
А может быть, мы живы, только жизнь мертва?
О, худшее из зол — зло зависти, вражда
К любимцам божества, счастливым меж людьми!
Безумцы, ею так ослеплены мы все,
Так в рабство глупости спешим отдать себя!
Мы, эллины, лежим, во прах повержены
И возложив свои надежды мертвые
На мертвецов. Так все извращено теперь.
Книги, орудия муз, причинившие столько мучений,
Распродаю я, решив переменить ремесло.
Музы, прощайте! Словесность, я должен расстаться с тобою, —
Иначе синтаксис твой скоро уморит меня.
Целый пентастих[585] проклятый грамматике служит началом:
В первом стихе его гнев; гибельный гнев — во втором,
Где говорится еще и о тысячах бедствий ахейцев;
Многие души в Аид сводятся — в третьем стихе;
Пищей становятся псов плотоядных герои — в четвертом;
В пятом стихе — наконец — птицы и гневный Кронид.
Как же грамматику тут, после всех этих страшных проклятий,
После пяти падежей, бедствий больших не иметь?
С гибельным гневом связался, несчастный, я брачным союзом;
С гнева начало ведет также наука моя.
Горе мне, горе! Терплю от двойной неизбежности гнева —
И от грамматики я, и от сварливой жены.
Зевс отплатил нам огнем за огонь,[586] дав нам в спутники женщин,
Лучше бы не было их вовсе — ни жен, ни огня!
Пламя хоть гасится скоро, а женщина — неугасимый,
Жгучий, дающий всегда новые вспышки огонь.
Чужд я надежде, не грежу о счастье; последний остаток
Самообмана исчез. В пристань вошел я давно.
Беден мой дом, но свобода под кровом моим обитает,
И от богатства обид бедность не терпит моя.
Солнце — наш бог лучезарный. Но если б лучами своими
Нас оскорбляло оно, я бы не принял лучей.
Полон опасностей путь нашей жизни. Застигнуты бурей,
Часто крушение в нем терпим мы хуже пловцов.
Случай — наш кормчий, и в жизни, его произволу подвластны,
Мы, как по морю, плывем, сами не зная куда.
Ветром попутным одни, а другие противным гонимы,
Все мы одну, наконец, пристань находим — в земле.
С плачем родился я, с плачем умру; и в течение целой
Жизни своей я встречал слезы на каждом шагу.
О, человеческий род многослезный, бессильный и жалкий,
Властно влекомый к земле и обращаемый в прах!
Сцена и шутка вся жизнь. Потому — иль умей веселиться,
Бремя заботы стряхнув, или печали неси.
Много тяжелых мучений несет ожидание смерти;
Смерть же, напротив, дает освобожденье от мук;
А потому не печалься о том, кто уходит от жизни, —
Не существует боле́й, переживающих смерть.
Золото, лести отец, порожденье тревоги и горя,
Страшно тебя не иметь; горе — тобой обладать.
«Злого и свиньи кусают», — гласит поговорка, однако
Правильней, кажется мне, было б иначе сказать:
Добрых и тихих людей даже свиньи кусают, а злого,
Верь, не укусит и змей — сам он боится его.
Мне кажется порой и бог философом,
Который не сейчас казнит хулителей,
А медлит, но больней зато впоследствии
Наказывает их, несчастных, за грехи.
Спал, говорят, под стеной обветшалой[587] однажды убийца;
Но, появившись во сне, ночью Серапис ему
В предупрежденье сказал: «Где лежишь ты, несчастный? Немедля
Встань и другое себе место найди для спанья».
Спавший проснулся, скорей отбежал от стены, и тотчас же,
Ветхая, наземь она с треском упала за ним.
Радостно утром принес в благодарность он жертву бессмертным,
Думая: видно, и нас, грешников, милует бог.
Ночью, однако, опять ему снился Серапис и молвил:
«Воображаешь, глупец, будто пекусь я о злых?
Не дал тебе я вчера умереть безболезненной смертью,
Но через это, злодей, ты не минуешь креста».
В сутки обедают раз. Но когда Саламин угощает,
Мы, возвратившись домой, снова садимся за стол.
Лучше на суд гегемону[588], казнящему смертью злодеев,
Отданным быть, чем тебе в руки, Геннадий, попасть:
Тот, по закону карая, разбойникам головы рубит,
Ты же, невинных губя, с них еще плату берешь.
Мемфис курносый играл в пантомиме Ниобу и Дафну,
Деревом Дафна его, камнем Ниоба была.
Комику Павлу приснился Менандр и сказал: «Никакого
Зла я не сделал тебе. Что ж ты бесславишь меня?»
Если зовутся они «одинокими», что ж их так много?
Где одиночество тут, в этой огромной толпе?
Эта любовь твоя — ложь, да и любишь-то ты поневоле.
Большей неверности нет, нежели так полюбить.
Нику[591] печальную некто вчера в нашем городе видя,
Молвил: «Богиня, скажи, что приключилось с тобой?»
Сетуя громко, она, и судей кляня, отвечала:
«Ныне Патрикию я — ты лишь не знал — отдана».
Ника и та загрустила: ее против правил Патрикий
Взял на лету, как моряк ветер попутный берет.
Семь блуждающих звезд чрез порог переходят Олимпа,
Каждая круг совершая в свое неизменное время:
Ночи светильник — Луна, легкокрылый Меркурий, Венера,
Марс дерзновенный, угрюмый Сатурн, и веселое Солнце,
И прародитель Юпитер, природе всей давший начало.
Между собой они делят и род наш: есть также и в людях
Солнце, Меркурий, Луна, Марс, Венера, Сатурн и Юпитер;
Ибо в удел получаем и мы со струями эфира
Слезы и смех, гнев, желанье, дар слова, и сон, и рожденье.
Слезы дает нам Сатурн, речь — Меркурий, рожденье — Юпитер;
Гнев наш от Марса, от Месяца — сон, от Венеры — желанье;
Смех же исходит от Солнца; оно заставляет смеяться
Как человеческий ум, так равно и весь мир беспредельный.
Ты зимородков, Леней, потревожил на море, но молча
Мать над холодной твоей, влажной могилой скорбит.
Здесь, под яворов тенью, Эрот почивал утомленный,
В сладком сне к ключевым нимфам свой факел склонив,
Нимфы шепнули друг дружке: «Что медлим? Погасим светильник!
С ним погаснет огонь, сердце палящий людей!»
Но светильник и воды зажег: с той поры и поныне
Нимфы, любовью горя, воды кипящие льют.
Да, хороша эта роща Эрота, где нежным дыханьем
Стройных деревьев листву тихо колышет зефир,
Где, освеженная влагой, цветами вся блещет поляна,
Радуя глаз красотой свитых с фиалками роз,
И из тройных, друг над другом лежащих сосков на поляну
Льет водяную струю нимфы-красавицы грудь.
Там, под тенистою кущей деревьев течет седовласый
Ирис, — там гамадриад пышноволосых приют.
Здесь же, в саду, зеленеют плоды маслянистой оливы,
Зреет на солнце везде в гроздьях больших виноград.
А соловьи распевают вокруг, и в ответ им цикады
Мерно выводят свою звонко-певучую трель.
Гостеприимное место открыто для путника — мима
Не проходи, а возьми в дар от него что-нибудь.
Овод, обманут Мироном и ты, что стараешься жало
В неуязвимую грудь медной коровы вонзить?
Не осуждаю тебя — что для овода в этом дурного,
Если самих пастухов ввел в заблужденье Мирон?
Мертвых владыка, Плутон, в свое царство прими Демокрита.
Чтоб среди мрачных людей был и смеющийся в нем.
Часто певал я о том и взывать еще буду из гроба:
Пейте, покуда вас всех прах не оденет земной!
Из роз венок сплетая,
Нашел я в них Эрота.
За крылышки схвативши,
В вино его я бросил
И сам вино то выпил.
С тех пор мое все тело
Он крыльями щекочет.
Это Ипатиев холм. Не подумай, однако, что кроет
Он действительно прах мужа такого, как был
Вождь авсонийцев. Земля, устыдившись великого мужа
Насыпью малой покрыть, морю его отдала.
Гневался сам повелитель на волны мятежного моря,
Что схоронен от него ими Ипатия прах.
Он как последнего дара желал обладания прахом,
Море ж осталось глухим к великодушной мечте;
И, подавая великий пример милосердия людям,
Этой могилою он мертвого память почтил.
Дома другого ищите себе для добычи, злодеи,
Этот же дом стережет страж неусыпный — нужда.
Воском погублен ты был, о Икар; и при помощи воска
Прежний твой облик сумел ныне ваятель создать.
Но не пытайся взлететь, а не то этим баням, как морю,
Падая с выси небес, имя «Икаровых» дашь.
Мы — девять Дафновых книг[599], от Агафия. Наш сочинитель
Всех, о Киприда, тебе нас посвящает одной;
Ибо не столько о музах печемся мы, как об Эроте,
Будучи все целиком оргий любовных полны.
Сам же он просит тебя за труды, чтоб дано ему было
Иль никого не любить, или доступных легко.
Смерти ль страшиться, о други? Она спокойствия матерь,
В горе — отрада, бедам, тяжким болезням — конец.
Раз к человекам приходит, не боле, и день разрушенья
Нам обречен лишь один, дважды не гибнул никто.
Скорби ж с недугами жизнь на земле отравляют всечасно,
Туча минует — за ней новая буря грозит!
Влажные девичьи губы под вечер меня целовали.
Нектар уста выдыхали, и нектаром были лобзанья;
И опьянили меня, потому что я выпил их много.
Я не любитель вина; если ж ты напоить меня хочешь.
Прежде чем мне поднести, выпей из кубка сама.
Только губами коснись, и уж трудно остаться мне трезвым,
Трудно тогда избежать милого кравчего чар.
Мне поцелуй принесет с собой от тебя этот кубок,
Ласки, полученной им, вестником будет он мне.
Гроздья, несметные Вакха дары, мы давили ногами,
В Вакховой пляске кружась, руки с руками сплетя.
Сок уже лился широким потоком, и винные кубки
Стали, как в море ладьи, плавать по сладким струям.
Черпая ими, мы пили еще не готовый напиток
И не нуждались притом в помощи теплых наяд[600].
К чану тогда подойдя, наклонилась над краном Роданфа
И осветила струю блеском своей красоты.
Сердце у всех застучало сильнее. Кого между нами
Не подчинила себе Вакха и Пафии[601] власть?
Но, между тем как дары одного изливались обильно,
Льстила другая, увы, только надеждой одной.
Взяв в образец Полемона, остригшего в сцене Менандра
Пряди роскошных волос грешной подруге своей,
Новый, второй Полемон, окорнал беспощадной рукою
Кудри Роданфы, причем не ограничился тем,
Но, перейдя от комических действий к трагическим мукам,
Нежные члены ее плетью еще отхлестал.
Ревность безумная! Разве уж так согрешила девица,
Если страданья мои в ней сожаленье нашли?
Нас между тем разлучил он, жестокий, настолько, что даже
Жгучая ревность его видеть ее не дает.
Стал он и впрямь «Ненавистным» за то. Я же сделался «Хмурым»,
Так как не вижу ее, «Стриженой», больше нигде.
Юношам легче живется на свете, чем нам, горемычным,
Женщинам, кротким душой. Нет недостатка у них
В сверстниках верных, которым они в откровенной беседе
Могут тревоги свои, боли души поверять,
Или устраивать игры, дающие сердцу утеху,
Или, гуляя, глаза красками тешить картин.
Нам же нельзя и на свет поглядеть, но должны мы скрываться
Вечно под кровом жилищ, жертвы унылых забот.
Славный твой образ поставлен сынами могучего Рима,
О херонеец Плутарх[603], в вознагражденье за то,
Что в параллельных своих описаниях жизни ты римлян,
Победоносных в войне, с цветом Эллады сравнил.
Но ты сам бы не мог в параллель своей жизни другую
Чью-либо жизнь описать, так как подобной ей нет.
Некий рыбак трудился на ловле. Его заприметив,
Девушка знатной семьи стала томиться по нем.
Сделала мужем своим, а рыбак после нищенской жизни
От перемены такой стал непомерно спесив.
Но посмеялась над ним Судьба и сказала Киприде:
«Рук это дело моих — ты здесь совсем ни при чем».
Из года в год виноград собирают и, гроздья срезая,
Вовсе не смотрят на то, что изморщилась лоза;
Я ж твоих розовых рук, краса ты моя и забота,
Не покидаю вовек, с ними в объятьях сплетясь.
Я пожинаю любовь, ничего ни весною, ни летом
Больше не надобно мне: ты мне любезна одна.
Будь же цветущей всегда! А если когда-нибудь станут
Видны бороздки морщин, что мне до них? Я люблю.
Льющую слезы Ниобу увидев, пастух удивлялся:
Как это? Камень, а вот… тоже роняет слезу.
Только Эвгиппа, сей камень живой, меня не жалела,
Хоть я во мраке стенал всю эту долгую ночь.
Тут виновата любовь. От нее и страданья обоим:
Ты ведь любила детей, я же тебя полюбил.
Ночью привиделось мне, что со мной, улыбаясь лукаво,
Милая рядом, и я крепко ее обнимал.
Все позволяла она и совсем не стеснялась со мною
В игры Киприды играть в тесных объятьях моих.
Но взревновавший Эрот, даже ночью пустившись на козни,
Нашу расстроил любовь, сладкий мой сон разогнав.
Вот как завистлив Эрот! Он даже в моих сновиденьях
Мне насладиться не даст счастьем взаимной любви.
«Верность» — имя тебе. Вот я и поверил, но тщетно
Я понадеялся: ты стала мне горше, чем смерть.
Ты от влюбленных бежишь, а спешишь к тому, кто не любит.
Чтобы, лишь он полюбил, тотчас опять убежать.
Губы твои — приманка коварная: только я клюнул,
Сразу на остром крючке розовых губ я повис.
Благословенны да будут равно и Забвенье и Память:
Счастию Память мила, горю Забвение друг.
Был нездоров я вчера, и предстал предо мною зловредный
Врач-погубитель и мне нектар вина запретил.
Воду он пить приказал. Слова твои на́ ветер, неуч!
Сам ведь Гомер говорил: «Сила людская в вине».[605]
Скряга какой-то, заснув, на несметный клад натолкнулся
И в сновиденье своем до смерти был ему рад.
Но, лишь проснулся и вновь, после всей этой прибыли сонной,
Бедность увидел свою, с горя опять он уснул.
Каждому гостю я рад, земляку и чужому. Не дело
Гостеприимству пытать: кто ты, откуда и чей?
Золотом я привлекаю Эрота: совсем не от плуга
Или мотыги кривой пчелок зависят труды,
Но от росистой весны; а для меда Пеннорожденной
Ловким добытчиком нам золото служит всегда.
Меч мне зачем обнажать? Клянусь тебе, милая, право,
Не для того, чтобы с ним против Киприды пойти,
Но чтоб тебе показать, что Арея, как ни свиреп он,
Можно заставить легко нежной Киприде служить.
Он мне, влюбленному, спутник, не надобно мне никакого
Зеркала: в нем я всегда вижу себя самого.
Как он прекрасен в любви! Но если меня ты покинешь,
В лоно глубоко мое этот опустится меч.
В золото Зевс обратился, когда захотел он с Данаи
Девичий пояс совлечь, в медный проникнув чертог.
Миф этот нам говорит, что и медные стены, и цепи —
Все подчиняет себе золота мощная власть.
Золото все расслабляет ремни, всякий ключ бесполезным
Делает; золото гнет женщин с надменным челом
Так же, как душу Данаи согнуло. Кто деньги приносит,
Вовсе тому не нужна помощь Киприды в любви.
Будем, Родопа, мы красть поцелуи и милую сердцу,
Но возбраненную нам службу Киприде скрывать.
Сладко, таясь, избегать сторожей неусыпного взгляда;
Ласки запретной любви слаще дозволенных ласк.
Слово «прости» тебе молвить хотел я. Но с уст не слетевший
Звук задержал я в груди и остаюсь у тебя
Снова, по-прежнему твой, — потому что разлука с тобою
Мне тяжела и страшна, как ахеронская ночь.
С светом дневным я сравнил бы тебя. Свет, однако, безгласен,
Ты же еще и мой слух радуешь речью живой,
Более сладкой, чем пенье сирен; этой речью одною
Держатся в сердце моем все упованья мои.
Сеткой ли волосы стянешь — и я уже таю от страсти:
Вижу я Реи самой башней увенчанный лик.
Голову ль вовсе открытой оставишь — от золота прядей,
Вся растопясь, из груди вылиться хочет душа.
Белый покров ли себе на упавшие кудри накинешь —
Пламя сильнейшее вновь сердце объемлет мое…
Три этих вида различных с триадой харит неразлучны;
Каждый из них на меня льет свой особый огонь.
Кто был однажды укушен собакою бешеной, всюду
Видит потом, говорят, призрак звериный в воде.
Бешеный также, быть может, Эрот мне свой зуб ядовитый
В сердце вонзил и мою душу недугам обрек.
Только твой образ любимый повсюду мне чудится — в море,
В заводи каждой реки, в каждом бокале вина.
Больше пугать не должны никого уже стрелы Эрота;
Он, неудержный, в меня выпустил весь свой колчан.
Пусть не боится никто посещенья крылатого бога!
Как он ступил мне на грудь маленькой ножкой своей,
Так и засел в моем сердце с тех пор неподвижно и прочно —
С места нейдет и себе крылышки даже остриг.
Видел я мучимых страстью. Любовным охвачены пылом,
Губы с губами сомкнув в долгом лобзанье, они
Все не могли охладить этот пыл, и, казалось, охотно
Каждый из них, если б мог, в сердце другому проник.
Чтобы хоть сколько-нибудь утолить эту жажду слиянья,
Стали меняться они мягкой одеждою. Он
Сделался очень похож на Ахилла, когда, приютившись
У Ликомеда[611], герой в девичьем жил терему.
Дева ж, хитон подобрав высоко до бедер блестящих,
На Артемиду теперь видом похожа была.
После устами опять сочетались они, ибо голод
Неутолимой любви начал их снова терзать.
Легче бы было разнять две лозы виноградных, стволами
Гибкими с давней поры сросшихся между собой,
Чем эту пару влюбленных и связанных нежно друг с другом
Узами собственных рук в крепком объятье любви.
Милая, трижды блаженны, кто этими узами связан.
Трижды блаженны… А мы розно с тобою горим.
Краше, Филинна, морщины твои, чем цветущая свежесть
Девичьих лиц; и сильней будят желанье во мне,
Руки к себе привлекая, повисшие яблоки персей,
Нежели дев молодых прямо стоящая грудь.
Ибо милей, чем иная весна, до сих пор твоя осень,
Зимнее время твое лета мне много теплей.
После того как, играя со мной на пирушке, украдкой
Бросила мне Харикло на волоса свой венок,
Жжет меня адское пламя. Знать, было в венке этом что-то,
Что и Креонтову дочь, Главку[613], когда-то сожгло.
Спорят о том нереиды, с наядами гамадриады,[615]
Кто это место своим более вправе назвать.
Судит харита их спор, но решенья сама не находит —
Так им обязана всем местность своей красотой.
Долго ли будем с тобой распаленные взоры украдкой
Друг на друга бросать, пламя желанья тая?
Молви, какая забота томит тебя — кто нам помехой,
Чтобы мы нежно сплелись, горе в объятьях забыв?
Если же так, только меч исцелить нас обоих возможет,
Ибо слаще пребыть в жизни и в смерти вдвоем.
Ох, даже всласть поболтать не дает нам злобная зависть,
Ни обменяться тайком знаками наших ресниц!
Смотрит упорно на нас стоящая рядом старуха,
Как многоокий пастух, дочери Инаха страж[616].
Стой, и высматривай нас, и терзай себе попусту сердце:
Как ни гляди, все равно в душу глазами не влезть.
Как-то, вздремнув вечерком и закинув за голову руку,
Менократида моя сладко забылась во сне.
Я и посмел к ней прилечь, но лишь по дороге Киприды
Мне полпути удалось сладостно тут завершить,
Как пробудилось дитя и, белыми сразу руками
Голову цепко схватив, стало мне волосы рвать.
Все ж, как ни билась она, завершили мы дело Эрота,
Но залилась она вся слезным потоком, сказав:
«Вот, негодяй, своего ты даром добился, а я-то
Воли тебе не давать даже за деньги клялась.
Ты вот уйдешь и сожмешь другую сейчас же в объятьях:
Все ненасытны вы, жадной Киприды рабы».
Имя мне… — Это зачем? — Отчизна мне… — Это к чему же?
— Славного рода я сын. — Если ж ничтожного ты?
Прожил достойно я жизнь. — А если отнюдь не достойно?
— Здесь я покоюсь теперь. — Мне-то зачем это знать?
Эта вакханка в безумье отнюдь не созданье природы —
Только искусство могло с камнем безумие слить.
Только твою красоту передал живописец. О, если б
Мог он еще передать прелесть и песен твоих,
Чтобы не только глаза, но и уши могли наслаждаться
Видом лица твоего, звуками лиры твоей.
Тот, кто заносчивым был и сводил надменные брови,
Ныне игрушкой в руках девушки слабой лежит.
Тот, кто когда-то считал, что надо преследовать деву,
Сам укрощенный, теперь вовсе надежды лишен.
Вот он, простершийся ниц и от жалобных просьб ослабевший,
А у девчонки глаза гневом пылают мужским.
Девушка с львиной душой, даже если твой гнев и оправдан,
Все же надменность умерь, ведь Немезида близка.
Ночью вчера Гермонасса, когда, возвращаясь с попойки,
Двери я ей украшал, их обвивая венком,
Вдруг окатила меня водой из кубка, прическу
Спутав мою, а над ней целых три дня я сидел.
Но разгорелся я весь от этой воды, и понятно:
Страстный от сладостных губ в кубке таился огонь.
Двери ночною порой захлопнула вдруг Галатея
Передо мной и к тому ж дерзко ругнула меня.
«Дерзость уносит любовь» — изречение это неверно:
Дерзость сильнее еще страсть возбуждает мою.
Я ведь поклялся, что год проживу от нее в отдаленье,
Боги, а утром пришел к ней о прощенье молить!
Семь городов, пререкаясь, зовутся отчизной Гомера:
Смирна, Хиос, Колофон, Пилос, Аргос, Итака, Афины.
Кто о Троянской войне и о долгих скитаньях по свету
Сына Лаэртова[617] нам эти листы написал?
Мне не известны наверно ни имя, ни город, Кронион,
Уж не твоих ли стихов славу присвоил Гомер?
Сам испытав его, точно воссоздал Эрота Пракситель,
В собственном сердце своем образ его почерпнул.
Фрине, как дар за любовь, принесен бог любви. Не стрелами,
Взором одним лишь очей он свои чары творит.
Из перепутанных сложно ходов моего лабиринта,
Раз ты попал в них, на свет выход найти нелегко, —
Так же ведь были темны прорицанья Кассандры, когда их
Обиняками царю пересказала раба.
Коль с Каллиопой ты дружен, бери меня в руки; но если
С музами ты незнаком, будет рукам тяжело.
Памятник сей не прославит тебя, Эврипид, — он в потомстве!
Сам от забвенья храним славой бессмертной твоей.
— Пес, охраняющий гроб, возвести мне, чей пепел сокрыт в нем?
— Пепел почиет в нем пса. — Кто ж был сей пес? — Диоген.
— Родом откуда, скажи? — Из Синопа. — Не жил ли он в бочке?
— Так: но, оставя сей мир, нынче он в звездах живет.
Тимон опасен и мертвый. Ты, Цербер, привратник Плутона,
Будь осторожен, смотри! Тимон укусит тебя.
Ты бы оплакивал днесь, Гераклит, бытие человеков
Больше, чем прежде: оно стало жальчее стократ.
Ты же над ним, Демокрит, умножил бы смех справедливый,
День ото дня на земле смеха достойнее жизнь.
Мудрости вашей дивясь, смущается дух мой — не знаю,
Плакать ли с первым из вас или смеяться с другим.
«Я — Гераклит. Что вы мне не даете покоя, невежды?
Я не для вас, а для тех, кто понимает меня.
Трех мириад мне дороже один: и ничто мириады,
Так говорю я и здесь, у Персефоны, теперь».
Семь мудрецов называю — их родину, имя, реченье:
«Мера важнее всего», — Клеобул говаривал Линдский;
В Спарте: «Познай себя самого», — проповедовал Хилон;
Сдерживать гнев увещал Периандр, уроженец Коринфа;
«Лишку ни в чем!» — поговорка была митиленца Питтака;
«Жизни конец наблюдай», — повторялось Молоном Афинским;
«Худших везде большинство», — говорилось Биантом Приенским;
«Ни за кого не ручайся», — Фалеса Милетского слово.
Пчелы к устам твоим сами, Менандр, принесли в изобилье
Пестрых душистых цветов, с пажитей муз их собрав;
Сами хариты тебя наделили дарами своими,
Драмы украсив твои прелестью метких речей.
Вечно живешь ты, и слава, какую стяжали Афины
Через тебя, к небесам, до облаков вознеслась.
Здесь погребен Гиппократ, фессалиец. Рожденный на Косе,
Феба он был самого, корня бессмертного, ветвь.
Много, болезни врачуя, трофеев воздвиг Гигиее,
Много похвал заслужил — знаньем, не случаем он.
Муз у себя принимал Геродот, и по книге от каждой
Он получил за свое гостеприимство потом.
Жители Родоса, племя дорийцев, колосс этот медный,
Величиной до небес, Гелий, воздвигли тебе,
После того как смирили военную бурю и остров
Обогатили родной бранной добычей своей.
Не над одним только морем, но также равно и над сушей
Светоч свободы они неугасимый зажгли,
Ибо ведущим свой род от Геракла по праву наследства
Власть подобает иметь и на земле и в морях.
С битвы обратно к стенам, без щита и объятого страхом,
Сына бегущего мать встретила, гневом кипя:
Вмиг занесла копие и грудь малодушну пронзила.
Труп укоряя потом, грозно вещала она:
«В бездну Аида ступай, о сын недостойный отчизны!
Спарты и родших завет мог ли, изменник, забыть?»
Гектора кровью обрызганный щит, наследье Пелида,
Сыну Лаэрта на часть отдан ахеян судом:
Море, пожрав корабли, сей щит не к утесам Итаки[625] —
К гробу Аянтову вспять быстрой примчало волной —
Море явило неправость суда — хвала Посейдону:
Он тебе, Саламин, должную честь возвратил.
Мать моя, Рея, фригийских кормилица львов, у которой
Верных немало людей есть на Диндиме[627], тебе
Женственный твой Алексид[628] посвящает орудия эти
Буйных радений своих, нынче оставленных им:
Эти звенящие резко кимвалы, а также кривые
Флейты из рога телят, низкий дающие звук,
Бьющие громко тимпаны, ножи, обагренные кровью,
С прядями светлых волос, что распускал он и тряс.
Будь милосердна, богиня, к нему и от оргий, в которых
Юношей буйствовал он, освободи старика.
Не из благого желанья судьбой вознесен ты, а только
Чтоб показать, что могла сделать она и с тобой.
Спарта родная! Мы, триста сынов твоих, бившихся в поле
С равным числом аргивян из-за фирейской земли,
Там, где стояли в начале сражения, там же, ни разу
Не повернув головы, с жизнью расстались своей.
Но Офриада в крови обагрившийся щит возглашает:
«Спарте подвластной теперь стала Фирея, о Зевс!»
Кто ж из аргосцев от смерти бежал, был Адрастова рода[630];
Бегство, не гибель в бою, смертью спартанцы зовут.
Муз провозвестник священный, Пиндáр; Вакхилид, как сирена,
Пеньем пленявший; Сапфо, цвет эолийских харит;
Анакреонтовы песни, и ты, из Гомерова русла
Для вдохновений своих бравший струи, Стесихор;
Прелесть стихов Симонида, и снятая Ивиком жатва
Юности первых цветов, сладостных песен любви;
Меч беспощадный Алкея, что кровью тиранов нередко
Был обагрен, права края родного храня;
Женственно-нежные песни Алкмана — хвала вам! Собою
Лирику начали вы и положили ей грань.
В Фивах клектал величаво Пинда́р; Симонидова муза
Сладостным пеньем своим обворожала сердца;
Ярко сиял Стесихор, так же Ивик; Алмак был приятен;
Из Вакхилидовых уст звуки лилися, как мед;
В Анакреонте был дар убеждать; песни разного склада
На эолийских пирах пел митиленец Алкей.
Между певцами девятой Сапфо не была, но десятой
Числится в хоре она славных парнасских богинь.
Да, в роговые ворота, не в двери из кости слоновой
Ты к Баттиаду пришел, многозначительный сон!
Ибо немало такого, чего мы не знали доселе,
Ты нам открыл о богах и о героях, когда,
Взяв из пределов Ливийской земли его, мудрого, сразу
На Геликон перенес в круг пиерийских богинь,
И на вопросы его о началах как рода героев,
Так и блаженных самих дали ответы они.
Матерь-земля, приюти старика Аминтиха в лоно,
Долгие вспомнив труды старого все над тобой!
Целую жизнь насаждал на тебе он отростки оливы,
Целую жизнь украшал Вакха лозою тебя
Или Деметры зерном и, воду ведя по каналам,
Сделал обильной тебя добрым осенним плодом.
Кротко в награду за то приляг над седой головою
И возрасти старику вешний цветущий венок!
Пана, меня, не любя, даже воды покинула Эхо[632].
Роза недолго блистает красой. Спеши, о прохожий!
Вместо царицы цветов тернии скоро найдешь.
В младости беден я был; богатство пришло с сединами.
Жалкая доля навек мне от богов суждена!
Лучшие в жизни лета провел я без средств к наслажденью;
Ныне же средства нашел, силы к веселью лишась.
— Знай, я люблю, и любим, и дарами любви наслаждаюсь!
— Кто ж ты, счастливец, и кем? — Пафия знает одна.
С мерой, с уздою в руках, Немезида вещает нам ясно:
«Меру в деяньях храни; дерзкий язык обуздай!»
К холму Аянта придя бесстрашного, некий фригиец
Стал, издеваясь над ним, дерзостно так говорить:
«Сын Теламонов не выстоял…» Он же воскликнул из гроба:
«Выстоял!» — и убежал в страхе пред мертвым живой.
Это владыка эдонян, на правую ногу обутый,
Дикий фракиец, Ликург, — кем он из меди отлит?
Видишь: в безумье слепом он заносит секиру надменно
Над головою, лозе Вакха священной грозя.
Дерзостью прежней лицо его дышит, и лютая ярость
Даже и в меди таит гневную гордость свою.
Лучший край на земле — пелазгов родина, Аргос;
Лучше всех кобылиц — фессалийские; жены — лаконки,
Мужи — которые пьют Аретусы-красавицы воду.
Но даже этих мужей превосходят славою люди,
Что, меж Тиринфом живут и Аркадией овцеобильной,
В панцирях из полотна, зачинщики войн, аргивяне.
Ну, а вы, мегаряне, ни в третьих, и ни в четвертых,
И ни в двенадцатых: вы ни в счет, ни в расчет не идете.
Вы возвестите царю, что храм мой блестящий разрушен;
Нет больше крова у Феба, и нет прорицателя-лавра,
Ключ говорящий умолк: говорливая влага иссякла.
Мне петь было о Трое,
О Кадме мне бы петь,
Да гусли мне в покое
Любовь велят звенеть.
Я гусли со струнами
Вчера переменил,
И славными делами
Алкида возносил;
Да гусли поневоле
Любовь мне петь велят,
О вас, герои, боле,
Прощайте, не хотят.
Мне девушки сказали:
«Ты дожил старых лет»,
И зеркало мне дали:
«Смотри, ты лыс и сед».
Я не тужу нимало,
Еще ль мой волос цел
Иль темя гладко стало,
И весь я побелел.
Лишь в том могу божиться,
Что должен старичок
Тем больше веселиться,
Чем ближе видит рок.
Мастер в живопистве первой,
Первой в Родской стороне[636],
Мастер, научен Минервой[637],
Напиши любезну мне.
Напиши ей кудри черны,
Без искусных рук уборны,
С благовонием духов,
Буде способ есть таков.
Дай из роз в лице ей крови
И как снег представь белу,
Проведи дугами брови
По высокому челу;
Не сведи одну с другою,
Не расставь их меж собою,
Сделай хитростью своей,
Как у девушки моей.
Цвет в очах ее небесной,
Как Минервин, покажи,
И Венерин взор прелестной
С тихим пламенем вложи;
Чтоб уста без слов вещали
И приятством привлекали
И чтоб их безгласна речь
Показалась медом течь.
Всех приятностей затеи
В подбородок умести,
И кругом прекрасной шеи
Дай лилеям расцвести,
В коих нежности дыхают,
В коих прелести играют
И по множеству отрад
Водят усумненный взгляд.
Надевай же платье ало,
И не тщись всю грудь закрыть,
Чтоб, ее увидев мало,
И о прочем рассудить.
Коль изображенье мочно,
Вижу здесь тебя заочно,
Вижу здесь тебя, мой свет:
Молви ж, дорогой портрет.
В час полуночный недавно,
Как Воота[639] под рукой
Знак Арктоса обращался,
Как все звания людей
Сна спокойствие вкушали,
Отягченные трудом,
У дверей моих внезапно
Постучал Ерот кольцом.
«Кто, — спросил я, — в дверь стучится
И тревожит сладкий сон?..»
«Отвори, — любовь сказала, —
Я ребенок, не страшись;
В ночь безмесячную сбился
Я с пути и весь обмок…»
Жаль мне стало, отзыв слыша;
Встав, светильник я зажег;
Отворив же дверь, увидел
Я крылатое дитя,
А при нем и лук и стрелы.
Я к огню его подвел,
Оттирал ладонью руки,
Мокры кудри выжимал;
Он, лишь только обогрелся:
«Ну, посмотрим-ка, — сказал, —
В чем испортилась в погоду
Тетива моя?» — и лук
Вдруг напряг, стрелой ударил
Прямо в сердце он меня[640];
Сам, вскочив, с улыбкой молвил:
«Веселись, хозяин мой!
Лук еще мой не испорчен,
Сердце он пронзил твое».
У юноши недавно,
Который продавал
Ерота воскового,
Спросил я, что́ цена
Продажной этой вещи?
А он мне отвечал
Дорическим язы́ком[641]:
«Возьми за что ни есть;
Но знай, что я не мастер
Работы восковой;
С Еротом прихотливым
Жить больше не хочу».
«Так мне продай за драхму,
Пусть будет жить со мной
Прекрасный сопостельник.[642]
А ты меня, Ерот,
Воспламени мгновенно,
Иль тотчас будешь сам
Ты в пламени растоплен».
Некогда в стране Фригийской
Дочь Танталова[643] была
В горный камень превращенна.
Птицей Пандиона дочь[644]
В виде ласточки летала,
Я же в зеркало твое
Пожелал бы превратиться,
Чтобы взор твой на меня
Беспрестанно обращался;
Иль одеждой быть твоей,
Чтобы ты меня касалась;
Или, в воду претворяясь,
Омывать прекрасно тело;
Иль во благовонну мазь,
Красоты твои умастить;
Иль повязкой на груди,
Иль на шее жемчугами,
Иль твоими б я желал
Быть сандалами, о дева!
Чтоб хоть нежною своей
Жала ты меня ногою.
Почто витиев правил
Вы учите меня?
Премудрость я оставил,
Не надобна она.
Вы лучше поучите,
Как сок мне Вакхов пить,
С прекрасной помогите
Венерой пошутить.
Уж нет мне больше силы
С ней одному владеть;
Подай мне, мальчик милый,
Вина, хоть поглядеть:
Авось еще немного
Мой разум усыплю;
Приходит время строго;
Покину, что люблю.
О счастливец, о кузнечик,
На деревьях на высоких
Каплею воды напьешься
И, как царь, ты распеваешь.
Все твое, на что ни взглянешь,
Что в полях цветет широких,
Что в лесах растет зеленых.
Друг смиренный земледельцев,
Ты ничем их не обидишь.
Ты приятен человеку,
Лета сладостный предвестник:
Музам чистым ты любезен,
Ты любезен Аполлону:
Дар его — твой звонкий голос.
Ты и старости не знаешь,
О мудрец, всегда поющий,
Сын, жилец земли невинный,
Безболезненный, бескровный,
Ты почти богам подобен!
Узнают коней ретивых
По их выжженным таврам;
Узнают парфян кичливых
По высоким клобукам;
Я любовников счастливых
Узнаю по их глазам:
В них сияет пламень томный —
Наслаждений знак нескромный.
Посмотри — весна вернулась, —
Сыплют розами хариты;
Посмотри — на тихом море
Волны дремою повиты;
Посмотри — ныряют утки,
Журавлей летит станица;
Посмотри — Титана-солнца
В полном блеске колесница.
Тучи тихо уплывают,
Унося ненастья пору;
На полях труды людские
Говорят приветно взору.
Гея нежные посевы
На груди своей лелеет;
Почка ма́слины пробилась
Сквозь кору и зеленеет;
Лозы пламенного Вакха
Кроет ли́ства молодая,
И плодов румяных завязь
Расцвела, благоухая.
Не шутя меня ударив
Гиацинтовой лозою,
Приказал Эрот мне бегать
Неотступно за собою.
Между терний, чрез потоки,
Я помчался за Эротом
По кустам и по стремнинам,
Обливаясь крупным потом,
Я устал; ослабло тело —
И едва дыханье жизни
Из ноздрей не улетело.
Но, концами нежных крыльев
Освеживши лоб мой бледный,
Мне Эрот тогда промолвил:
«Ты любить не в силах, бедный!»
Розу нежную Эротов
С Дионисом сочетаем:
Краснолиственною розой
Наши чела увенчаем
И нальем с веселым смехом
В чаши нектар винограда,
Роза — лучший цвет весенний,
Небожителей услада!
Мягкокудрый сын Киприды
Розой голову венчает,
Как с харитами он в пляске
Хороводной пролетает.
Дайте ж мне венок и лиру,
И под Вакховой божницей
Закружусь я в быстрой пляске
С волногрудою девицей…
Плачь, Венера, и вы, Утехи, плачьте!
Плачьте все, кто имеет в сердце нежность!
Бедный птенчик погиб моей подружки.
Бедный птенчик, любовь моей подружки.
Милых глаз ее был он ей дороже.
Слаще меда он был и знал хозяйку,
Как родимую мать дочурка знает.
Он с колен не слетал хозяйки милой.
Для нее лишь одной чирикал сладко.
То сюда, то туда порхал, играя.
А теперь он идет тропой туманной
В край ужасный, откуда нет возврата.
Будь же проклята ты, обитель ночи,
Орк, прекрасное все губящий жадно!
Ты воробушка чудного похитил!
О, злодейство! Увы! Несчастный птенчик!
Ты виной, что от слез, соленых, горьких,
Покраснели и вспухли милой глазки.
Будем, Лесбия, жить, любя друг друга!
Пусть ворчат старики, — что нам их ропот?
За него не дадим монетки медной!
Пусть восходят и вновь заходят звезды, —
Помни: только лишь день погаснет краткий,
Бесконечную ночь нам спать придется.
Дай же тысячу сто мне поцелуев,
Снова тысячу дай и снова сотню,
И до тысячи вновь и снова до ста,
А когда мы дойдем до многих тысяч,
Перепутаем счет, чтоб мы не знали,
Чтобы сглазить не мог нас злой завистник,
Зная, сколько с тобой мы целовались.
Спросишь, Лесбия, сколько поцелуев
Милых губ твоих страсть мою насытят?
Ты зыбучий сочти песок ливийский
В напоенной отравами Кирене[647],
Где оракул полуденный Аммона[648]
И где Батта[649] старинного могила.
В небе звезды сочти, что смотрят ночью
На людские потайные объятья.
Столько раз ненасытными губами
Поцелуй бесноватого Катулла,
Чтобы глаз не расчислил любопытный
И язык не рассплетничал лукавый.
Катулл измученный, оставь свои бредни:
Ведь то, что сгинуло, пора считать мертвым.
Сияло некогда и для тебя солнце,
Когда ты хаживал, куда вела дева,
Тобой любимая, как ни одна в мире.
Забавы были там, которых ты жаждал,
Приятные — о да! — и для твоей милой,
Сияло некогда и для тебя солнце,
Но вот, увы, претят уж ей твои ласки.
Так отступись и ты! Не мчись за ней следом,
Будь мужествен и тверд, перенося муки.
Прощай же, милая! Катулл сама твердость.
Не будет он, стеная, за тобой гнаться.
Но ты, несчастная, не раз о нем вспомнишь.
Любимая, ответь, что ждет тебя в жизни?
Кому покажешься прекрасней всех женщин?
Кто так тебя поймет? Кто назовет милой?
Кого ласкать начнешь? Кому кусать губы?
А ты, Катулл, терпи! Пребудь, Катулл, твердым!
Фурий, ты готов и Аврелий тоже
Провожать Катулла, хотя бы к Инду
Я ушел, где море бросает волны
На берег гулкий.
Иль в страну гиркан[650] и арабов пышных,
К сакам[651] и парфянам, стрелкам из лука,
Иль туда, где Нил семиустый мутью
Хляби пятнает.
Перейду ли Альп ледяные кручи,
Где поставил знак знаменитый Цезарь,
Галльский Рейн увижу иль дальних бриттов
Страшное море —
Все, что рок пошлет, пережить со мною
Вы готовы. Что ж, передайте милой
На прощанье слов от меня немного,
Злых и последних.
Со своими пусть кобелями дружит!
По три сотни их обнимает сразу,
Никого душой не любя, но печень
Каждому руша.
Только о моей пусть любви забудет!
По ее вине иссушилось сердце,
Как степной цветок, проходящим плугом
Тронутый насмерть.
Всех полуостровов и островов в мире
Жемчужинка, мой Сирмион[652], — хоть их много
В озерах ясных и в морях Нептун держит.
Как счастлив я, как рад, что вновь тебя вижу!
Расставшись с Финией, с Вифинией дальней,
Не верю сам, что предо мною ты, прежний.
О, что отраднее: забот свалить бремя
И возвратиться с легкою душой снова,
Устав от долгих странствий, к своему Лару[653]
И на давно желанном отдохнуть ложе!
Вот вся награда за труды мои… Милый
Мой Сирмион, ликуй: хозяин твой прибыл!
Ликуйте, озера Лабийского волны!
Все хохочите, сколько в доме есть Смехов!
В посвященье Диане мы,
Девы, юноши чистые.
Пойте, юноши чистые,
Пойте, девы, Диану!
О Латония[654], высшего
Дочь Юпитера вышняя,
О рожденная матерью
Под оливой делийской, —
Чтоб владычицей стала ты
Гор, лесов густолиственных,
И урочищ таинственных,
И потоков гремящих!
В муках родов глаголема
Ты Люциной-Юноною;
Именуешься Тривией,
С чуждым светом Луною!
Бегом месячным меришь ты
Путь годов, и хозяину
Добрым полнишь ты сельский дом
Урожаем, богиня.
Под любым из имен святись
И для племени Ремула
Будь опорою доброю,
Как бывала издревле!
Хлам негодный, Волюзия анналы!
Вы сгорите, обет моей подружки
Выполняя. Утехам и Венере
Обещала она, когда вернусь я
И метать перестану злые ямбы,
Худший вздор из дряннейшего поэта
Подарить хромоногому Гефесту
И спалить на безжалостных поленьях.
И решила негодная девчонка,
Что обет ее мил и остроумен!
Ты, рожденная морем темно-синим,
Ты, царица Идалия и Урий,[655]
Ты, Анкону хранящая и Голги,
Амафунт, и песчаный берег Книда,
И базар Адриатики, Диррахий, —
Благосклонно прими обет, Венера!
Вы ж не ждите! Живей в огонь ступайте,
Вздор нескладный, нелепица и бредни,
Хлам негодный, Волюзия анналы!
Плохо стало Катуллу, Корнифиций[656],
Плохо, небом клянусь, и тяжко стало,
Что ни день, что ни час — то хуже, хуже…
Но утешил ли ты его хоть словом?
А ведь это легко, пустое дело!
Я сержусь на тебя… Ну где же дружба?
Но я все-таки жду хоть два словечка,
Пусть хоть грустных, как слезы Симонида.
Вы сюда, мои ямбы, поспешите!
Все сюда! Соберитесь отовсюду!
Девка подлая смеет нас дурачить.
И не хочет стихов моих тетрадку
Возвратить. Это слышите вы, ямбы?
Побегите за ней и отнимите!
Как узнать ее, спро́сите? По смеху
Балаганному, по улыбке сучьей,
По бесстыдной, разнузданной походке.
Окружите ее, кричите в уши:
«Эй, распутница! Возврати тетрадки!
Возврати нам, распутница, тетрадки!»
В грош не ставит? Поганая подстилка!
Порожденье подлейшего разврата!
Только мало ей этого, наверно!
Если краски стыдливого румянца
На собачьей не выдавите морде,
Закричите еще раз, втрое громче:
«Эй, распутница! Возврати тетрадки!
Возврати нам, распутница, тетрадки!»
Все напрасно! Ничем ее не тронуть!
Изменить вам придется обращенье,
Испытать, не подействует ли этак:
«Дева чистая, возврати тетрадки!».
Добрый день, долгоносая девчонка,
Колченогая, с хрипотою в глотке,
Большерукая, с глазом как у жабы,
С деревенским, нескладным разговором,
Казнокрада формийского[657] подружка!
И тебя-то расславили красивой?
И тебя с нашей Лесбией сравнили?
О, бессмысленный век и бестолковый!
Акму нежно обняв, свою подругу,
«Акма, радость моя! — сказал Септимий. —
Если я не люблю тебя безумно
И любить не готов за годом годы,
Как на свете никто любить не в силах,
Пусть в Ливийских песках или на Инде
Повстречаюсь со львом я белоглазым!»
И Амур, до тех пор чихавший влево,
Тут же вправо чихнул в знак одобренья.
Акма, к другу слегка склонив головку
И пурпуровым ртом касаясь сладко
Томных юноши глаз, от страсти пьяных,
«Жизнь моя! — говорит. — Септимий милый!
Пусть нам будет Амур один владыкой!
Верь, сильней твоего, сильней и жарче
В каждой жилке моей пылает пламя!»
Вновь услышал Амур и не налево,
А направо чихнул в знак одобренья.
Так, дорогу начав с благой приметы,
Оба любят они, любимы оба.
Акма другу милей всего на свете,
Всех сирийских богатств и всех британских.
И Септимий один у верной Акмы,
В нем блаженство ее и все желанья.
Кто счастливей бывал, какой влюбленный?
Кто Венеру знавал благоприятней?
Вот повеяло вновь теплом весенним,
Вот под мягким Зефира дуновеньем
Равноденственная стихает буря.
Покидай же, Катулл, поля фригийцев,
Пашни тучные брось Никеи знойной:
К азиатским летим столицам славным.
Уже рвется душа и жаждет странствий,
Уж торопятся ноги в путь веселый.
Вы, попутчики милые, прощайте!
Хоть мы из дому вместе отправлялись,
По дорогам мы разным возвратимся.
Друг Лициний![659] Вчера, в часы досуга,
Мы табличками долго забавлялись.
Превосходно и весело играли.
Мы писали стихи поочередно.
Подбирали размеры и меняли.
Пили, шуткой на шутку отвечали.
И ушел я, твоим, Лициний, блеском
И твоим остроумием зажженный.
И еда не могла меня утешить,
Глаз бессонных в дремоте не смыкал я,
Словно пьяный, ворочался в постели,
Поджидая желанного рассвета,
Чтоб с тобой говорить, побыть с тобою.
И когда, треволненьем утомленный,
Полумертвый, застыл я на кровати,
Эти строчки тебе, мой самый милый,
Написал, чтоб мою тоску ты понял.
Берегись же, и просьб моих не вздумай
Осмеять, и не будь высокомерным,
Чтоб тебе не отмстила Немезида!
В гневе грозна она. Не богохульствуй!
Кажется мне тот богоравным или —
Коль сказать не грех — божества счастливей,
Кто сидит с тобой, постоянно может
Видеть и слышать
Сладостный твой смех; у меня, бедняги,
Лесбия, он все отнимает чувства:
Вижу лишь тебя — пропадает сразу
Голос мой звонкий.
Тотчас мой язык цепенеет; пламя
Пробегает вдруг в ослабевших членах,
Звон стоит в ушах, покрывает очи
Мрак непроглядный.
От безделья ты, мой Катулл, страдаешь,
От безделья ты бесишься так сильно.
От безделья царств и царей счастливых
Много погибло.
Тот, кто все рассмотрел огни необъятного мира,
Кто восхождение звезд и нисхожденье постиг,
Понял, как пламенный блеск тускнеет бегущего солнца,
Как в им назначенный срок звезды уходят с небес,
Как с небесных путей к высоким скалам Латмийским[660]
Нежным призывом любовь Тривию сводит тайком, —
Тот же Конон[661] и меня увидал, косу Береники[662],
Между небесных огней яркий пролившую свет,
Ту, которую всем посвящала бессмертным царица,
Стройные руки свои к небу с молитвой воздев,
Тою порою, как царь, осчастливленный браком недавним,
В край ассирийский пошел, опустошеньем грозя,
Сладостный след сохраняя еще состязанья ночного,
Битвы, добывшей ему девственных прелестей дань.
Разве любовь не мила жене новобрачной? И разве,
Плача у ложа утех между огней торжества,
Дева не лживой слезой омрачает родителей радость?
Нет, я богами клянусь, — стоны неискренни дев.
В том убедили меня стенанья и пени царицы
В час, как на гибельный бой шел ее муж молодой.
Разве ты слезы лила не о том, что покинуто ложе,
Но лишь о том, что с тобой милый твой брат разлучен?
О, как до мозга костей тебя пронзила тревога,
Бурным волненьем своим всю твою душу объяв!
Чувства утратив, ума ты едва не лишилась, а прежде,
Знаю, с детства еще духом была ты тверда.
Подвиг забыла ли ты, который смутит и храбрейших,
Коим и мужа и трон завоевала себе?
Сколько печальных речей при проводах ты говорила!
Боги! Печальной рукой сколько ты вытерла слез!
Кто из бессмертных тебя изменил? Иль с телом желанным
В долгой разлуке бывать любящим так тяжело?
Кровь проливая быков, чтобы муж твой любимый вернулся,
Ты в этот час и меня всем посвящала богам, —
Лишь бы вернуться ему! А он в то время с Египтом
В непродолжительный срок Азию пленную слил.
Сбылись желанья твои — и вот, в исполненье обетов,
Приобщена я как дар к хору небесных светил.
Я против воли, — клянусь тобой и твоей головою! —
О, против воли твое я покидала чело.
Ждет того должная мзда, кто подобную клятву нарушит!
Правда, — но кто ж устоит против железа, увы?
Сломлен был силой его из холмов высочайший, какие
Видит в полете своем Фии блистающий сын[663],
В те времена, как, открыв себе новое море, мидяне
Через прорытый Афон[664] двинули варварский флот.
Как устоять волосам, когда все сокрушает железо?
Боги! Пусть пропадет племя халибов[665] навек!
Этот народ стал первым искать рудоносные жилы
В недрах земли и огнем твердость железа смягчать!
Срезаны раньше меня, о судьбе моей плакали сестры, —
Но в этот миг, бороздя воздух шумящим крылом,
Одноутробный брат эфиопа Мемнона[666], Локридский
Конь Арсинои[667], меня в небо унес на себе.
Там он меня поместил на невинное лоно Венеры,
Через эфирную тьму вместе со мной пролетев.
Так Зефирита сама — гречанка, чей дом на прибрежье
Знойном Канопа[668], — туда древле послала слугу,
Чтобы сиял не один средь небесных огней многоцветных
У Ариадны с чела снятый венец золотой,[669]
Но чтобы также и мы, божеству посвященные пряди
С русой твоей головы, в небе горели меж звезд.
Влажной была я от слез, в обитель бессмертных вселяясь,
В час, как богиня меня новой явила звездой.
Ныне свирепого льва я сияньем касаюсь и Девы;
И — Ликаонова дочь — рядом Каллисто со мной.
К Западу я устремляюсь, на миг лишь, вечером поздним,
Следом за мной в океан медленный сходит Боот.
И хоть меня по ночам стопы попирают бессмертных,
Вновь я Тефии[670] седой возвращена поутру.
То, что скажу, ты без гнева прими, о Рамнунтская Дева[671],
Истину скрыть никакой страх не заставит меня, —
Пусть на меня, возмутясь, обрушат проклятия звезды, —
Что затаила в душе, все я открою сейчас:
Здесь я не так веселюсь, как скорблю, что пришлось разлучиться,
Да, разлучиться навек мне с головой госпожи.
Волосы холить свои изощрялась искусная дева, —
Сколько сирийских мастей я выпивала тогда!
Вы, кого сочетать долженствует свадебный факел!
Прежде чем скинуть покров, нежную грудь обнажить,
Юное тело отдать супруга любовным объятьям,
Мне из ониксовых чаш радостно лейте елей;
Радостно лейте, молясь о всегда целомудренном ложе.
Но если будет жена любодеянья творить,
Пусть бесплодная пыль вопьет ее дар злополучный, —
От недостойной жены жертвы принять не могу.
Так, новобрачные, пусть и под вашею кровлей всечасно
Вместе с согласьем любовь долгие годы живет.
Ты же, царица, когда, на небесные глядя созвездья,
Будешь Венере дары в праздничный день приносить,
Также и мне удели сирийских часть благовоний,
Не откажи и меня жертвой богатой почтить.
Если бы звездам упасть! Вновь быть бы мне царской косою!
О, если б вновь Водолей близ Ориона сиял!
Милая мне говорит: лишь твоею хочу быть женою,
Даже Юпитер желать стал бы напрасно меня.
Так говорит. Но что женщина в страсти любовнику шепчет,
В воздухе и на воде быстротекущей пиши!
Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может
Преданной дружбой, как я, Лесбия, был тебе друг.
Крепче, чем узы любви, что когда-то двоих нас вязали,
Не было в мире еще крепких и вяжущих уз.
Ныне ж расколото сердце. Шутя ты его расколола,
Лесбия! Страсть и печаль сердце разбили мое.
Другом тебе я не буду, хоть стала б ты скромною снова,
Но разлюбить не могу, будь хоть преступницей ты!
Если о добрых делах вспоминать человеку отрадно
В том убежденье, что жизнь он благочестно провел,
Веры святой не пятнал никогда, в договоры вступая,
Ради обмана людей всуе к богам не взывал, —
То ожидает тебя, за долгие годы, от этой
Неблагодарной любви много отрады, Катулл.
Все, что сказать человек хорошего может другому
Или же сделать кому, — сделал ты все и сказал.
Сгинуло, что недостойной душе доверено было…
Так почему же теперь пуще терзаешься ты?
Что не окрепнешь душой, себе не найдешь утешенья,
Гневом гонимый богов, не перестанешь страдать?
Долгую трудно любовь пресечь внезапным разрывом,
Трудно, поистине так, — все же решись наконец!
В этом спасенье твое, решись, собери свою волю,
Одолевай свою страсть, хватит ли сил или нет.
Боги! Жалость в вас есть, и людям не раз подавали
Помощь последнюю вы даже на смертном одре,
Киньте взор на меня, несчастливца, и ежели чисто
Прожил я жизнь, — из меня вырвите черный недуг!
Оцепенением он проникает мне в члены глубоко,
Лучшие радости прочь гонит из груди моей.
Я уж о том не молю, чтоб она предпочла меня снова
Или чтоб скромной была, — это немыслимо ей,
Лишь исцелиться бы мне, лишь мрачную хворь мою сбросить.
Боги! О том лишь прошу — за благочестье мое.
И ненавижу ее и люблю. «Почему же?» — ты спросишь.
Сам я не знаю, но так чувствую я — и томлюсь.
Квинтию славят красивой. А я назову ее стройной,
Белой и станом прямой. Все похвалю по частям.
Не назову лишь красавицей. В Квинтии нет обаянья,
В теле роскошном таком искорки нету огня.
Лесбия — вот кто красива! Она обездолила женщин,
Женские все волшебства соединила в себе.
Лесбия вечно ругает меня. Не молчит ни мгновенья,
Я поручиться готов — Лесбия любит меня!
Ведь и со мной не иначе. Ее и кляну и браню я,
А поручиться готов — Лесбию очень люблю!
Если желанье сбывается свыше надежды и меры,
Счастья нечайного день благословляет душа.
Благословен же будь, день золотой, драгоценный, чудесный,
Лесбии милой моей мне возвративший любовь.
Лесбия снова со мной! То, на что не надеялся, — сбылось!
О, как сверкает опять великолепная жизнь!
Кто из людей счастливей меня? Чего еще мог бы
Я пожелать на земле? Сердце полно до краев!
Жизнь моя! Будет счастливой любовь наша, так ты сказала.
Будем друг другу верны и не узнаем разлук!
Боги великие! Сделайте так, чтоб она не солгала!
Пусть ее слово идет чистым от чистой души!
Пусть проживем мы в веселье спокойные, долгие годы,
Дружбы взаимной союз ненарушимо храня.
Славный внук, Меценат, праотцев царственных,
О, отрада моя, честь и прибежище!
Есть такие, кому высшее счастие —
Пыль арены взметать в беге увертливом
Раскаленных колес: пальма победная
Их возносит к богам, мира властителям.
Есть другие, кому любо избранником
Быть квиритов[673] толпы, пылкой и ветреной.
Этот счастлив, когда с поля ливийского
Он собрал урожай в житницы бережно;
А того, кто привык заступом вскапывать
Лишь отцовский надел, — даже богатствами
Всех пергамских царей в море не выманишь
Кораблем рассекать волны коварные.
А купца, если он, бури неистовой
Устрашася, начнет пылко расхваливать
Мир родимых полей, — вновь за починкою
Видим мы корабля в страхе пред бедностью.
Есть иные, кому с чашей вина сам-друг
Любо день коротать, лежа под деревом
Земляничным, в тени ласковой зелени,
Или у родника вод заповеданных.
Многих лагерь манит, — зык перемешанный
И рогов, и трубы, и ненавистная
Матерям всем война. Зимнего холода
Не боясь, о жене нежной не думая,
Всё охотник в лесу, — лань ли почуяла
Свора верных собак, сети ль кабан прорвал.
Но меня только плющ, мудрых отличие,
К вышним близит, меня роща прохладная,
Где ведут хоровод нимфы с сатирами,
Ставит выше толпы, — только б Евтерпа[674] мне
В руки флейту дала и Полигимния[675]
Мне наладить пришла лиру лесбийскую.
Если ж ты сопричтешь к лирным певцам меня,
Я до звезд вознесу гордую голову.
Вдосталь снега слал и зловещим градом
Землю бил Отец и смутил весь Город,
Ринув в кремль святой[676] грозовые стрелы
Огненной дланью.
Всем навел он страх, не настал бы снова
Грозный век чудес и несчастной Пирры,
Век[677], когда Протей[678] гнал стада морские
К горным высотам,
Жили стаи рыб на вершинах вязов,
Там, где был приют лишь голубкам ведом,
И спасались вплавь над залитым лесом
Робкие лани.
Так и нынче: прочь от брегов этрусских
Желтый Тибр, назад повернувши волны,
Шел дворец царя сокрушить и Весты.[679]
Храм заповедный,
Риму мстить грозя за печаль супруги,
Впавшей в скорбь, — хоть сам не велел Юпитер —
Волны мчал он, брег затопляя левый,
Илии[680] верен.
Редким сыновьям от отцов порочных
Суждено узнать, как точили предки
Не на персов меч, а себе на гибель
В распре гражданской.
Звать каких богов мы должны, чтоб Рима
Гибель отвратить? Как молить богиню
Клиру чистых дев, если мало внемлет
Веста молитвам?
Грех с нас жертвой смыть на кого возложит
Бог Юпитер? Ты ль, Аполлон-провидец,
К нам придешь, рамен твоих блеск укрывши
Облаком темным.
Ты ль, Венера, к нам снизойдешь с улыбкой —
Смех и Пыл любви вкруг тебя витают;
Ты ль воззришь на нас, твой народ забытый,
Марс-прародитель?
Ты устал от игр бесконечно долгих,
Хоть и любишь бой, и сверканье шлемов,
И лицо бойца над залитым кровью
Вражеским трупом.
Ты ль, крылатый сын благодатной Майи[681],
Принял на земле человека образ
И согласье дал нам носить прозванье
«Цезаря мститель».
О, побудь меж нас, меж сынов Квирина!
Благосклонен будь: хоть злодейства наши
Гнев твой будят, ты не спеши умчаться,
Ветром стремимый,
Ввысь. И тешься здесь получать триумфы,
Зваться здесь отцом, гражданином первым.
Будь нам вождь, не дай без отмщенья грабить
Конным парфянам.
Пусть Киприда хранит тебя,
Пусть хранят Близнецы, звезды-водители,[682]
И родитель ветров Эол,
Провожая тебя веяньем Япига[683].
Я доверил тебе, корабль,
И ветрилам твоим друга Вергилия,
Половину души моей, —
Принеси же его к берегу Аттики.
Трижды медная грудь была
У того удальца, у дерзновенного,
Кто впервые свой хрупкий струг
Предал ярости волн, штормы и смерч презрев —
Аквилона и Африка,[684]
И дождливых Гиад[685], нота[686] неистовства,
Нота властного буйства вод
Возмущать и смирять в логове Адрия.
Что угрозы и смерть тому,
Кто воочию зрел чудищ невиданных
И взбешенного моря зев
Между скал роковых Акрокеравнии[687]!
О, напрасно провидец-бог
Отделил океан и оградил им твердь,
Раз суда святотатственно
Разрезают кормой даль заповедных вод.
С дерзким вызовом, все презрев,
Род мятется людской, руша святой запрет,
Дерзкий отпрыск Япета[688] нам
Не к добру дар огня хитростью выманил.
Только с высей эфира был
Им похищен огонь, тотчас нахлынула
Хворь ордой лихорадок; смерть
Свой ускорила шаг, прежде медлительный.
Дал созданью бескрылому
Крылья мудрый Дедал — средь пустоты парить.
Переплыл Ахерон Геракл[689] —
Возвратился, как был, из безвозвратной мглы.
Нет для смертных преград земных!
Безрассудная ж дурь на небо просится,
Но не терпит, чтоб всех за грех
Громовержец поверг гневною молнией.
Что за щеголь — омыт весь ароматами,
Весь в гирляндах из роз — в гроте так яростно
Стан сжимает твой, Пирра?
Для кого эти локоны
Скромно вяжешь узлом? Ох, и оплачет он,
Будет клясть, и не раз, клятвы неверные,
Будет на море бурном,
Черным тучам в свой черный час
Удивляясь, глотать соль накипевших слез,
Он теперь — золотой, нежною, верною —
Не на миг, а навеки —
Он тобой упоен. Увы,
Ослепительна ты. Горе слепым! А я,
Из пучины едва выплыв, спасителю —
Богу моря одежды,
Еще влажные, в дар принес.[690]
Пусть тебя, храбреца многопобедного,
Варий славит — орел в песнях Меонии —
За дружины лихой подвиги на море
И на суше с тобой, вождем.
Я ль, Агриппа, дерзну петь твои подвиги,
Гнев Ахилла, к врагам неумолимого,
Путь Улисса морской, хитролукавого,
И Пелоповы ужасы?
Стыд и Музы запрет, лировладычицы
Мирной, мне не велят, чуждому подвигов,
В скромном даре своем, Цезаря славного
И тебя унижать хвалой.
Как достойно воспеть Марса в броне стальной,
Мериона, что крыт пылью троянскою,
И Тидида вождя, мощной Палладою
До богов вознесенного?
Я пою о пирах и о прелестницах,
Острый чей ноготок страшен для юношей,
Будь я страстью объят или не мучим ей,
Я — поэт легкомысленный.
Ради богов бессмертных,
Лидия, скажи: для чего ты Сибариса губишь
Страстью своей? Зачем он
Стал чуждаться игр, не терпя пыли арены знойной,
И не гарцует больше
Он среди других молодцов, галльских коней смиряя
Прочной уздой зубчатой?
Иль зачем он стал желтых вод Тибра бояться, — точно
Яда змеи, елея
Избегать, и рук, к синякам прежде привычных, ныне
Не упражняет боем
Тот, кто ловко диск и копье раньше метал за знаки?
Что ж, он укрыться хочет,
Как Фетиды сын[691], говорят, скрыт был под женским платьем,
Чтобы не пасть, с ликийцев
Ратями сойдясь, средь борьбы у обреченной Трои?
Смотри: глубоким снегом засыпанный,
Соракт[692] белеет, и отягченные
Леса с трудом стоят, а реки
Скованы прочно морозом лютым.
Чтоб нам не зябнуть, нового топлива
В очаг подбрось и полною чашею
Черпни из амфоры сабинской,
О Талиарх, нам вина постарше!
Богам оставь на волю все прочее:
Лишь захотят — и ветер бушующий
В морях спадет, и не качнутся
Ни кипарисы, ни старый ясень.
О том, что ждет нас, брось размышления,
Прими, как прибыль, день, нам дарованный
Судьбой, и не чуждайся, друг мой,
Ни хороводов, ни ласк любовных.
Пока далеко старость угрюмая,
И ты цветешь. Пусть ныне влекут тебя
И состязанья, и в урочный
Вечера час нежный лепет страсти.
И пусть порою слышится девичий
Предатель-смех, где милая спряталась,
И будет у тебя запястье
Или колечко любви залогом.
Вещий внук Атланта[693], Меркурий! Мудро
Ты смягчил людей первобытных нравы
Тем, что дал им речь и назначил меру
Грубой их силе.
Вестник всех богов, я тебя прославлю
В песне. Ты творец криворогой лиры,
Мастер в шутку все своровать и спрятать,
Что бы ни вздумал.
Ты угнал и скрыл Аполлона стадо,
И сердитый Феб, с малышом ругаясь,
Вдруг среди угроз рассмеялся: видит,
Нет и колчана.
Ты Приама вел[694] незаметно ночью:
Выкуп ценный нес он за тело сына,
В стан врагов идя меж огней дозорных
Мимо Атридов.[695]
В край блаженный ты беспорочных души
Вводишь; ты жезлом золотым смиряешь
Сонм бесплотный — мил и богам небесным,
Мил и подземным.
Ты гадать перестань: нам наперед знать не дозволено,
Левконоя, какой ждет нас конец. Брось исчисления
Вавилонских таблиц[696]. Лучше терпеть, что бы ни ждало нас, —
Много ль зим небеса нам подарят, наша ль последняя,
Об утесы биясь, ныне томит море Тирренское
Бурей. Будь же мудра, вина цеди, долгой надежды нить
Кратким сроком урежь. Мы говорим, время ж завистное
Мчится. Пользуйся днем, меньше всего веря грядущему.
Как похвалишь ты, Лидия,
Розоватый ли цвет шеи у Телефа,
Руки ль белые Телефа, —
Желчью печень моя переполняется.
И тогда не владею я
Ни умом, ни лицом: слезы украдкою
По щекам моим катятся,
Выдавая огонь, сердце сжигающий.
Я сгораю, когда тебе
Буйный хмель запятнал плечи прекрасные
Или пламенный юноша
Зубом запечатлел след на губе твоей.
Не надейся любезною
Быть надолго тому, кто так неистово
Милый ротик уродует,
У Венеры самой нектар отведавший.
Те лишь много крат счастливы,
Кто связался навек прочными узами:
Им, не слушая жалобы,
Не изменит любовь раньше, чем смерть придет.
О корабль, вот опять в море несет тебя
Бурный вал. Удержись! Якорь брось в гавани!
Неужель ты не видишь,
Что твой борт потерял уже
Весла, — бурей твоя мачта надломлена, —
Снасти жутко трещат, — скрепы все сорваны,
И едва уже днище
Может выдержать грозную
Силу волн? Паруса — в клочья растерзаны;
Нет богов на корме, в бедах прибежища;
И борта расписные
Из соснового дерева,
Что в понтийских лесах, славное, срублено,
Не помогут пловцу, как ни гордишься ты.
Берегись! Ведь ты будешь
Только ветра игралищем.
О недавний предмет помысла горького,
Пробудивший теперь чувства сыновние,
Не пускайся ты в море,
Что шумит меж Цикладами!
Вез Елену Парис по морю в отчий дом,
Опозорил пастух гостеприимный кров.
Вдруг Нерей[697] спеленал ветры гульливые,
Судьбы грозные провещал:
— Не к добру ты добыл в жены красавицу,
Будет день — соберет Греция воинство:
Поклянется оно грешный расторгнуть брак
И обрушить Приамов град[698].
Сколько поту прольют кони и воины!
Горе! Сколько могил роду Дарданову[699]!
Наготове эгид, и четверня гремит
Пред Палладой неистовой.
О, напрасно, Парис, будешь расчесывать
Гордо кудри свои, будешь кифарою —
Негой песен пленять женщин забывчивых,
Тщетно будешь в альковной мгле
Укрываться от стрел кносского лучника,
И от гула борьбы, и от погони злой:
Неотступен Аянт[700] — поздно, увы! Лишь пыль
Умастит волоса твои.
Оглянись, уж летит гибель троянская —
Лаэртид[701], а за ним видишь ли Нестора[702]?
Настигает тебя Тевкр[703] Саламинянин
И Сфенел[704] — он и в битве смел,
И конями рукой правит искусною.
В бой вступил Мерион[705]. Фурией взмыл, летит:
Вот он, бешеный, вот — ищет в бою тебя
Сам Тидит[706], что страшней отца.
Как в ложбине, вдали волка завидя, мчит,
Вкус травы позабыв, серна стремительно,
Так, дрожа, побежишь, еле дыша, и ты, —
Это ли обещал любви?
Долгий гнев кораблей, силы Ахилловой, —
Илиону продлит срок перед гибелью:
За зимою зима… Испепелит дотла
Огнь ахеян златой Пергам.
Мать страстная страстей людских,
Мне Семелы дитя[707] — бог опьянения,
И разгула веселый час
Позабытой любви сердце вернуть велят.
Жжет мне душу Гликеры[708] блеск, —
Ослепительней он мрамора Пароса,
Жжет дразнящая дерзость, — глаз
Отвести не могу от обольстительной.
Обуян я Венерой: вмиг
С Кипра вихрем ко мне[709] — и не опомниться…
Где там скифы! Какой там парф
Скакуна горячит в бегстве обманчивом!
Дерна, мальчики, листьев мне,
Мирта, лавров сюда! Мирры, двухлетнего
В чаше жертвенной дать вина!
Жертва склонит любовь быть милосерднее.
Будешь у меня ты вино простое
Пить из скромных чаш. Но его недаром
Я своей рукой засмолил в кувшине
В день незабвенный,
В день, когда народ пред тобой в театре
Встал, о Меценат, и над отчим Тибром
С ватиканских круч разносило эхо
Рукоплесканья.
Це́кубским вином наслаждайся дома
И каленских лоз дорогою влагой, —
У меня же, друг, ни Фалерн, ни Формий
Чаш не наполнят.
Пой Диане хвалу, нежный хор девичий,
Вы же пойте хвалу Кинфию, юноши,
И Латоне любезной!
Всеблагому Юпитеру!
Славьте, девы, ее, в реки влюбленную,
Как и в сени лесов хладного Алгида,
В Эриманфские дебри,
В кудри Крага зеленого.
Вы же, юноши, в лад славьте Темпейский дол,
Аполлону родной Делос и светлого
Бога, рамо чье лирой
И колчаном украшено.
Пусть он, жаркой мольбой вашею тронутый,
Горе войн отвратит с мором и голодом
От народа, направив
Их на персов с британцами!
Кто душою чист и незлобен в жизни,
Не нужны тому ни копье злых мавров,
Ни упругий лук, ни колчан с запасом
Стрел ядовитых.
Будет ли лежать его путь по знойным
Африки пескам, иль в глуши Кавказа,
Иль в стране чудес, где прибрежье лижут
Волны Гидаспа[711].
Так, когда брожу я в лесу Сабинском[712]
Без забот, с одной только песней к милой
Лалаге моей, — с безоружным встречи
Волк избегает.
Равного ж ему не кормили зверя
Давние леса, не рождала даже
И пустыня та, что всех львов питает
Грудью сухою.
Брось меня в страну, где весны дыханье
Не живит лесов и полей увялых,
В тот бесплодный край, что Юпитер гневно
Кроет туманом;
Брось меня туда, где бег солнца близкий
Знойностью лучей обезлюдил землю, —
Лалаги моей разлюблю ль я голос
Или улыбку?
Что бежишь от меня, Хлоя, испуганно,
Словно в горной глуши лань малолетняя!
Ищет мать она: в страхе
К шуму леса прислушалась.
Шевельнет ли весна листьями взлетными,
Промелькнет ли, шурша, прозелень ящерки
В ежевике душистой, —
Дрожью робкая изойдет.
Оглянись, я не тигр и не гетульский[713] лев,
Чтобы хищной стопой жертву выслеживать.
Полно, зову покорствуй,
Мать на мужа сменить пора.
Можно ль меру иль стыд в чувстве знать горестном
При утрате такой? Скорбный напев в меня,
Мельпомена, вдохни, — ты, кому дал Отец
Звонкий голос с кифарою!
Так! Ужели ж навек обнял Квинтилия
Сон? Найдут ли ему в доблестях равного
Правосудия сестра — Честь неподкупная,
Совесть, Правда открытая?
Многим добрым сердцам смерть его горестна,
Но, Вергилий, тебе всех она горестней.
У богов ты, увы, с верой не вымолишь
Друга, что ты доверил им!
И хотя бы умел лучше Орфея ты
Сладкозвучной струной лес привораживать,
Оживишь ли черты лика бескровного,
Раз Меркурий, не знающий
Снисхожденья к мольбам, страшным жезлом своим
Уж коснулся его, чтоб приобщить к теням?
Тяжко! Но перенесть легче с покорностью
То, что нам изменить нельзя.
Реже по ночам в запертые ставни
Раздается стук молодежи дерзкой,
Чтоб прервать твой сон, и покой свой любит
Дверь на пороге,
Что она легко покидала прежде.
Стала слышать ты реже все и реже:
«Сна лишен тобой я, — ужель спокоен,
Лидия, сон твой?»
Увядая, ты по лихим повесам
В свой черед всплакнешь в уголке безлюдном
Под напев ветров, что ярятся пуще
В ночь новолунья;
И в тот час, когда любострастья пламень,
Что в обычный срок кобылицу бесит,
Распалит тебя, ты возропщешь, плача,
В горьком сознанье,
Что и плющ и мирт лишь в красе зеленой
Ценит молодежь, предавая воле!
Спутника зимы — ледяного ветрц
Листья сухие.
Во славу музам горесть и груз тревог
Ветрам отдам я. По морю Критскому
Пусть горечь дум моих развеют.
Буду беспечен и глух. Не слышу,
Какой властитель Арктики громы шлет,
Пред кем трепещет царь Тиридат[715]. О ты,
Пимплея, муза ликованья
Чистых ключей, увенчай, сплетая
Цветы в гирлянду, милого Ламия.
Коль слово косно, так славословь со мной,
Под хор сестер[716] лесбосским плектром[717] —
Песнею Ламия обессмерти!
Не для сражений чаши назначены,
А для веселья скромного в добрый час.
Ну что за варварский обычай
Распрей кровавой кончать пирушку!
Вино и свечи, право, не вяжутся
С мечом мидийским[719]. Други, уймите крик!
Долой бесчинство! Крепче левой
Облокотись и пируй пристойно.
И мне налили щедро фалернского[720],
Не разбавляя. Пусть же признается
Мегиллы брат[721], с какого неба
Ранен он насмерть и чьей стрелою.
Ах, он уперся! Только за выкуп пью!
Плати признанием! Кто б ни была она,
Огонь стыда не жжет Венеры,
Ты благородной любовью грешен.
Так начистую! Смело выкладывай!
Надежны уши. Ну же! О, мученик!
Увы, какой Харибде гиблой
Ты отдаешь свой чистейший пламень!
Какая ведьма иль фессалийский маг[722],
Какое зелье может спасти тебя?
Иль бог? От этакой химеры[723]
Даже Пегас не упас бы чудом.
О царица Книда, царица Пафа,
Снизойди, Венера, в волнах курений
С Кипра в светлый дом молодой Гликеры,
Вняв ее зову.
Пусть с тобой спешат и твой мальчик пылкий,
Грации в своих вольных тканях, нимфы.
Без тебя тоской повитая Геба,
С ней и Меркурий.
Что просит в новом храме поэт себе
У Аполлона? И с возлиянием
О чем он молит? Не богатых
Просит он нив средь полей Сардинских,
Не стад обильных в жаркой Калабрии,
Не злата с костью белой из Индии,
Не тех угодий, что спокойным
Током живит молчаливый Лирис.
Пускай снимают гроздья каленские,
Кому Фортуна их предоставила;
Пусть пьет купец хоть золотыми
Чашами вина — свою наживу, —
Богов любимец, ибо не раз в году
Простор он видит вод Атлантических
Без наказанья. Мне ж оливки,
Мне лишь цикорий да мальвы — пища.
Так дай прожить мне тем, что имею я,
О сын Латоны! Дай мне, молю тебя,
Здоровья и с рассудком здравым
Светлую старость в союзе с лирой.
Лира! Нас зовут. Коль в тени мы пели
В час досуга песнь, что прожить достойна
Год иль много лет, — то сложи теперь мне
Римскую песню.
На небе звенел гражданин лесбосский[724],
Грозный на войне, а в минуты мира,
Подведя корабль, изможденный бурей,
К брегу сырому,
Певший Вакха, Муз и Венеру с сыном,
Что́ повсюду с ней неразлучно рядом,
И красавца Лика[725] глаза и кудри
С черным отливом.
Феба ты краса, на пирах Юпитер
Рад тебе внимать, от трудов ты сладкий
Отдых всем даешь, я к тебе взываю
Благоговейно!
Альбий, полно терзать память Гликерою[726],
Вероломную клясть, полно элегии,
Полуночник, слагать — знаю, затмил тебя
Мальчуган у отступницы.
К Киру пьяная страсть жжет Ликориду. Лоб
Узкий хмурит она[727]. Кир же к Фолое льнет,
Недотроге, — скорей волки Апулии
Коз покроют непуганых,
Чем Фолоя впадет в грех любострастия.
Знать, Венере дано души несродные
И тела сопрягать уз неразрывностью
По злокозненной прихоти.
Открывалось и мне небо любви, но был
Я Мирталой пленен вольноотпущенной:
Притянула меня яростней Адрия
Близ излучин Калабрии.[728]
Пока, безумной мудрости преданный,
Я нерадивым богопоклонником
Беспечно жил, я заблуждался.
Ныне ладью повернул и правлю
К теченьям давним. Тучегонитель-бог[729],
Сверканьем молний тьму рассекающий,
Вдруг прогремел на колеснице
По небу ясному четвернею:
И твердь от грома, реки-скиталицы,
И Стикс[730], и недра Тартаром страшного
Тенара[731], и предел Атланта
Потрясены. Переменчив жребий:
Возвысить властен бог из ничтожества
И гордых славой ввергнуть в бесславие.
Смеясь, сорвет венец Фортуна
И, улыбаясь, им увенчает.
Теперь — пируем! Вольной ногой теперь
Ударим оземь! Время пришло, друзья,
Салийским щедро угощеньем
Ложа кумиров почтить во храме!
Нам в погребах нельзя было дедовских
Цедить вино, доколь, Капитолию
Разгром готовя, государству
Смела в безумье грозить царица
С порочной сворой хворых любимчиков,
Мечтам не зная дерзостным удержу,
Сама от сладостной удачи
Пьяная, но поубавил буйство,
Когда один лишь спасся от пламени
Корабль, и душу, разгоряченную
Вином Египта, в должный трепет
Цезарь поверг, на упругих веслах
Гоня беглянку прочь от Италии,
Как гонит ястреб робкого голубя
Иль в снежном поле фессалийском
Зайца — охотник. Готовил цепи
Он роковому диву. Но доблестней
Себе искала женщина гибели:
Не закололась малодушно,
К дальним краям не помчалась морем.
Взглянуть смогла на пепел палат своих
Спокойным взором и, разъяренных змей
Бесстрашно в руки взяв, смертельным
Тело свое напитала ядом,
Вдвойне отважна, — так, умереть решив,
Не допустила, чтобы ладья врагов
Венца лишенную царицу
Мчала рабой на триумф их гордый.
Ненавистна, мальчик, мне роскошь персов,
Не хочу венков, заплетенных лыком.
Перестань искать, где еще осталась
Поздняя роза.
Нет, прошу — ни с чем не свивай прилежно
Мирт простой. Тебе он идет, прислужник,
Также мне пристал он, когда под сенью
Пью виноградной.
За мудрость духа! Круто придется ли —
Невозмутимость выкажи, счастье ли
Сверкнет — смири восторгов бурю,
Ибо ты смертен, о друг мой Деллий[732]:
Рабом ли скорби ты проскучаешь век,
Рабом ли неги с кубком фалернского,
В траве под небом полулежа,
Вкусишь ты, празднуя, дни блаженства.
Зачем, скажи мне, тополь серебряный,
Сплетаясь ветвями с мощной сосной, зовет
Под сень прохладную и воды
Перебегают в ручье нагорном?
Вина подать нам! Нежный бальзам сюда!
Рассыпать розы, краткие прелестью,
Пока дела, года и нити
Черные Парок[733] не возбраняют.
А там усадьбу — домик с угодьями,
Где плещут волны желтые Тибра, — все,
Что ты скупал, копил годами,
Неотвратимый наследник примет.
Будь ты потомком древнего Инаха,
Будь богатеем, будь простолюдином,
Будь нищим без гроша и крова,
Ты обречен преисподней — Орку[734].
Вращайся, урна! Рано ли, поздно ли,
Но рок свершится, жребии выпадут,
И увлечет ладья Харона
Нас в безвозвратную мглу изгнанья.
Ксантий, нет стыда и в любви к рабыне!
Вспомни, не раба ль Брисеида[735] белым
Телом ураган пробудила в гордом
Сердце Ахилла?
Не был ли пленен красотой Текмессы[736],
Пленницы, Аянт — Теламона племя?
Не Атрида[737] ль страсть опалила к деве,
Жадно добытой,[738]
В час, когда в дыму заклубились башни
Трои под стопой фессалийца Пирра,
Гектор пал — и град стал добычей легкой
Грекам усталым.
Ты смущен: тебя назовет ли зятем
Важная родня золотой Филлиды[739]?
Явно, кровь царей у красотки — только
Доля чернавки.
Верь, такую дочь от трущобной черни
Не рождала мать, как дитя позора:
И верна по гроб, и чужда корысти —
Чудо и только.
Одобряю я и лицо, и руки,
Голени ее, — не ревнуй, приятель,
Где уж мне! Вот-вот, как ни грустно, стукнет
Полностью сорок.
Ты со мною рад и к столпам Геракла[740],
И к кантабрам[741] плыть, непривычным к игу,
И в Ливийский край, где клокочут в Сирте[742]
Маврские волны.[743]
Ну, а мне милей в пожилые годы
Тибур, что воздвиг гражданин Аргосский[744], —
Отдохну я там от тревог военных
Суши и моря.
Если ж злые в том мне откажут Парки,
Я пойду в тот край, для овец отрадный,
Где шумит Галез[745], где когда-то было
Царство Фаланта[746].
Этот уголок мне давно по сердцу,
Мед не хуже там, чем с Гиметтских[747] склонов,
А плоды олив без труда поспорят
С пышным Венафром[748].
Там весна долга, там дарит Юпитер
Смену теплых зим, и Авлон[749], что Вакху —
Плодоносцу люб, зависти не знает
К лозам Фалерна.
Тот блаженный край и его стремнины
Ждут меня с тобой, там слезою должной
Ты почтишь, скорбя, неостывший пепел
Друга-поэта.
В дни бурь и бедствий, друг неразлучный мой,
Былой свидетель Брутовой гибели,
Каким ты чудом очутился
Снова у нас под родимым небом?
Помпей, о лучший из собутыльников,
Ты помнишь, как мы время до вечера
С тобой за чашей коротали,
Вымочив волосы в благовоньях?
Ты был со мною в день замешательства,
Когда я бросил щит под Филиппами
И, в прах зарыв покорно лица,
Войско сложило свое оружье.
Меня Меркурий с поля сражения[751]
В тумане вынес вон незамеченным,
А ты подхвачен был теченьем
В новые войны, как в волны моря.
Но ты вернулся, слава Юпитеру!
Воздай ему за это пирушкою:
Уставшее в походах тело
Надо расправить под сенью лавра.
Забудемся над чашами массика[752],
Натремся маслом ароматическим,
И нам сплетут венки из мирта
Или из свежего сельдерея.
Кто будет пира распорядителем?
Клянусь тебе, я буду дурачиться
Не хуже выпивших фракийцев
В честь возвращенья такого друга.
Будешь жить ладней, не стремясь, Лициний,
Часто в даль морей, где опасны бури,
Но и не теснясь к берегам неровным
И ненадежным.
Тот, кто золотой середине верен,
Мудро избежит и убогой кровли,
И того, что́ зависть в других питает, —
Дивных чертогов.
Чаще треплет вихрь великаны-сосны;
Тяжелей обвал высочайших башен,
И вершины гор привлекают чаще
Молний удары.
Кто умен, тот ждет перемены ветра
И в наплыве бед, и в лукавом счастье.
И приводит к нам, и уводит зимы
Тот же Юпитер.
Пусть и горек час — не всегда так будет!
Не всегда и Феб потрясает луком:
Наступает миг — и струной он будит
Сонную Музу.
Силен духом будь, не клонись в напасти,
А когда вовсю дует ветр попутный,
Мудро сократи, подобрав немного,
Вздувшийся парус.
О Постум! Постум! Льются, скользят года!
Какой молитвой мы отдалим приход
Морщин и старости грядущей,
И неотступной от смертных смерти?
Хотя б трехстами в день гекатомбами[754]
Ты чтил Плутона неумолимого,
Волной печальной Леты властно
Скован навек Герион[755] трехтелый
И дерзкий Титий[756]. Друг мой, увы, и мы,
Земли питомцы, переплывем предел
Реки скорбей — богов потомки
Иль обнищалые мы подонки.
Кровавой битвы зря избегаем мы
И волн громовых бурного Адрия
И зря оберегаем тело
От вредоносных ветров осенних.
Дано узреть нам мутный и медленный
Коцит[757], во мраке ада блуждающий,
И Данаид[758] бесславных длани,
И нескончаемый труд Сизифа[759].
Дано покинуть землю, и дом, и плоть
Жены, и сколько б ты ни растил дерев,
За кратковременным владыкой
Лишь кипарис безотрадный[760] сходит.
А мот-наследник, смело откупорив
Цекуб, хранимый в дедовском погребе,
Достойный кубка понтификов,
На пол рукою прольет небрежной.
Земли уж мало плугу оставили
Дворцов громады; всюду виднеются
Пруды, лукринских вод обширней,
И вытесняет платан безбрачный
Лозы подспорье — вязы; душистыми
Цветов коврами с миртовой порослью
Заменены маслины рощи,
Столько плодов приносившей прежде;
И лавр густою перенял зеленью
Весь жар лучей… Не то заповедали
Нам Ромул и Катон суровый, —
Предки другой нам пример давали.
Скромны доходы были у каждого,
Но умножалась общая собственность;
В своих домах не знали предки
Портиков длинных, лицом на север,
Простым дерном умели не брезговать,
И дозволяли камень обтесанный
Лишь в государственных постройках
Да при убранстве священных храмов.
Мира у богов при дыханье шквала
Молит мореход. Над Эгеем тучи
Месяц кроют тьмой, поглотив мерцанье
Звезд путеводных.
Мира! — Пыл бойца остудил фракиец.
Мира! — Мид устал колыхать колчаном.
Где же купишь, Гросф[761], этот мир за геммы,
Злато иль пурпур?
Роскошью прикрой, консуларским саном:
Крикнет ликтор: «Эй! Сторонитесь!» Тщетно:
Вьется рой забот под лепным карнизом,
Ум суетится.
Труженик простой упрощает счастье:
Отчая блестит на столе солонка,[762]
Легких снов его не тревожит алчность,
Страх да оглядка.
Краток жизни срок, а желаньям жадным
Нет числа. Зачем? И зачем так манит
Свет иных земель? От себя едва ли
Бегством спасемся.
Всходит и на борт корабля забота,
Конников она, как ни шпорь, догонит —
Диких серн быстрей и быстрее бури,
Спутницы Эвра[763].
Чем душа жива, тем живи сегодня.
Завтра счет иной. И в лазурном смехе
Горечь утопи. Не бывает счастья
Без червоточин.
Славен был Ахилл, да недолго прожил.
Долго жил Тифон[764] — все старел и высох.
Может быть, тот час, что тебе на гибель, —
Мне во спасенье.
У тебя мычат по лугам коровы,
Кобылица ржет — к четверне по масти,
Плащ роскошен твой — из багряной шерсти,
Крашенной дважды[765].
Я же принял в дар от нелживой Парки
Деревеньку, дух эолийской музы,
Утонченный стиль да еще презренье
К черни зловредной.
Я Вакха видел, — верьте мне, правнуки,
Учил он песням в дальней расселине,
И нимфы-ученицы, вторя,
Всё озирались на уши фавнов.
Эво! трепещет и потрясен мой ум.
Я полон Вакха и ликования.
Зову, дрожу, эво! пьянею.
О, пощади, не грози мне тирсом.
В стихи виденья просятся: дикие
Бегут вакханки, бьет искрометный ключ
Струей вина, близ рек молочных
Мед из дуплистых дерев сочится.
В дыму видений к звездам возносится
Стан Ариадны[766]. Вижу, как рушится
Чертог безумного Пентея[767],
Вижу Ликурга[768]-фракийца гибель.
Ты оплетаешь реки притоками,
Ты укрощаешь море Индийское,
Ты волосы менад, хмелея,
Вдруг перетянешь узлом змеиным.
Ты опрокинул Рета[769], грозящего
Свирепой пастью, лапами львиными,
Когда гиганты штурмовали
Трон Олимпийца ордой безбожной.
Хотя ты склонен к пляске и пению,
К игре и шуткам и не для битв рожден,
Не мастер наносить удары, —
Равен ты мощью в войне и мире.
Тебя увидя, золоторогого,
У врат аида, Цербер, виляющий
Хвостом, всей пастью треязычной
Лижет покорно твои колени.
Взнесусь на крыльях мощных, невиданных,
Певец двуликий, в выси эфирные,
С землей расставшись, с городами,
Недосягаемый для злословья.
Я, бедный отпрыск бедных родителей,
В дом Мецената дружески принятый,
Бессмертен я, навек бессмертен:
Стиксу не быть для меня преградой!
Уже я чую: тоньше становятся
Под грубой кожей скрытые голени —
Я белой птицей стал, и перья
Руки и плечи мои одели.
Летя быстрее сына Дедалова,
Я, певчий лебедь, узрю шумящего
Босфора брег, заливы Сирта,
Гиперборейских полей[771] безбрежность,
Меня узнают даки, таящие
Свой страх пред римским строем, колхидяне,
Гелоны[772] дальние, иберы,
Галлы, которых питает Рона[773].
Не надо плача в дни мнимых похорон,
Ни причитаний жалких и горести.
Сдержи свой глас, не воздавая
Почестей лишних пустой гробнице.
Противна чернь мне, чуждая тайн моих,
Благоговейте молча: служитель муз —
Досель неслыханные песни
Девам и юношам я слагаю.
Цари грозны для трепетных подданных,
А бог Юпитер грозен самим царям:
Велик крушением Гигантов,
Мир он колеблет движеньем брови.
Иной раскинет шире ряды борозд
В своих поместьях; родом знатней, другой
Сойдет за почестями в поле[774];
Третьего выдвинут нрав и слава;
Четвертый горд толпою приспешников;
Но без пристрастья жребьем решает смерть
Судьбу и знатных и ничтожных:
В урне равны имена людские.
Кто чует миг над шеей преступною,
Тому не в радость яства Сицилии:
Ни мирный звон, ни птичье пенье
Сна не воротят душе тревожной.
А миротворный сон не гнушается
Лачугой скромной сельского жителя,
Реки тенистого прибрежья,
Зыблемых ветром лощин Темпейских.
Лишь тем, кому довольно насущного,
Совсем не страшен бурного моря шум,
Когда нагрянет буйным вихрем
Гед[775], восходя, иль Арктур, склоняясь;
Не страшен град над винными лозами,
И не страшна земля, недовольная
То ливнем злым, то летней сушью,
То холодами зимы суровой.
А здесь и рыбам тесно в пучине вод —
За глыбой глыба рушится с берега,
И вновь рабов подрядчик гонит:
Места себе не найдет хозяин
На прежней суше. Но и сюда за ним
Несутся следом Страх и Предчувствия,
И на корабль взойдет Забота
И за седлом примостится конским.
Так если нам ни мрамором Фригии,
Ни ярче звезд блистающим пурпуром,
Ни соком лоз, ни нардом[776] персов
Не успокоить душевной муки, —
Зачем я буду строить на новый лад
Чертоги с пышным входом? Зачем менять
На хлопотливые богатства
Мирные нивы долин Сабинских?
Военным долгом призванный, юноша
Готов да будет к тяжким лишениям;
Да будет грозен он парфянам
В бешеной схватке копьем подъятым.
Без крова жить средь бранных опасностей
Пусть он привыкнет. Пусть, увидав его
Со стен твердыни вражьей, молвит
Дочке-невесте жена тирана:
«Ах, как бы зять наш будущий, царственный,
В искусстве ратном мало лишь сведущий,
Не раззадорил льва, что в сечу
Бурно кидается в яром гневе!»
И честь и радость — пасть за отечество!
А смерть равно разит и бегущего
И не щадит у тех, кто робок,
Спин и поджилок затрепетавших.
Падений жалких в жизни не ведая,
Сияет Доблесть славой немеркнущей
И не приемлет, не слагает
Власти по прихоти толп народных.
И, открывая небо достойному
Бессмертья, Доблесть рвется заказанным
Путем подняться и на крыльях
Быстро летит от толпы и грязи.
Но есть награда также молчанию:
И если кто нарушит Церерины
Святые тайны, то его я
Не потерплю под одною кровлей
Иль в том же челне. Часто Диéспитер
Карает в гневе с грешным невинного;
А кто воистину преступен,
Тех не упустит хромая Кара.
Гиг вернется, не плачь! Ветры весной тебе,
Астерия, примчат верного юношу, —
А товары какие
Вывез Гиг из Вифинии!
Гиг вернется, — его к берегу Орика[777]
Нот свирепый занес в пору безумства бурь.
Там в холодной постели
Ночь за ночью он слезы льет.
Был подослан женой юной хозяина
К Гигу сводник: «Больна Хлоя, несчастную
Твой же пламень сжигает, —
Так посол улещал его. —
Близок был и Пелей[778] к мрачному Тартару:
Ипполиту отверг. Гибель настигла бы,
Но…» Всё новые были
Греховодную нить плели.
Тщетно! Глух, как скала дальней Икарии[779],
Гиг внимает словам. Сердцем он тверд. И ты
Эпинею, соседу,
Не дари, Астерия, глаз.
Он наездник лихой! Пусть же гарцует он!
В поле Марсовом нет равных соперников, —
Пусть пловцов пересилит,
Рассекая ладонью Тибр, —
Только к ночи запри дверь, не выглядывай
Из окна на призыв флейты и, жалобы
И упрек принимая,
К переулку жестокой будь.
— Мил доколе я был тебе,
И не смел ни один юноша белую
Шею нежно рукой обвить,
Я счастливее жил, нежели персов царь.
— Ты доколь не пылал к другой
Страстью, не возносил Хлою над Лидией,
С громким именем Лидия,
Я счастливей жила римлянки Илии[780].
— Покорен я фракиянкой, —
Хлоя сладко поет, лире обучена.
За нее умереть готов,
Только жизни бы срок девушке рок продлил.
— Мы взаимно огнем горим,
Я и Калаид, сын Орнита-эллина.
Дважды ради него умру,
Только жизни бы срок юноше рок продлил.
— Что, коль вновь возвратится страсть
И железным ярмом свяжет расставшихся?
Что, коль рыжую Хлою — прочь,
И отворится дверь брошенной Лидии?
— Хоть звезды он прекраснее,
Ты же легче щепы, непостояннее
Адриатики бешеной, —
Жить с тобою хочу и умереть, любя!
Если б даже струя Дона далекого
Утоляла тебя в доме у варвара,
Ты меня у твоей двери, продрогшего
На ветру, пожалела бы.
Лика, вслушайся в ночь: створы ворот скрипят,
Там, под кровлями вилл, воем на вой ветров
Отзывается сад, и леденит снега
Сам Юпитер, властитель стуж.
Пред любовью сломи жестокосердие,
Берегись, побежит вспять колесо судьбы,
Иль тиренец тебя недосягаемой
Пенелопой на свет родил?
Ах, тебя ни мольбы, ни драгоценный дар,
Ни влюбленной толпы бледность — фиалки цвет,
Не преклонят, ни месть мужу, гречанкою
Уязвленному. Смилуйся,
Пощади! Хотя ты сердцем, как дуб, мягка
И нежней, чем укус змей Мавритании.
Мне ли век под дождем, даже с небес любви,
У порога погоды ждать?
О Меркурий, мог Амфион[781] кифарой
Камни громоздить — ученик твой верный:
Так звени же в лад, черепаха! Пой мне,
Щит семиструнный!
Говорливой ты не бывала прежде.
Ныне голос твой — на пиру и в храме.
Так звени же в лад! Да преклонит Лида
Слух прихотливый.
Я б сравнил ее с кобылицей в поле:
Любо ей играть — не дается в руки,
Брачных уз бежит, отбивая круто
Натиск влюбленных.
Лира, за тобой, чаровницей, тигры
И леса толпой. Ты звенишь, и реки
Замедляют бег, и, завороженный
Вратарь Аида,
Цербер путь тебе уступает: змеи
Злобно по плечам у него клубятся,
Смрадом дышит пасть, и слюна сочится
Из треязычной.
И невольный вздох Иксион[782] и Титий,
Просветлев лицом, издают, и урна
Данаид суха, пока ты жестоких
Песней пленяешь.
Спой же Лиде быль о преступных девах,
Расскажи, за что их карают казнью,
Осудив черпать для бездонной бочки
Воду бессрочно.
Спой об их судьбе и во мраке Орка.
Прокляты они! И на что дерзнули!..
Прокляты! Мужей-новобрачных ночью
Сонных зарезать!
Но одна из дев, клятвопреступленьем
Осквернив уста, освятила брак свой
И за то почет обрела навеки
Ложью высокой.
«Встань, — сказала, — встань, пробудись, супруг мой,
Пробудись, иль сон непробудным станет.
Тестя обмани и сестер бесчестных,
Встань, мой желанный!
Словно стая львиц меж телят, лютуя,
Юношей они в одиночку губят.
Я душой нежна: не убью, не брошу
Друга в темницу.
Пусть отец меня отягчит цепями
Лишь за то, что я пожалела мужа,
Или пусть сошлет на край света морем
К дальним нумидам[783].
О, беги, молю, без оглядки, милый,
Пока ночь тебе и любовь защитой!
Добрый путь! А мне, горемычной, вырежь
Надпись над гробом».
О, как грустно, Необула, избегать игры Амура,
Не осмелиться похмельем смыть тоску, а осмелеешь,
Языком отхлещет ментор.
Где же, баловень Киферы[784], где плетенка для кудели,
Трудолюбие Минервы? Ты унес их в сновиденья
О красавце из Динары.
Как у юноши, у Гебра, тиберийскою волною
Торс лоснящийся омоет — он затмит Беллерофонта[785],
И в борьбе и в беге спорый,
Он оленя на поляне вдоль стремительного стада
Легким дротиком нагонит, кабана в колючей чаще
На рогатину подденет.
Ключ, звенящий хрусталь, мой Бандузийский[786] ключ
Я бы чистым вином, я бы венком почтил.
Жди же козлика в жертву.
Уж набухли на лбу его
Рожки, пыла любви буйные вестники.
Но не буйствовать им. В струи студеные,
Берег твой обагряя,
Брызнет кровь у питомца стад.
Не иссушит тебя жгучим лобзаньем луч
В пору Сириуса, ты — прохлада и сень
Утомленным от плуга
Бугаям и отарам гор.
Будь прославлен, мой ключ! Будь из ключей ключом,
В честь твою восхвалю дуб над расщелиной,
Там, где ток говорливый
Струй твоих по камням бурлит.
Фавн, о нимф преследователь пугливых!
По полям открытым моих владений
Благостен пройди и уйди заботлив
К юным приплодам.
И ягненок заклан, к исходу года,
И вина достанет у нас для полных
Чаш, подруг любви, и алтарь старинный
В дымке курений.
Вон стада на злачных лугах резвятся, —
Возвратились дни твоих нон декабрьских,
И гуляет рядом с волом досужим
Люд деревенский.
Бродит волк в отаре[788] — не страшно овцам.
В честь твою листву осыпают рощи.
Пахарь рад, что трижды ногой ударил
Злостную землю.
Вакх, я полон тобой! Куда
Увлекаешь меня? В рощи ли, в гроты ли
Вдохновение мчит меня?
Где, в пещере какой Цезаря славного,
Блеск извечный стихом своим
Вознесу я к звездам, к трону Юпитера?
Небывалое буду петь
И доселе никем в мире не петое!
Как вакханка, восстав от сна,
Видя Гебр[789] пред собой, снежную Фракию
И Родоп[790], что лишь варварской
Попираем стопой, диву дивуется,
Так, с пути своего сойдя,
Я на берег дивлюсь и на пустынный лес.
Вождь наяд и менад, легко
Стройный ясень рукой вмиг исторгающих,
Петь ничтожное, дольнее
Больше я не могу! Сладко и боязно,
О Леней[791], за тобой идти,
За тобою, лозой лоб свой венчающим.
Девицам долго знал я, чем нравиться,
И был в любви достойным воителем, —
Теперь оружие и лиру
После побед их стена та примет,
Что охраняет образ Венеры нам.
Сюда, сюда несите вы факелы
И грозные воротам вражьим
Крепкие ломы, крутые луки.
О золотого Кипра владычица
И стен Мемфиса[792], вечно бесснежного!
Высоко поднятым бичом ты
Раз хоть коснись непокорной Хлои!
Пусть напутствует нечестивых криком
Птица бед, сова, или завыванье
Суки, иль лисы, или ланувийской
Щенной волчицы[793].
Пусть пересечет им змея дорогу,
Чтоб шарахнулись от испуга кони.
Я же в час тревог о далеком друге —
Верный гадатель.
К ворону взову: от восхода солнца
Пусть летит ко мне для приметы доброй,
Прежде чем уйдет пред ненастьем в топи
Вещая птица.
Помни обо мне, Галатея, в счастье
Для тебя одной все дороги глажу,
Чтобы дятла стук иль воро́на слева
Не задержали.
Видишь, как дрожит и тревожно блещет
На краю небес Орион[794]? Несет ли
Адрий черный шторм или Япиг[795] грозы, —
Все прозреваю.
Пусть на вражьих жен и детей обрушит
В бешенстве слепом ураган востока
Злой пучины рев и прибрежный грохот
Скал потрясенных.
О, припомни быль, как Европа, тело
Белое быку, хитрецу[796], доверив,
Побледнела вдруг: закипело море
Тьмою чудовищ.
На заре цветы по лугам сбирала
И венки плела так искусно нимфам,
А теперь кругом, куда взор ни кинуть, —
Звезды да волны.
Вот на брег крутой многогранный Крита
Выбралась в слезах, восклицая: «Славу
Добрую мою, о отец, и скромность
Страсть победила!
Где? Откуда я? Только смерть искупит
Мой девичий грех. Наяву ли плачу,
Вспоминая срам, или непорочной
Девой играют
Призраки, пустых сновидений сонмы,
Пролетев порог из слоновой кости[797]?
Ах, что лучше: плыть по волнам иль в поле
Рвать повилику?
Если бы сейчас мне попался в руки
Тот проклятый бык, я бы истерзала
Милого дружка, я б рога сломала
В ярости зверю.
Стыд мне, стыд, увы! Позабыть пенаты!
Стыд мне, жгучий стыд! Смерть зову и медлю.
Лучше б мне блуждать среди львов, о боги,
В полдень нагою.
Но пока еще не запали щеки
И бурлива кровь у добычи нежной,
Красотой моей, о, молю, насытьте
Тигров голодных».
«Жалкая, — твердит мне отец далекий, —
Что ж не смеешь ты умереть, Европа?
Пояс при тебе. Вот и ясень. Только —
Петлю на шею.
Иль тебе милей об утесы биться,
О зубцы камней? Так вверяйся буре,
И раздумье прочь!.. Или ты, царевна,
Предпочитаешь
Быть второй и шерсть теребить для ложа
Варварки, твоей госпожи? «Горюет
Дева, и, смеясь, так коварно внемлют
Плачу Венера
И Амур-шалун с отзвеневшим луком.
А повеселясь: «Берегись, — ей молвит, —
Удержи свой гнев, коль рога преклонит
Бык примиренно.
Знай, тебя любил, как жену, Юпитер.
Так не плачь навзрыд и судьбу Европы
С гордостью неси. Твое имя примет
Вскоре полмира».
Как отпраздновать веселей
День Нептуна? Открой, Лида, цекубское[799],
Дар заветный, о мой провор,
Искру жизни придай чопорной мудрости.
Полдень клонится в тень, а ты
Медлишь, словно застыл в небе летучий день,
Не выносишь из погреба
Нам амфору времен консульства Бибула[800].
Мы прославим Нептуна мощь,
Нереид волоса густо-зеленые
И на лире изогнутой
Мать Латону и бег Цинтии-лучницы[801].
Завершим же владычицей,
Что над Книдом царит[802] и над Кикладами:
Мчат на Паф ее лебеди,
Но достойна и Ночь горестной пении.
Создал памятник я, бронзы литой прочней,
Царственных пирамид выше поднявшийся.
Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой
Не разрушат его, не сокрушит и ряд
Нескончаемых лет, время бегущее.
Нет, не весь я умру, лучшая часть меня
Избежит похорон. Буду я вновь и вновь
Восхваляем, доколь по Капитолию
Жрец верховный ведет деву безмолвную[804].
Назван буду везде — там, где неистовый
Авфид[805] ропщет, где Давн[806], скудный водой, царем
Был у грубых селян. Встав из ничтожества,
Первым я приобщил песню Эолии[807]
К италийским стихам. Славой заслуженной,
Мельпомена, гордись и, благосклонная,
Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу.
Тот, держась на крыльях, скрепленных воском,
Морю имя дать обречен, как Икар,
Кто, о Юл[808], в стихах состязаться дерзко
С Пиндаром тщится.
Как с горы поток, напоенный ливнем
Сверх своих брегов, устремляет воды,
Рвется так, кипит глубиной безмерной
Пиндара слово.
Фебова венца он достоин всюду —
Новые ль слова в дифирамбах смелых
Катит, мчится ль вдруг, отрешив законы,
Вольным размером;
Славит ли богов иль царей, героев[809],
Тех, что смерть несли поделом кентаврам,
Смерть Химере, всех приводившей в трепет
Огненной пастью;
Иль поет коня и борца, который
С игр элидских[810] в дом возвратился в славе,
Песнью, в честь его, одарив, что сотни
Статуй ценнее;
С скорбною ль женой об утрате мужа
Плачет, ей до звезд его силу славит,
Нрав златой и доблесть, из тьмы забвенья
Вырвав у смерти.
Полным ветром мчится диркейский лебедь[811]
Всякий раз, как ввысь к облакам далеким
Держит путь он, я же пчеле подобен
Склонов Матина[812]:
Как она, с трудом величайшим, сладкий
Мед с цветов берет ароматных, так же
Средь тибурских рощ я слагаю скромно
Трудные песни.
Лучше ты, поэт, полнозвучным плектром
Нам споешь о том, как, украшен лавром,
Цезарь будет влечь через Холм священный
Диких сигамбров[813].
Выше, лучше здесь никого не дали
Боги нам и рок, не дадут и впредь нам,
Даже если б вдруг времена вернулись
Века златого.
Будешь петь ты радость народа, игры,
Дни, когда от тяжб отрешится форум,
Если бог к мольбам снизойдет, чтоб храбрый
Август вернулся.
Вот тогда и я подпевать отважусь,
Если только речь мою стоит слушать,
Цезаря возврат привечая: «Славься,
Ясное солнце!»
«О, триумф!» — не раз на его дороге,
«О, триумф!» — не раз возгласим, ликуя,
И воскурит Рим благосклонным вышним
Сладостный ладан.
Твой обет — волов и коров по десять,
Мой обет — один лишь бычок, который
Уж покинул мать и на сочных травах
В возраст приходит.
У него рога — словно серп на небе
В третий день луны молодой; примета
Есть на лбу — бела, как полоска снега, —
Сам же он рыжий.
Снег покидает поля, зеленеют кудрявые травы,
В буйном цвету дерева.
Облик меняет земля, что ни день, то спокойнее в руслах
Шумные воды бегут.
Грация стала смелей, повела в хороводе — нагая —
Нимф и сестер-близнецов.
Что нам бессмертия ждать? Похищает летучее время
Наши блаженные дни.
Стужу развеял Зефир, но и лето весну молодую
Губит и гибнет само,
Не принимая даров, что приносит нам осень. И снова
Зимние бури придут.
В круговороте времен возмещается месяцем месяц,
Мы же, в загробную мглу
Канув, как пращур Эней, или Тулл[815], или Анк[816], превратимся
В пыль и бесплотную тень.
Кто поклянется тебе, о Торкват, что не будет последним
Завтрашний день для тебя!
Все, что при жизни скопил, да минует наследников жадных,
Рук не минуя твоих.
Если ты завтра умрешь и Минос на суде преисподнем
Свой приговор изречет,
Ни красноречье твое, ни твоя родовитость, ни кротость
К жизни тебя не вернут.
Даже Диана сама не могла своего Ипполита
Девственный прах оживить,
Даже Тезей не разбил на застывших руках Пиритоя[817]
Леты холодных цепей.
Поверь, погибнуть рок не судил словам,
Что я, рожденный там, где шумит Авфид[818],
С досель неведомым искусством
Складывал в песни под звуки лиры.
Хотя Гомер и первый в ряду певцов,
Но все же Пиндар, все же гроза — Алкей,
Степенный Стесихор, Кеосец
Скорбный, — еще не забыты славой.
Не стерло время песен, что пел, шутя,
Анакреонт, и дышит еще любовь,
И живы, вверенные струнам,
Пылкие песни Лесбийской девы[819].
Ведь не одна Елена Лаконская
Горела страстью к гостю-любовнику,
Пленясь лицом его и платьем,
Роскошью царской и пышной свитой.
И Тевкр[820] не первый стрелы умел пускать
Из луков критских; Троя была не раз
В осаде; не одни сражались
Идоменей и Сфенел — герои
В боях, достойных пения Муз, приял
Свирепый Гектор и Деифоб лихой
Не первым тяжкие удары
В битвах за жен и детей сограждан.
Немало храбрых до Агамемнона
На свете жило, но, не оплаканы,
Они томятся в вечном мраке —
Вещего не дал им рок поэта.
Талант безвестный близок к бездарности,
Зарытой в землю. Лоллий! Стихи мои
Тебя без славы не оставят;
Не уступлю я твоих деяний
В добычу алчной пасти забвения.
Тебе природой ум дальновидный дан,
Душою прям и тверд всегда ты
В благоприятных делах и трудных;
Каратель строгий жадных обманщиков —
Ты чужд корысти всеувлекающей;
Ты не на год лишь консул в Риме —
Вечно ты консул, пока ты судишь,
Превыше личной выгоды ставя честь,
Людей преступных прочь отметаешь дар
И сквозь толпу враждебной черни
Доблесть проносишь, как меч победный.
Не тот счастливым вправе назваться, кто
Владеет многим: имя счастливого
К лицу тому лишь, кто умеет
Вышних даянья вкушать разумно,
Спокойно терпит бедность суровую,
Боится пуще смерти постыдных дел,
Но за друзей и за отчизну
Смерти навстречу пойдет без страха.
Есть кувшин вина у меня, Филлида,
Девять лет храню альбанин[821] душистый,
Есть и сельдерей для венков, разросся
Плющ в изобилье.
Кудри им обвей — ослепишь красою.
В доме у меня серебро смеется,
Лаврами алтарь оплетен и алчет
Крови ягненка.
Полон двор людей. Суета. Хлопочут
И снуют туда и сюда подростки,
Девушки. Огня языки завились
Клубами дыма.
В честь кого даю этот пир — не скрою:
Иды подошли. Мой апрель любимый.
Пополам они разделяют — месяц
Пеннорожденной[822].
Свят мне этот день и почти святее
Дня рожденья. Знай, этот день отметив,
Долгих лет число Меценат мой новым
Годом пополнит.
Не видать тебе Телефа. Богачка
У тебя его перебила ловко
И к ноге своей приковала цепью,
Пленнику милой.
Дерзкою мечтой одержимых учит —
Это ль не урок! — Фаэтон[823] сожженный.
Сбросил и Пегас с облаков на землю
Беллерофонта.
Достижимого домогайся. В мире
О несбыточном и мечтать напрасно.
Ровню выбирай. Так приди, мой вечер
Неги любовной.
Жду тебя; к другой уж не вспыхну страстью.
Поздно. Не забудь разучить размеры.
Милый голос твой их споет: смиряет
Песня тревогу.
Уже веют весной ветры фракийские,
Гонят вдаль паруса, море баюкая,
Не гремят от снегов реки набухшие,
Цепенея, не спят луга.
Вьет гнездо и зовет жалобно ласточка:
«Итис[825], Итис, вернись!» Прокна злосчастная.
Опозорила род местью кровавою
Сладострастному варвару.
На свирели в траве нежной по пастбищам
Тучных стад пастухи песнями тешатся,
Бога радуя: мил Пану аркадскому
Скот и горной дубравы мрак.
Есть, Вергилий, пора жажды томительной,
Коль по вкусу тебе вина каленские,
Знай, приятель-клиент выспренних нобилей,
Нардом[826] выкупишь Вакха дар.
Банка нарда бутыль целую выманит, —
Та бутыль в погребах спит у Сульпиция,
От нее у надежд крылья расплещутся,
Горечь дум как рукой сметет.
Коль согласен вкусить радости пиршества,
Плату мне прихвати! И не подумаю
Безвозмездно тебя, как богатей какой,
Чашей полною потчевать.
Так не медли, отбрось мысли корыстные,
Погребальный костер не за горами — ждет,
Каплю глупости, друг, в бочку премудрости
Примешать иногда не грех.
Я богов заклинал, Лика, — заклятиям
Вняли боги. Клянусь, ты постарела, да,
А заигрывать рада?
Слыть красавицей? Пить? Любить?
Запоздалую страсть песней подхлестывать,
Под хмельком вереща: «Эрос!» А он приник
К щечкам Хрии цветущим,
Мастерицы под цитру петь!
Прихотлив, не летит к дубу усохшему,
Мимо, — мимо тебя, мимо, позорище:
Зубы желты, морщины,
Взбились клочья волос седых.
Нет, забудь, не вернут косские пурпуры
И каменья тебе тех золотых былых
Дней, которые в фастах
Отсчитал календарный рок.
Где же чары твои? Где обаянья дар?
Прелесть пляски? Увы! Где же та Лика, где!
Вся — дыхание страсти,
Чуть поманит — и сам не свой.
Ей на поприще нег даже с Кинарою
Состязаться не грех. Только Кинаре срок
Краткий Парки судили,
А красавице Лике век,
Каркая, коротать старой вороною
На посмешище всем юным искателям
Пылких встреч. Полюбуйтесь-ка:
Факел стал головешкою.
Хотел я грады петь полоненные
И войны, но по лире ударил Феб,
Чтоб не дерзнул я слабый парус
Вверить простору зыбей тирренских.
Твой век, о Цезарь, нивам обилье дал;
Он возвратил Юпитеру нашему,
Сорвав со стен кичливых парфов,
Наши значки; он замкнул святыню
Квирина[827], без войны опустевшую;
Узду накинул на своеволие,
Губившее правопорядок;
И, обуздавши преступность, к жизни
Воззвал былую доблесть, простершую
Латинян имя, мощь италийскую,
И власть, и славу, от заката
Солнца в Гесперии до восхода.
Хранит нас Цезарь, и ни насилие
Мир не нарушит, ни межусобица,
Ни гнев, что меч кует и часто
Город на город враждой подъемлет.
Закон покорно вытерпит Юлия,[828]
Кто воду пьет Дуная глубокого,
И сер, и гет, и перс лукавый,
Или же тот, кто близ Дона вырос.
А мы и в будний день, и в день праздничный
Среди даров веселого Либера,
С детьми и с женами своими
Перед богами свершив моленье,
Петь будем по заветам по дедовским
Под звуки флейт про славных воителей,
Про Трою нашу, про Анхиза
И про потомка благой Венеры[829].
Феб и ты, царица лесов, Диана,
Вы, кого мы чтим и кого мы чтили,
Светочи небес, снизойдите к просьбам
В день сей священный —
В день, когда завет повелел Сивиллы[831]
Хору чистых дев и подростков юных
Воспевать богов, под покровом коих
Град семихолмный.[832]
Ты, о Солнце[833], ты, что даешь и прячешь
День, иным и тем же рождаясь снова,
О, не знай вовек ничего славнее
Города Рима!
Ты, что в срок рожать помогаешь женам,
Будь защитой им, Илифия[834], кроткой,
Хочешь ли себя называть Люциной
Иль Генитальей.
О, умножь наш род, помоги указам,
Что издал сенат об идущих замуж,
Дай успех законам, поднять сулящим
Деторожденье!
Круг в сто десять лет да вернет обычай
Многолюдных игр, да поются гимны
Трижды светлым днем, троекратно ночью
Благоприятной.
Парки! вы, чья песнь предвещает правду:
То, что рок судил, что хранит, незыблем,
Термин[835] — бог, продлите былое счастье
В новые веки!
Хлебом пусть полна и скотом, Церере
В дар Земля венок из колосьев вяжет,
Ветром пусть плоды и живящей влагой
Вскормит Юпитер.
Благосклонно, лук отложив и стрелы,
Юношей услышь, Аполлон, моленья!
Ты, царица звезд, о Луна[836] младая,
Девушкам внемли!
Если вами Рим был когда-то создан
И этрусский брег дан в удел троянцам,
Отчий град послушным сменить и Ларов
В бегстве успешном.
За Энеем чистым уйдя, который
Указал им путь из горящей Трои,
Спасшись сам, и дать обещал им больше,
Чем потеряли, —
Боги! честный нрав вы внушите детям,
Боги! старцев вы успокойте кротких,
Роду римлян дав и приплод и блага
С вечною славой.
Всё, о чем, быков принося вам белых,
Молит вас Анхиза, Венеры отпрыск[837],
Да получит он, ко врагам смиренным
Милости полный.
Вот на суше, на море перс страшится
Ратей грозных, острых секир альбанских[838],
Вот и гордый скиф, и индиец дальний
Внемлют веленьям.
Вот и Верность, Мир, вот и Честь, и древний
Стыд, и Доблесть вновь, из забвенья выйдя,
К нам назад идут, и Обилье с полным
Близится рогом.
Вещий Феб, чей лук на плечах сверкает,
Феб, который люб девяти Каменам,
Феб, который шлет исцеленье людям
В тяжких недугах,
Он узрит алтарь Палатинский оком
Добрым, и продлит он навеки Рима
Мощь, из года в год одаряя новым
Счастием Лаций.
С Алгида[839] ль высот, с Авентина[840] ль внемлет
Здесь мужей пятнадцати гласу Дева,
Всех детей моленьям она любовно
Ухо преклонит.
Так решил Юпитер и сонм всевышних,
Верим мы, домой принося надежду,
Мы, чей дружный хор в песнопенье славил
Феба с Дианой.
Блажен лишь тот, кто, суеты не ведая,
Как первобытный род людской,
Наследье дедов пашет на волах своих,
Чуждаясь всякой алчности,
Не пробуждаясь от сигналов воинских,
Не опасаясь бурь морских,
Забыв и форум, и пороги гордые
Сограждан, власть имеющих.
В тиши он мирно сочетает саженцы
Лозы с высоким тополем,
Присматривает за скотом, пасущимся
Вдали, в логу заброшенном,
Иль, подрезая сушь на ветках, делает
Прививки плодоносные,
Сбирает, выжав, мед в сосуды чистые,
Стрижет овец безропотных;
Когда ж в угодьях Осень вскинет голову,
Гордясь плодами зрелыми, —
Как рад снимать он груш плоды отборные
И виноград пурпуровый
Тебе, Приап, как дар, или тебе, отец
Сильван[841], хранитель вотчины!
Захочет — ляжет иль под дуб развесистый,
Или в траву высокую;
Лепечут воды между тем в русле крутом,
Щебечут птицы по лесу,
Струям же вторят листья нежным шепотом,
Сны навевая легкие…
Когда ж Юпитер-громовержец вызовет
С дождями зиму снежную,
В тенета гонит кабанов свирепых он
Собак послушных сворою
Иль расстилает сети неприметные,
Дроздов ловя прожорливых,
Порой и зайца в петлю ловит робкого,
И журавля залетного.
Ужель тревоги страсти не развеются
Среди всех этих радостей,
Вдобавок, если ты с подругой скромною,
Что нянчит малых детушек,
С какой-нибудь сабинкой, апулийкою,
Под солнцем загоревшею?
Она к приходу мужа утомленного
Очаг зажжет приветливый
И, скот загнав за изгородь, сама пойдет
Сосцы доить упругие,
Затем вина подаст из бочки легкого
И трапезу домашнюю.
Тогда не надо ни лукринских[842] устриц мне,
Ни губана, ни камбалы,
Хотя б загнал их в воды моря нашего
Восточный ветер с бурею;
И не прельстят цесарки африканские
Иль рябчики Ионии
Меня сильнее, чем оливки жирные,
С деревьев прямо снятые,
Чем луговой щавель, для тела легкая
Закуска из просвирника,
Или ягненок, к празднику заколотый,
Иль козлик, волком брошенный.
И как отрадно наблюдать за ужином
Овец, бегущих с пастбища,
Волов усталых с плугом перевернутым,
За ними волочащимся,
И к ужину рабов, как рой, собравшихся
Вкруг ларов, жиром блещущих! —
Когда наш Альфий-ростовщик так думает, —
Вот-вот уж и помещик он.
И все собрал он было к Идам[843] денежки,
Да вновь к Календам[844] в рост пустил!
Куда, куда вы валите, преступные,
Мечи в безумье выхватив?!
Неужто мало и полей, и волн морских
Залито кровью римскою —
Не для того, чтоб Карфагена жадного
Сожгли твердыню римляне,
Не для того, чтобы британец сломленный
Прошел по Риму скованным,
А для того, чтобы, парфянам на руку,
Наш Рим погиб от рук своих?
Ни львы, ни волки так нигде не злобствуют,
Враждуя лишь с другим зверьем!
Ослепли ль вы? Влечет ли вас неистовство?
Иль чей-то грех? Ответствуйте!
Молчат… И лица все бледнеют мертвенно,
Умы — в оцепенении…
Да! Римлян гонит лишь судьба жестокая
За тот братоубийства день,
Когда лилась кровь Рема[846] неповинного,
Кровь, правнуков заклявшая.
Идет корабль, с дурным отчалив знаменьем,
Неся вонючку Мевия[847].
Так в оба борта бей ему без устали,
О Австр, волнами грозными!
Пусть, море вздыбив, черный Евр проносится,
Дробя все снасти с веслами,
И Аквилон пусть дует, что нагорные
Крошит дубы дрожащие,
Пускай с заходом Ориона мрачного
Звезд не сияет благостных[848].
По столь же бурным пусть волнам он носится,
Как греки-победители,
Когда сгорела Троя и Паллады гнев
На судно пал Аяксово.
О, сколько пота предстоит гребцам твоим,
Тебе же — бледность смертная,
Позорный мужу вопль, мольбы и жалобы
Юпитеру враждебному,
Когда дождливый Нот в заливе Адрия,
Взревевши, разобьет корму.
Когда ж добычей жирной будешь тешить ты
Гагар на берегу морском,
Тогда козел блудливый вместе с овцами
Да будет бурям жертвою!
Ночью то было — луна сияла с прозрачного неба
Среди мерцанья звездного,
Страстно когда ты клялась, богов оскорбляя заране, —
Клялась, твердя слова мои
И обвивая тесней, чем плющ ствол дуба высокий,
Меня руками гибкими,
Ты повторяла: доколь Орион мореходов тревожит,[849]
А волк грозит стадам овец,
Длинные ветер доколь развевает власы Аполлона, —
Взаимной будет страсть твоя!
Больно накажет тебя мне свойственный нрав, о Неэра:
Ведь есть у Флакка мужество, —
Он не претерпит того, что ночи даришь ты другому, —
Найдет себе достойную,
И не вернет твоя красота мне прежнего чувства,
Раз горечь в сердце вкралася!
Ты же, соперник счастливый, кто б ни был ты, тщетно гордишься,
Моим хвалясь несчастием;
Пусть ты богат и скотом и землею, пускай протекает
По ней рекою золото;
Пусть доступны тебе Пифагора воскресшего тайны[850],
Прекрасней пусть Нирея ты, —
Всё же, увы, и тебе оплакать придется измену:
Смеяться будет мой черед!
Вот уже два поколенья томятся гражданской войною,[851]
И Рим своей же силой разрушается, —
Рим, что сгубить не могли ни марсов соседнее племя,
Ни рать Порсены грозного этрусская,
Ни соревнующий дух капуанцев[852], ни ярость Спартака,
Ни аллоброги[853], в пору смут восставшие.
Рим, что сумел устоять пред германцев ордой синеокой,
Пред Ганнибалом, в дедах ужас вызвавшим,
Ныне загубит наш род, заклятый братскою кровью, —
Отдаст он землю снова зверю дикому!
Варвар, увы, победит нас и, звоном копыт огласивши
Наш Рим, над прахом предков надругается;
Кости Квирина[854], что век не знали ни ветра, ни солнца,
О, ужас! будут дерзостно разметаны…
Или, быть может, вы все иль лучшие ждете лишь слова
О том, чем можно прекратить страдания?
Слушайте ж мудрый совет: подобно тому как фокейцы[855],
Проклявши город, всем народом кинули
Отчие нивы, дома, безжалостно храмы забросив,
Чтоб в них селились вепри, волки лютые, —
Так же бегите и вы, куда б ни несли ваши ноги,
Куда бы ветры вас ни гнали по морю!
Это ли вам по душе? Иль кто надоумит иначе?
К чему же медлить? В добрый час, отчаливай!
Но поклянемся мы все: пока не заплавают скалы,
Утратив вес, — невместно возвращение!
К дому направить корабль да будет не стыдно тогда лишь
Когда омоет Пад Матина[856] макушку
Или когда Аппенин высокий низвергнется в море, —
Когда животных спарит неестественно
Дивная страсть и олень сочетается с злою тигрицей,
Блудить голубка станет с хищным коршуном,
С кротким доверием львов подпустят стада без боязни,
Козла ж заманит моря глубь соленая!
Верные клятве такой, возбранившей соблазн возвращенья,
Мы всем гуртом иль стада бестолкового
Лучшею частью — бежим! Пусть на гибельных нежатся ложах
Одни надежду с волей потерявшие.
Вы же, в ком сила жива, не слушая женских рыданий,
Летите мимо берегов Этрурии;
Манит нас всех Океан, омывающий землю блаженных,
Найдем же землю, острова богатые,
Где урожаи дает ежегодно земля без распашки,
Где без ухода вечно виноград цветет,
Завязь приносят всегда без отказа все ветви маслины
И сизым плодом убрана смоковница;
Мед где обильно течет из дубов дуплистых, где с горных
Сбегают высей вод струи гремучие.
Без понуждения там к дойникам устремляются козы,
Спешат коровы к дому с полным выменем;
С ревом не бродит медведь там вечерней порой у овчарни,
Земля весной там не кишит гадюками.
Многих чудес благодать нас ждет: не смывает там землю.
Дождливый Евр струями непрестанными,
И плодоносных семян не губит иссохшая почва:
Все умеряет там Царь Небожителей:
Не угрожают скоту в той стране никакие заразы,
И не томится он от солнца знойного.
Не устремлялся в тот край гребцами корабль Аргонавтов,
Распутница Медея не ступала там;
Не направляли туда кораблей ни пловцы-финикийцы,
Ни рать Улисса, много претерпевшего.
Зевс уготовил брега те для рода людей благочестных,
Когда затмил он золотой век бронзою;
Бронзовый век оковав железом, для всех он достойных
Дает — пророчу я — теперь убежище.
О сотрапезники! Ныне угрюмые бросьте заботы,
Чтобы сверкание дня сумрачный дух не смутил.
Речи тревоги душевной пусть будут отвергнуты, чтобы,
Ей не поддавшись, душа дружбе предаться могла.
Радость не вечна: часы улетают; так будем смеяться:
Трудно у судеб отнять даже единственный день.
Ныне ступайте, союз сочетайте с ложем стыдливым
И научитесь нести шалости пылкой любви;
Пусть же объятья скрепит мать нежных Амуров; владеет
Всей Идалией[858] она, в Книде, благая, царит;
Пусть установит согласье своим благосклонно величьем,
Пусть же отцы молодых дедами станут скорей.
Кто же тот первый, скажи, кто меч ужасающий создал?
Как он был дик и жесток в гневе железном своем!
С ним человеческий род узнал войну и убийства,
К смерти зловещей был путь самый короткий открыт.
Иль тот бедняк не повинен ни в чем? Обратили мы сами
Людям во зло этот меч — пугало диких зверей.
Золота это соблазн и вина: не знали сражений
В дни, когда нежным птенцом бегал у ваших я ног.
Не было ни крепостей, ни вала, и спал беззаботно
С пестрой отарой своей мирный овечий пастух.
Встарь мне жилось бы легко, не знал бы я копий грозящих
И, содрогаясь душой, звуков трубы не ловил.
Ныне влекут меня в бой, и, может быть, враг уже точит
Стрелы, чьи острия скоро мне сердце пронзят.
Лары отцов, охраняйте мне жизнь! Меня вы растили
В дни, когда нежным птенцом бегал у ваших я ног.
Да не смущает вас то, что из древнего пня родились вы:
Те же вы были в дому предков старинных моих.
Верность святей береглась, когда, радуясь бедному дару,
Бог деревянный, простой в скромной божнице стоял.
Добрым он делался вмиг, посвящал ли молящийся грозди
Иль из колосьев венок в волосы бога вплетал.
Тот, чьи желанья сбылись, приносил пироги в благодарность,
Девочка-дочка вослед чистые соты несла.
Лары, гоните же прочь наконечники медные копий,
Жертвою будет у вас сельских хлевов боровок;
В чистой одежде за ней я пойду, оплетенные миртом
Буду корзины нести, миртом обвив и чело.
Этим я вам угожу; другой пусть оружьем бряцает,
С помощью Марса в бою вражьих сражает вождей.
Чтоб за пирушкой моей вспоминал о подвигах воин
И на полночном столе лагерь вином рисовал.
Что за безумье — войной призывать к себе черную гибель!
Смерть уж и так нам грозит, крадется тихой стопой.
Нет в преисподней ни лоз, ни посева, — там бешеный Цербер,
Там по стигийским волнам[861] лодочник страшный[862] плывет;
Там возле черных болот блуждают бледные толпы —
Щеки истерзаны там, обожжены волоса.
Сколь же похвальнее тот, у кого безмятежная старость
В хижине милой гостит, внуков любимых растит!
Ходит он сам за отарой своей, а сын за ягненком;
Если ж устанет в трудах, воду согреет жена.
Быть бы таким! Да позволит судьба засиять сединою,
Вспомнить на старости лет были минувших времен!
Ныне же мир да питает поля! Ведь мир этот ясный
Первый на пашню быков в согнутых ярмах привел;
Мир возрастил нам лозу и припрятал сок виноградный,
С тем чтоб отцовский сосуд сына вином напоил;
Мир наступил, и блестят мотыга и плуг, а доспехи
Мрачные диких бойцов в темном ржавеют углу.
Сын деревень из рощи везет, немного подвыпив,
В мирной телеге своей внуков, детей и жену.
Но загремит Венеры война — и поднимет бедняжка
Вопль о разбитых дверях, вырванной пряди волос,
Плачет в тоске о подбитой щеке; а сам победитель
Плачет над силой слепой диких своих кулаков.
Им плутоватый Амур подсыпает ругательства в ссору,
Сам же, на драку смотря, он равнодушно сидит.
Ах, не из камня ли тот и железа, кто может ударить
Женщину? Этим с небес он низвергает богов.
Право, довольно с него изодрать ее тонкие ткани,
Право, довольно покров на голове растрепать;
Хватит того, что слезы текут: четырежды счастлив
Ты, вызывающей плач женщины гневом одним!
Тот же, кто вечно готов руками буянить, пусть носит
Щит и дреколье: вдали быть от Венеры ему.
К нам снизойди, о мир всеблагой, и, вздымая свой колос,
Из осиянных одежд щедро плоды рассыпай!
Гений Рожденья идет к алтарям, возносите молитвы,
Юные жены, мужи, все воспевайте хвалу!
Ладан благой да горит, в очагах да горят фимиамы;
Их из богатых земель томный привозит араб.
Гений да снидет сюда, принимая дары поклоненья;
Кудри святые его нежный венчает венок.
Чистый нард пусть течет с чела благовонного бога,
Пусть он вкусит пирога, чистым напьется вином;
Он на моленья твои да кивнет, Корнут[863], благосклонно.
Ну же! Чего ж ты молчишь? Гений кивает: проси!
Просьбу твою подскажу: ты просишь верной супруги!
О, я уверен, богам это известно давно.
Ты не попросишь себе земель безграничного мира,
Где молодой земледел пашет могучим волом,
Ты не попросишь себе блаженной Индии перлов,
Сколько бы их ни несли волны восточных морей.
Так да свершится! Пускай летит на трепещущих крыльях
И золотые несет брачные цепи Амур, —
Крепки да будут они до тех пор, пока вялая старость
Не накидает морщин, волосы посеребрив,
Гений Рождения пусть приходит и к дедам и внукам,
Пусть у колен старика юная стая шалит.
С сердцем железным был тот, кто у девушки отнял впервые
Юношу иль у него силой любимую взял.
Был бессердечен и тот, кого тоска не сломила,
Кто в состоянье был жить даже в разлуке с женой.
Тут уже твердости мне не хватит, тупое терпенье
Мне не по силам: тоска крепкие рушит сердца.
Не постыжусь я правду сказать и смело сознаюсь
В том, что полна моя жизнь множеством горьких обид.
Что же! Когда наконец я тенью прозрачною стану,
Черная скроет зола бледные кости мои,
Пусть и Неэра придет, распустив свои длинные кудри,
Пусть над костром роковым в горести плачет она.
С матерью милой она пусть придет — со спутницей в скорби:
Зятя оплачет она, мужа оплачет жена.
Манам моим мольбу вознеся и душе помолившись,
Благочестиво затем руки водою омыв,
Все, что от плоти моей останется, — белые кости —
Вместе они соберут, черные платья надев.
А подобравши, сперва оросят многолетним Лиэем[864]
И белоснежным потом их окропят молоком;
Влажные кости они полотняным покровом осушат
И, осушив, наконец сложат во мраморный склеп.
Будут пролиты там товары богатой Панхеи[865],
Все, что Ассирия даст и аравийский Восток;
Слезы прольются тогда, посвященные памяти нашей:
Так бы хотел опочить я, обратившись во прах.
Надпись пускай огласит причину печальной кончины,
Пусть на гробнице моей каждый прохожий прочтет:
«Здесь почиет Лигдам[866]: тоска и скорбь о Неэре,
Злая разлука с женой гибель ему принесла».
Кинфии глазки меня впервые пленили, к несчастью,
А до того никакой страсти я вовсе не знал.
Очи потупило вмиг перед ней самомненье былое:
Голову мне придавил резвой ногою Амур.
Он приохотил меня не любить непорочных красавиц,
Дерзкий, заставив мою без толку жизнь проводить.
Вот уже целый год любовным огнем я пылаю,
Боги, однако же, всё неблагосклонны ко мне.
Меланион, о Тулл[868], жестокость смирил Иасиды[869]
Тем, что на подвиг любой он безбоязненно шел:
Как одержимый блуждал в пещерах горы Парфенийской
И на охоту ходил он на косматых зверей;
Он и от боли стонал, оглашая аркадские скалы
В час, когда злобный Гилей[870] ранил дубиной его.
Этим он мог покорить быстроногой девушки сердце:
Значат не мало в любви подвиги, слезы, мольбы.
Мне же ленивый Амур не придумает новых уловок,
Да и привычный свой путь он уж давно позабыл.
Вы, что морочите нас, Луну низвести обещая,
Трудитесь жертвы слагать на чародейный алтарь, —
Сердце моей госпожи склоните ко мне поскорее,
Сделайте так, чтоб она стала бледнее меня.
Смело поверю тогда, что созвездья дано низводить вам,
Реки назад возвращать силой колхидской волшбы.
Вы ж, дорогие друзья, с запоздалым своим утешеньем
Сердцу, больному от мук, дайте лекарства скорей:
Стойко я буду терпеть и нож, и боль прижиганья,
Лишь бы свободно излить все, чем бушует мой гнев.
Мчите к чужим племенам, по волнам вы меня уносите,
Чтобы из жен ни одна мой не открыла приют.
Здесь оставайтесь, кому Амур, улыбаясь, кивает,
И наслаждайтесь всегда счастьем взаимной любви.
Мне же Венера, увы, посылает лишь горькие ночи,
И никогда не замрет, тщетно пылая, любовь.
Бойтесь вы этого зла: пусть каждого милая держит
Крепко, привычной любви он да не сменит вовек.
Если же вовремя вы не проникнитесь мудрым советом,
Позже с какою тоской вспомните эти слова!
Там, где блаженствуешь ты, прохлаждаешься, Цинтия, — в Байах[871], —
Где Геркулеса тропа вдоль по прибрежью бежит,
Там, где любуешься ты на простор, подвластный феспротам[872],
Или на синюю зыбь у знаменитых Мизен[873], —
Там вспоминаешь ли ты обо мне в одинокие ночи?
Для отдаленной любви есть ли местечко в душе?
Или какой-нибудь враг, огнем пылая притворным,
Отнял, быть может, тебя у песнопений моих?
Если бы в утлом челне, доверенном маленьким веслам,
Воды Лукрина[874] могли дольше тебя удержать!
Если б могли не пустить стесненные воды Тевфранта[875],
Гладь, по которой легко, руку меняя, грести…
Лишь бы не слушала ты обольстительный шепот другого,
Лежа в истоме, в тиши, на опустевшем песке!
Только лишь страх отойдет, — и неверная женщина тотчас
Нам изменяет, забыв общих обоим богов.
Нет, до меня не дошло никаких подозрительных слухов…
Только… ты там, а я здесь… вот и боишься всего.
О, не сердись, если я поневоле тебе доставляю
Этим посланием грусть… Но виновата — боязнь.
Оберегаю тебя прилежней матери нежной.
Мне ли, скажи, дорожить жизнью моей без тебя?
Цинтия, ты мне и дом, и мать с отцом заменила,
Радость одна для меня — ежеминутная — ты!
Если к друзьям прихожу веселый или, напротив,
Грустный, — «Причина одна: Цинтия!» — им говорю.
Словом, как можно скорей, покидай развращенные Байи, —
Много разрывов уже вызвали их берега,
Ах, берега их всегда во вражде с целомудрием женским…
Сгиньте вы с морем своим, Байи, погибель любви!
Эти пустыни молчат и жалоб моих не расскажут,
В этом безлюдном лесу царствует только Зефир:
Здесь я могу изливать безнаказанно скрытое горе,
Коль одинокий утес тайны способен хранить.
Как же мне, Кинфия, быть? С чего мне начать исчисленье
Слез, оскорблений, что ты, Кинфия, мне нанесла?
Я, так недавно еще счастливым любовником слывший,
Вдруг я отвергнут теперь, я нежеланен тебе.
Чем я твой гнев заслужил? Что за чары тебя изменили?
Иль опечалена ты новой изменой моей?
О, возвратись же скорей! Поверь, не топтали ни разу
Мой заповедный порог стройные ножки другой.
Хоть бы и мог я тебе отплатить за свои огорченья,
Все же не будет мой гнев так беспощаден к тебе,
Чтоб не на шутку тебя раздражать и от горького плача
Чтоб потускнели глаза и подурнело лицо.
Или, по-твоему, я слишком редко бледнею от страсти,
Или же в речи моей признаков верности нет?
Будь же свидетелем мне, — коль знакомы деревья с любовью,
Бук и аркадскому ты милая богу[876] сосна!
О, как тебя я зову под укромною тенью деревьев,
Как постоянно пишу «Кинфия» я на коре!
Иль оскорбленья твои причинили мне тяжкое горе?
Но ведь известны они лишь молчаливым дверям.
Робко привык исполнять я приказы владычицы гордой
И никогда не роптать громко на участь свою.
Мне же за это даны родники да холодные скалы,
Должен, о боги, я спать, лежа на жесткой траве,
И обо всем, что могу я в жалобах горьких поведать,
Должен рассказывать я только певуньям лесным.
Но, какова ты ни будь, пусть мне «Кинфия» лес отвечает.
Пусть это имя всегда в скалах безлюдных звучит.
Кто бы впервые ни дал Амуру обличье ребенка, —
Можешь ли ты не назвать дивным его мастерство?
Первый ведь он увидал, что влюбленный живет безрассудно,
Ради пустейших забот блага большие губя.
Он же Амура снабдил и парою крыльев летучих,
И человечьих сердец легкость он придал ему:
Право же, носимся мы всю жизнь по изменчивым волнам,
Нас то туда, то сюда ветер все время влечет.
Держит рука у него, как и должно, с зазубриной стрелы,
И за плечами стрелка кносский привязан колчан:
Мы и не видим его, а он уже ранил беспечных,
Из-под ударов его цел не уходит никто.
Стрелы засели во мне, засел и ребяческий образ;
Только сдается, что он крылья свои потерял,
Нет, из груди у меня никогда он, увы, не умчится
И бесконечно ведет войны в крови у меня.
Что же за радость тебе гнездиться в сердцах иссушенных?
Стрелы в другого мечи, если стыда не забыл!
На новичках твой яд испытывать, право же, лучше:
Ведь не меня ты, мою мучаешь жалкую тень;
Если погубишь ее, кто другой воспевать тебя будет?
Легкая Муза моя славу тебе создает:
Славит она и лицо, и пальцы, и черные очи
Той, что ступает легко нежною ножкой своей.
Тайну хотите узнать своего вы последнего часа,
Смертные, и разгадать смерти грядущей пути,
На небе ясном найти путем финикийской науки
Звезды, какие сулят людям добро или зло;
Ходим ли мы на парфян или с флотом идем на британцев, —
Море и суша таят беды на темных путях.
Сызнова плачете вы, что своей головы не спасете,
Если на схватки ведет вас рукопашные Марс;
Молите вы и о том, чтобы дом не сгорел и не рухнул
Или чтоб не дали вам черного яда испить.
Знает влюбленный один, когда и как он погибнет:
Вовсе не страшны ему бурный Борей и мечи.
Пусть он даже гребцом под стигийскими стал тростниками,
Пусть он, мрачный, узрел парус подземной ладьи:
Только бы девы призыв долетел до души обреченной —
Вмиг он вернется с пути, смертный поправши закон.
Жарко было в тот день, а время уж близилось к полдню.
Поразморило меня, и на постель я прилег.
Ставня одна лишь закрыта была, другая — открыта,
Так что была полутень в комнате, словно в лесу, —
Мягкий, мерцающий свет, как в час перед самым закатом
Иль когда ночь отошла, но не возник еще день.
Кстати такой полумрак для девушек скромного нрава,
В нем их опасливый стыд нужный находит приют.
Вот и Коринна вошла в распоясанной легкой рубашке,
По белоснежным плечам пряди спадали волос.
В спальню входила такой, по преданию, Семирамида[878]
Или Лаида, любовь знавшая многих мужей…
Легкую ткань я сорвал, хоть, тонкая, мало мешала, —
Скромница из-за нее все же боролась со мной.
Только, сражаясь, как те, кто своей не желает победы,
Вскоре, себе изменив, другу сдалась без труда.
И показалась она перед взором моим обнаженной…
Мне в безупречной красе тело явилось ее.
Что я за плечи ласкал! К каким я рукам прикасался!
Как были груди полны — только б их страстно сжимать!
Как был гладок живот под ее совершенною грудью!
Стан так пышен и прям, юное крепко бедро!
Стоит ли перечислять?.. Всё было восторга достойно.
Тело нагое ее я к своему прижимал…
Прочее знает любой… Уснули усталые вместе…
О, проходили бы так чаще полудни мои!
Значит, я буду всегда виноват в преступлениях новых?
Ради защиты вступать мне надоело в бои.
Стоит мне вверх поглядеть в беломраморном нашем театре,
В женской толпе ты всегда к ревности повод найдешь.
Кинет ли взор на меня неповинная женщина молча,
Ты уж готова прочесть тайные знаки в лице.
Женщину я похвалю — ты волосы рвешь мне ногтями;
Стану хулить, говоришь: я заметаю следы…
Ежели свеж я на вид, так, значит, к тебе равнодушен;
Если не свеж, так зачах, значит, томясь по другой…
Право, уж хочется мне доподлинно быть виноватым:
Кару нетрудно стерпеть, если ее заслужил.
Ты же винишь меня зря, напраслине всяческой веришь, —
Этим свой собственный гнев ты же лишаешь цены.
Ты погляди на осла, страдальца ушастого вспомни:
Сколько его ни лупи, — он ведь резвей не идет…
Вновь преступленье: с твоей мастерицей по части причесок,
Да, с Кипассидою, мы ложе, мол, смяли твое!
Боги бессмертные! Как? Совершить пожелай я измену,
Мне ли подругу искать низкую, крови простой?
Кто ж из свободных мужчин захочет сближенья с рабыней?
Кто пожелает обнять тело, знававшее плеть?
Кстати добавь, что она убирает с редким искусством
Волосы и потому стала тебе дорога.
Верной служанки твоей ужель домогаться я буду?
Лишь донесет на меня, да и откажет притом…
Нет, Венерой клянусь и крылатого мальчика луком:
В чем обвиняешь меня, в том я невинен, — клянусь!
Ты, что способна создать хоть тысячу разных причесок;
Ты, Кипассида, кому только богинь убирать;
Ты, что отнюдь не простой оказалась в любовных забавах;
Ты, что мила госпоже, мне же и вдвое мила, —
Кто же Коринне донес о тайной близости нашей?
Как разузнала она, с кем, Кипассида, ты спишь?
Я ль невзначай покраснел?.. Сорвалось ли случайное слово
С губ и невольно язык скрытую выдал любовь?..
Не утверждал ли я сам, и при этом твердил постоянно,
Что со служанкой грешить — значит лишиться ума?
Впрочем… к рабыне пылал, к Брисеиде[879], и сам фессалиец;
Вождь микенский любил Фебову жрицу — рабу…
Я же не столь знаменит, как Ахилл или Тантала отпрыск[880], —
Мне ли стыдиться того, что не смущало царей?
В миг, когда госпожа на тебя взглянула сердито,
Я увидал: у тебя краской лицо залилось.
Вспомни, как горячо, с каким я присутствием духа
Клялся Венерой самой, чтоб разуверить ее!
Сердцем, богиня, я чист, мои вероломные клятвы
Влажному ветру вели в дали морские умчать…
Ты же меня наградить изволь за такую услугу:
Нынче, смуглянка, со мной ложе ты вновь раздели!
Неблагодарная! Как? Головою качаешь? Боишься?
Служишь ты сразу двоим, — лучше служи одному.
Если же, глупая, мне ты откажешь, я все ей открою,
Сам в преступленье своем перед судьей повинюсь;
Все, Кипассида, скажу: и где и как часто встречались;
Все госпоже передам: сколько любились и как…
В цирке сегодня сижу я не ради коней знаменитых, —
Нынче желаю побед тем, кого ты избрала.
Чтобы с тобой говорить, сидеть с тобою, пришел я, —
Чтобы могла ты узнать пыл, пробужденный тобой…
Ты на арену глядишь, а я на тебя: наблюдаем
Оба мы то, что хотим, сыты обоих глаза.
Счастлив возница, тобой предпочтенный, кто бы он ни был!
Значит, ему удалось вызвать вниманье твое.
Мне бы удачу его!.. Упряжку погнав из ограды,
Смело бы я отдался бурному бегу коней;
Спины бичом бы хлестал, тугие б натягивал вожжи;
Мчась, того и гляди, осью бы мету задел!
Но, лишь тебя увидав, я бег замедлил бы тотчас,
И ослабевшие вмиг выпали б вожжи из рук…
Ах, и Пелопс[881] едва не упал на ристании в Пизе
Лишь оттого, что узнал твой, Гипподамия, лик.
Все же победу ему принесла благосклонность подруги, —
Пусть же победу и нам даст благосклонность подруг!..
Хочешь сбежать?.. О, сиди!.. В одном мы ряду и бок о бок…
Да, преимущества есть в правилах мест цирковых.
«Вы, направо от нас, над девушкой сжальтесь, соседка:
Ей нестерпимо, ведь вы вся на нее налегли!
Также и вы, позади, подберите немножечко ноги,
Полно вам спину ее твердым коленом давить!..»
Твой опустился подол и волочится по полу, — складки
Приподыми, а не то я их тебе подберу.
Ну и ревнивец подол! Скрывает прелестные ноги,
Видеть их хочет один… Ну и ревнивец подол!
Ноги такой красоты Меланион[882] у Аталанты,
Бегом несущейся прочь, тронуть стремился рукой.
Ноги такие еще у Дианы в подобранном платье
Пишут, когда за зверьем, смелых смелее, бежит.
Их не видал, а горю… Что ж будет, когда их увижу?
Пламя питаешь огнем, в море вливаешь воды!
Судя по этим красам, представляю себе и другие,
Те, что от взоров таят тонкие ткани одежд…
Хочешь, пока на тебя ветерочком я легким повею,
Перед тобою махать веером стану? Иль нет?
Видно, в душе у меня, а вовсе не в воздухе, жарко:
Женской пленен я красой, грудь мою сушит любовь…
Мы говорим, а уж пыль у тебя оседает на платье.
Прочь, недостойная пыль! С белого тела сойди!..
Тише!.. Торжественный миг… Притаитесь теперь и молчите…
Рукоплещите! Пора! Вот он, торжественный миг…
Шествие… Первой летит на раскинутых крыльях Победа.
К нам, о богиня! Ко мне! Дай мне в любви победить!
Кто почитатель морей, пускай рукоплещет Нептуну, —
Я равнодушен к воде, землю свою я люблю…
Марсу ты хлопай, боец! А я ненавижу оружье:
Предпочитаю я мир, — с миром приходит любовь.
Будь к прорицателям, Феб[883], благосклонен, к охотникам, Феба!
Рук же искусных привет ты, о Минерва, прими!
Ты, земледел, поклонись Церере и томному Вакху!
Всадник, кулачный боец, с вами Кастор и Поллукс![884]
Я же, Венера, тебе и мальчикам с луком их метким
Рукоплещу, я молю мне в моем деле помочь.
Мысли моей госпожи измени, чтоб любить дозволяла…
Вижу: богиня сулит счастье кивком головы!
Ну же, прошу, обещай, подтверди обещанье богини, —
Будешь мне ты божеством, пусть уж Венера простит!
Всеми богами клянусь в торжественном шествии этом —
Будешь на все времена ты госпожою моей!..
Ноги свисают твои, — ты можешь, ежели хочешь,
На перекладинку здесь кончики их опереть…
Снова арена пуста… Начиная Великие игры,
Претор пустил четверни первым забегом вперед.
Вижу, кто избран тобой. О, пусть победит твой избранник!
Кажется, кони и те чуют желанья твои…
Горе! Как далеко по кругу он столб огибает!
Что ж ты наделал? Другой ближе прошел колесом!
Что ты наделал? Беда! Ты красавицы предал желанья…
Туже рукой натяни левые вожжи, молю!..
Неуча выбрали мы… Отзовите его, о квириты!
Дайте же знак поскорей, тогой махните ему!..
Вот… Отозвали… Боюсь, прическу собьют тебе тоги, —
Спрячься-ка лучше сюда, в складки одежды моей…
Но уж ворота опять распахнулись, и вновь из ограды
Ряд разноцветных возниц гонит ретивых коней.
Ну, победи хоть теперь, пронесись на свободном пространстве,
Чтобы ее и мои осуществились мольбы!..
Осуществились мольбы… госпожи… Мои же — напрасны…
Пальмы он ветвь получил, — мне ж предстоит добывать…
Ты улыбнулась, глазком кое-что обещая игриво…
Будет пока… Но потом и остальное мне дай!
Если над Мемноном мать[885] и мать над Ахиллом рыдала,
Если удары судьбы трогают вышних богинь, —
Волосы ты распусти, Элегия скорбная, ныне:
Ныне по праву, увы, носишь ты имя свое.
Призванный к песням тобой, Тибулл, твоя гордость и слава, —
Ныне бесчувственный прах на запылавшем костре.
Видишь, Венеры дитя колчан опрокинутым держит;
Сломан и лук у него, факел сиявший погас;
Крылья поникли, смотри! Сколь жалости мальчик достоин!
Ожесточенной рукой бьет себя в голую грудь;
Кудри спадают к плечам, от слез струящихся влажны;
Плач сотрясает его, слышатся всхлипы в устах…
Так же, преданье гласит, на выносе брата Энея,
Он из дворца твоего вышел, прекрасный Иул[886]…
Ах, когда умер Тибулл, омрачилась не меньше Венера,
Нежели в час, когда вепрь юноше пах прободал[887]…
Мы, певцы, говорят, священны, хранимы богами;
В нас, по сужденью иных, даже божественный дух…
Но оскверняется все, что свято, непрошеной смертью,
Руки незримо из тьмы тянет она ко всему.
Много ли мать и отец помогли исмарийцу Орфею[888]?
Много ли проку, что он пеньем зверей усмирял?
Лин — от того же отца, и все ж, по преданью, о Лине[889]
Лира, печали полна, пела в лесной глубине.
И меонийца[890] добавь — из него, как из вечной криницы,
Ток пиэрийской струи пьют песнопевцев уста.
В черный, однако, Аверн[891] и его погрузила кончина…
Могут лишь песни одни жадных избегнуть костров.
Вечно живут творенья певцов: и Трои осада,
И полотно[892], что в ночи вновь распускалось хитро…
Так, Немесиды вовек и Делии имя пребудет, —
Первую пел он любовь, пел и последнюю он.
Что приношения жертв и систры[893] Египта? Что пользы
Нам в чистоте сохранять свой целомудренный одр?..
Если уносит судьба наилучших — простите мне дерзость, —
Я усомниться готов в существованье богов.
Праведным будь — умрешь, хоть и праведен; храмы святые
Чти — а свирепая смерть стащит в могилу тебя…
Вверьтесь прекрасным стихам… но славный Тибулл бездыханен?
Все-то останки его тесная урна вместит…
Пламя костра не тебя ль унесло, песнопевец священный?
Не устрашился огонь плотью питаться твоей.
Значит, способно оно и храмы богов золотые
Сжечь, коль свершило, увы, столь святотатственный грех.
Взор отвратила сама госпожа эрицинских святилищ[894]
И — добавляют еще — слез не могла удержать…
Все же отраднее так, чем славы и почестей чуждым
В землю немилую лечь, где-то в безвестном краю.
Тут хоть закрыла ему, уходящему, тусклые очи
Мать и дары принесла, с прахом прощаясь его.
Рядом была и сестра, материнскую скорбь разделяла,
Пряди небрежных волос в горе руками рвала.
Здесь Немесида была… и первая… та… Целовали
Губы твои, ни на миг не отошли от костра.
И перед тем как уйти, промолвила Делия: «Счастья
Больше со мною ты знал, в этом была твоя жизнь!»
Но Немесида в ответ: «Что молвишь? Тебе б мое горе!
Он, умирая, меня слабой рукою держал».
Если не имя одно и не тень остается от смертных,
То в Елисейских полях будет Тибулла приют.
Там навстречу ему, чело увенчав молодое
Лаврами, с Кальвом[895] твоим выйди, ученый Катулл!
Выйди — коль ложно тебя обвиняют в предательстве друга[896],
Галл, не умевший щадить крови своей и души!
Тени их будут с тобой, коль тени у тел существуют.
Благочестивый их сонм ты увеличил, Тибулл.
Мирные кости — молю — да покоятся в урне надежной,
Праху, Тибулл, твоему легкой да будет земля.
Так как супруга моя из страны плодородной фалисков[897],
Мы побывали, Камилл[898], в крепости, взятой тобой.
Жрицы готовились чтить пречистый праздник Юноны,
Игры устроить ей в честь, местную телку заклать.
Таинства в том городке — для поездки достаточный повод,
Хоть добираться туда надо подъемом крутым.
Роща священная там. И днем под деревьями темень.
Взглянешь — сомнения нет: это приют божества.
В роще — Юноны алтарь; там молятся, жгут благовонья;
В древности сложен он был неизощренной рукой.
Только свирель возвестит торжеств начало, оттуда
По застеленным тропам шествие чинно идет.
Белых телушек ведут под рукоплесканья народа,
Вскормленных здесь на лугах сочной фалернской травой.
Вот и телята, еще не грозны, забодать не способны;
Жертвенный боров бредет, скромного хлева жилец;
Тут и отары вожак крепколобый, рога — завитками;
Нет лишь козы ни одной — козы богине претят:
В чаще однажды коза увидала некстати Юнону,
Знак подала, и пришлось бегство богине прервать…
Парни еще и теперь пускают в указчицу стрелы:
Кто попадает в козу, тот получает ее…
Юноши стелют меж тем с девицами скромными вместе
Вдоль по дорогам ковры там, где богиня пройдет.
А в волосах у девиц — ободки золотые, в каменьях,
Пышный спадает подол до раззолоченных ног.
В белых одеждах идут, по обычаю древнему греков,
На головах пронести утварь доверили им.
Ждет в безмолвье народ блестящего шествия… Скоро!
Вот и богиня сама движется жрицам вослед.
Праздник — на греческий лад: когда был убит Агамемнон,
Место убийства его и достоянье отца
Бросил Галез[899], а потом, наскитавшись и морем и сушей,
Славные эти возвел стены счастливой рукой.
Он и фалисков своих научил тайнодействам Юноны, —
Пусть же во благо они будут народу и мне!
Будешь читать — не забудь: в этом томике каждая буква
Создана в бурные дни мною на скорбном пути.
Видела Адрия ширь, как, дрожа, в леденящую стужу,
В пору декабрьских бурь, я эти строки писал.
Помнится, Истм[900] одолев, отделяющий море от моря,
Мы на другом корабле к дальнему берегу шли…
Верно, Киклады тогда изумлялись жару поэта:
Как он под ропот и рев моря бормочет стихи.
Дивно и мне, не пойму, как мой дар не погиб безвозвратно
В этой пучине души, в этом кипенье волны.
Плод отупенья мой жар иль безумья, не в имени дело:
Но, упоенный трудом, дух мой упавший воспрял.
Часто в дождь и туман мы блуждали по морю слепо,
Гибелью часто грозил Понт под созвездьем Плеяд,
Свет омрачал нам Боот, Эриманфской медведицы сторож,
Зевом полуночных вод нас поглощал ураган.
Часто хозяином в трюм врывалося море. Но, вторя
Ритму, дрожащей рукой стих за стихом вывожу.
Стонут канаты, скрипят под напором упорного шторма,
Вздыбился, будто гора, гребнем изогнутый вал,
Сам рулевой к небесам воздевает застывшие руки:
Кормчее дело забыл, помощи молит у звезд.
Всюду, куда ни взгляну, только смерти несметная сила.
Смерти страшится мой ум — в страхе молитвы твержу.
В гавани верной спастись? Ужасает неверная гавань.
Воды свирепы. Увы! Суша страшнее воды.
Козни людей и стихий обоюдно меня удручают.
Робко трепещет душа! Грозны — и меч и волна.
Меч! — да не жаждет ли он этой кровью поэта упиться?
Море! — не славы ль оно ищет, мне гибель суля?
Варвары слева грозят: по душе им грабеж да разбои.
Вечно на той стороне войны, да сечи, да кровь.
Моря великий покой возмущают зимние бури:
В этих свирепых сердцах волны свирепствуют злей.
Тем снисходительней будь ко мне, мой строгий читатель,
Если мой стих как стих ниже высоких похвал.
Я не в садах у себя пишу, как, бывало, писали.
Друг мой, уютный диван, где ты, опора костям?
Носит пучина меня в бледном свете полярного полдня,
Темно-зеленая зыбь брызгами лист обдает.
В злобе лютует зима, негодует завистница: смею
Все же писать под свист колких укусов-угроз.
Бьет человека зима. И пусть ее! Милости просим.
Каждому — мне и зиме — песня своя дорога.
Только предстанет очам той ночи печальной картина,
Ночи последней, когда с Римом прощалась душа,
Только припомню, как я покидал все, что дорого сердцу,
И набегает слеза — медленно каплей ползет.
Время к рассвету текло, когда из Италии милой
Мне удалиться велел Цезарь, как Цезарь велит.
Срок для сборов был скуп: ни с духом собраться, ни с мыслью…
Ошеломленный, немой, долго я был в забытьи.
Не было сил поручить провожатым и слугам заботу,
Денег, одежды запас, нужный изгнаннику, взять.
Словно столбняк на меня… Как громом небес пораженный,
Смертью не принят, живой: жив иль не жив — не пойму.
Все же затменье ума пересилила горесть разлуки:
Я из беспамятства тьмы медленно к свету пришел
И огорченным друзьям в утешение вымолвил слово:
Да, поредела толпа — двух или трех насчитал.
Сам я рыдал, и меня, рыдая, жена обнимала.
По неповинным щекам слезы струились дождем.
За морем дочь, далеко — у прибрежья Ливийской пустыни,
Не долетала туда грустная весть обо мне.
Здесь же стенанье и плач: будто плакальщиц хоры в хоромах,
Будто хоронят кого многоголосой толпой.
Жены и мужи по мне, по усопшему, дети горюют,
В каждом глухом уголке вижу я слезы и скорбь.
Если ничтожное мы уподобить великому вправе,
Трое захваченной был ныне подобен мой дом.
Ночь. Не звенят голоса ни людей, ни встревоженной своры,
В небе высоком луну мглистые кони несли.
И в озаренье ее различил я вблизи Капитолий:
Тщетная близость — увы! — к ларам печальным моим.
«Силы верховные, вы, сопрестольные боги, — воззвал я, —
Храмы священные, впредь видеть мне вас не дано.
Я покидаю богов, хранителей града Квирина[901]:
Век благоденствовать вам — с вами прощаюсь навек.
И хотя поздно греметь щитом, когда рана смертельна,
Не отягчайте враждой бремя изгнанника мне.
О, передайте, молю, небожителю-мужу: повинен
Я в заблужденье, но чист от преступленья душой.
Ведомо вам — так пусть покаравшему ведомо будет;
Если помилует бог, к счастью мне путь не закрыт».
Так я всевышних молил. Еще жарче молила подруга,
И задыхались мольбы от содроганий и спазм.
В космах рассыпанных кос перед ларами в горе поверглась,
Губы дрожат, к очагу льнут: но погас мой очаг.
Сколько горчайших слов изливала на хмурых пенатов,
Мужа оплакивая, — только бессильны слова.
Ночи стремительный бег не дозволил мне далее медлить.
В небе Медведицы ось низко ушла под уклон.
Что предпринять? Увы! Любовь не привяжет к отчизне,
Был предуказан уход в эту последнюю ночь.
Помню, бывало, не раз говорил торопившему: «Полно,
Что ты торопишь! Куда? Да и откуда? Пойми».
Помню, бывало, не раз назначал я час расставанья,
Этот обманчивый час, крайний, последний мой час.
Трижды ступал на порог, и трижды меня отзывали,
И отступала опять, сердцу внимая, нога.
Я говорил им: «Прощай» — и снова бессвязные речи,
Снова дарю поцелуй — вечный, предсмертный «прости». —
Снова твержу порученья, все те же, обманом утешен,
И оторвать не могу глаз от любимых моих.
Выкрикнул: «Что мне спешить? Впереди — только Скифия, ссылка.
Здесь покидаю я Рим. Вправе помедлить вдвойне,
Боги, живую жену от живого живой отрывают,
Дом, домочадцев моих — всё покидаю навек.
И, собутыльники, вас, друзей, так по-братски любимых…
О мое сердце, залог дружбы Тезеевой[902], плачь!»
Их обнимаю… Еще… невозбранно. Но вскоре, быть может,
Мне возбранят, навсегда. Скорбен дарованный час.
Плачем, роняем слова. А в небе предвестником грозным,
Утренней ранней звездой, вспыхнул, как рок, Люцифер[903].
Не расставание, нет! Это плоть отрываю от плоти:
Там осталась она — часть моей жизни живой.
Метта-диктатора так разрывали каратели-кони,
В разные стороны мчась: был он предателем — Метт!
Помню ропот и вопль — голоса моих близких. О, боги!
Вижу неистовство рук — рвут обнаженную грудь.
Плечи мои обхватив, жена не пускает, повисла.
Скорбную речь примешав к мужним горячим слезам:
«Нет, ты один не уйдешь. Вместе жили и вместе в дорогу.
Буду я в ссылке тебе, ссыльному, ссыльной женой.
Мне уготовлен твой путь. И я на край света с тобою.
Малый прибавится груз к судну изгнания, друг.
Цезаря гнев повелел тебе покинуть отчизну.
Мне состраданье велит: Цезарь, мой Цезарь — оно!»
Так убеждала жена, повторяя попытки былые.
Сникла бессильно рука перед насильем нужды.
Вырвался. Труп ли живой? Погребенный, но без погребенья…
Шерстью обросший иду, дикий, с косматым лицом.
Милая, — слух долетел, — от горя до сумерек темных,
Рухнув, на голой земле в доме лежала без чувств.
Тяжко привстала потом, заметая грязь волосами,
Медленно выпрямив стан, окоченелый в ночи,
Долго оплакивала — то себя, то дом опустелый,
То выкликала в тоске имя отторгнутого.
Так горевала она, как если бы дочери тело
Видела рядом с моим на погребальном костре.
Смерть призывала она: умереть и забыться навеки.
Не по охоте жива — только чтоб жить для меня.
Помни же, друг, и живи. Об изгнаннике помни… О, судьбы!
Помни, живи для него — участь ему облегчи.
Если в столице у вас об изгнаннике помнят[904] — Назоне,
Если живет без меня в городе имя мое,
Там, далеко, далеко, где и звезды в море не сходят,
Там обретаюсь во тьме варварства — варварских орд.
Дики кругом племена: сарматы, да бессы, да геты[905]…
Сборище темных имен — мне ли, поэту, под стать?
В пору тепла мы живем под широкой защитой Дуная:
Волн бурливый разлив — вражьим набегам рубеж.
Лету на смену зима угрюмые брови насупит,
В белый, как мрамор, покров землю оденет мороз,
В дни, пока дует Борей и свиреп снегопадами Север,
Терпит покорно Дунай дрожь громыхающих арб.
Снег да метель. Ни дожди, ни солнце тот снег не растопят.
Крепче и крепче его в броню сбивает Борей.
Прежней еще не смело́, а новый все валит и валит,
Так и лежит кое-где век от зимы до зимы.
Тут ураган налетит, — ударит и с грохотом рушит
Башни, ровняя с землей, кровлю рванул — и унес.
Кутают тело в меха, в шаровары из шкур, когда люто
За душу стужа берет: только лицо на ветру.
Льдинки звенят при ходьбе, свисая с волос и качаясь,
И от мороза бела, заледенев, борода.
Здесь замерзает вино, сохраняя форму сосуда;
Вынут из кадки — не пьют: колют, глотая куском.
Высказать вам, как ручьи промерзают до дна от морозов,
Как из озер топором ломкую воду берут?
Равен Дунай шириной папирусоносному Нилу.
Многими устьями он в мощный втекает залив.
Вод синеокую даль он, ветрами сковав, замыкает,
И под броней ледяной к морю сокрыто скользит.
Там, где сверкало весло, пешеходы ступают, и звонко
Режет копыто коня гладь затвердевшую волн.
По новозданным местам, над скользящими водами цугом
Варварский тащат обоз шеи сарматских быков.
Верьте — не верьте, но нет мне корысти враньем пробавляться,
И очевидцу не грех полную веру давать…
Вижу ледовый настил, уходящий в безбрежные дали,
Скользкая сверху кора сжала безмолвие вод.
Мало увидеть — иду: я по твердому морю шагаю,
И под стопой у меня влага не влажной была.
Будь твой пролив роковой, Леандр[906], таким же когда-то,
Мы не вменяли б ему юноши гибель в вину.
Ныне дельфинам невмочь, изогнувшись, мелькнуть над волною.
Пусть попытаются: лед сломит игривую прыть.
Пусть, свирепея, Борей гремит, порывая крылами,
Воды не дрогнут: тиха в сжатой пучине вода.
Сдавлены льдами, стоят корабли в этом мраморе моря,
И не разрезать веслом оцепенелый простор.
Вижу в прозрачности льдов застывших рыб вереницы,
Меж замороженных див есть и немало живых.
Только, бывало, скует свирепая сила Борея
Воды морские иль рек вольнолюбивый порыв,
Только прогладят Дунай Аквилоны досуха, тотчас
Варвар на резвом коне хищный свершает набег.
Варвар! Силен он конем и далеко летящей стрелою:
Опустошит широко землю соседей сосед.
Жители — в бегство: беда!.. В полях, никем не хранимых,
Хищники дикой ордой грабят покинутый скарб,
Скудное грабят добро — и скот, и скрипучие арбы —
Все, чем сыт и богат наш деревенский бедняк.
Кто не укрылся, того, заломив ему за спину руки,
Прочь угоняют: прости, дом и родные поля.
Прочие жалко падут под зубчатыми стрелами. Варвар
Жало крылатой стрелы в капельный яд обмакнул.
Все, что врагу унести иль угнать не по силам, он губит:
И пожирает огонь скромные избы селян.
Даже в дни мира дрожат, трепеща перед зимним набегом,
И не взрывает никто плугом упорной земли.
Здесь — или видят врага, иль боятся, когда и не видят,
И пребывает земля в дебрях степных целиной.
Здесь под сенью листвы виноградная гроздь не свисает.
Пенистым суслом по край не заполняется кадь.
Яблоко здесь не растет.[907] Не нашел бы Аконтий приманки,
Чтобы на ней написать, — только б Кидиппа прочла.
Голые степи кругом: ни деревьев, ни зелени — голо.
Не для счастливых людей гиблые эти места.
Да, до чего широко раскинулись мир и держава!
Мне в наказанье дана именно эта земля.
Год на исходе. Зефир холода умеряет. Докучно
Тянется для томитян зимний томительный срок.
Золоторунный баран, не донесший до берега Геллу[908],
В небе уравнивает длительность ночи и дня,
Весело юным рукам собирать полевые фиалки,
Дань деревенской красы — сами фиалки взошли.
В пестроузорчатый плат рядятся луга, зацветая,
Птица встречает весну горлом болтливым: ку-ку!
Только б вину искупить, под стропилами крыш хлопотливо
Ласточка, грешная мать[909], гнездышко птенчикам вьет.
Выпрыснул злак из земли, в бороздах таимый Церерой,
Чуть огляделся — и ввысь тянется нежный росток.
Всюду, где зреет лоза, проступают почки на ветке, —
Только от Гетской земли лозы мои далеки.
Всюду, где есть дерева, набухают буйно побеги, —
Только от Гетской земли те дерева далеки.
Ныне… там отдых в чести. Отошли говорливые тяжбы
Красноречивых витий Форума. Играм черед.
Тут скаковые дела, тут на копьях, мечах поединки,
Дротики мечут, звеня, вертится обруч юлой.
Юность проточной водой, из источника Девы, смывает
С тел, утомленных борьбой, масла лоснящийся след.
Сцена царит. Горячи взрывы жаркие рукоплесканий.
Три театра гремят форумам трижды взамен.
Трижды счастливы! Стократ! Числом не исчислить все счастье
Тех, кому в городе жить не возбраняет приказ.
Здесь же… я вижу, снега растопило вешнее солнце,
Не пробивают уже проруби в тверди озер.
Море не сковано льдом. И погонщик-сармат, понукая,
Не волочит через Истр нудный, скрипучий обоз.
Медленно будут сюда прибывать одинокие шкуны:
Будет качаться корма — гостья понтийских причал.
Я поспешу к моряку. Обменяюсь приветом. Узнаю:
Кто он, откуда, зачем прибыл, из дальних ли мест?
Диво, коль он не пришлец из ближайших приморских окраин
И безопасным веслом не взбородил нашу зыбь.
Редкий моряк поплывет из Италии этаким морем,
Редко приманит его берег унылый, без бухт.
Если же гость обучен латинской иль эллинской речи,
Звуком пленит дорогим — есть ли что сердцу милей!
Только обычно сюда от пролива и волн Пропонтиды
Гонит, надув паруса, ветер попутный суда.
Кем бы ты ни был, моряк, но отзвук молвы отдаленной
Все ж перескажет и сам станет ступенью молвы.
Только бы он передал о триумфах Тиберия слухи
И об обетах святых Августа — бога страны,
И о тебе не забыл, бунтовщица Германия; низко ль
Ты к полководца ногам грустной склонилась главой?
Кто перескажет, тому — хоть прискорбно, что сам я не видел, —
Двери в доме моем я широко распахну.
В доме? Увы мне, увы! Дом Назона не в дебрях ли скифских?
И не свое ли жилье Кара мне в лары дала?
Боги, пусть эту юдоль каратель не домом до гроба —
Только приютом на час, долей случайной сочтет.
Если с плющом на челе мой портрет у тебя сохранился,
Праздничный Вакхов венок сбрось с его гордых волос:
Этот веселый убор подобает счастливым поэтам,
Но не опальной главе быть изваянной в венке.
Что говорю! Притворись, будто ты не услышал признанья,
Сердцем пойми, — иль зачем носишь на пальце меня?
Ты в золотой ободок мой образ оправил, и ловит
В нем дорогие черты друга-изгнанника взор.
Смотришь, и, мнится, не раз замирал на губах твоих возглас:
«Где ты, далекий мой друг и собутыльник, Назон?»
Благодарю за любовь. Но стихи мои — высший портрет мой.
Их поручаю тебе, ты их по дружбе прочти:
О превращенье людей повествуют они, чередуясь.
Труд довершить до конца[910] ссылка творцу не дала.
Я, удаляясь, тогда в сокрушенье своими руками
Бросил творенье свое в пламя… — и много других.
Ты Мелеагра сожгла, родимого сына, Алфея,[911]
Испепелив головню, мать уступила сестре.
Я, обреченный судьбой, мою книгу, мой плод материнский,
Сам погибая, обрек жарким объятьям костра,
Муз ли, повинных в моем прегрешении, возненавидя?
Труд ли, за то, что незрел и, словно щебень, шершав?
Но не погибли стихи безвозвратно — они существуют:
Много гуляло тогда списков тех строк по рукам.
Пусть же отныне живут, услаждая досуг не бесплодно
Тем, кто читает стихи. Вспомнят они обо мне.
Впрочем, кто в силах прочесть не досадуя, если не знает,
Что завершающий лоск мной не наведен на них.
Труд с наковальни был снят, недокованный молотом. Тонко
Твердый напильник его отшлифовать не успел.
Не похвалы я ищу, а милости. Счел бы за счастье,
Если, читатель, тебе я не наскучу вконец.
Ты шестистрочье мое в заголовке вступительной, первой
Книжки моей помести, если готов предпослать.
«Свитка, утратившего стихотворца, рукой ты коснулся.
Место да будет ему в Городе отведено.
Благоволенье излей, памятуя: не сам сочинитель
Свиток издал. Он добыт, верно, с его похорон».
Если погрешность найдешь в неотделанных строках, охотно
Я бы исправил ее… но не судила судьба.
Что ты злорадно, наглец, над моею бедою ликуешь,
Кровью дыша, клеветой усугубляешь вину?
Ты из утробы скалы народился, выкормок волчий,
Я говорю: у тебя — камень в бездушной груди.
Где же предел, укажи, где вал твоей ярости схлынет?
Иль не до края полна горести чаша моя?
Варваров орды кругом, берега неприютного Понта,
Шаг мой и вздох сторожит звездной Медведицы взор.
Слышу дикарский язык. Перемолвиться не с кем поэту.
Только тревога да страх в этих недобрых местах.
Словно олень на бегу, наскочивший на лапы медвежьи,
Словно овечка в кольце горных свирепых волков,
Так в окруженье племен воинственных, степью теснимый,
Ужасом сжатый, живу: враг что ни день на плечах.
Или за милость мне счесть эту казнь? Подруги лишенный,
Родины, дружбы, детей, — здесь, на чужбине, один?
Иль не карают меня? Только Цезаря гнев надо мною?
Но разве Цезаря гнев — малая кара и казнь?
Есть же любители, есть растравлять незажившую рану
И распускать языком сплетни о нраве моем!
Где возражать не дано, там любой краснобай — громовержец.
Все, что потрясено, наземь свалить легко.
Башен оплот сокрушать — высокой доблести дело,
То, что упало, топтать — подлого труса почин.
Нет, я не то, чем я был. Что же призрак пустой поражаешь?
Камни, один за другим, мечешь в мой пепел и прах?
Гектор-воитель, в бою — был Гектором. Но, по равнине
Жалко влачимый в пыли, Гектором быть перестал.
Не вспоминай же, каким ты знавал меня в годы былые:
Только подобие я — бывшего смутная тень.
Что же попреками ты эту тень язвишь и бичуешь?
О, пощади, не тревожь мрака печальной души.
Пусть, так и быть, полагай, что мои обвинители правы,
Что заблужденье мое умысел злой отягчил,
Вот я — изгнанник, взгляни, насыть свою душу! Двойную
Кару несу: тяжка ссыльному глушь и судьба.
Даже палач площадной оплакал бы жребий поэта.
Все же нашелся судья кару завидной признать.
Ты Бузирида[912] лютей, ты зверее безумца, который
Медленно, зло раскалял медное чрево быка,
Сам же, глупец, подарил свою медь Сицилийцу-тирану[913],
Так восхваляя ему изобретателя дар:
«В этой диковине, царь, механизм превосходит картинность,
В ней не одна красота форм вызывает хвалу.
Створка чудесная здесь на боку быка притаилась.
Хочешь кого погубить, тело в отверстие брось.
Бросил — и жги не спеша, жар огня нагнетая… И тут-то
Бык замычит — и живым будет мычанье быка.
Дай мне за выдумку, царь, за подарок высокий подарок,
Чтобы достойна творца эта награда была».
Высказал. Тут Фаларид воскликнул: «О выдумщик дивный,
Сам на себе испытай дивного вымысла мощь!»
Долго ли, коротко — вдруг, жестоким терзаемый жаром,
Длительный рев испустил выдумщик мудрый, мыча.
Сгинь, сицилийская быль! Далеко ты от скифов и гетов.
Я возвращаюсь в тоске, кто бы ты ни был, к тебе.
Что же, скорей утоляй свою жажду кровью поэта,
Празднуй, ликуй, до конца жадное сердце потешь.
Я по пути испытал столько бедствий на суше и море,
Что злополучья мои тронули б даже тебя.
Если бы с ними сравнить скитанья Улисса, поверь мне,
Гнева Нептуна сильней грозный Юпитера гнев.
Как бы ты ни был могуч, а я грешен — греха не касайся,
Руки жестокие прочь! Не береди моих ран.
Пусть заглохнет молва о «злодействе» поэта Назона,
Дай затянуться рубцом этим минувшим делам.
Вспомни о судьбах людских! Переменчивы судьбы: возносят
Ныне, а завтра гнетут. Бойся, всему свой черед.
Ты к испытаньям моим проявляешь чрезмерное рвенье.
Я бы мечтать не посмел о дружелюбье таком.
Не благоденствую, нет. Опасенья напрасны. Уймись же!
Горе за горем влечет Цезаря гнев за собой.
Чтобы проникся, постиг, не за вымыслы счел мои скорби:
Дай тебе бог испытать ту же печаль и судьбу.
Негодовать иль молчать? Скрыть имя иль имя на площадь,
На всенародный позор низкую душу твою?
Не назову. Умолчу. Не хочу обессмертить упреком:
Славу сыскал бы тебе стих мой, ославив тебя.
В дни, когда барка моя опиралась о прочное днище,
Первым ты вызвался, друг, под моим парусом плыть,
Хмуро фортуны лицо, и ты, — о, понятно, понятно! —
Ты на попятный… Беда! Помощи ждут от тебя.
Ты и видать не видал и слыхать не слыхал о Назоне:
Кто он? Что за Назон — в знатном кругу имен?
Я — тот Назон, это я, припомни, тот самый, который
Чуть не с пеленок с тобой спаян был дружбой слепой,
Тот, кому первому ты поверял неотложное дело,
Кто и в забавах твоих первым затейником был.
Я — тот сожитель и друг — ближайший, теснейший, домашний,
Музой единственною был я тогда для тебя.
Да, это я! Обо мне не спросил твой язык вероломный:
Жив ли я, умер и где — мало печали тебе.
Или, меня не любя, ты притворно разыгрывал дружбу?
Или притворству был чужд, — значит, пустышкою был.
Что ж оттолкнуло тебя? Душа от обиды изныла?
Если нет правды в тебе, терпкий упрек мой правдив.
Что же, какая вина вдруг преградою стала былому?
Мне ли вменяешь в вину грустную участь мою?
Мог не оказывать мне услуг ни словом, ни делом,
Но на бумаге черкнуть мог бы словечко, как друг?
Я не поверил ушам, будто ты надо мной, над лежачим,
Подло глумился, меня, слов не щадя, поносил.
Что ты творишь, слепец! Фортуна изменчива. Что же
Ты состраданья себя, слез при крушенье лишил?
Ах, неустойчивый шар выдает легковесность богини:
Кончиком шаткой ноги счастье на шаре стоит.
Листика легче она, дуновения ветреней, вздоха…
Только твоя пустота легкости этой равна.
Все человеков дела на тончайшей подвешены нити,
Случай — и рушится вдруг несокрушимый оплот.
Кто на земле не слыхал о богатстве невиданном Креза!
Жалкою жизнью и той стал он обязан врагу.
Или тиран Сиракуз[914], пред которым страна трепетала,
Перебивался едва черной работой, как раб.
Вспомни Великого![915] Он, величайший, снизив октаву
Перед клиентом, просил кротко помочь беглецу.
Также другой властелин земли от края до края,
Мироправитель, терпел горшую в мире нужду:
Сам триумфатор, гроза, сокрушитель Югурты и кимвров,
Консул, венчающий Рим славой все новых побед,
Марий[916] — в трясину болот, в тростники зарывался под тину.
Сколько же сраму его славе пришлось претерпеть!
Властно играет в делах человеческих тайная сила.
Разум доверчив, — увы! — верен ли нынешний час?
Если б мне кто предсказал: «Ты уйдешь в край далекий Евксина,
В страхе пред гетской стрелой будешь с оглядкою жить», —
Я бы ответил: «Пророк, выпей сок, очищающий разум,
Иль чемеричный настой — тот антикирский[917] травник».
Но испытанье пришло. Избежать карающей длани
Смертного мог бы, но рук бога богов — не могу.
Так трепещи же и ты. Вот мнится: забрезжила радость,
Слово еще на губах. Глянь! обернулась в печаль.
Как-то в кругу томитян говорил я о доблести вашей
(Я и по-гетски могу и по-сарматски болтать).
Некий старик среди нас на мое восхваленье такую
Речь величаво повел звонкому слову в ответ:
«Гость дружелюбный, и нам слово «дружба» — не чуждое слово
В этом далеком от вас, Истром[919] омытом краю.
В Скифии есть уголок, именуемый древле Тавридой —
Бычьей землей. Не года скачут от гетов туда.
Там я близ Понта рожден. Не к лицу мне стыдиться отчизны.
Фебу[920], богиню, чтят жертвами жители гор.
Там и поныне стоят на плечах колонн-великанов
Храмы, и к ним переход — в сорок ступеней пролет.
Статуя с неба сошла, по преданию, в эту обитель.
Верно, молва не пуста: цоколь от статуи цел.
Жертвенник в камне скалы сверкал белизною природной:
Ныне он тускл и багров, кровью пропитанный жертв.
Жрица безбрачная там роковые вершила обряды:
И превышала она знатностью скифских невест.
Грозен обычай веков, заповеданный предками скифам:
«Да упадет под мечом девственным жертвой пришлец».
Мощно царил там Фоант[921], знаменитый по всей Меотиде[922].
Берег Евксинский не знал мужа славнее, чем он.
И притекла, говорят, Ифигения, некая дева,
В годы державства его к нам по воздушным волнам:
Будто ее ветерки, под облаком в небе лелея,
Волею Фебы, как сон, в эти места увлекли…
Многие годы она алтарем управляла и храмом,
С грустью невольной рукой скорбный обычай блюдя.
Вдруг занесли паруса двух юношей к храму Тавриды.
На берег вольной ногой оба ступили, смеясь.
Возрастом были равны и любовью. Молва сохранила
Их имена — и звучат ныне: Орест и Пилад.
Юношей жадно влекут к алтарю беспощадной богини
Тривии[923]. За спину им руки загнули враги.
Вот их кропит водой очистительной жрица-гречанка,
Рыжие кудри друзей длинною лентой крепит,
Их обряжает она, виски обвивает повязкой.
Для промедленья сама ищет в смущенье предлог.
«Я не жестока, о нет! Простите мне, юноши, — молвит, —
Варварский этот обряд горше мне варварских мест.
Скифский обычай таков. Но какого вы племени люди?
Столь злополучно куда держите путь по морям?» —
Смолкла. И слышит она священное родины имя,
Милых сограждан своих в пленниках вдруг узнает.
Глухо бормочет: «Один из двоих обречет себя в жертву,
Вестником в отчий дом пусть воротится другой».
Жертвой наметив себя, в путь Пилад торопит Ореста.
Друг отвергает. За смерть жаркая тяжба идет.
В праве на смерть не сошлись. Других разногласий не знали.
Спорят: кому из двоих душу за друга отдать?
Длится меж юношей бой — состязанье в любви беззаветной.
К брату дева меж тем трудно выводит письмо.
Брату наказы дает. Но тот, кому дева вручала,
Был, — о, превратность судеб! — братом и был ей родным.
Образ богини втроем похищают немедля из храма,
К морю тайком… и корма пенит безбрежный простор.
Канули годы, века, но образ дружбы высокой
Юношей чтят и досель в Скифии, в темной стране».
С детства знакомую быль так закончил старик незнакомый,
Все похвалили рассказ — честности добрый пример.
Это письмо — о поэт! — царей величайший потомок,
Прямо от гетов к тебе, шерстью обросших, идет.
Странно, что имя твое, — прости мне стыдливую правду, —
Имя Севера в моих книжках нигде не звучит!
Прозой суровой у нас переписка очередная
Не прекращалась, но был в пренебрежении стих.
В дар не слал я тебе элегий на добрую память:
Что мне дарить! Ты сам и без меня одарен.
Кто бы дарил Аристею[924] мед, Триптолему[925] пшеницу,
Вакху терпкий фалерн иль Алкиною[926] плоды?
Духом ты плодовит и в кругу жнецов Геликона
Жатву тучнее твоей вряд ли собрат соберет.
Слать стихотворцу стихи — что дубраве зеленые листья,
Вот где корень моей скромной задержки, Север.
Впрочем, и я уж не тот: оскудел талантом, — похоже,
Будто прибрежья пески плугом впустую пашу;
Или как ил забивает протоки подводные грязью
И при заглохших ключах дремлет течение вод, —
Так и душу мою илом бедствий судьба запрудила,
И оскудевшей струей стих мой уныло течет.
В этой глухой стране сам Гомер, поселенный насильно,
Стал бы меж гетами впрямь гетом до корня волос.
Не укоряй же, я слаб и ослабил поводья работы,
Редко теперь вывожу буквы усталой рукой.
Тот сокровенный порыв, питающий душу поэтов,
Обуревавший меня некогда, — где он? Иссяк,
Чуть шевелится, ползет. На таблички нудная муза
Будто насильно кладет нехотя пальцы мои.
И наслажденье писать — лишь тень наслажденья былого.
Как-то безрадостно мне в ритмы слова сопрягать.
Иль оттого, что плоды стихотворства не сорваны мною?
Сорваны! Горек был плод, — в том-то и горе мое.
Иль оттого, что слагать стихи, когда некому слушать,
То же, что гордо во тьме в такт, словно в танце, ступать.
Слушатель пыл придает, от хвалы дарование крепнет.
Слава, как шпоры коню — вихрем взнесет до небес.
Здесь же… читать стихи?.. Но кому? Белокурым кораллам[927]?
Или иным дикарям-варварам Истра-реки?
Что же, скажи, предпринять при таком одиночестве? Праздность
Чем мне заполнить? И как длительный день скоротать?
Я не привержен к вину и к метанью костей, когда время
Так неприметно бежит в смене удач — неудач.
Землю пахать?.. Я бы рад, да злая война не радеет:
В этом свирепом краю плугом не взрыть целины.
Что ж остается? Одна отрада холодная — музы.
Нет, не к добру послужил мне этот дар Пиерид.
Ты же, кого поит счастливее ключ Аонийский[928],
Чти свой удачливый труд, неистребимо люби
И, пред святынею муз благоговея, — для чтенья
Мне на край света сюда новую книгу пришли.
Всё, что мы видим вокруг, пожрет ненасытное время;
Всё низвергает во прах; краток предел бытия.
Сохнут потоки, мелеют моря, от брегов отступая,
Рухнут утесы, падет горных хребтов крутизна.
Что говорю я о малом? Прекрасную сень небосвода,
Вспыхнув внезапно, сожжет свой же небесный огонь.
Всё пожирается смертью; ведь гибель — закон, а не кара.
Сроки наступят — и мир этот погибнет навек.
Корсика, землю твою заселил пришлец из Фокеи[930],
Корсика, имя твое было в ту пору Кирнос.
Корсика, брег твой короче Сардинии, круче, чем Ильва[931].
Корсика, множеством рыб реки богаты твои.
Корсика, как ты ужасна, когда разгорается лето,
Но несравненно страшней в дни под пылающим Псом.
Будь милосердною к тем, кто в изгнании здесь погибает;
Тем, кто здесь заживо мертв, легкой да будет земля.
Корсика дикая сжата скалою крутой отовсюду;
Выжжена вся — и лежит всюду бескрайность пустынь;
Осенью нет здесь плодов, и летом колосья не зреют,
Древо Паллады[932] к зиме здесь не приносит даров.
Только дождями богата весна и не радует взора;
В этой проклятой земле даже трава не растет.
Хлеба здесь нет, нет ни капли воды, ни костра для умерших.
Здесь лишь изгнанник живет вместе с изгнаньем вдвоем.
Крисп, ты — сила моя и спасенье скользящего в бездну,
Крисп, украшение ты форума древнего; власть,
Крисп, ты являл, лишь желая скорее помочь человеку,
Берегом был и землей ты в катастрофе моей.
Мне ты — единая честь и оплот в опасностях верный,
Ныне для скорбной души ты — утешенье одно.
Крисп, ты прекрасная вера и милая пылкая доблесть;
Сердце всегда у тебя медом Кекропа[933] полно.
Красноречивому деду, отцу ты великая слава,
Кто б ни лишился тебя, станет изгнанником он:
В неумолимой земле я распластан, придавленный к скалам, —
Сердце ж с тобой, и его не оторвать от тебя.
«Дружбы царей избегай», — поучал ты в речении кратком:
Эта большая беда все же была не одной.
Дружбы еще избегай, что блистает чрезмерным величьем,
И сторонись от всего, что восхваляют за блеск!
Так, и могучих владык, прославляемых громкой молвою,
Знатных домов, что тяжки происхожденьем своим,
Ты избегай; безопасный, их чти издалека, и парус
Свой убери: к берегам пусть тебя лодка несет.
Пусть на равнине фортуна твоя пребывает и с равным
Знайся всегда: с высоты грозный несется обвал!
Нехорошо, если с малым великое рядом: в покое
Давит оно, а упав, в пропасть влечет за собой.
Кордуба, ныне власы распусти и оденься печалью,
Плача, над прахом моим должный исполни обряд.
Дальняя Кордуба[934], ныне оплачь твоего песнопевца,
Тяжко горюя теперь, а не иною порой.
И не тогда, когда в мире столкнулись враждебные силы
И налегла на тебя злая громада войны.
Ты, пораженная горем двойным, от обоих страдала, —
Были врагами тебе Цезарь тогда и Помпей;
И не тогда, когда триста смертей тебе причинила
Ночь лишь одна, что была ночью последней твоей;
Не лузитанский[935] когда твои стены рушил наемник,
Прямо в ворота твои вражеский меч ударял.
Доблестный твой гражданин и слава твоя очутился
В сонмище бед: распусти, Кордуба, ныне власы!
Но благодарен тебе я: природа тебя поместила
Вдаль, к Океану: и ты меньше страдаешь вдали.
Малым я полем владею, доходом и скромным и честным,
Но доставляют они мне беспредельный покой.
Дух мой, не ведая страха, с одним лишь спокойствием дружен
И не страшится злодейств, что за бездельем идут.
Пусть привлекают других и война, и курульные кресла[936], —
Всё, что лелеет в себе тщетную радость свою.
Почестей я не ищу; быть бы частью народа простого
И до последнего дня днями своими владеть.
Нет, несчастье одно в подобной жизни,
Что счастливой считаете вы ложно:
На руках созерцать камней сверканье,
Или ложе отделать черепахой,
Или нежить свой бок мягчайшим пухом,
Пить из кубков златых, на алом лежа,
Царской трапезой тяжко стол уставив,
Все, что было с полей ливийских снято.
Положив, не вместить в одной кладовой.
Но не быть у толпы в фаворе — счастье,
Не бояться, дрожа, любой невзгоды,
Не пылать, обнажив оружье яро;
Кто сумеет таким пребыть, сумеет
Самую подчинить себе Фортуну.
Отнят Крисп у меня, мой друг, навеки;
Если б выкуп за друга дать я мог бы,
Я свои разделил бы тотчас годы,
Лучшей частью моей теперь оставлен;
Крисп, опора моя, моя отрада,
Гавань, высшее счастье: мне отныне
Уж не будет ничто отрадой в жизни.
Буду дни я влачить опустошенный:
Половина меня навеки сгибла!
Греция, скошена ты многолетней военной бедою,
Ныне в упадок пришла, силы свои подорвав.
Слава осталась, но Счастье погибло, и пепел повсюду,
Но и могилы твои так же священны для нас.
Мало осталось теперь от великой когда-то державы;
Бедная, имя твое только и есть у тебя!
Злом подстрекаемы чьим рвутся нежные узы — не знаю:
Этой великой вины взять на себя не могу.
Зло навалилось, и силы сгубило сжигающим жалом, —
Рок ли виною тому или виной божество.
Что понапрасну богов обвинять? Хочешь, Делия, правды?
Дан я любовью тебе, отнят любовью одной.
Звонкое ухо, зачем ты все ночи звенишь непрестанно,
Молвишь не знаю о ком, вспомнившем ныне меня?
«Ты вопрошаешь, кто это? Звучат тебе уши ночами,
Всем возвещая: с тобой Делия так говорит».
Делия правда со мной говорит: дуновенье приходит
Нежное тихо ко мне в шепоте милом ее, —
Делия именно так молчаливые таинства ночи
Голосом тихим своим любит порой нарушать:
Да, не иначе, сплетением рук обняв мою шею,
Тайные речи вверять близким привыкла ушам.
Я не узнал: до меня ее голоса образ доходит,
В звоне тончайшем ушей сладостный слышится звук.
Не прекращайте, молю, непрерывным струиться звучаньем!
Молвил, — а вы между тем смолкли, увы, навсегда.
Вот как меня сторожить, Коскония, надо: пусть узы
Будут не слишком тяжки, но и не слишком легки.
Легкие слишком — сбегу, и порву — тяжелые слишком;
Но никуда не уйду, если ты будешь мила.
Исса птички Катулловой резвее,
Исса чище голубки поцелуя,
Исса ласковее любой красотки,
Исса Индии всех камней дороже,
Исса — Публия прелесть-собачонка.
Заскулит она — словно слово скажет,
Чует горе твое и радость чует.
Спит и сны, подвернувши шейку, видит,
И дыханья ее совсем не слышно.
А когда у нее позыв желудка,
Каплей даже подстилку не замочит,
Но слегка тронет лапкой и с постельки
Просит снять себя, дать ей облегчиться.
Так чиста и невинна эта сучка,
Что Венеры не знает, и не сыщем
Мужа ей, чтоб достойным был красотки.
Чтоб ее не бесследно смерть умчала,
На картине ее представил Публий,
Где такой ты ее увидишь истой,
Что с собою самой не схожа Исса.
Иссу рядом поставь-ка ты с картиной:
Иль обеих сочтешь за настоящих,
Иль обеих сочтешь ты за портреты.
Фений на вечную честь посвятил могильному праху
Рощу с возделанным здесь чудным участком земли.
Здесь Антулла лежит, покинув безвременно близких,
Оба родителя здесь будут с Антуллой лежать.
Пусть не польстится никто на это скромное поле:
Будет оно господам вечно подвластно своим.
Я предпочел бы иметь благородную, если ж откажут,
Вольноотпущенной я буду доволен тогда.
В крайности хватит рабы, но она победит их обеих,
Коль благородна лицом будет она у меня.
Что за причина тебя иль надежда в Рим привлекает,
Секст? И чего для себя ждешь ты иль хочешь, скажи?
«Буду вести я дела, — говоришь, — Цицерона блестящей,
И на трех форумах мне равным не будет никто».
И Атестин вел дела, и Цивис,[939] — обоих ты знаешь, —
Но не один оплатить даже квартиры не мог.
«Если не выйдет, займусь тогда я стихов сочиненьем:
Скажешь ты, их услыхав, подлинный это Марон[940]».
Дурень ты: все, у кого одежонка ветром подбита,
Или Назоны они, или Вергилии здесь.
«В атрии[941] к знати пойду». Но ведь это едва прокормило
Трех-четырех: на других с голоду нету лица.
«Как же мне быть? Дай совет: ведь жить-то я в Риме решился?»
Ежели честен ты, Секст, лишь на авось проживешь.
И лица твоего могу не видеть,
Да и шеи твоей, и рук, и ножек,
И грудей, да и бедер с поясницей.
Одним словом, чтоб перечня не делать,
Мог бы всей я тебя не видеть, Хлоя.
Малый Юлия садик Марциала,
Что, садов Гесперидских[942] благодатней,
На Яникуле[943] длинном расположен.
Смотрят вниз уголки его на холмы,
И вершину его с отлогим склоном
Осеняет покровом ясным небо.
А когда затуманятся долины,
Лишь она освещенной выдается.
Мягко к чистым возносится созвездьям
Стройной дачи изысканная кровля.
Здесь все семеро гор державных видно,
И весь Рим осмотреть отсюда можно,
И нагорья все Тускула[944] и Альбы[945],
Уголки все прохладные под Римом,
Рубры[946] малые, древние Фидены[947]
И счастливую девичью кровью
Анны рощицу плодную Перенны[948].
Там, — хоть шума не слышно, — видишь, едут
Соляной иль Фламиньевой дорогой[949]:
Сладких снов колесо не потревожит,
И не в силах ни окрик корабельный,
Ни бурлацкая ругань их нарушить,
Хоть и Мульвиев рядом мост[950] и быстро
Вниз по Тибру суда скользят святому.
Эту, можно сказать, усадьбу в Риме
Украшает хозяин. Ты как дома:
Так он искренен, так он хлебосолен,
Так радушно гостей он принимает,
Точно сам Алкиной[951] благочестивый
Иль Молорх[952], что недавно стал богатым.
Ну, а вы, для которых все ничтожно,
Ройте сотней мотыг прохладный Тибур[953]
Иль Пренесту[954] иль Сетию[955] крутую
Одному нанимателю отдайте.
А по-моему, всех угодий лучше
Малый Юлия садик Марциала.
Мать Флакцилла и ты, родитель Фронтон, поручаю
Девочку эту я вам — радость, утеху мою,
Чтобы ни черных теней не пугалась Эротия-крошка,
Ни зловещего пса Тартара с пастью тройной.
Полностью только шесть зим она прожила бы холодных,
Если бы столько же дней было дано ей дожить.
Пусть же резвится она на руках покровителей старых
И по-младенчески вам имя лепечет мое.
Нежные кости пусть дерн ей мягкий покроет: не тяжкой
Будь ей, земля, ведь она не тяготила тебя!
Вот что делает жизнь вполне счастливой,
Дорогой Марциал, тебе скажу я:
Не труды и доходы, а наследство;
Постоянный очаг с обильным полем,
Благодушье без тяжб, без скучной тоги,
Тело, смолоду крепкое, здоровье,
Простота в обращении с друзьями,
Безыскусственный стол, веселый ужин,
Ночь без пьянства, зато и без заботы,
Ложе скромное без досады нудной,
Сон, в котором вся ночь как миг проходит,
Коль доволен своим ты состояньем,
Коли смерть не страшна и не желанна.
В Анксуре[956] мирном твоем, Фронтин[957], на морском побережье,
В Байах[958], которые к нам ближе, — в дому у реки,
В роще, где даже и в зной, когда солнце в созвездии Рака,
Нет надоедных цикад, и у озер ключевых
Мог на досуге с тобой я верно служить Пиэридам,
Ныне же я изнурен Римом огромным вконец.
Есть ли здесь день хоть один мой собственный? Мечемся в море
Города мы, и в труде тщетном теряется жизнь
На содержанье клочка бесплодной земли подгородной
И городского жилья рядом с тобою, Квирин[959].
Но ведь не в том лишь любовь, чтобы денно и нощно пороги
Нам обивать у друзей — это не дело певца.
Службою Музам клянусь я священной и всеми богами:
Хоть нерадив я к тебе, все же тебя я люблю.
Спит в преждевременной здесь могиле Эротия-крошка,
Что на шестой лишь зиме сгублена злою судьбой.
Кто бы ты ни был моей наследник скромной усадьбы,
Ты ежегодно свершай маленькой тени обряд:
Да нерушим будет дом и твои домочадцы здоровы
И да печален тебе будет лишь камень ее.
Странно, Авит[960], для тебя, что, до старости живши в латинском
Городе, все говорю я о далеких краях.
Тянет меня на Таг[961] златоносный, к родному Салону[962]
И вспоминаю в полях сельских обильный наш дом.
Та по душе мне страна, где при скромном достатке богатым
Делаюсь я, где запас скудный балует меня.
Землю содержим мы здесь, там земля нас содержит; тут скупо
Тлеет очаг, и горит пламенем жарким он там;
Дорого здесь голодать, и рынок тебя разоряет,
Там же богатством полей собственных полнится стол;
За лето сносишь ты здесь четыре тоги и больше,
Там я четыре ношу осени тогу одну.
Вот и ухаживай ты за царями, когда не приносит
Дружба того, что тебе край наш приносит, Авит.
Флаву нашему спутницей будь, книжка,
В долгом плаванье, но благоприятном,
И легко уходи с попутным ветром
К Терракона[963] испанского твердыням.
На колесах ты там поедешь быстро
И Салон твой и Бильбилы[964] высоты,
Пять упряжек сменив, увидеть сможешь.
Спросишь, что поручаю я? Немногих,
Но старинных друзей моих, которых
Тридцать зим и четыре я не видел,
Тотчас, прямо с дороги ты приветствуй
И еще поторапливай ты Флава,
Чтоб приятное он и поудобней
Подыскал мне жилье недорогое,
Где бы мог твой отец отдаться лени.
Вот и все. Капитан зовет уж грубый
И бранит задержавшихся, а ветер
Выход в море открыл. Прощай же, книжка:
Ожидать одного корабль не станет.
Благой Венеры берег золотой, Байи,
О Байи, вы природы гордой дар милый!
Пусть тысячью стихов хвалил бы я Байи,
Достойно, Флакк, не восхвалить бы мне Байи.
Но Марциал мой мне дороже, чем Байи.
Об них обоих было бы мечтать дерзко.
Но если боги в дар дадут мне все это,
То что за счастье: Марциал мой и Байи!
Ты теперь, Ювенал, быть может, бродишь
Беспокойно по всей Субуре[966] шумной,
Иль владычной Дианы холм[967] ты топчешь:
Понукает тебя к порогам знати
Потогонная тога, и томишься
Ты, всходя на Большой и Малый Целий[968].
Я ж опять, декабрей проживши много,
Принят сельскою Бильбилой родною,
Что горда своим золотом и сталью.
Здесь беспечно живем в трудах приятных
Мы в Ботерде, в Платее[969] — кельтиберских
То названия грубые местечек.
Сном глубоким и крепким сплю я, часто
Даже в третьем часу не пробуждаясь:
Отсыпаюсь я всласть теперь за время,
Что все тридцать годов недосыпал я.
Тоги нет и в помине; надеваю
Что попало, с поломанных взяв кресел.
Я встаю — уж очаг горит приветно
Кучей дров, в дубняке соседнем взятых.
Все уставила ключница горшками.
Тут как тут и охотник. Ты такого
Сам не прочь бы иметь в укромной роще.
Оделяет рабов моих приказчик
Безбородый — он все остричься просит.
Так и жить я хочу и так скончаться.
Рощица эта, ключи, и сплетенного сень винограда,
И орошающий все ток проведенной воды,
Луг мой и розовый сад, как в Пестуме[970], дважды цветущем,
Зелень, какую мороз и в январе не побьет,
И водоем, где угорь у нас прирученный ныряет,
И голубятня под цвет жителей белых ее —
Это дары госпожи: вернувшись чрез семь пятилетий,
Сделан Марцеллою[971] я был этой дачи царьком.
Если бы отчие мне уступала сады Навсикая[972],
Я б Алкиною сказал: «Предпочитаю свои».
Целых тридцать четыре жатвы прожил
Я, как помнится мне, с тобою, Юлий[973].
Было сладко нам вместе, было горько,
Но отрадного все же было больше;
И, коль камешки мы с тобой разложим
На две кучки, по разному их цвету,
Белых больше окажется, чем черных.
Если горести хочешь ты избегнуть
И душевных не ведать угрызений,
То ни с кем не дружись ты слишком тесно:
Так, хоть радости меньше, меньше горя.
Уник, ты носишь со мной единое кровное имя
И по занятьям своим близок и по сердцу мне,
В стихотвореньях своих ты только брату уступишь,
Ум одинаков у вас, но твое сердце нежней.
Лесбией мог бы ты быть любим вместе с тонким Катуллом,
Да и Коринна[974] пошла б после Назона с тобой.
Дул бы попутный зефир, если ты паруса распустил бы,
Берег, однако же, мил так же, как брату, тебе.
Делаю что у себя я в деревне? Отвечу я кратко:
Утром молюсь, посмотрю за порядком и дома и в поле
И надлежащую всем назначаю я слугам работу.
После читаю, зову Аполлона и Музу тревожу.
Маслом натершись потом, занимаюсь я легкой борьбою
Вволю, и радостно мне на душе, и корысти не знаю.
Песнь за обедом с вином, игра, баня, ужин и отдых.
Малый светильник тогда, немного истративший масла,
Эти стихи мне дает — ночным приношение Музам.
Пусть не дает мне судьба ни высшей доли, ни низшей,
А поведет мою жизнь скромным срединным путем.
Знатных зависть гнетет, людей ничтожных — обиды.
Счастливы те, кто живет, этих не знаючи бед.
Это случилось весной; холодком и колючим и нежным
День возвращенный дышал раннего утра порой.
Ветер прохладный еще, Авроры коней предваряя,
Опередить призывал зноем пылающий день.
По перекресткам дорожек бродил я в садах орошенных
И зарождавшимся днем думал ободрить себя.
Видел я льдинки росы, что на травах склоненных висели,
И на листах овощей видел я льдинки росы:
Видел — на стеблях широких играли округлые капли
И тяжелели они, влагой небесной полны.
Видел, как розы горели, взращенные Пестом[976], омыты
Влагой росы; и звезда нового утра взошла.
Редкие перлы блистали на инеем тронутых ветках;
С первым сиянием дня им суждено умереть.
Тут и не знаешь, берет ли румянец у розы Аврора
Или дарует его, крася румянцем цветы.
Цвет у обеих один, и роса и утро — едины;
Ведь над звездой и цветком равно Венера царит.
Может быть, общий у них аромат? Но где-то в эфире
Первый струится; сильней дышит ближайший, другой.
Общая их госпожа — у звезды и у розы — Венера
Им повелела надеть тот же пурпурный наряд.
Но приближалось мгновенье, когда у цветов, зародившись,
Почки набухшие вдруг разом открыться должны.
Вот зеленеет одна, колпачком прикрытая листьев;
Виден сквозь тоненький лист рдяный наряд у другой.
Эта высокую грань своего открывает бутона,
Освобождая от пут пурпур головки своей.
И раздвигает другая на темени складки покрова,
Людям готовясь предстать в сонме своих лепестков.
Разом являет цветок красоту смеющейся чаши,
Щедро выводит густой, сомкнутый строй лепестков.
Та, что недавно горела огнем лепестков ароматных,
Бледная ныне стоит, ибо опали они.
Диву даешься, как время грабительски все отнимает,
Как при рожденье своем старятся розы уже.
Вот говорю я, а кудри у розы багряной опали,
Землю усеяв собой, красным покровом лежат.
Столько обличий, так много рождений и все обновленья
День лишь единый явил и довершил один день!
Все мы в печали, Природа, что прелесть у розы мгновенна:
Дашь нам взглянуть — и тотчас ты отбираешь дары.
Временем кратким единого дня век розы отмерен,
Слита с цветением роз старость, губящая их.
Ту, что Заря золотая увидела в миг зарожденья,
Вечером, вновь возвратясь, видит увядшей она.
Что ж из того, что цветку суждено так скоро погибнуть, —
Роза кончиной своей просит продлить ее жизнь.
Девушка, розы сбирай молодые, сама молодая:
Помни, что жизни твоей столь же стремителен бег.
Будем жить, как мы жили, жена! Тех имен не оставим,
Что друг для друга нашли в первую брачную ночь!
Да не настанет тот день, что нас переменит: пусть буду
Юношей я для тебя, девушкой будь для меня!
Если бы старше я был, чем Нестор, и если б Дейфобу
Кумскую ты превзошла возрастом, что до того!
Знать мы не будем, что значит преклонная старость! Не лучше ль,
Ведая цену годам, счета годов не вести!
Я говорил тебе: «Галла! Мы старимся, годы проходят:
Пользуйся счастьем любви: девственность старит скорей!
Ты не вняла, и подкралась шагами неслышными старость,
Вот уже воротить дней, что погибли, нельзя!
Горько тебе, и клянешь ты, зачем не пришли те желанья
Прежде к тебе иль зачем нет больше прежней красы!
Все ж мне объятья раскрой и счастье, не взятое, даруй:
Если не то, что хочу, — то, что хотел, получу!»
Биссулы не передашь ни воском, ни краской поддельной;
Не поддается ее природная прелесть искусству.
Изображайте других красавиц, белила и сурик!
Облика тонкость руке недоступна ничьей. О художник,
Алые розы смешай, раствори их в лилиях белых:
Цвет их воздушный и есть лица ее цвет настоящий.
Силишься тщетно зачем воссоздать мой облик, художник?
Можно ль гневить божество, что неизвестно тебе?
Дочь языка и воздуха я, мать бесплотная звука,
И, не имея души, голос могу издавать.
Звук замирающий я возвращаю в его окончанье
И, забавляясь, иду вслед за реченьем чужим.
В ваших ушах я, Эхо, живу, проходящая всюду;
Хочешь меня написать — голос возьми напиши!
Люди тебя называют уродливой, Криспа: не знаю;
Ты хороша для меня: сам я умею судить.
Мало того — ведь любови сопутствует ревность, — хочу я:
Будь безобразной для всех, прелестью будь для меня.
Ты посмотри на послушных питомцев бушующей Роны,
Как по приказу стоят, как по приказу бредут,
Как направленье меняют, услышав шепот суровый,
Верной дорогой идут, слыша лишь голоса звук.
Нет на них упряжи тесной, вожжей они вовсе не знают,
Бременем тяжким у них шею ярмо не гнетет.
Долгу, однако, верны и труд переносят с терпеньем,
Варварский слушают звук, чуткий свой слух навострив,
Если погонщик отстанет, из воли его не выходят,
Вместо узды и бича голос ведет их мужской.
Издали кликнет — вернутся, столпятся — опять их разгонит,
Быстрых задержит чуть-чуть, медленных гонит вперед.
Влево ль идти? И свой шаг по левой дороге направят.
Голос изменится вдруг — тотчас же вправо пойдут.
Рабского гнета не зная, свободны они, но не дики;
Пут никогда не неся, власть признают над собой.
Рыжие, с шкурой лохматой, повозку тяжелую тащат
В дружном согласье они, так что колеса скрипят.
Что ж мы дивимся, что звери заслушались песни Орфея,
Если бессмысленный скот галльским покорен словам?
Счастлив тот, кто свой век провел на поле родимом;
Дом, где ребенком он жил, видит его стариком.
Там, где малюткою ползал, он нынче с посохом бродит;
Много ли хижине лет — счет он давно потерял.
Бурь ненадежной судьбы изведать ему не случалось,
Воду, скитаясь, не пил он из неведомых рек.
Он за товар не дрожал, он трубы не боялся походной;
Форум, и тяжбы, и суд — все было чуждо ему.
Мира строенья не знал он и в городе не был соседнем,
Видел всегда над собой купол свободный небес.
Он по природным дарам, не по консулам, годы считает[978]:
Осень приносит плоды, дарит цветами весна.
В поле он солнце встречает, прощается с ним на закате;
В этом привычном кругу день он проводит за днем.
В детстве дубок посадил — нынче дубом любуется статным,
Роща с ним вместе росла — старятся вместе они.
Дальше, чем Индии край, для него предместья Вероны,
Волны Бенакских[979] озер Красным он морем зовет.
Силами свеж он и бодр, крепки мускулистые руки,
Три поколенья уже видит потомков своих.
Пусть же другие идут искать Иберии дальней,
Пусть они ищут путей — он шел надежным путем.
Все, с чем резвилось дитя, чем тешился возраст любовный,
В чем пиерийскую соль сеял болтливый язык,
Все в эту книгу вошло. И ты, искушенный читатель,
Перелистав ее всю, выбери что по душе.
Песни рождают любовь, и любовью рождаются песни:
Пой, чтоб тебя полюбили, люби, чтоб тебя воспевали.
Вижу, уходит зима; над землею трепещут зефиры,
Воды от Эвра[982] теплы: вижу, уходит зима.
Всюду набухли поля и земля теплоту ожидает,
Зеленью новых ростков всюду набухли поля.
Дивные тучны луга, и листва одевает деревья,
Солнце в долинах царит, дивные тучны луга.
Стон Филомелы летит недостойной, по Итису, сыну,
Что на съедение дан, стон Филомелы летит.
С гор зашумела вода и по гладким торопится скалам,
Звуки летят далеко: с гор зашумела вода.
Сонмом весенних цветов красит землю дыханье Авроры,
Дышат Темпей луга сонмом весенних цветов.
Эхо в пещерах звучит, мычанию стад подражая;
И, отразившись в горах, Эхо в пещерах звучит.
Вьется младая лоза[983], что привязана к ближнему вязу,
Там, обрученная с ним, вьется младая лоза.
Мажет стропила домов щебетунья ласточка утром:
Новое строя гнездо, мажет стропила домов.
Там под платаном в тени забыться сном — наслажденье;
Вьются гирлянды венков там под платаном в тени.
Сладко тогда умереть; жизни нити, теките беспечно;
И средь объятий любви сладко тогда умереть.
Тот, чьим отцом был поток, любовался розами мальчик,
И потоки любил тот, чьим отцом был поток.
Видит себя самого, отца увидеть мечтая,
В ясном, зеркальном ручье видит себя самого.
Тот, кто дриадой[985] любим, над этой любовью смеялся,
Честью ее не считал тот, кто дриадой любим.
Замер, дрожит, изумлен, любит, смотрит, горит, вопрошает,
Льнет, упрекает, зовет, замер, дрожит, изумлен.
Кажет он сам, что влюблен, ликом, просьбами, взором, слезами,
Тщетно целуя поток, кажет он сам, что влюблен.
Ацида здесь, на вершине горы, ты видишь гробницу,
Видишь бегущий поток там, у подножья холмов?
В них остается доныне память о гневе Циклопа,
В них и печаль и любовь, светлая нимфа, твои!
Но, и погибнув, лежит он здесь, погребен, не без славы:
Имя его навсегда шумные воды стремят.
Здесь он еще пребывает, и кажется нам, он не умер:
Чья-то лазурная жизнь зыблется в ясной воде.
Как-то младенец Амур, побежден легкокрылой дремотой,
В зарослях мирта лежал на траве, увлажненной росою.
Тут-то, скользнув из пропастей Дита, его обступили
Души, которых когда-то терзал он жестокою страстью.
«Вот он, вот мой охотник! Связать его!» — Федра вскричала.
Злобная Сцилла в ответ: «По волосу волосы вырвать!»
«Нет, изрубить на куски!» — Медея и сирая Прокна,
«Душу исторгнуть мечом!» — Дидона и Канака просят,
«Бросить в огонь!» — Эвадна, «Повесить на дереве!» — Мирра,
«Лучше в реке утопить!» — Аретуса кричит и Библида.
Тут, проснувшись, Амур: «Ну, крылья, на вас вся надежда!»
Прежде, чем в Байские воды войти, благая Венера
Сыну Амуру велела с факелом в них окунуться.
Плавая, искру огня обронил он в студеные струи.
Жар растворился в волне: кто войдет в нее, выйдет влюбленным.
Если хочешь ты жизнь прожить счастливо,
Чтоб Лахеса[989] дала увидеть старость, —
В десять лет ты играть, резвясь, обязан,
В двадцать должен отдаться ты наукам,
В тридцать лет ты стремись вести процессы,
В сорок лет говори изящной речью,
В пятьдесят научись писать искусно,
В шестьдесят насладись приобретенным;
Семь десятков прошло — пора в могилу;
Если восемь прожил, страшись недугов,
В девяносто рассудок станет шатким,
В сто и дети с тобой болтать не станут.
Грушу с яблоней в саду я деревцами посадил,
На коре наметил имя той, которую любил.
Ни конца нет, ни покоя с той поры для страстных мук:
Сад все гуще, страсть все жгучей, ветви тянутся из букв.
Два есть бога-огненосца: Аполлон и Дионис.
Оба в пламени повиты, дух в обоих огневой.
Оба жар приносят людям: тот лучами, тот вином.
Этот гонит сумрак ночи, этот сумерки души.
По долине, по поляне пробегал, звеня, ручей.
Затканный в цветы, смеялся искорками камешков.
Ветерок над ним, играя, ласково повеивал,
Темной лавра, светлой мирта шелестящий зеленью.
А кругом цвела цветами мурава зеленая,
И румянилась шафраном, и белела лилиями,
И фиалки ароматом наполняли рощицу.
А среди даров весенних, серебрящихся росой,
Всех дыханий благовонней, всех сияний царственней,
Роза, пламенник Дионы[990], возносила голову.
Стройно высились деревья над росистою травой,
Ручейки в траве журчали, пробиваясь там и тут,
И во мшистые пещеры, оплетенные плющом,
Просочась, точили влагу каплями хрустальными.
А по веткам пели птицы, пели звонче звонкого,
Вешнее сливая пенье с нежным воркованием.
Говор вод перекликался с шелестами зелени,
Нежным веяньем зефира сладостно колеблемой.
Зелень, свежесть, запах, пенье — рощи, струй, цветов и птиц —
Утомленного дорогой радовали путника.
Птица, влажной застигнутая тучей,
Замедляет полет обремененный:
Ни к чему непрестанные усилья,
Тягость перьев гнетет ее и давит —
Крылья, прежней лишившиеся мощи,
Ей несут не спасение, а гибель.
Кто, крылатый, стремился к небосводу,
Тот низвергнут и падает, разбитый.
Ах, зачем возноситься так высоко!
Самый сильный и тот лежит во прахе.
Вы, с попутным несущиеся ветром
Гордецы, не о вас ли эта притча?
Суждена всему, что творит природа,
Как его ни мним мы могучим, — гибель.
Все являет нам роковое время
Хрупким и бренным.
Новое русло пролагают реки,
Путь привычный свой на прямой меняя,
Руша пред собой неуклонным током
Берег размытый.
Роет толщу скал водопад, спадая,
Тупится сошник на полях железный,
Блещет, потускнев, украшенье пальцев —
Золото перстня…
Сад, где легкой стопой текут Напеи[991],
Где дриады[992] шумят зеленым сонмом,
Где Диана царит средь нимф прекрасных,
Где Венера таит красы сверканье,
Где усталый Амур, колчан повесив,
Вольный, снова готов зажечь пожары,
Ацидальские где резвятся девы[993], —
Там зеленой красы всегда обилье,
Там весны аромат струят амомы[994],
Там кристальные льет источник струи
И по лону из мха, играя, мчится,
Дивно птицы поют, журчанью вторя.
Тирских всех городов любая слава
Пред таким уголком склонись покорно.
Вепрь, для бога войны рожденный жить на кручах гор,
В чащах круша дерева, шумящие под бурями,
Корм принимает из рук в чертогах раззолоченных,
Буйный смиряя нрав привычкою к покорности.
Он беломраморных стен не тронет бивнем пенистым,
Комнатных пышных убранств копытом не запачкает —
Так он жмется и льнет к руке господской ласковой,
Словно в служители взят не Марсом, а Венерою.
Видя свой облик, Нарцисс устремляется к глади зеркальной;
Гибнет один от любви, видя свой облик, Нарцисс.
Чудо твоей красоты ослепительно и совершенно, —
Ты же всегда норовишь лишь непорочность блюсти.
Диву даешься, зачем получила ты власть над природой —
Нравом Паллада своим, телом — Киприда сама.
Вовсе не радость тебе — получить наслаждение в браке:
Даже и видеть совсем ты не желаешь мужчин.
В сердце, однако, моем ядовито-блаженная дума:
Право, ну как это ты можешь не женщиной быть?!
Верю, что Солнце златое восходом окрасило розу,
Иль из лучей предпочло сотканной видеть ее,
Или, коль сто лепестков отличают розу Киприды, —
Значит, Венера сама кровь излила на нее.
Роза — созвездье цветов, светоч розовых зорь над полями,
Цвет с ароматом ее стоят небесной красы.
Некто, страстью горя, схватив нагую Марину,
В море, в соленой волне с нею сошелся, как муж.
Не порицаний — похвал достоин любовник, который
Помнит: Венера сама в море была рождена!
Не поддавайся безудержной страсти к Венере и Вакху,
Ведь причиняют они вред одинаковый нам.
Силы Венера у нас истощает, а Вакха избыток
Немощь приносит ногам, сильно мешая в ходьбе.
Многих слепая любовь понуждает к открытию тайны;
Хмель, безрассудству уча, также о тайном кричит.
Пагубной часто войны Купидон бывает причиной;
Также нередко и Вакх руки к оружью стремит.
Трою ужасной войной погубила бесстыдно Венера,[995]
Но и лапифов, Иакх, в битве ведь ты погубил.
Оба они, наконец, приводят в неистовство разум,
И забывают тогда люди и совесть и стыд.
Путами спутай Венеру, надень на Лиэя оковы,
Чтоб не вредили тебе милости этих богов!
Жажду пускай утоляет вино, а благая Венера
Служит рожденью, и нам вредно за грань перейти.
Землю когда от вселенной природы мощь отделила,
Солнце нам день подарило. Недвижные тучи на небе
Разорвало и свой лик в розовеющем мире явило.
В вечном движенье своем заблистали прекрасней созвездья;
Солнца не знающий день — это мрак. А теперь мы впервые
Свет познаем и небес ощущаем тепло золотое.
С этой поры элементы природы творят человека.
С этой поры появились животные все и возникло
Все, что в небе живет, на земле и в воде обитает.
С этой поры теплота, охватившая мир, разлилася,
Жизни, текущей как мед, всеблагие дары расстилая.
С розовой бездною вместе, как встарь, поднимаются кони[996],
Ноздри вздымая высоко и пламени жар выдыхая.
Мрак разрывается солнцем. И вот, золотое, с Востока
Светочи сеет оно по зажженным эфира просторам.
Там же, где всходит Титан[997] в шафранное золото мира,
Вдруг раскрывается все, что скрывалось в молчании ночи;
Вот уж сверкают леса, и поля, и цветущие нивы,
Море в недвижном покое и реки волной обновленной:
Свет золотой пробегает легко по трепещущим струям.
Но у крылатых коней натянулись, сверкая, поводья…
Ось золотая горит, а сама колесница сверкает
И, драгоценная, блещет, подобна сиянию Феба.
Он же над миром царит, времена утверждает и гордо
Светлую голову ввысь средь потоков эфира возносит.
Только его одного из богов, царящего в мире,
Нам и дано лицезреть, и следят его шествие нивы.
Доблести дивной созданье, которому пламя подвластно,
Он, посылая лучи, ощущеньями нас наделяет.
Здесь зарождает тела, здесь жизнь, и над всеми царит он.
Феникс нам служит примером, из пепла родившийся снова,
Что от касания Феба все жизнь получает на свете.
Он, кто для смерти рожден, после смерти рождается снова:
Ибо рождение — смерть, а кончина в огне — возрожденье.
Гибнет он множество раз и, воспрянув, опять умирает.
Он на утесе сидит средь лучей и сверкания Феба;
Жар, насылаемый смертью, что снова приходит, впивает.
Солнце сияньем пурпурным земли заливает пределы.
Солнцу навстречу земля выдыхает весной ароматы.
Солнце, тебе живописно травою луга зеленеют.
Солнце — зерцало небес и божественный символ величья.
Солнце, что небо собой рассекает, вовек не стареет.
Солнце — лик мировой, средоточье подвижное неба.
Солнце — Церера, и Либер[998] оно, и самый Юпитер.
Солнце — Гекаты[999] сиянье; божеств в нем тысяча слита.
Солнце лучи разливает с несущейся в небе квадриги.
Солнце утром восходит, сверкая с пределов востока.
Солнце, окрасив Олимп, возвращает нам день лучезарный.
Солнце восходит — и лира ему откликается нежно.
Солнце зашло — но волна теплоту сохраняет светила…
Солнце — лето, осень, зима и весна, что желанна.
Солнце — месяц и век, Солнце день, год и час обнимает.
Солнце — шар из эфира и мира сверкающий светоч;
Солнце — друг земледельца — ко всем морякам благосклонно.
Солнце собой возрождает все то, что способно меняться.
Солнце в движении вечном бледнеть заставляет светила.
Солнцу ответствует море спокойным сверканием глади.
Солнцу дано весь мир озарять живительным жаром.
Солнце — и мира и неба краса — для всех неизменно.
Солнце — и дней и ночей божество — конец и начало.
Гордость вселенной — Луна, наибольшее в небе светило,
Солнечный блеск отраженный — Луна, сиянье и влажность,
Месяцев матерь — Луна, возрожденная в щедром потомстве.
Небом, подвластная Солнцу, ты звездной упряжкою правишь.
Ты появилась — и родственный день часы набирает;
Смотрит отец-Океан на тебя обновленной волною;
Дышит тобою земля, заключаешь ты Тартар в оковы;
Систром[1000] звуча, воскрешаешь ты зимнее солнцестоянье.
Кора, Исида, Луна! Ты — Церера, Юнона, Кибела!
Чередованию дней ты на месяц даруешь названье,
Месяца дни, что на смену идут, опять обновляя;
Ты убываешь, когда ты полна; и, сделавшись меньше,
Снова полнеешь; всегда ты растешь и всегда убываешь.
Так появись и пребудь благосклонной к молениям нашим,
Кротких тельцов размести по сверкающим в небе созвездьям,
Чтобы вращала судьба колесо, приносящее счастье.
Волн повелитель и моря творец, владеющий миром,
Все ты объемлешь своей, Океан, волною спокойной,
Ты для земель назначаешь пределом разумным законы,
Ты созидаешь моря, и источники все, и озера;
Даже все реки тебя своим отцом называют.
Пьют облака твою воду и нивам дожди возвращают;
Все говорят, что свои берега без конца и без края
Ты, обнимая, сливаешь с густой синевой небосвода.
Феба упряжке усталой ты отдых даруешь в пучине
И утомленным лучам среди дня доставляешь питанье,
Чтобы сверкающий день дал горящее солнце народам.
Если над морем царишь ты, над землями, небом и миром,
То и меня, их ничтожную часть, услышь, досточтимый,
Мира родитель благой; я с мольбою к тебе обращаюсь:
Где б ни судили суровые судьбы довериться морю,
Морем твоим проплывать и по грозно шумящей равнине
Путь совершать, ты корабль на пути сохрани невредимым.
Глубь голубую раскинь по спокойной спине без предела;
Пусть, лишь колеблясь слегка, лазурью кудрявятся воды,
Только б надуть паруса и оставить на отдыхе весла.
Пусть возникают теченья, которые силой могучей
Движут корабль; я их рад бы считать и рад их увидеть.
Пусть же борта корабля в равновесье всегда пребывают,
Вторит журчанье воды кораблю, бороздящему море.
Счастливо дай нам, отец, закончить плаванье наше;
На берегу безопасном доставь в долгожданную гавань
Спутников всех и меня. И поскольку ты это даруешь,
Я благодарность тебе принесу за великий подарок.
Пусть полюбит нелюбивший, кто любил, пусть любит вновь!
Вновь весна, весна и песни; мир весною возрожден.
Вся любовь весной взаимна, птицы все вступают в брак.
Дождь-супруг своею влагой роще косы распустил.
И Диона[1002], что скрепляет связь любви в тени ветвей,
Обвивает стены хижин веткой мирта молодой.
На высоком троне завтра будет суд она вершить.
Пусть полюбит нелюбивший, кто любил, пусть любит вновь!
Из высоко бьющей крови волн пенящихся своих,
Средь морских просторов синих и своих морских коней,
Из дождей-супругов создал Понт Диону в плеске волн.
Пусть полюбит нелюбивший, кто любил, пусть любит вновь!
Ведь сама богиня красит цветом пурпурным весну,
Теплым ветра дуновеньем почки свежие растит,
Распускает их на ветках и сверкающей росы
Рассыпает капли — перлы, этой влажной ночи след.
И, дрожа, слезинки блещут, вниз готовые упасть.
Вот стремительная капля задержалась на лугу,
И, раскрывшись, почки пурпур, не стыдясь, являют свой.
Влажный воздух, что ночами звезды светлые струят,
Утром с девушек-бутонов покрывала снимет их.
Всем Диона влажным розам повелела в брак вступить.
Создана Киприда кровью, поцелуями любви,
Создана она из перлов, страсти, солнечных лучей.
И стыдливость, что скрывало покрывало лишь вчера,
Одному супруга завтра мужу явит, не стыдясь.
Пусть полюбит нелюбивший, кто любил, пусть любит вновь!
Нимфам всем велит богиня к роще миртовой идти.
Спутник дев, шагает мальчик, но поверить не могу,
Что Амур не занят делом, если стрелы носит он.
Нимфы, в путь! Оружье бросил и свободным стал Амур;
Безоружным быть обязан, обнаженным должен быть,
Чтоб не ранил он стрелою и огнем не опалил.
Все же, нимфы, берегитесь! Ведь прекрасен Купидон.
Ибо он, и обнаженный, до зубов вооружен.
Пусть полюбит нелюбивший, кто любил, пусть любит вновь!
Целомудренно Венера посылает дев к тебе.
Об одном мы только просим: ты, о Делия[1003], уйди,
Чтобы лес звериной кровью больше не был обагрен.
И сама б тебя просила, если б упросить могла,
И сама тебя позвала б, если б ты могла прийти,
Ты могла б три ночи видеть, как ликует хоровод;
Собрались народа толпы, чтобы весело плясать
Средь увитых миртом хижин, на себя надев венки.
Пусть полюбит нелюбивший, кто любил, пусть любит вновь!
Трон убрать цветами Гиблы[1004] повелела нам она:
Будет суд вершить богиня, сядут Грации вблизи.
Гибла, всех осыпь цветами, сколько есть их у весны!
Гибла, рви цветов одежды, Эннский[1005] расстели ковер!
Нимфы гор сюда сойдутся, будут здесь и нимфы сел,
Кто в лесной тиши, и в рощах, и в источниках живет.
Мать-богиня всем велела им с Амуром рядом сесть,
Но ни в чем ему не верить, пусть он даже обнажен.
Пусть полюбит нелюбивший, кто любил, пусть любит вновь!
Пусть она в цветы оденет зеленеющую сень;
Завтра день, когда впервые сам Эфир скрепляет брак.
Чтобы создал год весенний нам отец из облаков,
В лоно всеблагой супруги ливень пролился — супруг.
Слившись с нею мощным телом, он плоды земли вскормил;
А сама богиня правит и рассудком и душой,
Проникая в нас дыханьем сил таинственных своих.
Через небо, через землю, через ей подвластный Понт
Напоила семенами непрерывный жизни ток,
Чтобы мир пути рожденья своего познать сумел.
Пусть полюбит нелюбивший, кто любил, пусть любит вновь!
Ведь сама она троянских внуков[1006] в Лаций привела,
Из Лаврента деву[1007] в жены сыну отдала сама.
Вскоре Марсу даст из храма деву[1008] чистую она,
И сабинянок и римлян ею был устроен брак;
От него квириты, рамны[1009], внуки Ромула пошли;
И отец и юный цезарь тоже ею рождены.
Пусть полюбит нелюбивший, кто любил, пусть любит вновь!
Села полнятся блаженством, села все Венеру чтут:
Сам Амур, дитя Дионы, говорят, в селе рожден.
И его, лишь он родился, поле приняло на грудь
И, приняв, дитя вскормило поцелуями цветов.
Пусть полюбит нелюбивший, кто любил, пусть любит вновь!
Выше дроков на полянах бычьи лоснятся бока;
Без помехи жаждет каждый брачный заключить союз.
Овцы скрылись в тень деревьев, с ними их мужья — самцы.
Птицам певчим повелела петь богиня — не молчать;
Оглашаются озера резким криком лебедей,
В пышной тополевой сени Филомела вторит им.
Верь, любви волненье слышно в мелодичной песне уст
И на варвара-супруга[1010] в ней не сетует сестра.
Вот запела. Мы умолкли. Где же ты, весна моя?
Словно ласточка, когда же перестану я молчать!
Музу я сгубил молчаньем, Феб не смотрит на меня.
Так Амиклы[1011] их молчанье погубило навсегда.
Пусть полюбит нелюбивший, кто любил, пусть любит вновь!
Эй-а, гребцы! Пусть эхо в ответ нам откликнется: эй-а!
Моря бескрайнего бог, улыбаясь безоблачным ликом,
Гладь широко распростер, успокоив неистовство бури,
И, усмиренные, спят неспокойно тяжелые волны.
Эй-а, гребцы! Пусть эхо в ответ нам откликнется: эй-а!
Пусть заскользит, встрепенувшись, корабль под ударами весел.
Небо смеется само и в согласии с морем дарует
Нам дуновенье ветров, чтоб наполнить стремительный парус.
Эй-а, гребцы! Пусть эхо в ответ нам откликнется: эй-а!
Нос корабельный, резвясь, как дельфин, пусть режет пучину;
Дышит она глубоко, богатырскую мощь обнажая
И за кормой проводя убеленную борозду пены.
Эй-а, гребцы! Пусть эхо в ответ нам откликнется: эй-а!
Слышится Кора[1012] призыв; так воскликнем же громкое: эй-а!
Море запенится пусть в завихрениях весельных: эй-а!
И непрерывно в ответ берега откликаются: эй-а!
Что за огонь меня жжет? Доселе вздыхать не умел я.
Бог ли какой нашелся сильней Амурова лука?
Или богиня мать, злому року покорствуя, брата
Мне родила? Или стрелы мои, разлетевшись по свету,
Ранили самое небо и ныне мир уязвленный
Кару мне изобрел? Мои знакомы мне раны:
Это пламя — мое, и оно не знает пощады.
Жжет меня страсть и месть! Ликуй в надмирных пределах
Ты, Юпитер! Скрывайся, Нептун, в подводные глуби!
Недра казнящего Тартара пусть ограждают Плутона! —
Сброшу я тяжкий гнет! Полечу по оси мирозданья,
Через пространства небес, через буйный Понт, через хаос,
Скорбных обитель теней; адамантные створы[1013] разверзну;
Пусть отшатнется Беллона с ее бичом ядовитым!
Кару, мир, прими, цепеней, покорись, задыхайся!
Мстит свирепый Амур и, раненный, полон коварства!
Счастливы мать и отец, тебя подарившие миру!
Счастливо солнце, что видит тебя в пути повседневном!
Счастливы камни, каких ты касаешься белой ногою!
Счастливы ткани, собою обвившие тело любимой!
Счастливо ложе, к которому Дульция всходит нагая!
Птицу ловят силком, а вепря путают сетью;
Я же навеки пленен жестокою к Дульции страстью.
Видел — коснуться не смел; снова вижу — и снова не смею;
Весь горю огнем, не сгорел и гореть не устану.
Время пришло для любви, для ласки тайной и нежной.
Час веселья настал: строгая Муза, прощай!
Пусть же входит в стихи Аретуса с грудью упругой,
То распустив волоса, то завязав их узлом!
Пусть на пороге моем постучится условленным стуком,
Смело во мраке ночном ловкой ступая ногой.
Пусть обовьют мне шею знакомые нежные руки,
Пусть белоснежный стан гибко скользнет на постель!
Пусть на все лады подражает игривым картинам,
Пусть в объятьях моих все испытает она!
Пусть, бесстыдней меня самого, ни о чем не заботясь,
Неугомонно любя, ложе колеблет мое!
И без меня воспоют Ахилла, оплачут Приама!
Час веселья настал: строгая Муза, прощай!
Байи ты взором окинь, их дома и блестящие воды.
Живопись вместе с волной всюду прославили их.
Ведь и вершины, сверкая, прекрасны в своих очертаньях,
И, низвергаясь, текут чистой струей родники.
Тот, кто желанием полн испытать наслажденье двойное,
Кто преходящую жизнь сделать приятной сумел, —
В Байах купается пусть, отдыхая душою и телом,
Теша картинами взор, тело волной освежив.
Байам нашим струит свои светочи Солнце, и блеском
Комната вся залита, светочи эти храня.
Пусть же купальни другие огнем нагреваются снизу, —
Эти нагреты, о Феб, жаром небесным твоим.
Диво-дары, пробудившись, весна обрывает у розы.
Знойное лето ликует, плодов изобилие видя.
Осени знак — голова, что увита лозой виноградной.
В холоде никнет зима, отмечая пернатыми время.
Мужа сильную грудь наклоняя в женском изгибе,
Гибкий свой торс применив к нраву и жен и мужей,
Выйдя на сцену, танцовщик движеньем взывает к народу
И обещает слова мимикой рук передать.
Хор разливает когда свои милые песни и звукам
Вторит певец, подает песню движеньями он.
Бьется, играет, пылает, неистов, кружится, недвижен, —
Он поясняет слова, их наполняя красой.
Каждая жилка дар речи имеет. Сколь дивно искусство,
Что при безмолвных устах телу велит говорить!
Путь проложила любовь Леандру сквозь бурные волны —
К скорбной смерти ему путь проложила любовь.
Благодаренье тебе, Аполлон, вдохновитель поэтов!
Друг-читатель, прощай: благодаренье тебе.
Нимфа здешних я мест, охраняю священный источник,
Дремлю и слышу сквозь сон ропот журчащей струи.
О, берегись, не прерви, водоем беломраморный тронув,
Сон мой: будешь ли пить иль умываться, молчи.
Я — Урс, кто первый из носящих тогу стал
Играть в стеклянный мяч, храня достоинство,
При громких криках одобренья зрителей
В Агриппы термах, Титовых, Траяновых,
В Нероновых[1017] частенько, если верите.
Вот я. Ликуйте все, играющие в мяч,
Цветами роз, фиалок друга статую,
Листвой обильной и духами тонкими,
Друзья, почтите и возлейте чистый ток
Фалерна, или Цекуба, иль Сетии
Живому в радость из хранилищ Цезаря
И славьте стройным хором Урса старого:
Игрок веселый он, шутник, ученый муж,
Перворазрядных всех побил соперников
Умом, красою и отменной ловкостью.
Теперь стихами, старцы, скажем правду мы:
Я сам побит был — не один, а много раз —
Моим патроном Вером[1018], трижды консулом.
Я слыть готов его эксодиарием.
Родным была мила, скончалась девушкой.
Мертвая здесь я лежу, я стала прахом — землею,
Если ж Земля — божество, не мертвая я, но богиня.
Не оскорбляй, прошу, моих костей, прохожий.
Веселись, живущий, в жизни, жизнь дана в недолгий дар:
Не успеет зародиться — расцветет и кончится.
Классическим сводом текстов древнегреческой лирики считается сборник, составленный немецким филологом Теодором Бергком «Poetae lyrici Graeci». Бергк впервые собрал в одном издании мелические фрагменты, рассеянные в виде цитат по самым разнообразным текстам различных эпох, ибо сборников мелики, в отличие от сборников эпиграмм, ни античность, ни византийская эпоха нам не оставили. Труд Бергка вышел в 1843 году и с тех пор неоднократно переиздавался с исправлениями и дополнениями. Из более поздних изданий греческих текстов назовем сборники Эрнста Диля («Anthologia lyrica Graeca», fasc. I–III), периодически выходящие в Лейпциге и поныне.
Первым составителем антологии эпиграмм был Мелеагр, но самая ранняя дошедшая до нас антология — Константина Кефалы — относится лишь к X веку. Она и легла в основу первого печатного издания греческих эпиграмм («Антология Плануды»), вышедшего во Флоренции в 1494 году. Из наиболее полных последних изданий греческих эпиграмм отметим четырехтомник «Anthologia Graeca», вышедший в 1957–1958 годах в Мюнхене (с немецким стихотворным переводом).
В России первые стихотворные переводы греческой лирики появились более двухсот лет назад. В числе переводчиков были Ломоносов и Пушкин. Особенно большое место в русской переводной поэзии XVIII–XIX веков занимают Анакреонт и анакреонтика, и в нашем сборнике анакреонтика в переводах русских поэтов выделена в особый раздел.
Из крупных русских писателей XX века много сил отдали переводу греческой лирики Вяч. Иванов и В. В. Вересаев. В 1914 году в Москве вышел сборник «Алкей и Сафо; Собрание песен и лирических отрывков в переводе размерами подлинника Вяч. Иванова». Переводы эти грешили порой довольно большими отступлениями от смысла подлинника и вообще чрезмерно свободным обращением с греческим текстом, что вызывало справедливые замечания, — в частности, Вересаева. Мы сочли, однако, необходимым широко представить и переводческую работу Вяч. Иванова, ибо она обладает несомненными художественными достоинствами и представляет собой заметную веху в жизни античной поэзии на русской почве.
В 1929 году В. В. Вересаев выпустил свои переводы из греческих поэтов с соответствующими статьями и комментариями десятым томом своего собрания сочинений, которое выходило тогда в издательстве «Недра». В 1963 году Гослитиздат переиздал вересаевский сборник, дополнив его переводами новонайденных текстов («Эллинские поэты в переводах В. В. Вересаева» в серии «Библиотека античной литературы»).
Кроме сборников Вяч. Иванова и В. В. Вересаева, главными источниками для греческой части этой антологии послужили следующие издания:
1. «Греческая эпиграмма». Переводы с древнегреческого под редакцией Ф. Петровского, составление, примечания и указатель Ф. Петровского и Ю. Щульца. Вступительная статья Ф. Петровского. Гослитиздат, Москва, 1960.
2. «Поэты-лирики Древней Эллады и Рима в переводах Я. Голосовкера». Гослитиздат, Москва, 1955. Это наиболее полное собрание переводов покойного Я. Э. Голосовкера, много и плодотворно работавшего над античной поэзией.
3. Феокрит. Мосх. Бион. «Идиллии и эпиграммы». Перевод и комментарий М. Е. Грабарь-Пассек. Издательство АН СССР, Москва, 1958.
4. Г. Ф. Церетели. «История греческой литературы», т. 1. Образцы лирической и эпической поэзии. Тифлис, 1927.
Предлагаемая антология построена по хронологическому принципу, который отчасти нарушается лишь в том случае, когда мелика распределена по жанрам — из уважения к традиции и для того, чтобы дать читателю более четкое представление о видах древнегреческой лирики.
Римская лирика — это прежде всего пять прославленных поэтов конца Республики и начала Империи: Катулл, Тибулл, Проперций, Гораций, Овидий, а также более скромные имена «малых латинских поэтов» и неизвестные авторы позднего Рима, вплоть до VI века н. э. Чрезвычайно популярные в средние века (особенно Гораций и Овидий), римские лирики были изданы на языке оригинала еще на заре книгопечатания: Гораций — до 1470 года, Овидий — в 1471 году, а Катулл, Тибулл и Проперций вместе — в следующем, 1472 году. В последующие века они выдержали огромное количество изданий. Среди последних Катулл в издании М. Шустера и В. Эйзенхута (Лейпциг, 1958) и Гораций в издании Клингнера (Лейпциг, 1959).
До нас не дошло такого всеобъемлющего собрания «малых латинских поэтов», каким является Греческая или Палатинская антология для греческой поэзии «малых форм» — элегии и эпиграммы. Однако уже в новое время гуманисты и филологи стали собирать образцы этого рода латинской поэзии. Открытие французского филолога Клавдия Салмазия (Клод Сомез, XVII в.), нашедшего «Латинскую антологию» — сборник небольших стихотворений, составленный еще в VI столетии, явилось началом. Собирание завершилось изданием в 1879–1883 годах обширного пятитомного сборника Эмиля Беренса «Малые латинские поэты» («Poëtae latini minores»).
В России живой интерес к римской лирике проявился еще в XVIII столетии. Горация переводили Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов. Его знаменитый «Памятник» («Оды», кн. III, 30) вызвал подражания Г. Р. Державина и А. С. Пушкина. Оды, сатиры и послания Горация перевел А. А. Фет (изданы в 1883 г.). Полное собрание сочинений Горация вышло на русском языке в издательстве «Academia» в 1935 году (под редакцией и с примечаниями Ф. А. Петровского). В том же году была издана его «Избранная лирика» в переводах А. П. Семенова-Тян-Шанского. В сборнике Я. Голосовкера «Поэты-лирики Древней Эллады и Рима» (Гослитиздат, Москва, 1963) помещены избранные переводы пяти крупнейших лириков Рима.
Овидия знал и любил А. С. Пушкин, рассказавший о поэте-изгнаннике в своих «Цыганах». Он же перевел стихотворение Катулла «Пьяной горечью Фалерна чашу мне наполни, мальчик». В 1963 году в Гослитиздате вышли «Любовные элегии» Овидия в переводе С. В. Шервинского.
Катулла перевел А. А. Фет (Москва, 1886, и Петербург, 1899). Его стихотворению на смерть воробья (III) подражал Дельвиг.
Три вольных перевода элегий Тибулла сделал Батюшков.
Катулл, Тибулл и Проперций вышли в серии «Библиотека античной литературы» (Гослитиздат, Москва, 1963).
В настоящий сборник включены также эпиграммы Марциала (в переводах Ф. А. Петровского), а также отдельные лирические стихотворения поздних римских поэтов Авсония и Клавдиана (IV–V вв.).
Поэты «Латинской антологии» опубликованы в издании «Памятники поздней античной поэзии и прозы II–V веков» (изд-во «Наука», Москва, 1964).
Совершенно особый вид поэзии представляют латинские эпиграфические стихотворения. Собранные. Фр. Бюхелером («Carmina epigraphica latina», тт. I–III, Лейпциг, 1895–1926) в количестве около двух тысяч, они были частично переведены и изданы Ф. А. Петровским в его книге «Латинские эпиграфические стихотворения» (изд-во АН СССР, Москва, 1962), откуда образцы надписей и взяты для настоящего сборника.