Яков Гордин
Ермолов
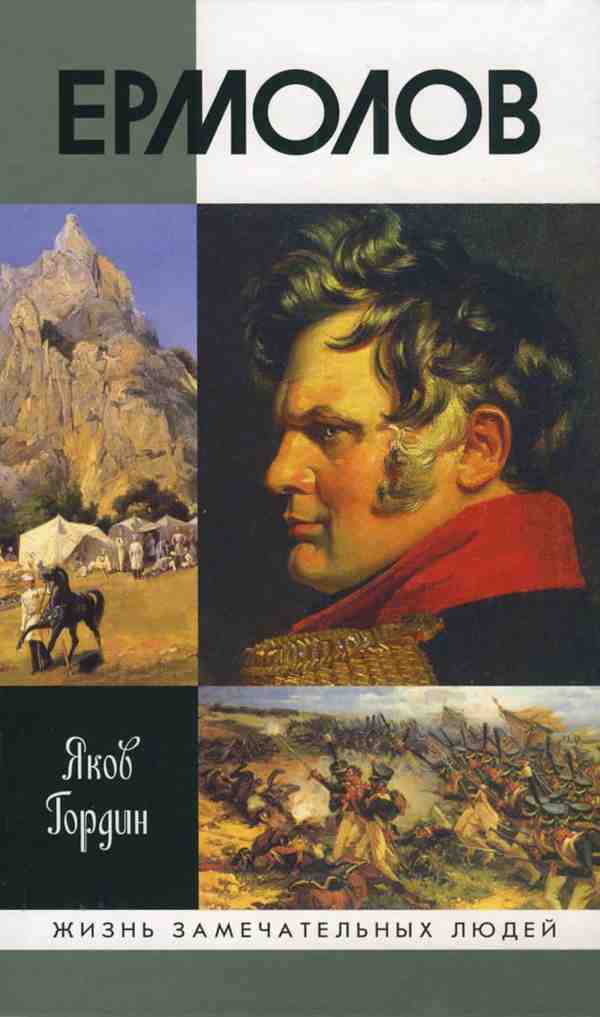
Посвящается памяти моих друзей Юрия Давыдова, Юрия Овсянникова, Андрея Тартаковского, Натана Эйдельмана, Станислава Рассадина
После крушения Российской империи князь Сергей Евгеньевич Трубецкой, автор глубоко осмысленных мемуаров, писал: «Нет в мире аристократии с более смешанной кровью, чем русская»[1]. Это утверждение в полной мере относится и к русскому дворянству вообще.
Эта «смешанность крови» играла не последнюю роль в мировосприятии русского дворянина, окрашивая его имперский патриотизм в особые тона. Поскольку значительная часть аристократических и дворянских родов с полным правом возводила свое происхождение к выходцам из Золотой Орды, то смутное, как правило, представление о своей азиатской прародине в исключительных случаях принимало совершенно неожиданные формы. Так, в один из важнейших моментов своей карьеры — во время посольства в Персию, от результатов которого во многом зависел характер его будущей деятельности на Кавказе, — Алексей Петрович Ермолов объявил себя… потомком Чингисхана — со всеми вытекающими отсюда властными претензиями.
Маловероятно, что Ермоловы могли претендовать на наследие великого завоевателя, но их ордынские корни несомненны. В 1506 году Арслан-мурза Ермола выехал из Орды на службу к великому князю Московскому Василию Ивановичу и получил в крещении имя Иоанн. Отсюда и пошел обширный и разветвленный род Ермоловых.
Смею утверждать, что семейный миф (вряд ли Алексей Петрович на ходу придумал эту историю для персидских вельмож) был одной из важных составляющих сложного самосознания нашего героя и грандиозная фигура кагана, претендовавшего на власть во Вселенной, с некоего момента тревожила если не сознание, то подсознание Ермолова, определяя масштаб его честолюбия и горько оттеняя его реальное положение…
О ближайших потомках Арслан-мурзы Ермолы известно мало. Но уже в XVII веке вырисовывается вполне внятная картина крепкого служилого дворянского рода, проявлявшего себя преимущественно на военном поприще.
Ермоловы сражались едва ли не во всех войнах, которые вела Россия в XVII–XVIII веках. Они не выходили на первые роли, но самоотверженно выполняли свой долг вдалеке от придворного мира. Единственным исключением был генерал Александр Петрович Ермолов, дальний родственник нашего героя, оказавшийся в середине 1780-х годов кратковременным фаворитом Екатерины II.
Мать Ермолова, Мария Денисовна, урожденная Давыдова, была первым браком за дворянином Михаилом Каховским и родила ему сына Александра — единоутробного брата Алексея Петровича. Это родство и дружба со старшим братом сыграли в судьбе будущего проконсула Кавказа сильную и сложную роль. Все, кто упоминает о Марии Денисовне, аттестуют ее как женщину незаурядную, с характером прямым и жестким, острую на язык.
Она была родной теткой знаменитого Дениса Васильевича Давыдова, который таким образом приходился Ермолову двоюродным братом.
Однако сколько-нибудь заметных следов деятельного участия матери в судьбе сына не зафиксировано ни современниками, ни позднейшими биографами.
Об отце Ермолова Петре Алексеевиче мы знаем гораздо больше. Один из основных биографов Алексея Петровича генерал В. Ф. Ратч суммировал имеющиеся сведения: «Петр Алексеевич был из небогатых дворян Орловской губернии и пользовался общим уважением за свой ум, редкую прямоту души и многосторонние сведения. В чине статского советника он был награжден Владимирскою 2-ой степени звездою и служил при родном племяннике князя Потемкина-Таврического графе Самойлове, впоследствии генерал-прокуроре — звание, которому в то время была подчинена администрация почти всей внутренней гражданской части государства».
Петр Алексеевич Ермолов родился в 1746 году. Девятилетним был зачислен сержантом в артиллерию, действительную службу начал в 16 лет и вышел в отставку в 1777 году, в год рождения нашего героя, с чином майора артиллерии. Затем, после длительного периода статской службы, занял пост правителя канцелярии генерал-прокурора Сената, чья власть могла сравниться с властью премьер-министра.
Граф Александр Николаевич Самойлов был храбрым и толковым боевым генералом. Но своей высокой государственной должностью он обязан был в первую очередь близкому родству с Потемкиным.
Мощный родственный клан Потемкиных-Самойловых-Давыдовых-Раевских сыграл определяющую роль в судьбе юного Алексея Петровича Ермолова.
О своем детстве Алексей Петрович вспоминать не любил. Оно и понятно. Судя по всему, суровые родители не баловали его. По скромности своего состояния они не могли нанять сыну учителя, и первые уроки грамоты мальчик получил от дворового, познакомившего его с букварем.
По обычаю того времени Алексей был отдан богатым дальним родственникам Щербининым, в доме которых обучался вместе с их племянником.
Положение его было весьма двусмысленное. Единственным утешением, по собственному его свидетельству, было чтение Плутарха во французском переводе.
Легко себе представить, какое впечатление должны были произвести жизнеописания античных героев на гордого и самолюбивого мальчика по контрасту с его собственным унизительным положением…
Можно с достаточной уверенностью сказать, что именно чтение Плутарха заложило фундамент взаимоотношений Ермолова с миром, а Цезарь и Александр Македонский, как мы увидим, на всю жизнь остались для него эталонными фигурами.
В 1784 году отец определил семилетнего Ермолова в Московский университетский пансион, заведение весьма основательное.
В пансионе воспитанники изучали естественное и римское право, историю, математику, статистику России, географию. Воспитатели-иностранцы должны были обучать их европейским языкам. В программу входили светские навыки: танцы, верховая езда, фехтование. И, что особенно важно в нашем случае, основательно преподавались артиллерийское дело и фортификация.
Судя по оставшимся свидетельствам, юный Ермолов был «стародумом». Его не прельщают Вольтер и Руссо. Он явно осуждает интерес своих сверстников к фривольным французским романам. Его не влечет веселый разврат екатерининского времени. Полюбившийся ему в детстве Плутарх с его героями остается фаворитом и в отрочестве, и в юности. Недаром, как только у него появилась возможность, он начал изучать латынь, чтобы читать в подлиннике Цезаря…
До поры судьба юного Ермолова мало чем отличалась от обычной судьбы дворянского отрока.
5 января 1787 года, еще во время пребывания в пансионе, он был записан каптенармусом — унтер-офицером — в лейб-гвардии Преображенский полк. 28 сентября 1788 года был произведен в сержанты.
В августе 1790 года тринадцатилетний Ермолов, выйдя из пансиона, приезжает в Петербург, чтобы начать службу в первом гвардейском полку.
Служба, однако, была пока еще вполне условна. Он лишь иногда бывал в казармах преображенцев, что не помешало ему вскоре получить чин поручика.
Но с этого времени уже начала сказываться родственная связь с семейным кланом Самойловых-Давыдовых-Раевских, над которым возвышалась гигантская фигура Потемкина.
1 января 1791 года четырнадцатилетний Ермолов был произведен в капитаны Нижегородского драгунского полка — при переводе из гвардии в армию офицер «перескакивал» через чин. Перевод не был опалой — это было желание самого Ермолова принять участие в боевых действиях: шла вторая Русско-турецкая война. Его спутником по пути в Молдавию, на театр военных действий, был двадцатилетний лейб-гвардии премьер-майор Николай Николаевич Раевский, внучатый племянник Потемкина. Шефом Нижегородского полка был уже упомянутый Александр Николаевич Самойлов, родной племянник Потемкина.
С этого времени и до смерти императрицы Екатерины в 1796 году Самойлов становится «протектором» — покровителем юного Ермолова.
Об особом положении четырнадцатилетнего капитана говорит и то, что в сопровождающие ему был дан заслуженный боевой офицер капитан Дмитрий Ильич Пышницкий.
Повоевать Ермолову в этот раз не удалось, но пребывание в Молдавии существенно повлияло на его миропредставление и способствовало превращению в офицера-профессионала.
Вопреки существующей легенде, молодой Раевский не был командиром Нижегородского драгунского полка. По прибытии к армии Потемкин отправил его в казачьи части для приобретения боевого опыта, а затем произвел в подполковники и назначил командиром своей «гвардии» — казачьего Булавы Великого Гетмана полка. Это было огромное формирование, включавшее 11 тысяч сабель и 20 орудий.
К этому полку Потемкин присоединил иррегулярную кавалерию, навербованную из валахов, болгар, сербов, албанцев. Кроме того, под командованием Потемкина были донские, а также екатеринославские и черноморские казаки.
Все это была, так сказать, личная армия светлейшего князя.
Его действия давали поводы для разнообразных и упорных слухов. Адъютант Потемкина Лев Николаевич Энгельгардт, известный впоследствии мемуарист, писал: «Одни полагали, что он хочет быть господарем Молдавии и Валахии, другие, что он хотел объявить себя независимым гетманом; иные думали, что он хотел быть польским королем».
Вот в этой атмосфере сколь грандиозных, столь и авантюрных проектов — неважно, вымышленных или реальных — начал свою службу юный Ермолов, поклонник героев Плутарха.
Нижегородский полк, в который он был направлен, воевал в это время на Кавказе. Ермолов был назначен старшим адъютантом генерала Самойлова, который, числясь шефом нижегородцев, командовал в это время крупными соединениями в армии Потемкина.
По свидетельству самого Ермолова, он в этот период совершенствовал свое знание артиллерийского дела, наблюдая реформу, которую проводил Раевский в своем полку. Как мы сказали, это был полк Булавы Великого Гетмана, с его двадцатью орудиями.
Полк этот, стратегический резерв Потемкина, в боевых действиях не участвовал. Ермолов, судя по всему, остался именно под командованием Раевского. Имея такого покровителя, как Самойлов, он мог выбирать себе место службы.
В январе 1792 года Раевский, получивший чин полковника, отправился волонтером в Польшу, где шла — при участии России — гражданская война…
Ермолов вернулся в Петербург и был назначен квартирмейстером во 2-й бомбардирский батальон. Это произошло 18 марта, а 14 декабря того же года произошел еще один значительный перепад его карьеры — он стал адъютантом Самойлова, уже не армейского генерала, а генерал-прокурора.
Причем, по утверждению хорошо знающего военный быт историка Н. Ф. Дубровина, юный капитан артиллерии именовался не просто адъютантом, но флигель-адъютантом, что было тогда гораздо почетнее.
Не будем забывать, что в то же время правителем канцелярии генерал-прокурора был назначен отец Ермолова.
Отец и сын Ермоловы оказались прочно включены в служебно-родственную систему карьерных связей.
Один из наиболее важных для нас биографов Ермолова В. Ф. Ратч, подробно расспрашивавший Алексея Петровича в конце его жизни, свидетельствовал: «В должности, „хотя почетной, но бесцветной“, адъютанта Самойлова А. П. Ермолов был постоянным членом высшего петербургского общества того времени. <…> Как человек домашний у Самойлова, он по утрам слыхал в его кругу откровенные отзывы об обществах и лицах, которые являлись на вечерних собраниях, он постоянно видел la face et le revers de la medaille[2]».
Но дело было не только в том немаловажном знании о конкретных лицах и взаимоотношениях в обществе, которое приобрел юный Ермолов, живя в доме генерал-прокурора.
В доме и служебном кабинете генерал-прокурора, ему доверявшего, умный и внимательный юноша мог наблюдать многосложное и далеко не безупречное движение государственного механизма, в центре которого стоял его покровитель.
По свидетельству Ратча, юный Ермолов, защищенный благоволением сильного вельможи, тогда уже позволял себе откровенно саркастическое отношение ко многим из тех, кого он видел вокруг. Разумеется, далеко не все, кого он встречал в доме Самойлова, были ничтожествами. Например, Александр Андреевич Безбородко, талантливый дипломат и умный бюрократ, который тоже покровительствовал Ермолову, человек, прошедший боевой путь рядом с Румянцевым, наверняка вызывал у нашего героя уважение и интерес. Но признаков развращенности и цинизма, которые мог подметить свежий взгляд наблюдательного провинциала, было вполне достаточно, чтобы заложить основы того отталкивания от господствующего способа существования и стремления выйти за пределы системы, которые позже определили особость судьбы нашего героя, воспитанного на Плутархе с его суровыми и самоотверженными античными героями.
Для молодого красавца-офицера, любимца одного из влиятельнейших вельмож империи, Петербург того времени предоставлял массу возможностей веселой и приятной жизни. Близость к Самойлову и его клану вкупе с незаурядными способностями открывала путь к стремительной, но необременительной карьере.
Ермолов выбрал иной путь. Именно в этот период он окончательно сделал выбор в пользу военной службы. Не питавший особых иллюзий относительно армейской среды, с которой он познакомился в Молдавии, он выбрал войну как способ жизни, как средство самореализации, как путь к удовлетворению своего честолюбия.
Пройдет время, и это честолюбие примет иные, куда более неординарные формы. Не будем забывать, что в доме Самойлова процветал культ Потемкина с его необузданностью фантазии и гомерическими проектами.
Но пока юный капитан стремился стать подлинным военным профессионалом.
Он пожертвовал своим адъютантством и уговорил Самойлова зачислить его в артиллерию.
В 1827 году, составляя прошение об отставке, Алексей Петрович подробно перечислил все этапы своей службы.
Квартирмейстером в бомбардирский батальон он был зачислен по возвращении из Молдавии 18 марта 1792 года, а вернулся в батальон после периода адъютантства 26 марта 1793 года. При Самойлове — в гуще политической жизни — он состоял, стало быть, чуть более года.
9 октября того же 1793 года он был переведен в Артиллерийский и Инженерный корпус репетитором, младшим преподавателем.
Когда Ратч спросил Ермолова о причинах перевода в корпус на столь скромную должность, он ответил: «Для рассеивания тьмы неведения моего: в артиллерийском корпусе военный мог приобрести если не обширные, то основательные сведения».
И он был прав. Обучение в корпусе было поставлено основательно. Кроме общеобразовательных предметов, в частности математики, к которой Ермолов пристрастился еще в университетском пансионе — особенно геометрии, и иностранных языков, немалое внимание уделялось военным наукам. Углубленно изучались артиллерийское дело и фортификация.
Ермолов в корпусе, судя по всему, не столько учил, сколько учился.
Он делал из себя профессионала.
6 апреля 1794 года в Варшаве произошло восстание и началась очередная польская война. А с ней — и новый период в жизни Ермолова. Это было то, чего он жаждал, о чем мечтал, к чему фанатически готовил себя. Впервые появилась возможность показать себе и миру — кто он таков, Алексей Ермолов.
При содействии графа Самойлова он получил право отправиться на театр военных действий волонтером, состоящим при графе Валериане Зубове, командовавшем авангардом корпуса генерала Дерфельдена.
Ермолову было 17 лет, и сущностный сюжет его жизни начинается именно в этот момент.
К 1794 году окружавшие Польшу мощные державы уже дважды делили ее территорию. В первый раз, в 1772 году, — Пруссия, Австрия и Россия; затем, в 1793-м, — Россия и Пруссия. Россия тогда получила большую часть белорусских земель, Подолье и Волынь, Пруссия — Данциг, земли Великой Польши, часть Мазовии…
И Польша снова восстала.
Главнокомандующим был избран генерал Тадеуш Костюшко, воевавший в Америке в армии Вашингтона, опытный и умелый военачальник, снискавший похвалу Суворова.
Перед выступлением Костюшко побывал в Париже, пытаясь заручиться помощью Франции, но получил только неопределенные обещания.
Тем не менее 6 апреля 1794 года восстание началось.
Есть немало свидетельств о событиях в Варшаве, но мы снова воспользуемся текстом Ратча, так как он явно восходит к беседам с Ермоловым и дает представление о восприятии событий нашим героем: «Когда весть об избиении русских достигла до Петербурга, жажда мести сделалась общим чувством столицы; никто не спрашивал, какие последуют распоряжения, но множество офицеров поскакали хлопотать о назначении в Польшу. Ермолову нетрудно было достигнуть желаемого».
Понятно, что, разделяя общее настроение, Ермолов еще и подтверждал свой жизненный выбор — война как способ существования. К тому же не мог он — с его сильным и пытливым умом — не понимать, в событиях какого масштаба представляется ему возможным участвовать.
Корпус Дерфельдена воевал в Литве. Он был подчинен фельдмаршалу Репнину, который в этой кампании проявлял осторожность и медлительность. Между тем Суворов шел на Варшаву, чтобы закончить войну одним ударом. До этого почти полгода продолжались бои, не имевшие решающего значения. Поляки дрались храбро и умело.
С появлением Суворова на театре военных действий события стали развиваться стремительно.
Авангард Дерфельдена, которым командовал Зубов, постоянно вступал в бой с отступающими польскими отрядами.
Ермолов был при Зубове и, стало быть, получил возможность испытать себя в деле.
В этих боях отличился князь Петр Иванович Багратион. С ним Ермолов здесь и познакомился.
Ратч, со слов Ермолова, так описывал произошедшее: «Суворов шел на Варшаву и дал повеление Ферзену и Дерфельдену к нему присоединиться. Он все ломил перед собою, начиная от Кобрина. Дерфельден торопился своим движением от Белостока. <…> Авангардом его командовал граф В. А. Зубов, человек решительный и смелый. Дерфельден поручил ему авангард потому, что знал, что быстрее его никто не очистит дорогу для соединения в назначенное время с Суворовым. <…> Поляки быстро отступали перед Зубовым, который шел по пятам. 13-го октября (на самом деле 15-го. —
После сражения при Кобылке Суворову были представлены волонтеры и Ермолов в том числе. Суворов Ермолова отметил — на него трудно было не обратить внимания.
Зубов был отправлен в Россию. Ермолову надо было менять свое положение. Статус волонтера давал некоторые преимущества — в частности, возможность знакомиться с действиями разных родов войск, выполняя отдельные поручения. Но ермоловская установка на полный военный профессионализм требовала другого. Он мечтал стать артиллеристом — и стал им.
После смотра при Кобылке, представленный Суворову и заслуживший благоволение Дерфельдена, Ермолов получил в свое командование шесть орудий.
Но и здесь все было не совсем обычно. Ратч пишет: «В собранной при Кобылке армии Суворова последовало для предстоящих военных действий против укреплений Варшавы новое распределение артиллерии по отрядам. Кроме полковых, здесь было еще 76 орудий; Ермолов с радостью принял предложение Дерфельдена получить отдельную команду. Из артиллеристов старший в армии был капитан Бегичев: „Я не помню ни о каком распоряжении, и едва ли артиллеристы сами не возвели его в звание начальника всей артиллерии“, — говорил Алексей Петрович.
Ермолову дали сперва 6 орудий пяти различных калибров; но так как все артиллеристы, готовясь к предстоящим, может быть, продолжительным действиям против укрепленного города, положили уравнять калибры между командами, то Бегичев и сделал новое распоряжение. Судьба благоприятствовала Ермолову: на его долю достались снова шесть орудий: 4 единорога полукартаульные, которых все жаждали, и две пушки 12-фунтовые. „Не знаю, не покривил ли душою Бегичев, видя ко мне расположение Дерфельдена“».
Надо пояснить, что единорогом называлось усовершенствованное Петром Ивановичем Шуваловым орудие, удлиненная гаубица, пригодная как для настильной, так и для навесной стрельбы всеми видами тогдашних снарядов и бившая до четырех километров. По причуде Шувалова на стволе орудия был изображен единорог. Благодаря своей универсальности единороги высоко ценились артиллеристами, и неудивительно, что их «все жаждали». Полукартаульный единорог был приспособлен к стрельбе полукартаульными, то есть полупудовыми бомбами.
Судя по тому, что Ермолов рассказывал Ратчу, он находился в Польском походе на особом положении: «Так как князь Платон Александрович Зубов весьма ладил с графом Самойловым, то и граф Валериан Александрович, приняв весьма благосклонно А. П. Ермолова, был с ним во время всего похода в самых приятельских сношениях и неоднократно в самых лестных выражениях отзывался об нем Дерфельдену; к тому же оба были молоды — Зубову было 23 года, Ермолову 18 — и оба жаждали военной славы; боевая жизнь еще более сближает людей, и она равно тешила их обоих. Во время похода Дерфельден неоднократно давал поручения Ермолову; всякий раз за хорошее исполнение изъявлял ему свое удовольствие и даже однажды приказал ему написать в Петербург, что он им чрезвычайно доволен. Хотя в числе волонтеров отряда находился граф Витгенштейн, впоследствии князь и фельдмаршал, но едва ли между ними Ермолов не стоял на первом плане; так по крайней мере можно заключить из отзыва, который Дерфельден сделал об Алексее Петровиче Суворову, упоминая о бывших при нем волонтерах».
Неопределенное «приказал ему написать в Петербург» имеет, надо полагать, вполне определенный адрес. Дерфельден хотел известить влиятельнейшего генерал-прокурора, что его подопечный оправдывает ожидания, а он, Дерфельден, не выпускает молодого капитана из поля зрения.
При этом надо помнить, что Вильгельм Христофорович Дерфельден не был каким-нибудь придворным льстецом. Это был боевой генерал, сражавшийся с Суворовым при Фокшанах и Рымнике, выигрывавший во вторую турецкую войну и самостоятельные сражения. Когда в 1799 году он прибыл в Италию к Суворову, сопровождая великого князя Константина Павловича, то Суворов не колеблясь поручил ему командование десятитысячным корпусом — третью своей армии. Он сыграл важную роль в битве при Нови и был одной из главных опор Суворова в этом труднейшем походе.
Мы знаем о подвигах грузина Багратиона и серба Милорадовича во время перехода через Альпы, но никто не напоминает нам о немце Дерфельдене. Между тем Денис Давыдов, отнюдь не являвшийся, как и Ермолов, поклонником немцев в русской армии, желая оттенить достоинства Ермолова, писал: «Участвовав в войне 1794 года с поляками, он заслужил лестные отзывы славного генерала Дерфельдена, мнением которого он всегда очень дорожил». «Славного генерала Дерфельдена»…
Итак, молодой Ермолов в первой же своей кампании сумел отличиться и обратить на себя внимание. Те авангардные бои, в которых случалось принимать участие волонтеру, не шли ни в какое сравнение с тем, что ждало капитана, командовавшего шестью орудиями, под Варшавой.
Энгельгардт рассказывает: «22-го октября подошли мы к предместию Праге, укрепленному крепким ретраншементом, занятым 30 тыс. человек польского войска; но он был так обширен, что чтобы хорошо оный защитить, по крайней мере, надо было быть сильнее втрое. В ту же ночь заложено было несколько батарей и для прикрытия оных ложемент. 23-го канонировали ретраншемент, на что и нам отвечали, без большого вреда с обеих сторон.
Слабая сторона ретраншемента правого фланга была со стороны Вислы, для чего между сею рекою и болотом, поросшим мелким лесом, был отдельный крепко укрепленный ретраншемент, верстах в двух от главного…»
По рассказу Ермолова Ратчу можно определить положение его орудий на этом этапе боя: «В ночь на 23-е октября были заложены наши батареи вокруг ретраншемента, саженях в 300 от него, что заставило неприятеля думать сперва, что русские собираются вести правильную осаду. Между тем русские отряды получили каждый свое назначение. Отряд Дерфельдена составлял правое крыло, а потому и артиллерии его, состоявшей из 22-х орудий, пришлось действовать против артиллерии и ретраншемента и фланговой батареи. На оконечности этой батареи стали 6 орудий Ермолова, в расстоянии почти равном от ретраншемента и от фланговой полевой батареи. Орудия Ермолова составляли правый фланг в общем расположении русской артиллерии».
Фланговая полевая батарея — это тот второй ретраншемент (в данном случае — земляное укрепление, состоящее из вала и окопа), который прикрывал с фланга основные укрепления Праги. Орудия Ермолова, таким образом, оказались под огнем с двух направлений.
«В течение этого дня Ермолову пришлось переделать барабеты (насыпные площадки для установки орудий. —
Он сознавал, что добиться той высоты удачи, о которой он мечтал, можно только предлагая за нее самую высокую цену — свою жизнь и жизнь своих солдат.
«23-го числа артиллерия отряда Дерфельдена вела против нее (фланговой батареи. —
Штурм был назначен на раннее утро 24-го. Суворов издал предельно лапидарный приказ: «В ров, на вал, в штыки».
Ратч записал рассказ Ермолова:
«Перед рассветом 24-го октября войска двинулись к ретраншементу. Артиллерия отряда Дерфельдена открыла самую живую стрельбу против фланговой батареи, огонь которой был гибелен для атакующих; он нанес бы войскам нашего правого фланга еще больший вред, если бы неприятель еще дольше держался на этой батарее; но как от осыпающегося бруствера начали обнажаться орудия, почему некоторые были подбиты, то польские артиллеристы и начали свозить их в город. Дерфельден почитал Ермолова главным виновником этого успеха. <…> Неприятель был уже выбит из своего лагеря и все пространство между ретраншементом и предместьем было очищено».
Ратч был артиллерийским генералом, писавшим историю гвардейской артиллерии, что было особенно симпатично Ермолову, и потому Алексей Петрович не только акцентировал свой рассказ на собственной артиллерийской практике, но, проникнувшись доверием к собеседнику и летописцу, демонстрировал редкую для него откровенность:
«В это время Суворов приказал ввезти 20 полевых орудий в Прагу, чтобы сбить артиллерию, выставленную в городе, на противоположном берегу. Сев на лошадь одного из казаков, Ермолов поскакал за своими орудиями. Неприятельские орудия были расставлены по два и по три совершенно открыто. Желали ли польские артиллеристы сохранить свои орудия для дальнейших действий или по другим причинам, но они выказали мало стойкости: после первого подбитого орудия все стоявшие от моста выше по течению скрылись в городских улицах; тогда Ермолов без всякого приказания стал бить прямо в лоб по домам, смотревшим на Вислу; посыпались стекла из окон, едва ли одно уцелело; гранаты влетали внутрь домов. Самодовольно смотрел 18-летний Ермолов на эту картину разрушения, внутренне приговаривая: это вам за сицилийские вечерни, и двадцать лет спустя он продолжил на несколько минут более, нежели следовало, действия артиллерии под Парижем, с не менее услаждавшей его мыслию: это вам, французы, за Москву».
В октябре 1794 года молодой Ермолов разрушал дома мирных жителей, причем гибли те, кто был внутри домов. Он шел на это. И не без удовольствия рассказывал об этом через добрых полстолетия.
Опыт польской войны, в особенности штурма Праги, отнюдь не ограничился для него чисто профессиональным опытом и удовлетворением мстительного чувства.
Один из участников обороны Праги, поляк Збышевский, оставил воспоминания, в которых сами боевые события выглядят не совсем так, как у русских мемуаристов:
«Печальное состояние Варшавы увеличивал вид несчастной Праги. Как только вышли из нее наши войска, разъяренный москвитянин начал ее грабить и жечь. Были вырезаны все без разбора. Даже в Варшаве были слышны вопли избиваемых и роковое московское ура.
Пожар начался от соляных магазинов, потом загорелось предместье у Бернардинов, наконец, запылал у моста летний дом Понинского.
Все это, вместе с воплями наших и яростью москалей, представляло ужаснейшую картину. <…> Были беспощадно умерщвлены, кроме тысячей других, мостовые комиссары: Уластовский, Концкий, Дроздовский и проч. Нашлись, однако, некоторые сострадательные московские офицеры, которые хотели защитить невинных жертв, но все их усилия не были в состоянии сладить с разнузданными солдатами, коим был позволен грабеж».
Трагедия Праги поразила Европу, несколько отвыкшую со времен Тридцатилетней войны от тотального избиения мирного населения.
Утверждения, что поляки и их европейские друзья преувеличили ужасы произошедшего, опровергаются самими русскими офицерами. Ермолов рассказывал Ратчу, что, когда умолкла фланговая батарея, он отправился посмотреть на действия войск: «здесь был он свидетель страшной резни при входе в улицы Праги».
Однако данные, записанные Ратчем со слов Ермолова, иногда нуждаются в корректировке.
Сохранился «Аттестат», данный генералом Дерфельденом капитану Ермолову по окончании Польской кампании и, скорее всего, по случаю отбытия его в Петербург:
«Находящийся при корпусе войск моей команды, Артиллерийского Кадетского корпуса артиллерии г-н капитан Ермолов, будучи прикомандирован к артиллерии авангардного корпуса, когда неприятель 15 октября, при деревне Поповке, против Кулигова у Буга, защищая мост, поставил свои пушки, то помянутый капитан Ермолов, приспев со своими орудиями и производя пальбу, сбил неприятельскую батарею. 23 числа с артиллерии господином капитаном и кавалером Бегичевым строил среди дня батарею под сильнейшею неприятельскою канонадою, по построении которой производил успешно пальбу; наконец, во время штурма, 24 числа октября, взъехал при первой колонне с артиллериею и, командуя 7 орудиями, поражал неприятеля и по городу производил пальбу, во всех тех случаях поступая как храбрый, искусный и к службе усердный офицер. В засвидетельствование чего дан сей, за подписанием и с приложением герба моего печати, в Праге, ноября 5 дня 1794 года».
Стало быть, Ермолов не только способствовал штурму огнем своей батареи и не просто отправился затем посмотреть на действия войск, но вместе с атакующей колонной ввел свои орудия на улицы Праги и громил предместье.
С одной стороны, это усиливает его боевые заслуги, с другой — делает участником той страшной резни, о которой он вспоминал как наблюдатель.
Ратч, комментируя рассказы Ермолова, приводит свидетельства из дневника гусарского поручика, участника штурма: «Резерв вступил в дымящийся город, улицы были завалены мертвыми и умирающими; а возле варшавского моста какое ужасное зрелище! Тут все смешалось вместе: тут люди, лошади, обоз в одной куче; тут я видел женщин и детей раздавленных, обгорелых; ужаснейшая была резаница. <…> На берегу Вислы поставлены были батареи и громили польскую столицу 4 часа без остановки».
Жестокость эту, как и свой обстрел варшавской набережной, Ермолов не без оснований приписывал реакции на избиение русских в Варшаве в начале восстания: «Французские писатели далеко утрировали кровавые сцены этой войны, но ни в одной войне мне не случалось видеть подобного ожесточения».
Дело было не только в этом. Суворов, несмотря на все своеобразие своего поведения, был человеком холодного и точного расчета. В своем рассказе Ратчу Ермолов объяснил причины, по которым Суворов допустил солдатские бесчинства: «Суворов, овладев Прагою, приказал сжечь мост, дабы неприятель не покусился для защиты самого города с свежими войсками идти на выручку Праги. Начались переговоры с противоположным берегом. Суворов приказал вместо разрушенного моста построить другой, узенький, по которому можно было проходить пешком. Жителям Варшавы было дозволено приходить в Прагу, отыскивать своих родных и близких в грудах убитых; Суворов не ошибся в своем расчете. Ужасное зрелище, которое представляла Прага, могло у всякого отбить охоту подвергнуть Варшаву той же участи. Варшава сдалась беспрекословно на все условия, предписанные Суворовым».
Позволив солдатам разгромить и вырезать Прагу, Суворов этим варварским способом предотвратил необходимость штурма Варшавы и куда бо́льшие жертвы, которые могли бы этому сопутствовать.
К населению Варшавы, к сдавшимся польским военным, к самому королю Суворов отнесся вполне гуманно, объявив всем прощение от имени императрицы.
Ермолов не раз будет применять этот жестоко эффективный прием на Кавказе — демонстративно уничтожать аул вместе с населением, подавляя тем самым волю к сопротивлению у других аулов и, соответственно, сберегая солдат.
На польской войне он получил совершенно особый опыт.
Поляки были родственным славянским народом. Они, в отличие от турок, не воспринимались как законный противник. Они были мятежниками, хотя имели своего короля и свое государство. Война с ними была домашним спором, едва ли не гражданской войной. А такие войны ведутся по собственным правилам.
В 1814 году генерал Ермолов мог выпустить несколько лишних гранат по парижским предместьям, но ему не пришло бы в голову уничтожить для примера какой-нибудь французский городок.
На Кавказе он вел тоже подобие гражданской войны, усмирял мятеж, наказывал непокорных подданных, неразумных детей великой империи — для их же пользы. А отеческое наказание не регулируется никакими законами.
Польское государство с его тысячелетней бурной и великой историей перестало существовать.
Король Станислав II Август, доставленный в Гродно, отрекся от власти.
После долгих переговоров Россия, Пруссия и Австрия заключили соглашение об окончательном разделе оставшихся польских земель и обязались забыть словосочетание «Королевство Польское» или «Речь Посполитая».
Что до Ермолова, то своим первым боевым опытом он мог быть вполне доволен. Ратч пишет: «После жаркой битвы войска заликовали. Суворов обходил полки и приговаривал: „Помилуй Бог, после победы пропить день ничего!“ Он поинтересовался узнать, кто были некоторые из действовавших артиллеристов. Дерфельден назвал Ермолова как первого, который заставил неприятеля увезти орудия, начал бомбардировать город. В тот же день А. П. Ермолов с георгиевским крестом на груди пришел благодарить свою команду и выпить за их здоровье чарку некупленного вина».
1 января 1795 года Екатерина II подписала указ: «Во Всемилостивейшем уважении за усердную службу артиллерии капитанов Христофора Саковича, Дмитрия Кудрявцева и Алексея Ермолова и отличное мужество, оказанное ими 24-го октября при взятии приступом сильного укрепления варшавского предместья, именуемого Прага, где они, действуя вверенными им орудиями с особливою исправностью, наносили неприятелю жестокое поражение и тем способствовали одержанию победы, причем артиллерии капитан Сакович получил рану, — пожаловали Мы их кавалерами военного Нашего ордена св. великомученика и победоносца Георгия 4 класса».
Тем же 1 января датирован и рескрипт «Нашему артиллерии капитану Ермолову»:
«Усердная служба ваша и отличное мужество, оказанное вами 24 октября при взятии штурмом сильно укрепленного Варшавского предместья, именуемого Прага, где вы, действуя вверенными вам орудиями с особливою исправностью, нанесли неприятелю жестокое поражение и тем способствовали одержанной победе, учиняют вас достойным военного Нашего ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия».
Судя по тому, что указ и рескрипт были подписаны через два с лишним месяца после битвы, а Ермолов получил орден, если верить его рассказу, в день взятия Варшавы, то, очевидно, и в самом деле орден вручен был лично Суворовым…
Высокая оценка Дерфельдена, дружеское благожелательство такой «сильной персоны», как Валериан Зубов, Георгиевский крест, полученный из рук Суворова, наконец, решительное и умелое командование батареей — все это должно было воодушевить Ермолова и окончательно убедить в правильности выбранной карьеры. С этим чувством он и возвращался в Петербург.
Осознавал ли он, что при его содействии изменилась карта Европы, что произошло событие куда более значимое, чем очередная победа над турками? Событие, эхо которого будет катиться на запад и на восток от Варшавы не одно столетие?
Вряд ли он предвидел все роковые последствия крушения Польши, но он был слишком умен и осведомлен, чтобы не понимать смысла происшедшего.
При его самоотверженном участии были далеко раздвинуты границы империи. И это не могло не повлиять на его самоощущение. Уже тогда, по свидетельству знавших его, Ермолов был высоко честолюбив. Он еще только не знал — какую пищу его честолюбию предложит судьба.
Во всяком случае, в Петербург вернулся отнюдь не тот молодой, жаждущий боевых впечатлений артиллерийский капитан, который отправлялся волонтером в Польшу.
Империя на подъеме.
Ее убежденный солдат предвкушает и свой грядущий взлет.
Следующий резкий поворот его карьеры произошел благодаря все тому же графу Самойлову. Ермолов рассказывал Ратчу, что Самойлов при встрече в Петербурге, — а визит к генерал-прокурору наверняка был первым столичным визитом, — не советовал ему возвращаться в Артиллерийский кадетский корпус. Отличившемуся офицеру и георгиевскому кавалеру следовало подобрать иное занятие. Годы простого обучения остались позади. Теперь надо было осваивать другие науки.
9 января 1795 года капитан Ермолов был переведен во 2-й бомбардирский батальон — то есть в строевую часть. Перевод этот имел особый смысл.
Судя по рассказу Алексея Петровича, именно Самойлов «предложил ему ехать в чужие край». Это был испытанный способ расширить умственный горизонт, получить принципиально новые впечатления, способствовавшие развитию личности. Самойлов верно оценил потенциальные возможности своего подопечного.
Для командирования «в чужие край» нужен был повод. Его быстро нашли.
Турецкие войны требовали огромных затрат. Внутренних средств катастрофически не хватало. Екатерина II и ее правительство охотно и широко прибегали к внешним займам. В частности, с 1788 года Россия в три приема заняла в Генуэзском банке 5 миллионов 600 тысяч гульденов — весьма внушительную сумму — на десять лет под пять процентов годовых. К моменту вступления Самойлова в должность государственного казначея внешний долг голландским и генуэзским банкирам из-за несвоевременных платежей вырос до угрожающих размеров. Расходы бюджета значительно перекрывали доходы. (К концу царствования Екатерины II внешний долг достиг 76 миллионов гульденов, из которых только 14 миллионов были погашены.)
Самойлов разработал план погашения долгов. Но вмешались непредвиденные обстоятельства: французская армия вторглась в Голландию. Главный кредитор банкир Гопе, владелец крупнейшего в Европе банка, бежал в Англию и отказался от предоставления России новых кредитов. Это произошло в феврале 1795 года. Вот тогда-то, судя по всему, и возникла необходимость провести личные переговоры с генуэзским банкиром Реньи, что и было поручено Самойловым доверенному чиновнику Вюрсту.
Отправить молодого офицера сопровождать столь ответственное лицо было делом естественным.
Граф Александр Андреевич Безбородко, фактический руководитель иностранных дел империи, разделявший с Самойловым управление государственными финансами, тоже, как мы знаем, был симпатизаном Ермолова.
Вместе они и благословили своего подопечного на путешествие в компании с Вюрстом. Очевидно, и здесь Ермолов был в качестве волонтера, ибо никаких определенных обязанностей он не нес. В финансовых делах он был вполне бесполезен.
Идея была другая.
Безбородко снабдил Ермолова письмом к первому министру австрийского императора барону Тугуту. В письме содержалась просьба дозволить молодому русскому офицеру принять участие в составе австрийских войск в войне с французами, которая шла в Италии.
Ермолова отправили в Италию как военного агента, который должен был изнутри оценить состояние австрийской армии.
Конечно же он должен был с восторгом принять это назначение.
Ермолов рассказывал Ратчу, что, пока австрийские высшие власти в Вене раздумывали над просьбой Безбородко, он успел всласть попутешествовать по Италии.
В конце концов он был направлен, опять-таки в качестве волонтера, в армию генерала Дэвиса.
Денис Давыдов, разумеется, со слов Ермолова, писал: «Будучи послан в Италию вместе с чиновником Вюрстом, коему было поручено окончить коммерческие дела с генуэзским банком, он посетил главнейшие пункты Италии и между прочим Неаполь, где видел знаменитую по своей красоте леди Гамильтон; впоследствии ходатайства графов Самойлова и Безбородко, снабдивших его письмом к всесильному барону Тугуту, Алексей Петрович был назначен состоять при австрийском главнокомандующем Дэвисе, питавшем к русским величайшее уважение после сражения при Рымнике, в коем он участвовал. <…> Он с австрийцами принимал участие в разных стычках против французов».
Любопытно, что Ермолова причислили к «кроатским войскам» — иррегулярной легкой кавалерии, вербовавшейся из хорватов. Наверняка это было его собственное желание. Он, таким образом, во-первых, пользовался достаточной свободой, а во-вторых, оказался в составе наиболее мобильных и активно действующих отрядов, постоянно соприкасавшихся с противником, так как их использовали для разведки боем и внезапных налетов. Он хотел воевать.
Сведений об этом периоде жизни Ермолова крайне мало, но надо полагать, что свои функции военного агента он выполнил добросовестно. Его статус волонтера не привязывал его накрепко к какой-то одной части, и он смог познакомиться с особенностями австрийской армии достаточно широко. То, что он рассказывал Ратчу, похоже на лаконичный вариант донесения: «Ермолов нашел австрийские войска прекрасно устроенными, обученными и снабженными, войска с военным духом; но вместе с тем пропитанные тем методизмом, от которого австрийцы понесли столько поражений. Если не с молоком матери, то с насущным хлебом они всасывали это ежедневно, с самого начала вступления в службу, и не могли уже от него отделаться никакими силами. При этом только условии могло усилиться так могущество венского гофкригсрата».
Гофкригсрат — совет при императоре, имевший фактически неограниченное влияние на действия полевых армий, связывал руки боевым генералам и катастрофически затруднял ведение военных действий.
В сознании Ермолова кровопролитные схватки в горах Италии естественным образом связывались с его кавказским периодом. То, что он видел и испытал в рядах кроатских отрядов, было первым опытом горной войны.
С поразительной восприимчивостью молодой Ермолов удерживал в памяти все, что могло пригодиться ему в построении своего будущего.
Во всех его действиях с того момента, когда он пренебрег адъютантством у одного из первых лиц империи и, соответственно, стремительной столичной карьерой, просматривается твердая целеустремленность. Создается впечатление, что Ермолов уже поставил перед собой некую цель и только тщательно выбирал наиболее эффективные средства для достижения ее.
Он сознавал шаткость своего положения, понимал, чему обязан своей карьерой, и, что изменись ситуация — потеряй влияние Самойлов и другие потемкинцы, и ему, бедному провинциальному дворянину, придется рассчитывать только на собственные способности и заслуги. При этом он верил в свое из ряда вон выходящее будущее и яростно накапливал необходимый опыт.
Нет точных данных, сколько времени пробыл Ермолов в армии Дэвиса и вообще за границей. Можно предположить по косвенным сведениям, что он отправился в Италию весной 1795 года и вернулся в Россию зимой следующего года.
Ратчу Алексей Петрович объяснил свой отъезд из Италии тем, что до него дошли вести о близком разрыве с Персией и предстоящей войне. А ему не терпелось использовать приобретенные навыки в войне за Россию.
Екатерина II и в самом деле готовила поход в прикаспийские области, подвластные персидскому шаху. Непосредственным поводом для войны стало вторжение шаха Ага-Магомета в Грузию весной 1795 года. Ее истинными причинами являлись естественные симпатии России к единоверному православному народу, а также — геополитическое значение грузинской территории.
В исследовании О. Елисеевой «Геополитические проекты Г. А. Потемкина»[3] сказано: «В кругу заметных внешнеполитических проектов конца екатерининской эпохи следует назвать „Персидский проект“ последнего фаворита императрицы П. А. Зубова, поданный им государыне в 1796 г. во время войны с Персией из-за нападения на Грузию Астерабадского хана. Успешные действия русских войск, которыми руководил брат временщика В. А. Зубов, взятие Дербента и Баку, позволили Российской империи расширить территориальные приобретения в Закавказье и получить, как предлагал Зубов, господство над западным побережьем Каспийского моря. Смерть императрицы положила конец военным операциям, однако сама идея продвижения империи в Закавказье имела большое будущее и постепенно осуществлялась при внуке Екатерины II — Александре I в течение первой четверти XIX века».
Именно этот процесс прорыва в Закавказье, чему неизбежно сопутствовало завоевание Кавказа, впоследствии и выдвинул Ермолова в первые ряды паладинов империи.
Известный историк Кавказской войны генерал Василий Александрович Потто писал: «Говорят <…> что поход этот находился в тесной связи со знаменитым греческим проектом, обновленным редакцией графа Платона Зубова. Проект заключался в том, что граф Валериан Александрович, покончив с Персией у себя в тылу, должен был захватить в свои руки Анатолию и угрожать Константинополю с малоазиатских берегов, в то время как Суворов пройдет через Балканы в Адрианополь, а сама Екатерина, находясь лично на флоте с Платоном Зубовым, осадит турецкую столицу с моря»[4].
Документальных подтверждений этого слуха нет, но он вполне соответствует размаху мечтаний позднего периода Екатерины II.
Результатом возродившегося интереса к персидским делам (хотя игра была сложнее, в нее входили и тяжелые отношения с Турцией) было заключение союзного договора между Россией и Грузией 24 июля 1783 года в крепости Георгиевск, вошедшего в историю как Георгиевский трактат.
По договору Грузия поступала под покровительство — протекторат — Российской империи.
Георгиевский трактат вызвал резкое озлобление Персии с Турцией, равно как и граничащих с Грузией мусульманских ханств. В 1785 году аварский владетель Омар-хан с двадцатью тысячами дагестанских воинов обрушился на Кахетию и вынудил Ираклия II откупаться от него. Сколько-нибудь эффективно помочь Грузии Россия тогда не сумела.
Но самым страшным ударом для Грузии было нашествие Ага-Магомет-хана в 1795 году, ставшего к этому времени шахом и укрепившего власть над всей Персией.
В Петербурге поняли, что могут навсегда потерять Грузию и контроль над Закавказьем и прикаспийскими землями.
Можно с достаточным основанием предположить, что Ермолов был осведомлен о замыслах светлейшего: в период своего адъютантства у Самойлова, будучи «домашним человеком» у генерал-прокурора, который с Безбородко тесно сотрудничал, он мог многое слышать и наблюдать.
Равно как при своем интересе к военной истории — отечественной в первую очередь — Алексей Петрович вряд ли прошел мимо истории Персидского похода Петра I.
Он возвратился из Италии не просто с желанием воевать, но с мечтой воевать именно с Персией, на Каспии, там, где могли сбыться мечты почитаемых им Петра Великого и светлейшего князя Потемкина.
Здесь мы снова обратимся к записям Ратча:
«В Петербурге, в артиллерийском мире А. П. Ермолов нашел диковинку, занимавшую всех артиллеристов: конноартиллерийские роты, о которых уже несколько лет ходили толки, были сформированы; но не одни артиллеристы интересовались конною артиллериею — она возбудила внимание всей столицы. Генерал-фельдцейхмейстер князь Платон Александрович Зубов показывал ее как плоды своих забот о русской артиллерии. Мелиссино тоже, со своей стороны, хлопотал об ней и долго придумывал для нее мундир. А. В. Казадаев был представлен императрице на апробацию новой конноартиллерийской формы, в шляпе с белым плюмажем, в красном мундире с черными бархатными отворотами, в желтых рейтузах и маленьких сапожках со шпорами».
Этот текст требует некоторых комментариев.
Во-первых, Казадаев — это был один из ближайших друзей всей жизни Ермолова, переписка Алексея Петровича с которым представляет большой интерес. Они сдружились в Артиллерийском кадетском корпусе.
Во-вторых, и это главное, надо понять, в чем была новизна этого типа артиллерийских формирований. Сама по себе конная артиллерия возникла во Франции еще в XVI веке. В русской армии ее культивировал Петр I. Она отличалась от пешей артиллерии, где орудия тоже тащили лошади, тем, что орудийная прислуга ехала верхом, а не шла рядом с пушками или сидела на передках, увеличивая вес орудий. Это делало конную артиллерию стремительной и маневренной.
Здесь ключевое слово —
Идея действительно принадлежала Зубову. Еще в сентябре 1794 года он испросил разрешение императрицы на формирование пяти конноартиллерийских рот. Реально эти роты появились в феврале 1796 года, что и дает возможность датировать возвращение Ермолова из Италии. Если к его возвращению конноартиллерийские роты уже существовали, то Ермолов вернулся не ранее февраля 1796 года.
В конноартиллерийские роты, любимое детище и предмет гордости Платона Зубова, назначались, как рассказал Ермолов Ратчу, «офицеры, которые приобрели военную репутацию, георгиевские кавалеры, люди с протекцией и красавцы». Ермолов отвечал всем этим признакам. Но к моменту его возвращения роты были укомплектованы.
Вряд ли, однако, его это огорчало. Он хотел воевать, а конноартиллерийские роты, дислоцированные в Петербурге и вокруг, явно не предназначались для переброски на каспийские берега. В поход должны были идти главным образом войска, стоявшие на Кавказской линии и поблизости от нее.
Из Петербурга же на войну можно было попасть привычным для Ермолова способом — в качестве волонтера, лица привилегированного.
Ситуацию с началом войны энергично и выразительно очертил князь Зураб Авалов: «На самом закате дней и царствования Екатерины Великой правительство русское снова вернулось к мысли осуществить грандиозный план Потемкина относительно Персии. Вторжение Ага-Магомет-хана в Грузию давало России законное основание вступить в персидские пределы. С самого начала 1796 года на Линии стали готовиться по петербургскому указу к походу.
Душой дела были братья Зубовы; главное командование экспедицией поручалось графу Валериану Александровичу, и в рескрипте, данном ему 19 февраля, изложена целая политическая программа, идущая путем планов Петра и замыслов Потемкина. Опять загорается надежда на „богатый торг“ при берегах Каспийского моря и внутри Персии; опять взоры видят вдали Индию и ее богатства»[5].
Рескрипт Валериану Зубову заканчивался решением «восстать силою оружия на Ага-Магомет-хана ради отвращения многих неудобств и самих опасностей от распространения до пределов наших и утверждения мучительской власти и вящего усиления, а паче при берегах Каспийского моря, и так уже преуспевшего соединить мощное владычество почти над всею Персиею коварного Ага-Магомет-хана, всегда являвшегося врагом империи нашей».
Ага-Магомет-хан обвинялся в «наглом нарушении трактатов наших с Персиею постановленных, в коих права и преимущества, Россиею присвоенные, приобретены были уступкою областей, завоеванных оружием Петра Великого».
Последним аккордом было заявление о помощи царю Ираклию и другим закавказским владетелям, «взывающим защиту и покровительство наше».
Было сделано все, чтобы придать действиям России максимально законный и благородный вид. И это вполне удалось, поскольку Ага-Магомет-хан и в самом деле был наглым хищником по отношению к соседям и мучителем по отношению к собственным подданным. (Которые, в конце концов, его и зарезали.)
Принять участие в войне, которая могла увенчать планы Петра I и Потемкина и дать России выход на азиатские просторы, было для молодого Ермолова более чем заманчиво. Это было не просто очередное испытание своих боевых достоинств, но война за великую имперскую идею, далеко превосходившую по своему масштабу все, в чем ему приходилось участвовать.
К концу жизни Ермолов стал уникальным знатоком мировой военной истории, но и к 1796 году его сведения в этой области были достаточны, чтобы сопоставить будущий поход с деяниями Античности, с походами Александра Македонского в частности. При его стремительно развивавшемся честолюбии подобные сопоставления были прорывом в иные сферы представлений.
Можно с уверенностью сказать, что и в свои 19 лет капитан Ермолов отнюдь не был просто честолюбивым и удачным офицером.
Он уже тогда был военным человеком по преимуществу и при этом — с идеологией.
Вторжение Ага-Магомет-хана не было формальным поводом для войны — это была катастрофа, разразившаяся на южных границах и угрожавшая всему, чего Россия добилась на Каспии со времен Петра I.
Русскому правительству было понятно, что после своих кровавых подвигов вдохновленный слабым сопротивлением шах выполнит обещания и весной вернется в Грузию и прикаспийские области — расширять владения и устанавливать свою власть над каспийским побережьем.
Это грозило не только потерей контроля над огромными территориями, но и страшным ущербом престижу империи. Слабость в отношении Персии могла пагубно сказаться на поведении кавказских горцев и независимых доселе ханств.
Было решено упредить новое вторжение персов.
Ермолов по-прежнему был близок к Зубову и, скорее всего, имел достаточное представление о планах и задачах похода.
Получить назначение в войска, предназначенные для Персидского похода, не составило труда: граф Зубов был командующим, а граф Самойлов — одним из организаторов похода.
В начале апреля Ермолов был в Кизляре.
П. Г. Бутков в своих «Материалах для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.» приводит полные данные о внушительном составе корпуса Зубова.
Общая численность войск, не считая экипажей кораблей поддержки, простиралась до 30 тысяч человек.
Корпусу был придан сильный артиллерийский парк, состоявший из полевой артиллерии с двойным числом зарядов — двухпудовая мортира, 13 полукартаульных единорогов, 6 двенадцатифунтовых и 19 шестифунтовых пушек. В полковой артиллерии насчитывалось до 60 орудий. И, наконец, 12 орудий, погруженных на корабли контр-адмирала Федотова, предназначались для десанта.
Ермолов вспоминал, что в драгунских полках артиллерийские парки были реформированы по системе Раевского: орудия были по возможности облегчены и поставлены на железные оси.
Артиллерийские подразделения вне полков формировались по тому же вполне произвольному принципу, что и в Польскую кампанию. Ермолов получил два единорога полукартаульных, три пушки шестифунтовые и одну двенадцатифунтовую[6].
Это было странное сочетание: двенадцатифунтовая пушка весила около ста пудов, а полупудовый единорог — сорок. Маневрировать одновременно орудиями столь разного веса было крайне затруднительно. Ермолов вспоминал саркастическое замечание генерал-инспектора русской артиллерии Петра Ивановича Меллера-Закомельского, что соединять двенадцатифунтовую пушку с полупудовым единорогом — все равно что вола и жеребца впрягать в одну упряжку.
Однако он надеялся отличиться и с этим составом.
26 марта Валериан Зубов через Астрахань прибыл в Кизляр, где, как пишет Бутков, «от его высокопревосходительства генерал-аншефа и кавалера Ивана Васильевича Гудовича принял в команду войска, назначенные в поход в Персию».
Пятидесятипятилетний Гудович, заслуженный боевой генерал, рассчитывавший сам возглавить экспедиционный корпус, назначение 25-летнего неопытного Зубова воспринял как тяжкое оскорбление. В автобиографической «Записке» Гудович писал: «Отправил я генерал-поручика графа Зубова в апреле месяце с войсками к Дербенту, который еще не был взят, дав ему мое наставление, 1000 верблюдов и 1000 волов для доставления за ним провианта. По отправлению сей экспедиции, будучи в Кизляре, получил я жестокую болезнь…» Это была дипломатическая болезнь. Вскоре Гудович подал прошение об отставке и получил ее. (Он мгновенно выздоровел, как только умерла Екатерина II, а Зубов оказался в отставке.)
В этой щекотливой ситуации — корни жестокого конфликта, к которому позже имел отношение и Ермолов.
Старший друг Ермолова полковник Николай Николаевич Раевский был заметной фигурой похода.
Экспедиционный корпус разделен был на четыре бригады. Ермолов со своими шестью орудиями назначен был в бригаду генерал-майора Сергея Алексеевича Булгакова.
Варвара Ивановна Бакунина, сопровождавшая своего мужа, полковника, и оставившая интересные записки о походе, охарактеризовала Булгакова не очень лестно: «Булгаков, состарившийся в военной службе, но знающий ее рутинно, человек ограниченный, мало образованный, но довольно добрый малый».
Не будем полностью доверять суждению Варвары Ивановны в области военного дела. Она судила генерала Булгакова скорее с точки зрения, так сказать, светской.
Под «рутинным знанием» Варвара Ивановна, очевидно, подразумевала практический опыт генерала, не блещущего общей образованностью. Но это «рутинное знание» Булгакова было драгоценно в конкретной ситуации Персидского похода, ибо он обладал к тому времени большим и уникальным опытом горной войны.
Был у него и опыт штурма крепостей. Когда в июне 1791 года Гудович осаждал сильную турецкую крепость Анапу на побережье Черного моря, колонна генерал-майора Булгакова сыграла решающую роль во время штурма. Булгаков взял в плен великого мятежника первого имама Чечни шейха Мансура, в середине 1780-х поднявшего горцев против русских под объединяющими религиозными лозунгами. Мансур умер в Шлиссельбурге, а Булгаков за Анапу получил орден Святого Георгия 3-й степени.
После Персидского похода он много, успешно и жестоко воевал с горцами и дослужился до чина генерала от инфантерии.
Ермолову безусловно повезло, что он оказался в бригаде Булгакова, ибо именно на долю булгаковских войск выпала головоломная задача, требовавшая именно умения действовать в горах.
Бутков рассказывает: «Главнокомандующий имел известие, что Шейх-Али-хан дербентский положил сопротивляться до самой крайности и на сей конец собрал в Дербенте более 10 т. воинов, в числе коих находились многие из горских народов, да еще ожидает знатных подкреплений из Кубы и от ханов бакийского, казикумыкского и прочих дагестанских владельцев. Для разорвания сей вредной для нас связи следовало учинить решительное предприятие, а именно обойти крепость дербентскую чрез горы Кавказские в Табассаране, землями благонамеренного кадия табассаранского.
Возможности сего пути, хотя и с великими трудностями сопряженного, изведаны и испытаны предварительно капитаном Симановичем в виде лекаря, по согласию кадия табассаранского, который за сию услугу получил от генерал-майора Савельева значительный подарок».
Участвуя в маневре Булгакова, капитан Ермолов получил не только особый боевой опыт, но и представление о взаимоотношениях с горскими владетелями.
«Главнокомандующий назначил отрад войск, который бы пройдя чрез Табассаран, явился под южными стенами Дербента, в одно и то же время как главные силы Каспийского корпуса приблизятся к северным, и сим занятием пресек бы всякое сообщение Дербента с южной оного стороны.
Сей отряд вверен был генерал-майору Булгакову и составлен из 21/2 батальонов гренадер, 2 батальонов егерей, 14 эскадронов драгун, 625 линейных казаков и 6 орудий полевой артиллерии».
Эти шесть орудий и были батареей Ермолова. У гренадер и драгун были свои пушки.
Используя данные «Материалов» и «Записки» Буткова, «Исторического известия о походе российских войск в 1796 году…» Радожицкого в сочетании с рассказами Ермолова Ратчу, мы можем достаточно подробно воссоздать картину этого первого кавказского похода Ермолова.
В «Материалах» Бутков сообщает: «Ему (отряду Булгакова. —
Земля табассаранская лежит по хребту, вышедшему от высочайшей снеговой горы Кохма, возвышающейся в северном Дагестане, на становом хребте Кавказа, и дающей исток реке Койсу. Тот хребет проходит от запада к востоку, и там, где табассаранская земля оканчивается утесистыми крутизнами, близ берегов Каспийского моря, стоит Дербент. <…> Верхняя возвышенность табассаранского хребта, называемого от жителей Бент, покрыта дремучим лесом, с обеих сторон, в покатостях своих чрезвычайно крута и имеет множество каменистых, утесистых стремнин; и сие самое образует страшные дефилеи, прикрывающие проходы к верхним жилищам табассаранцев и запирающие по положению Дербента сообщение северного Дагестана с южным и Ширваном».
Дефилей (дефиле) — узкий горный проход, теснина. В горной войне дефиле часто становились местом засад, ловушками для наступающих войск. Возможно, знакомство с подобной местностью произошло у Ермолова еще в Италии, но настоящую горную войну он увидел именно в апреле — мае 1796 года в отряде генерала Булгакова.
К удовольствию историка, Бутков оказался в том же отряде и явился не только собирателем материалов, но и участником событий. В «Записке» он рисует живую и полную выразительных деталей картину похода булгаковского отрада через горы Табасарана: «4-го мая отрад выступил далее через Дарбах. Крутизна горы, чрез которую следовать должно было более 3 верст, затруднила переправу всех обозов, так что в пособие к каждой тройке лошадей припряжено было еще 3 и человека по 4; но и тут с чрезвычайною трудностию едва могли подняться. Сие все сносно было до половины сего дня, до которого времени только успели подняться оба казачьих полка и 3-й егерский баталион с своими обозами. А потом начал лить сильный дождь и беспрерывно, во всю ночь до утра продолжался. Дорога и без того затруднительная, чащею леса по обеим сторонам, так, что только могли проходить повозки, совсем испортилась, стала грязною и скользкою, до того, что обозы Астраханского драгунского полка переправлялись 10 часов. За Астраханским полком следовал Таганрогский драгунский полк, и следовали оба с передовыми войсками на лагерь, бывший от переправы в 3 верстах, и тут на ночь расположились. Во всю ночь, с великим трудом, при пособии 500 рабочих и 150 казачьих лошадей переправлялись 6 орудий с принадлежностями главной артиллерии».
Это были орудия Ермолова. Если вспомнить, что вес орудий составлял от сорока до сотни пудов, то легко представить себе неимоверные трудности этого горного перехода. «200 человек в пособие 6 лошадям едва могли сдвигать с места 12-фунтовый единорог».
В «Историческом известии» подполковника Радожицкого, основанном на не дошедшем до нас источнике (с «Запиской» Буткова у Радожицкого есть существенные расхождения), тоже фигурируют шесть орудий Ермолова и трудности перехода. Но есть у него и некоторые живые детали, позволяющие еще яснее оценить обстановку:
«Во всю ночь шел дождь. Нагорние жители партиями бродили повсеместно, удивляясь многолюдству и трудам наших солдат; особенно занимали и ужасали их пушки. Оставшиеся обозы и артиллерия уже к рассвету следующего дня при помощи казаков и почти всей пехоты вышли из ущелья. <…> Отряд вышел с гор на плоскость к небольшой речке; от сильного дождя в продолжение ночи вода выступила из берегов и потопила лагерь так, что везде оной было по колено. Поутру на другой день шесть казачьих лошадей от изнурения и голода поели какой-то ядовитой травы и оттого вскоре пали в ужасных судорогах».
Русские тяжело осваивали новый для них театр военных действий.
Ермолову сразу же пришлось познакомиться с явлением, с которым постоянно сталкивался он впоследствии, во время командования своего на Кавказе, и которое как теперь, так и тогда оказалось столь типичным, сколь и трудноразрешимым.
Радожицкий: «По приказанию генерала Булгакова с отряда южной стороны от всех полков должны были выехать обозы навстречу транспорту, шедшему с провиантом под прикрытием Гренадерского батальона. Первый обоз выступил Кавказского гренадерского полка и только отошел от лагеря верст 10, как был атакован партиею горцев, подвластных Хамутаю, хану Казикумыцкому. Они разграбили 4 повозки, от которых увели 9 солдат и 9 лошадей да убили двух человек. Семейного войска пикет, усмотрев бегущих солдат от обоза, дал знать в отряд генерала Булгакова; по сему известию послан был Хоперский казачий полк для преследования разбойников, потом выступили и прочие легкие полки конницы под командою генерала Булгакова, который, узнав, что партия хищников скрылась в горах, возвратился в лагерь. Хоперский полк гнался за разбойниками около 25 верст. <…> Не догнав разбойников, Хоперский полк возвратился в лагерь».
«Записка» Буткова: «8 числа подданные Хамутая казикумыцкого напали на 12 повозок Кавказского гренадерского полка, оторвавшихся версты на две вперед от всех отрядных повозок, посланных назад верст за 18 к секунд-майору Неелову, препровождающему через табассаранский дефилей провиантский транспорт на арбах. <…> Неприятель, который был числом до 300, разделенных на две партии, обрезал у повозок лошадей и 6 гренадер и 6 извощиков взял в полон, из которых два гренадера, защищавшиеся саблями, зверски изранены».
Это была стандартная ситуация, с которой Ермолову придется многократно сталкиваться в будущем, но пока и для него, и для русского командования вообще это была новая и трудноразрешимая задача.
Это была именно та ситуация, о которой предупреждала императрица в своем наставлении Зубову, предлагая пренебрегать неважными «дерзостями» горцев. Но трудно было решить — какая дерзость важная, а какая неважная. Пленные солдаты, уведенные в рабство, были брошены на произвол судьбы. С этим тяжело было смириться.
Ермолов еще недавно был свидетелем «резни» во время штурма Праги, когда гибло мирное население.
Здесь, на Кавказе, происходило нечто подобное, но в иных формах. Русское командование пока еще ориентировалось на требование Екатерины. Очевидно, в Петербурге основательно готовились к новому Персидскому походу и учитывали опыт похода 1722 года, когда раздраженные горцы истребили значительный отряд драгун бригадира Ветерани, а жестокие двухгодичные карательные экспедиции с участием регулярных войск, казаков и калмыков желаемого результата не принесли.
Пока что провинившихся горцев подвергали телесному наказанию. «Кади вызывал каждого преступника по имени, объявлял ему заслуженный штраф и отдавал в руки эсаулам, которые, положив виноватого на землю, садились ему на руки и на ноги и толстыми палками отсчитывали по спине определенное количество ударов. Таким образом наказано было 40 человек, некоторых из них оттаскивали с мест полумертвыми». Это — из «Известия» Радожицкого.
Пока это делалось руками союзников. Позже стали гонять сквозь строй.
Радожицкий: «28 июля из отряда генерала Булгакова два казака Хоперского полка посланы были в отгонный табун. На пути напали на них 6 человек пеших персиян и первым залпом из засады убили одного казака, а под другим ранили лошадь. Опешенный казак защищался храбро и успел пересесть на лошадь убитого товарища своего, на которой ускакал к пикету, стоявшему у дербентской дороги. Отсюда послали казака с известием в отряд, а остальные с пикета поскакали за разбойниками, но сии успели скрыться».
Дальнейшая логика развития событий вполне стандартна как для 1796-го, так и для 1820 года: «Чтобы иметь сведения о людях, учинивших злодеяние, казаки схватили находившегося вблизи того места пастуха и доставили его в отряд. В допросе показал он на одного персиянина из селения; посланная за ним команда доставила его со всем семейством в отряд. Персиянин после продолжительного допроса показал на действительного убийцу, за которым послали команду егерей с офицером. Доставленный преступник сознался в злодеянии, и его расстреляли. <…>26 сентября в ночь напали 20 человек горцев на четырех солдат, находившихся на одной из мельниц, близ города Кубы, и ранили одного; но они, отстреливаясь, ушли в город».
Персидский поход обогатил Ермолова множеством особых кавказских впечатлений.
Активные действия против крепости начал именно отряд Булгакова сразу после того, как блокировал Дербент с южной стороны. Артиллерия отряда обстреляла крепость гранатами, вызвавшими небольшие пожары. В обстреле участвовал и полукартаульный единорог Ермолова. Перед этим, в ночь со 2 на 3 мая была предпринята попытка взять штурмом одну из башен, прикрывающих подходы к самим крепостным стенам.
Варвара Ивановна Бакунина описала этот драматический эпизод со слов непосредственных участников: «В тот же день вечером, несмотря на страшную темноту, на грозу и дождь, русские непременно хотели овладеть башней. <…> Ее штурмовали, и нашим удалось сначала взобраться на нее, но персы защищались энергично; это земляное укрепление имело несколько сводов, которых русским не удалось пробить и под защитою которых персы стреляли по нашим войскам. Гренадеры Воронежского полка отступили, несмотря на усилия своего полкового командира, который сам неоднократно влезал на лестницу, но был опрокинут с нее и ранен камнем, брошенным из башни. <…> Персы осыпали наших градом камней, и таким образом русские с позором возвратились в лагерь; действительно, было позорно отступать перед персами, но в этом нельзя винить солдат: у них были плохие руководители, им не говорили, что опасность будет так велика, они ожидали встретить гораздо меньше сопротивления; темнота ночи и храбрая защита персов заставили их потерять голову <…>».
Это был суровый урок. Стало ясно, что недооценивать персов не следует, и на следующий день башню стали методично разрушать артиллерийским огнем, после чего повторили штурм и добились успеха. Но и этот успех стоил недешево.
Радожицкий: «Персияне защищались отчаянно и были все перебиты».
Штурму предшествовала установка батареи Ермолова. О своем участии в осаде Дербента Ермолов рассказал Ратчу весьма лаконично: «2 июня граф Зубов разбил свой лагерь в виду крепости, на северной стороне; на другой день отряд Булгакова после 5-дневного перехода стал на южной, к изумлению гарнизона.
В следующую ночь была отрыта траншея, и как осажденные оборонялись только из ружей, то батареи и были возведены весьма близко. В верно сосчитанных 40 саженях от крепостных верков Алексей Петрович поставил 7 июня свои орудия на построенную бреш-батарею, два дня не прекращал огня, и 9-го числа образовались две бреши, одна в башне, на южной стороне, другая в стене, к ней прилегающей. Не менее удачно было действие остальных батарей. 10-го июня крепость покорилась».
Ермолов, рассказывающий о событиях почти семидесятилетней давности, существенно ошибается.
Прежде всего, события происходили не в июне, а в мае. Для того чтобы сопоставить нарисованную Ермоловым картину с реальностью, нужно привести данные Радожицкого, восходящие к дневнику участника похода и поддержанные сведениями Буткова и Бакуниной.
Радожицкий: «В следующие дни производилось обозрение города инженерными офицерами и самим графом Зубовым для заложения батарей и проведения траншей; войски со всех сторон обложили город не далее 400 сажень от оного; к морю поставлена была кавалерия, со стороны гор егеря и несколько артиллерии. Во время движения наших войск производилась из городских пушек безвредная стрельба. Для предохранения артиллерии от неприятельских выстрелов 7 мая в ночь сделана с южной стороны в 200 саженях от города батарея для 5 тяжелых орудий, а с северной против третьей башни для 4-х таких же пушек и одной мортиры».
Ермолов вспоминает, что «осажденные оборонялись только из ружей», в то время как имеется ряд свидетельств о пушечной стрельбе из крепости и далеко не всегда «безвредной». Но, ошибаясь в одних случаях, Ермолов оказывается точен в других — имеющих непосредственное отношение к нему самому.
Судя по сведениям Радожицкого, русские батареи располагались в 200 саженях от крепости, в то время как Ермолов говорит о 40 саженях.
Но участник осады Бутков в «Материалах» свидетельствует: «8 и 9 числа мая все батареи наши действовали по крепости с отменным напряжением. Две бреш-батареи отстояли от крепостного замка не далее 40 сажень; и 10 числа совершенно почти разрушен угол крепостного бастиона, самого крепкого в Нарын-Кале».
Те пять тяжелых орудий, стоявших с юга, где и располагался отряд Булгакова, о которых пишет Радожицкий, скорее всего и есть орудия Ермолова. У него их должно было быть шесть, но вспомним, каким испытаниям подвергся отряд Булгакова при переходе через табасаранские горы. Одно орудие могло быть повреждено.
Относительно расстояния Ермолов оказывается прав — Бутков это подтверждает. Как и во время штурма Праги, Ермолов выставил свои орудия на рискованную, но наиболее эффективную дистанцию. Это был его стиль.
В «Записке», составленной по горячим следам, явно на основе дневника, Бутков говорит об одной бреш-батарее, которая начала действовать 8 мая.
Разумеется, Дербент обстреливали десятки орудий, но с разной степенью эффективности.
Очевидно, что «вред» от батарей, отстоявших от крепости на 200 саженей, и от ермоловских орудий существенно разнился. Результат стрельбы с 40 саженей — 85 метров — несравним со стрельбой с 200 саженей — 420 метров. Ермоловская батарея била почти в упор, подвергаясь при этом ответному ружейному и пушечному огню осажденных. По свидетельству Буткова, «ружья их доставали сажень на 150».
Башня, при неподготовленном штурме которой зря легли 40 гренадер Воронежского полка, вскоре была взята.
10 мая, «Записка» Буткова: «В сей день решилась судьба Дербента. Действовавшая с отменным напряжением канонада и более отваление большой части башни, которую они полагали непобедимою к брешу, поразило весь народ так, что пять человек от общего собрания, выскоча из ворот крепости на батарею господина генерал-майора Бенигсона (Беннигсена. —
К хану приставили караул. Войска вошли в город и приступили к разоружению гарнизона. Через некоторое время хан, поклявшийся в лояльности России, получил относительную свободу, бежал и начал партизанскую войну против русских.
С падением Дербента дорога в Персию была открыта. Корпус пошел на Баку, и 13 июня хан бакинский Гусейн-Кули-хан, выехав навстречу русским войскам, вручил Зубову ключи от города.
Заслуги Ермолова Зубов оценил, и, как только наступило некоторое затишье в боевых действиях и можно было подвести предварительные итоги, командир корпуса обратился к капитану артиллерии:
«Милостивый государь мой, Алексей Петрович!
Отличное ваше усердие и заслуги, оказанные вами при осаде крепости Дербента, где вы командовали батареею, которая действовала с успехом и к чувствительному вреду неприятеля, учиняют вас достойным ордена Св. Равноапостольного Князя Владимира, на основании статутов оного. Вследствие чего, по данной мне от Ее Императорского Величества Высочайшей власти знаки сего ордена четвертой степени при сем к вам препровождая, предлагаю оные на себя возложить и носить в петлице с бантом; о пожаловании же вам на сей орден Высочайшей грамоты представлено от меня Ее Императорскому Величеству. Впрочем я надеюсь, что вы, получа таковую награду, усугубите рвение ваше к службе, а тем обяжете меня и впредь ходатайствовать пред престолом Ее Величества о достойном вам воздаянии. Имею честь быть с почтением вам,
Милостивого государя моего, покорный слуга, граф Валериан Зубов.
Августа 4 дня 1796 года».
Согласимся, что при стандартном содержании документа обращение Зубова к человеку, отстоящему от него формально неизмеримо ниже по иерархической лестнице, наводит на мысль о не совсем формальных отношениях.
23 сентября Екатерина II подтвердила награждение и направила грамоту Зубову для вручения Ермолову.
Между тем поход перестал напоминать воинственную прогулку.
«Материалы» Буткова: «Главная часть Каспийского корпуса, отдохнув 20 числа (мая. —
Кроме проблем со снабжением возникали и нарастали иные опасности.
Лояльность населения была отнюдь не безусловна. Девиз, под которым русские войска вошли на прикаспийские земли, — освобождение народов, страждущих под игом узурпатора и тирана Ага-Магомет-хана, — был убедителен далеко не для всех. Корпус Зубова, рассредоточенный теперь на обширной территории, рисковал оказаться окруженным многочисленным враждебным населением.
Инициатором и организатором сопротивления стал беглый Шейх-Али-хан, а потому главной тактической задачей стала поимка дербентского хана.
«Записка» Буткова: «24-го (мая. —
Стремительные броски в горы с целью застать дербентского хана врасплох и захватить не приносили результата.
Корпус двигался медленно, стараясь закрепить за собой пройденное пространство, что становилось все труднее. Растянутость коммуникаций делала их особенно уязвимыми.
Шейх-Али-хан и его соратники отнюдь не ограничивались малыми диверсиями и налетами. Они вырабатывали стратегию и тактику постоянного давления на русских.
«Материалы» Буткова: «Доходящие ежедневно слухи, что партия Шейх-Али-хана в горах приметно умножается, заставили опасаться последствий, могущих быть нам неприятными, если жители выйдут из нашего повиновения и присоединятся к замыслам беглеца».
Главная задача по отражению нападений дербентского хана возложена была на отряд генерала Булгакова. Но, как вскоре выяснилось, кавказского опыта Булгакова не хватало для эффективной борьбы с хитроумным противником.
Просчеты генералов и офицеров оплачивались сотнями жизней.
«С такими пособиями (поддержка дагестанцев и тайная помощь кубинского наиба. —
Начало к тому сделано 30 сентября. Партия шейхалиханова отогнала 145 волов подвижного провиантского магазина кубинского отряда, принадлежавших вольным фурщикам, пасшихся недалеко от отряда, и захватила бывших при них двух малороссиян.
Генерал-поручик Булгаков послал при капитане Семенове 100 егерей к стороне гор, откуда неприятельская партия исходила, для открытия неприятеля. Сей деташамент, отойдя 4 версты, нашел неприятельские пикеты и, остановясь, послал о том донесение к Булгакову. Сей немедленно отправил в усиление сей команде при подполковнике Бакунине 200 егерей, 100 гренадер, 100 казаков и две или три егерские пушки. Тогда была уже ночь, как сей деташамент присоединил к себе команду капитана Семенова. Несмотря на то, оный в густоте леса и в темноте ночи продвигался вперед и вел небольшую перепалку с пикетами неприятельскими, которые отступали. Таким образом, подполковник Бакунин приблизился к деревне Олпан 1 октября.
Положение сей деревни на косогоре: на пути к ней российского деташамента лежал глубокий овраг, коим оканчивался лес. Здесь скрывалось неприятеля не менее 13 тысяч.
Лишь только Бакунин к сей засаде приблизился, как вдруг вся оная толпа ударила на него в ручной бой. Сражение было прежестокое. Пушки могли только сделать несколько выстрелов и достались в неприятельские руки. Неприятель тем жесточе наносил войскам нашим поражение, чем менее его ожидали и чем способнее было для него место битвы. Подполковник Бакунин был убит в самом начале, и сие усугубило расстройство; с ним же пало обер-офицеров 6 и нижних чинов 245; ранено нижних чинов 55, притом потеряно, кроме прочих вещей, ружей 24 и пистолетов 154. Оставшиеся обметались бревнами и оборонялись; но неприятель был уже доволен своим успехом».
Это классический прием горцев, с которым русским предстояло неоднократно сталкиваться в ходе Кавказской войны, — заманивание противника в лес, где у горцев были все тактические преимущества: внезапность нападения, абсолютная ориентация на местности, возможность раздробить привычное для русских военных построение и убивать их поодиночке.
Ермолов, естественно, был подробно осведомлен о трагедии 1 октября и ее обстоятельствах. Это был уже не угон нескольких волов, не захват нескольких пленных или фур с провиантом. Это было проигранное сражение с тяжелыми потерями. Это было горькое свидетельство недооценки противника. Это было свидетельство недостаточного понимания специфики подобной войны: вместо казаков, способных быстро прибыть к месту боя, на помощь погибающему отряду отправили медленно движущуюся пехоту.
Когда на выручку отряду Бакунина подоспел Углицкий полк, все было кончено.
Радожицкий: «Полковник Стоянов, пришед на место сражения, нашел убитыми: подполковника Бакунина, двух капитанов, двух поручиков, одного подпоручика и 240 рядовых, обезображенных, обнаженных».
Последнее обстоятельство — надругательство над телами убитых врагов — было непривычной и страшной особенностью Кавказской войны, свидетельствующей о мере ожесточения противника и его непримиримости.
Будущий проконсул Кавказа должен был это все запомнить.
Ни Зубов, ни Булгаков не были готовы к такой войне, не готовы были на жестокость реагировать равной жестокостью. Метод круговой поруки, который будет практиковаться в Кавказской войне, когда за нападение на русские войска наказывали целые общности, уничтожая население аулов, здесь еще не практиковался. Пока установка была иная. В октябре 1796 года все ограничилось чисто экономическими санкциями. «В наказание за вероломство жителей Кубинской провинции не стали покупать у них провианта и фуража за наличные деньги, а собирали оный реквизиционно».
Зубов помнил наказ императрицы и следовал ему.
К моменту падения Дербента Ага-Магомет-хан ушел с Муганских полей, где стоял после нашествия на Грузию, и, отступив в коренные персидские пределы, готовился к будущим боям. Перед лицом российского наступления персы и турки, исконные противники, готовы были к тактическому союзу. Командующий турецкой полевой армией сераскир Юсуф-паша передислоцировал войска из турецкого Эрзерума в Ахалцих на границе Грузии и готов был прийти на помощь персидскому шаху. Кроме того, он подкупал аварцев и лезгин, убеждая их, что русские, закрепившись у подножия Южного Кавказа, на этом не остановятся и будут посягать на их свободу. Судя по тому, что в отрядах дербентского и казикумыкского ханов уже воевали лезгины и акушинцы-даргинцы, горцы разделяли эти опасения.
Перед русскими войсками, ушедшими далеко от своих баз, вставала реальная перспектива оказаться лицом к лицу с сильной и агрессивной коалицией. Неопытному Зубову приходилось вести тонкую игру с многочисленными владетелями, которых пугало возвращение безжалостного Ага-Магомета и которые не были уверены в прочности российской власти в Прикаспии. Не говоря уже о сложности их собственных отношений друг с другом.
Бутков рассказывает о хитроумном заговоре нескольких ханов, демонстрирующих свою лояльность русскому командованию, а на самом деле готовивших убийство Зубова и его штаба. Избежать катастрофы помог счастливый случай.
Несмотря на это Зубову приходилось лавировать.
Открытая конфронтация с сильными владетелями, готовыми объединиться против русских, чревата была серьезной опасностью — разрывом коммуникаций, истощением сил в локальных схватках, необходимостью оставлять в городах гарнизоны, сокращая тем самым ударную силу корпуса.
История заговора и интриги ханов, их лицемерие и коварство были, разумеется, известны в войсках. Ермолов, как человек, близкий к Зубову, тем более не мог всего этого не знать. Играло роль и то обстоятельство, что именно бригада генерала Булгакова должна была обезопасить корпус от происков Шейх-Али-хана.
Осенью 1796 года корпус Зубова вышел на нижнее течение Куры и расположился в Сальянской степи и отчасти в Муганской — там, где собирался зимовать Ага-Магомет-хан. Надо было и русским войскам готовиться к зимовке и кампании будущего года.
Беседуя с Ратчем, Ермолов почти ничего не сказал о своем участии в событиях после взятия Дербента. Единственное упоминание у Ратча о периоде после Дербента скупо и не очень внятно: «Действиям Раевского на Куре много способствовали его удобоподвижные полковые пушки, наводившие на неприятеля страх и ужас. На долю Ермолова приходилось преимущественно действовать на переправах».
То, что Ермолов называет Раевского, — знаменательно. Очевидно, их связь не прекращалась и во время Персидского похода. У нас нет сведений о сколько-нибудь серьезных операциях русских войск после выхода на Куру. Но, судя по рассказу Ермолова, не было и мира. Надо полагать, что речь идет о локальных боевых столкновениях — отражениях вылазок отрядов Шейх-Али-хана и его сторонников.
В формулярном списке Ермолова говорится об участии после осады Дербента «в усмирении горских народов»…
Неизвестно, как развивалась бы кампания 1797 года, но 6 ноября 1796 года внезапно умерла императрица Екатерина II. 1 декабря в отряд генерала Булгакова прискакал из Петербурга подполковник граф Петр Витгенштейн с известием о вступлении на престол Павла Петровича и приказом о прекращении военных действий.
Новым императором было сурово наказано немедленно возвращаться на российскую территорию, причем не всем корпусом, а каждому полку отдельно.
Это был изощренный способ унизить ненавистного Павлу Зубова. Каждый полковой командир получил индивидуальный приказ об отступлении, и, таким образом, все они фактически выводились из-под командования Зубова. О военной стороне дела Павел не задумывался.
Движение отдельными полками было чревато катастрофой. Шейх-Али-хан со своим ополчением неизбежно воспользовался бы этой раздробленностью войск корпуса. Поэтому на военном совете решено было двигаться крупными соединениями.
До выхода с завоеванных территорий необходимо было произвести целый ряд сложных маневров для концентрации войск, обеспечения прикрытия отступающих и выбора наиболее удобных маршрутов.
Функцию прикрытия осуществлял отряд генерала Булгакова, так что Ермолов с его орудиями находился в состоянии боевого напряжения до того момента, когда полки миновали Дербент и приблизились к российским землям.
Ратч записал после очередной беседы с Ермоловым: «Обратный поход в ненастное время был из самых тягостных. У Ермолова лафеты ломались беспрестанно; один только почтенный старец лафет 1/2 картаульного единорога, помнивший графа Шувалова, вернулся без ломки и починок. Лихие кубинские баталионы, бывшие в отряде Булгакова, полюбили своих ратных товарищей артиллеристов и безропотно тащили пушки». Как и в Польской кампании, статус волонтера дал Ермолову немалые преимущества и свободу действий: миновав Дербент, Ермолов сдал свою команду и следовал при войсках «вольным казаком». В шести переходах за Дербентом войскам, ожидавшим с нетерпением возвращения в теплые хаты, было разрешено идти по полкам. Но гроза была впереди.
В Кизляре бушевал Гудович, вымещавший на прибывающих свою злобу, что не ему было поручено командование войсками в бывшем походе.
«Ярым зверем встречал он полки, и, как молния, сделались известны по войскам его приемы. Sauve qui peut[7] — было общим лозунгом для всех, кого не останавливали при войсках обязанности службы. Минуя Кизляр, Ермолов степью пробрался до Астрахани».
Мы узнаем здесь живые интонации — Алексей Петрович до глубокой старости сохранял ненависть к Гудовичу, которого во времена своего кавказского владычества упоминал не иначе как с бранными эпитетами. На воспоминания Ермолова о «яром зверстве» генерала зимой 1796 года впоследствии наложилось резкое отрицание его политики на Кавказе.
Несложно представить себе душевное состояние Ермолова во время неожиданного отступления. Рухнуло все: мечты о подвигах на просторах Азии, участие в осуществлении грандиозных замыслов Потемкина, восходящих к не менее грандиозным планам Петра Великого, надежды на быстрое продвижение по службе.
Он понимал конечно же, что со смертью императрицы круто изменится положение его покровителей — Самойлова и Зубова и что кончается привольная жизнь, кончаются свободные поиски славы… А что предстоит? Унылая офицерская лямка?
Но дело было не только в его индивидуальной судьбе. Мгновенный — по самодержавной воле — крах Персидского похода означал перелом времен, конец эпохи великих замыслов.
Когда через четыре года, в январе 1801 года, за полтора месяца до своей гибели, император Павел поднял все Войско Донское и отправил 41 конный полк через оренбургские степи в сторону Индии, это была карикатура на великое деяние. Поход был абсолютно не подготовлен и обречен.
Наступала эпоха службы, а не деяний. И самолюбивому, честолюбивому, уверовавшему в свою фортуну, грезившему о скором и высоком взлете капитану Ермолову предстояло вживаться в эту новую эпоху.
Он и представить себе не мог, какие унижения ждут его впереди. А он, баловень судьбы, не был к этому готов.
И однако же именно Персидский поход предопределил будущее Ермолова.
Именно опыт Персидского похода заставил Ермолова после Наполеоновских войн добиваться назначения на Кавказ, в результате чего он остался в русской истории тем Ермоловым, которого мы помним.
Глубокий знаток волнующей нас проблематики, серьезный историк, еще не ставший тогда одним из палачей русской исторической науки, Михаил Николаевич Покровский писал в начале 1900-х годов: «Война с горцами — Кавказская война в тесном смысле — непосредственно вытекала из этих персидских походов: ее значение было чисто стратегическое, всего менее колонизационное. Свободные горские племена всегда угрожали русской армии, оперировавшей на берегах Аракса, отрезать ее от базы»[8].
Пройдет два десятилетия после Персидского похода, и генерал Ермолов, всматриваясь в глубины Азии, поставит своей целью раз и навсегда ликвидировать эту угрозу. «Проконсул Кавказа», суровый усмиритель «горских хищников» — «Смирись, Кавказ! Идет Ермолов!» — родился в 1796 году на берегах Каспия.
Прорыва в Азию не произошло. Ермолов вернулся в Петербург.
11 января 1797 года он был произведен в майоры — подошел срок присвоения очередного чина.
Двадцатилетний артиллерии майор Алексей Ермолов вернулся в мир, принципиально отличный от того, из которого он отправился завоевывать «золотые страны Востока».
Граф Самойлов уже был в отставке. Граф Валериан Зубов — тем более.
Привыкший чувствовать себя под сильной опекой, Ермолов должен был ощутить угнетающее одиночество. Прошли времена, когда он мог по своему желанию выбирать место службы — от Италии до Персии. Теперь ему предстояла заурядная судьба бедного офицера без протекции.
Автор наиболее основательной биографии Ермолова А. Г. Кавтарадзе писал: «По возвращении в Россию Ермолов был назначен сначала в артиллерийский батальон генерала Иванова, а в январе 1797 года, с производством в майоры, переведен в батальон генерала А. X. Эйлера, где командовал артиллерийской ротой, расквартированной в городе Несвиже Минской губернии»[9].
Это не совсем так, ибо речь идет о генерал-лейтенанте Христофоре Леонардовиче Эйлере, а не о его сыне Александре Христофоровиче, ставшем генералом уже в XIX веке. К тому же Эйлер был не командиром, а шефом батальона. Командиром был подполковник Иванов, так что никто Ермолова из батальона в батальон не переводил.
Артиллерийские части в ту пору были весьма разбросаны, так что хотя батальон был дислоцирован в Несвиже, штаб 4-го артиллерийского полка, куда он входил, размещался в Смоленске.
О жизни Ермолова в Несвиже сохранилось лишь одно прямое свидетельство — письмо Алексея Петровича брату Александру Михайловичу Каховскому в его имение Смоляничи:
«Любезный брат Александр Михайлович!
Я из Смоленска в двое суток и несколько часов приехал в Несвиж, излишне будет описывать вам как здесь скучно, Несвиж для этого довольно вам знаком, я около Минска нашел половину нашего баталиона отправленную в Смоленск, что и льстило меня скорым возвращением к приятной и покойной жизни, но я ошибся чрезвычайно. Артиллерия вся возвращена была в Несвиж нашим шефом или лучше сказать прусскою лошадью (на которую надел Государь в проезде орден 2 класса Анны), нужно быть дураком, чтобы быть счастливым. Кажется, что мы здесь долго весьма пробудем, ибо недостает многого числа лошадей и артиллерию всю починять нужно будет. Я командую здесь шефскою ротою, думаю с ним недолго будем ходить, я ему ни во что мешаться не даю иначе с ним невозможно. Государь баталиону приказал быть здесь впредь до повеления, а мне кажется уж навсегда. Мы беспрестанно здесь учимся, но до сих пор ничего в голову вбить не могли и словом каков шеф, таков и баталион, обеими похвастаться можно, следовательно и служить очень лестно. Сделайте одолжение, что у вас происходило во время приезду Государя уведомить и много ль было счастливых. У нас он был доволен, пожалован один наш скот.
Несколько дней назад проехал здесь общий наш знакомый г. капитан Бутов, многие его любящие или лучше сказать здесь все бежали к нему навстречу. Один только я лишен был сего отменного счастия, должность меня отвлекала, но я не раскаиваюсь, хотя он более обыкновенного мил был.
Поклонитесь от меня почтеннейшему Выробову, Каразцеву тож, любезному Тредьяковскому, может и… Бутлеру, хотел писать на италианском диалекте, но нет время, спешу, офицер сию минуту отправляется, однако же с первым удобным случаем ему и Глаткову писать буду, Мордвинову также. Я воображаю его в Поречье и режущегося со своим шефом, как в скором времени надеюсь резаться со своим, но он еще меня счастливей, он близко от Смоленска, от… от вас, которые можете разогнать его скуку, а я имел счастье попасться между такими людьми, которые только множить ее могут. Вспомните обо мне Бачуринскому, Стрелевскому и всем тем, которые меня не совсем забыли. Прощайте.
13-го мая
Проклятый Несвиж резиденция дураков».
Сочиняя и отправляя письмо, тоскующий майор не мог предполагать, сколь роковую роль сыграет в его судьбе это саркастическое послание…
«Г. капитан Бутов», неожиданно возникающий в письме, — это не кто иной, как император Павел. Этим странным прозвищем наградили его в офицерском кругу, к которому принадлежал теперь наш герой.
Характеристика Несвижа как «резиденции дураков» и проклятого захолустья вряд ли соответствует действительности, но органично вписывается в мировоззренческую стилистику молодых офицеров круга Каховского, и Ермолова в частности.
Несвиж — древний город с бурной историей, известный замком-крепостью князей Радзивиллов, костелами, католическими монастырями, в котором недавно еще были театр балета и кадетский корпус, — после второго раздела Польши в 1793 году отошедший к Российской империи, разумеется, сильно поблек к концу девяностых годов. Но в другой ситуации он произвел бы на Ермолова совсем иное впечатление.
Судя по письмам к нему Казадаева, с которыми мы скоро познакомимся, у него было в Несвиже отнюдь не только общество польских дам, но и дружественный русский круг.
Однако восприятие службы в новых условиях как ссылки диктовало Алексею Петровичу и его друзьям соответствующий стиль описания своей жизни. Они культивировали эту бытовую мрачность, поскольку она соответствовала их идеологическим установкам.
Надо учесть и то еще, что письмо для них было не только средством донесения некой информации, но и своего рода художественным текстом, оформлявшим их явно романтическое мировидение, предполагавшее неприятие низкой реальности.
Артиллерии майор Ермолов уже прошел Польскую и Персидскую кампании, подвергался смертельным опасностям, однако письмо это написано совсем молодым человеком, который радостно демонстрирует старшему брату и его друзьям свою независимость по отношению к высшей власти и презрение к непосредственному начальству. Пора созревания и сознательного выстраивания своих взаимоотношений с державным миром только начиналась.
В письме двадцатилетнего майора прежде всего читается дерзкий задор молодого честолюбца, который, как говорится, много о себе понимает, а оказывается в захолустье и под командованием человека, которого в грош не ставит.
Трудно сказать, насколько Алексей Петрович был справедлив. Хотя Христофор Леонардович Эйлер не унаследовал таланта своего отца, великого математика Леонарда Эйлера, но он при Екатерине командовал артиллерией в Финляндии и всей артиллерией пограничных крепостей на этом направлении. Возможно, Ермолов и превосходил своего начальника в профессиональном отношении, но дело было, скорее всего, не в профессии, а в политической установке и представлении о правах офицера и дворянина.
Подполковник дислоцированного в Смоленске Московского гренадерского полка Ломоносов писал 27 апреля 1797 года Каховскому: «Сию минуту я получил, бесценный Александр Михайлович, письмо к вам от Петра Семеновича, которое с нарочным к вам отправляю; кстати, ибо я без того было имел нужду вам изъясниться кое о чем, что вы там делаете в ваших вотчинах? в теперешние часы дела всего в порядок не приведешь. Слушай! вчерашний день Мих. Мих. получил от Бутова письмецо следующего содержания, чтобы всех лошадей отобрать от обывателей и чтобы каждые две тысячи душ имели оных комплект, равно и под тяжкие фуры. Словом, чтобы сие было сполна, и говорят и видно, что в этой деревне нам не ужиться, а будет переезжать в другую. Есть, однако ж, кое-что мне говорить с вами, но я оставлю сие до свидания… Мих. Мих. в великой работе и, право, дело идет не на шутку.
Бога ради, приезжай поскорее, если можешь, завтра, право, крайняя нужда. Еропкина цалую душевно, у Молчанова цалую ручки. Прощайте, любите и не забывайте верного вам друга
Письмо это содержательнее, чем может показаться на первый взгляд.
Петр Семенович Дехтярев в это время командовал Санкт-Петербургским драгунским полком, стоявшим неподалеку от Смоленска, в Поречье, и был одним из главных действующих лиц зарождавшейся драмы[10].
Офицеры, группировавшиеся вокруг Каховского и составившие если не подобие тайного общества, то некую особую общность, в письмах называли себя забавными псевдонимами. Так, подполковника Ломоносова очень удачно обозначили именем антагониста настоящего Ломоносова — Тредьяковским. Молчанов — это сам полковник Каховский. Еропкин — Ермолов. Мих. Мих. — смоленский военный губернатор генерал Философов, с которым Каховский и его друзья были в весьма коротких отношениях.
Судя по тому, что Ломоносов обращается и к Каховскому, и к Ермолову, Алексей Петрович гостил в это время в имении старшего брата.
Письмо — тревожное. Указ императора, предписывавший военному губернатору в мирное время реквизировать обывательских лошадей и устанавливавший квоты на обеспечение армии лошадьми, в том числе тяжеловозами, свидетельствовал о тенденциях нового царствования. Настойчивое приглашение Каховского, несомненного лидера, в Смоленск, скорее всего, вызвано потребностью обсудить складывающуюся ситуацию.
Еще красноречивее письмо полковника Дехтярева, скрывавшегося под именем Гладкова, пересланное Ломоносовым:
«20 апреля. Вот я наконец в своем Поречье, Молчанов и милый Еропкин, чувствуете без сомнения, в какое положение паки обратилась огорченная душа моя. Я опять свинья, глупая и скучная скотина — мухи и клопы не дают жить чувствительному сердцу. Плеханов бутов слуга! Судите, можно ли надеяться на кого-нибудь. Неужели глаткова озера я не увижу никогда? Неужели какого-нибудь перелому не сделается с грустными обстоятельствами бедного полковника Глаткова». Далее идет замечательный по выразительности пассаж, свидетельствующий о их молодости и о том, что жизнь их отнюдь не исчерпывалась сетованиями и тоской. А кроме того, дающий представление о некоторых чертах бытового поведения нашего героя: «А похолостить Еропкина можно и в Смоленске. Как бы я рад, если б ему, проклятому, вместо маленькой операции отхватили всю мошну. Не боялся бы бедный полковник Глаткой ходить оленем, так как он щеголял в Смоленске, и тогда при всем надежном росте Еропкина и гладком личике женщины сказали бы об нем, что он
Гнилой орех
И еть ему давать, сочли б за тяжкий грех!»
«Письмо Еропкину! ты мой меньшой брат! обещал мне быть шевалье. Посмотрим, сдержишь ли ты свое слово <…>.
О gran bonta’ de cavaglieri antiqui!
Eran rivali, eran di fe’ diversi,
E si senti(v)an degli aspri colpi iniqui
Per tutta la persona ani(m)o dolersi;
E pur per selve oscure e colli obliqui
Insieme van senza sospetto aversi.
Dei quattro sp(r)oni il destrier (al) punto arriva,
Dove una strada in duo si dipartiva. —
Ну, теперь выбирают пусть, куда иттить — направо или налево. Каков я, италианец? Не тебе чета с твоей е… м… Ариостом.
Сию минуту получил от бедного Капылова прежалостное письмо. Его отца ударил паралич и он отправился в Елисейские! Старику небрежно объявили, что его сын, любезное чадо, имеет честь служить солдатом (то есть разжалован из офицеров в рядовые. —
Прощайте, милые друзья, дай бог! чтоб мы были всегда друзьями, а прочее все будет хорошо».
Обратим внимание на последнюю фразу. Это культ дружбы, столь характерный в конце XVIII — начале XIX века, игравший огромную роль в жизни просвещенных русских дворян.
Не все в этом письме поддается толкованию, поскольку мы не знаем конкретных обстоятельств, на которые намекает Дехтярев. Но главное и наиболее для нас важное — понятно.
Им было тяжко служить в новой павловской атмосфере. Им было тяжко оказаться в глухом захолустье после боевой службы. Им были противны сослуживцы, выслуживающиеся перед новым императором и его клевретами. Они жаждали перемен.
Множественное число означает — и мы в этом убедимся, — что полковник Дехтярев был не одинок в своем взгляде на окружающую жизнь.
Это может показаться странным, но, иронизируя над привязанностью «младшего брата» к Ариосто, Дехтярев цитирует именно «Неистового Роланда». Причем цитирует отнюдь не наугад и не бессмысленно. (Правда, с небольшими описками.)
В первой песне поэмы, откуда взяты были Дехтяревым эти строки, рассказывается о жестокой схватке воина-мавра и рыцаря-христианина, влюбленных в красавицу Анжелику, которую оба они пытаются настигнуть. Чтобы не потерять след Анжелики, они прекращают бой и, помогая друг другу, ибо оба изранены, пускаются за ней.
Существует стихотворный перевод поэмы, но он по необходимости не точен. Поэтому стоит обратиться к подстрочнику.
О, великое благородство старинных рыцарей!
Они соперничали, принадлежа к разным верам,
Они ощущали себя виновными в тяжких грехах,
И умели сострадать друг другу,
И по узким тропам темного леса
Едут вместе, не испытывая сомнений,
Едут до того места, где раздваивается дорога.
Но полковник Дехтярев вкладывает в итальянский текст собственный смысл — отсюда и его ирония. Во-первых, это явный намек на любовное соперничество Дехтярева с Ермоловым, о котором полковник писал ранее. Во-вторых, — и это главное — все они на перепутье: «Ну, теперь выбирают пусть, куда иттить — направо или налево». Судя по тому возбуждению, которое, как мы увидим, царило в кругу полковника Каховского, проблема выбора была весьма актуальна. И радикально настроенный Дехтярев требует от «младшего брата» не забывать о близости выбора. Как и подобает «шевалье», «благородным старинным рыцарям».
Ну а фривольный пассаж, посвященный в этом письме Алексею Петровичу, — свидетельство незаурядного успеха Ермолова у смоленских дам и его успешного соперничества с Дехтяревым. При всей своей юношеской серьезности, честолюбивых мечтах и неприятии эротических французских романов двадцатилетний красавец-майор — «надежный рост и гладкое личико» — отнюдь не чурался жизненных радостей. Когда Дехтярев писал свое письмо, они еще не знали, что очень скоро «меньшой брат Еропкин» окажется в глухом Несвиже. Равно как не представляли — где вскоре окажутся они сами.
Кто были эти люди, сыгравшие, быть может, главную роль в формировании личности Ермолова, люди, чье воздействие было необычайно концентрированным, ибо они создавали вокруг себя и своих друзей замкнутое психологическое пространство, за границы которого психологически не могли проникнуть «бутовы слуги», носители чуждой и враждебной стихии?
Они ощущали себя ссыльными. А мы знаем, что ситуация ссылки, исключающая жизненную суету, часто способствовала энергичному духовному и нравственному развитию личности. Достаточно вспомнить декабристов в Сибири, Пушкина в Михайловском. Нечто подобное происходило с кругом Каховского.
На первом месте, безусловно, стоял полковник Каховский, изгнанный Павлом из армии сразу же по восшествии на престол. Павел пытался очистить армию от людей Потемкина и Зубовых.
Кузен Каховского Денис Давыдов писал: «Александр Михайлович Каховский, единоутробный брат А. П. Ермолова, столь замечательный по своему необыкновенному уму и сведениям, проживал спокойно в своей деревне Смоленичи, находившейся в сорока верстах от Смоленска, где губернатором был Тредьяковский, сын известного пииты, автора „Телемахиды“. Богатая библиотека Каховского, его физический кабинет, наконец празднества, даваемые им, привлекли много посетителей в Смоленичи, куда Ермолов прислал шесть маленьких орудий, взятых им в Праге, после штурма этого предместья, и небольшое количество пороха, коим воспользовался хозяин для делания фейерверков».
Кроме несомненных интеллектуальных достоинств, Александр Михайлович Каховский обладал высокой и заслуженной боевой репутацией.
Во время обыска у него в доме были изъяты в числе других бумаг два рескрипта на его имя от императрицы Екатерины II, из которых явствует, что Каховский был награжден орденами Святого Георгия 4-й степени за штурм Очакова и Святого Владимира 3-й степени — за штурм Праги.
Стало быть, братья Каховский и Ермолов оба были героями штурма Праги.
Конечно же любимый старший брат, ветеран турецких войн, отличившийся при штурмах Очакова и Измаила, широко образованный, не мог не пользоваться влиянием на брата младшего. Каховский, который был на девять лет старше Ермолова, органично усвоил представления русского офицерства о границах своих прав — в частности о праве радикально вмешиваться в государственную жизнь.
За плечами русского офицерства, прежде всего гвардейского, к этому времени было три дворцовых переворота: 1740,1741 и 1762 годов и два убитых законных императора — Иоанн VI Антонович и Петр III. Судя по воспоминаниям Ермолова, можно представить себе, о чем говорил старший брат с младшим…
Вторым по значимости в нашем сюжете, безусловно, стоит полковник Петр Дехтярев, друг Каховского, тоже георгиевский кавалер, командовавший Санкт-Петербургским драгунским полком, расквартированным в окрестностях Смоленска.
О нем мы знаем, к сожалению, гораздо меньше, чем о полковнике Каховском. Судя по всему тому, что нам известно, он тоже не только был человеком незаурядным, но и изначально принадлежал к тому кругу, из которого вышел и Ермолов. Это были боевые офицеры, сформировавшиеся при Потемкине и связанные затем с кланом Зубовых.
Ермолов и в новой своей ситуации, утратив свое привилегированное положение, идеологически остался в том же кругу. С одной существенной поправкой: ранее он, при всей критичности его взгляда на многих высших, отнюдь не стоял в оппозиции к общему порядку.
Теперь, в Смоленске и Несвиже, он оказался в среде «старших братьев», категорически не принимавших именно общий порядок. Его отношения с ними были куда теснее и органичнее, чем с Самойловым и Зубовым, а соответственно и влияние их оказывалось глубже и фундаментальнее.
Тем более что они демонстрировали свое неприятие новой павловской реальности с самоубийственной безоглядностью. Двадцатилетний майор, а с 1 февраля 1798 года подполковник, готов был следовать их примеру.
При всем том надо постараться представить себе психологическое состояние Ермолова в этот переломный момент его карьеры. Дело было отнюдь не только в кардинальной смене внешнего антуража: вместо дома одного из первых вельмож империи, петербургских гостиных, стремительного героического быта Польского похода в непосредственной близости от другой сильной персоны, графа Зубова, боевой экзотики итальянского приключения, Персидского похода, осененного грандиозной тенью Александра Македонского, — унылое российское захолустье. Гораздо существеннее была не менее радикальная смена политического климата. В той, прежней, жизни молодой офицер наблюдал борьбу группировок вокруг престола при полной лояльности августейшей особе. Теперь он оказался в среде, культивировавшей радикальную оппозицию государю.
В июле 1797 года полковник Дехтярев был отстранен от командования полком и отправлен в отставку. Одновременно Павел сменил и шефа полка. Вместо генерала Боборыкина назначен был 16 июля генерал-майор Тараканов. Полковым командиром стал полковник Петр Киндяков, которого дальновидный Дехтярев заранее взял в свой полк, как друга и единомышленника. Теперь он по иерархической логике и, очевидно, при влиятельной поддержке сменил Дехтярева. Тараканов оказался их общим другом.
У павловской администрации явно не хватало верных кадров.
Именно при генерале Тараканове и полковнике Киндякове в Санкт-Петербургском драгунском полку и начались события, вызвавшие лавину, что увлекла с собой Ермолова.
Дело, едва не погубившее Ермолова и наложившее суровый отпечаток на его характер, в начале своем, казалось бы, не имело выраженной политической подоплеки[11].
Екатерининское офицерство, в высшей степени боеспособное и патриотичное, не отличалось дисциплинированностью. За годы победоносных войн и потемкинских реформ офицерство привыкло к мысли, что формальная сторона службы далеко отступает перед ее сутью, то есть служением — готовностью рисковать жизнью ради Отечества и государыни.
Павел, исповедовавший принципиально иные представления о службе и служении, начал жестко «подтягивать» армию. Его назначенцы, постепенно сменяющие «екатерининских орлов», понимали, что от них требуется, и принялись выполнять свой долг так, как они его себе представляли.
В реформировании армии — повышении ее управляемости, совершенствовании структуры, сокращении расходов на ее содержание — был безусловный смысл. Но методы, которыми действовали павловские реформаторы, подражавшие резкости и самодурству императора, отказывавшиеся принимать во внимание былые заслуги боевых офицеров и представление их о личном достоинстве, вызывали озлобление и демонстративную оппозицию. То, что было невозможно в Петербурге в непосредственной близости к грозному императору, оказалось вполне возможно в провинции — в армейских частях. Проявлялся этот протест прежде всего в вызывающем бытовом поведении. Часто это выражалось и в личных столкновениях между теми, кто принял новые правила, и теми, кто их принимать не желал.
Следственное дело, заведенное в июле 1798 года, к которому оказался прикосновен Ермолов, было квалифицировано историками как разгром «ранней преддекабристской организации». Подобный подход вызывает сомнения. Скорее всего, участники кружка Александра Михайловича Каховского, единоутробного брата Ермолова, «канальского цеха», по их выражению, были типичными вольнодумцами екатерининской эпохи, поклонниками Вольтера и энциклопедистов, не имевшими, в отличие от лидеров декабризма, оформленной политической программы и планов радикальных государственных реформ.
Они были плоть от плоти того гвардейского офицерства, которое уверено было в своем праве корректировать действия высшей власти и в случае необходимости менять персону на престоле.
Как резонно писал М. М. Сафонов: «По всей видимости, устремления смоленских вольнодумцев не шли дальше возвращения к екатерининскому политическому режиму при известной его либерализации»[12]. Но еще задолго до него Натан Эйдельман в своей блестящей книге «Грань веков» сформулировал трезвое отношение к ситуации: «Мы далеки от мысли видеть в конспирации 1797–1799 гг. сложившееся крепкое „тайное общество“; даже по сохранившимся документам видна разнородность лиц и пестрота формул (от „цареубийственных деклараций“ у смоленских заговорщиков до умеренно-конституционных или просветительских формул при дворе)»[13].
Надо сказать, что и термин «заговор», применяемый к сообществу Каховского — Дехтярева, тоже вызывает сомнения.
В нашу задачу, однако, отнюдь не входит полемика с исследователями, занимавшимися «делом „Каховского со товарищи“».
Нам важно воссоздать ту атмосферу, в которой завершал свое политическое воспитание Ермолов и в которой он получил, быть может, главный жизненный урок.
Документы дела — сотни листов, с повторами, ответвлениями, демонстрирующие подспудную борьбу вокруг судеб подследственных, — дают возможность представить полную и выразительную картину драмы, одним из персонажей которой неожиданно для себя стал двадцатилетний подполковник Ермолов.
В деле имеется черновик документа (чистовой вариант отложился, очевидно, в другом фонде), который дает возможность проследить истоки событий: «Таковая выписка 19 октября (1798 года. —
Дмитрий Николаевич Неплюев был статс-секретарем императора Павла I; стало быть, документ направлен был непосредственно августейшему лицу.
«Генерал-майор Линденер по извещению бывшего в С.-Петербургском драгунском полку шефа генерал-майора князя Мещерского (сменившего генерала Тараканова 21 октября 1797 года. —
По донесению именным указом от 24 июля 1798 года предписано… (
15 августа генерал-майор Линденер представил признание отставного майора Потемкина следующего содержания; последний… (
По окончанию следствия подсудимые привезены в Петербург, где следствие рассматривали генерал-прокурор князь Лопухин и генерал-аудитор князь Шаховской, которые всеподданнейше предоставили его императорскому величеству мнение следующего содержания… (
По оному воспоследовал высочайший указ на имя оных князей. По которому исключенный из службы полковник Каховский, отставной майор Потемкин, исключенный из службы капитан Бухаров лишены чинов и дворянства, заперты первый в Динамюнде, второй в Шлиссельбурге, а третий в Кексгольме, где производить каждому 10 к. в день.
Полковник Киндяков в Олекминск,
полковник Стерлингов в Киренск Иркутской губернии,
исключенный из службы полковник Дехтярев в Томск,
отставной артиллерии поручик Киндяков в Тобольск,
майор Балк в Ишим Тобольской губернии,
где за их поведением предписано смотреть,
полковник князь Хованский в Белоруссию,
полковник Сухотин в Тульскую,
полковник Репнинский в Калужскую,
исключенного из службы капитана Валяева в Малороссийскую губернию и под присмотр губернского начальства и следить, чтоб не въезжали в обе столицы.
Подпоручика Догановского за непристойное поведение, неуважение начальства и забой (? —
В том же ноябре генерал-лейтенант Линденер доносил, что в деревне у Каховского найдена переписка различных людей, наполненная оскорбительными величеству выражениями, нарушающими спокойствие и тишину, по которой отставной титулярный советник, бывший при генерале Философове адъютантом Кряжев, послан на вечное житье в Вологодский Спасоприлуцкий монастырь с произвождением в день по 10 к.
А артиллерийского Эйлера баталиона подполковник Ермолов исключен из службы и отправлен тоже на вечное житье в Кострому, где за поведением его велено наблюдать».
В этом документе содержится сухой итог многообразной, пестрой истории с амплитудой от полуанекдотического фрондерства до идеи цареубийства.
Судя по материалам дела, все началось с издевательств легкомысленного подпоручика Огонь-Догановского над майором Лермонтовым, который потребовал удовлетворения не от своего обидчика, а от командира полка. Ситуация в Санкт-Петербургском драгунском полку была, как мы увидим, политически напряженная, и полковник Киндяков, настроенный, в отличие от Лермонтова, резко антипавловски, очевидно, встал на сторону «своего».
Тогда майор Лермонтов прибегнул к политическому доносу.
Денис Давыдов зафиксировал ермоловскую версию происшедшего: «Независимое положение Каховского, любовь и уважение, коими он везде пользовался, возбудили против него, против его родных и знакомых — недостойного Тредьяковского[14], заключившего братский союз с презренным Линденером, любимцем императора Павла. Каховский и все его ближайшие знакомые были схвачены и посажены в различные крепости под тем предлогом, что будто они умышляли против правительства…»
Этот текст важен не только характеристикой Каховского, судя по всему, вполне соответствующей действительности, но и особенностью своей как источника. Мы имеем дело с явным мифотворчеством.
Подробности о деле Каховского Давыдов мог получить только от Ермолова. Следовательно, Алексей Петрович был заинтересован в том, чтобы разразившаяся над ним в 1798 году опала выглядела недоразумением, следствием примитивной человеческой зависти и коварства. Ничего общего с реальностью это не имело. Ермолов вообще вносил в свою биографию весьма любопытные коррективы.
В своих заметках Ермолов говорит о предъявленных Каховскому и его товарищам обвинениях как о «вымышленных». Что же было на самом деле?
Прологом драмы можно считать арест в феврале 1798 года «выключенного» полковника Дехтярева. Он был затребован в Тайную экспедицию по доносу из Смоленска. Дехтяреву инкриминировались «неблагопристойные рассуждения и разговоры».
В истории первого ареста Дехтярева есть любопытный нюанс. В «Экстракте важным примечаниям», одном из итоговых документов, отправленных Линденером по окончании следствия в Петербург, сказано: «Сколь явно презрителей от протекторов руководство, что когда, как отправиться мне в Дорогобуж к следствию, то Дехтярев в сие время взят в Петербург из намерения, дабы тем предварить <…> Дехтярев по прибытии в Санкт-Петербург своих протекторов уверил, что ничего не будет найдено и узнано».
Язык текстов Линденера требует расшифровки. «Презрите — ли» — это друзья Каховского, участники «канальского цеха», как они себя называли, злоумышленники, вызывающие презрение следователя. «Протекторы» — петербургские покровители злоумышленников. Линденер убеждал Павла, что им обнаружен обширный заговор, нити которого тянутся далеко за пределы Смоленской губернии и прежде всего — в Петербург.
Что до вызова Дехтярева в столицу, то Линденер пытается представить это хитроумной акцией петербургских «протекторов». Это была сознательная и весьма наивная попытка ввести в заблуждение верховную власть, ибо следственная комиссия была образована в июле 1798 года, а Дехтярев отправлен в столицу в феврале.
Этот эпизод закончился ничем. Очевидно, доносители не могли убедительно подкрепить свои обвинения, а Дехтярев твердо все отрицал. Однако ему вряд ли удалось бы избегнуть какой-либо кары — он недаром был отстранен от командования полком, — если бы у Каховского и его друзей не было и в самом деле сильных покровителей.
В нашу задачу не входит подробный рассказ о деле «канальского цеха». Это — материал для отдельного обширного исследования. Мы же должны дать читателю представление о ситуации, в которую волею обстоятельств оказался вовлечен Ермолов, об атмосфере, царившей в провинциальных армейских частях, о готовности, с которой многие екатерининские офицеры становились «бутовыми слугами».
За какие-нибудь полтора года двадцатилетний баловень судьбы пережил два сильнейших потрясения. О первом — резкой смене политико-психологического состояния — уже было сказано. Второе вызвано было столкновением с холодной жестокостью власти и предательством сослуживцев.
Отсюда началось превращение открытого и прямого, до дерзости самоуверенного молодого офицера в «патера Грубера» (так звали генерала ордена иезуитов, некоторое время жившего в Петербурге), как нарек его великий князь Константин Павлович, вполне Ермолову симпатизировавший, в личность с таким широким спектром противоположных качеств, что, по известному выражению, хотелось бы его «сузить».
В начале следствия ключевую роль сыграл, очевидно, донос майора Лермонтова. Донос этот, направленный на высочайшее имя в Петербург, в деле не отложился, но по логике дальнейших событий можно понять его содержание и с достаточным основанием предположить, что в нем выведены были на первый план Дехтярев, уже скомпрометированный и находящийся под надзором, и Каховский.
Старательному Линденеру не составило труда выяснить их связи и получить показания от нескольких «бутовых слуг».
В конце июля — начале августа 1798 года Линденер приступил к арестам.
В Дорогобуже, где в это время дислоцировался Санкт-Петербургский полк, были арестованы его командир полковник Киндяков и офицеры Стерлингов, Хованский, Сухотин, Репнинский, Балк, Валяев, Огонь-Догановский. Сразу после этого были арестованы в Смоленске полковник Дехтярев и капитан Бухаров.
5 августа Линденер приказал арестовать Каховского и произвести обыск в его имении Смоляничи.
Линденер хотел иметь документальные подтверждения преступной деятельности обвиняемых, но тут вышла осечка. Обыск в Смоляничах был поручен уездному предводителю дворянства Сомову, который оказался родственником Каховского и сочувствовал его взглядам. Он дал знать о грядущем обыске управляющему имением Каховского капитану Стрелецкому, поскольку сам Каховский был в отъезде. Стрелецкий частично уничтожил, а частично спрятал обширную переписку своего патрона. Обыск результатов не дал. Но 8 августа Каховский был арестован и доставлен в Дорогобуж.
Было и еще одно важное обстоятельство.
В том же июле 1798 года, когда князь Мещерский донес императору о нездоровой атмосфере в Санкт-Петербургском полку, он был отозван, а шефом полка стал генерал-майор Павел Дмитриевич Белуха. Известно о нем мало, но в записках графа Ланжерона сказано, что он «служил во времена князя Потемкина и сделал всю компанию 1768 года в качестве адъютанта графа Румянцева. <…> В 1797 году Белуха Павел Дмитриевич еще полковником командовал Елисаветградским драгунским Его Королевского Величества принца Карла Баварского полком».
Генерал Белуха оказался в Дорогобуже в самый разгар следствия и арестов — он принял должность 27 июля 1798 года. И пробыл в ней три недели.
Некоторые исследователи «дела Каховского» считают, что назначение Белухи было акцией петербургских «протекторов», направивших его на помощь своим подопечным. Можно принять это предположение или же решить, что воспитанник Румянцева просто повел себя в соответствии со своими представлениями о достойном стиле поведения русского офицера екатерининских времен.
А повел он себя и в самом деле нетривиально.
И тут мы должны обратиться к еще одной ключевой фигуре сюжета — подполковнику Санкт-Петербургского драгунского полка Алексею Энгельгардту, который оказался едва ли не главным сотрудником Линденера в разоблачении «презрителей».
В деле имеется несколько рапортов Энгельгардта Линденеру, относящихся к периоду от начала сентября до конца ноября 1798 года. Но из текстов этих ясно, что разоблачительная деятельность подполковника началась не позднее августа, то есть с самого начала следствия:
«Вследствие полученного мною по секрету ордера от вашего превосходительства сего месяца 3-го числа касательно до нижеследующих обстоятельств, о коих спешу по сущей справедливости сим удостоверить вашего превосходительства, что в бытность вашу в городе Дорогобуже действительно представлял я вашему превосходительству о явных моих подозрениях на господина бывшего шефа генерал-майора Белуху, который, знав о производимом столь важном следствии, касательно даже до Высочайшей Особы Его Императорского Величества, а он дерзал: 1-е, что как только приехал в город Дорогобуж, то тотчас же взял себе на квартиру в свое покровительство людей и лошадей, и весь экипаж и имущество важного подсудимого полковника Кендяковаж, потом ежедневно начал употреблять как экипаж, так и верховых лошадей и разъезжал на них публично по городу; 2-е, без всякой причины и неуваживая даже на особливую атенцию мою к нему, яко к своему начальнику, презирал мною, а равно и всеми по сему делу бывших свидетели; и делал необыкновенное на них гонение и говорил подпоручику Бережецкому у себя в квартире, что-де быть доносчиками и свидетелями есть мерзкое дело <…> и таковые офицеры должны итти у меня вон из полку непременно. А после того и почти подобные слова подтвердил и полковнику Бородину, а также в квартире генерал-майора и кавалера князя Мещерского говорил он, генерал Белуха, подойдя ко мне при капитане Болтине сиими словами: а когда я поссорюся с Линденером, то увижу, что офицеры тогда скажут, на что я ему не ответствовал ни слова; 3-е, сверх того с самого его приезда в Дорогобуж имел он, Белуха, теснейшую связь с господином статским советником Николевым, а как благоугодно было вашему превосходительству дать мне словесное ваше приказание, чтобы я имел самосекретнейшее о поступках его, Николева, по известным важным причинам вашему превосходительству на него подозрение, мое наблюдение: а потому я замечал, что весьма часто, почти всякую ночь он, Белуха, скрытно ездил к реченному Николеву в квартиру и просиживал часу до первого и второго вдвоем, о чем я вашему превосходительству неоднократно докладывал, а также говорил о том его превосходительству князю Мещерскому. <…>
Дорогобуж.
1798-го года, сентября 4-го дня».
Таким образом, драгунский подполковник взял на себя не только составление рапортов о состоянии умов в полку, но и слежку за статским советником (в некоторых документах он назван действительным статским советником) Николевым. Своеобразие ситуации заключается в том, что Николев был прислан из Петербурга в качестве ответственного лица, которое должно было вести следствие совместно с Линденером.
Поведение недавнего шефа полка генерал-майора Тараканова, взывания генерал-майора Белухи к офицерскому благородству, попытки Николева установить связь с арестованными «презрителями» и явные симпатии к ним генерал-губернатора Философова свидетельствуют о том, что попытки Павла и верных ему людей жестко контролировать ситуацию в армии столкнулись с откровенным саботажем. И не только на провинциальном уровне.
Рапорт Энгельгардта вкупе с доносом майора Лермонтова дал возможность Линденеру начать активные действия. Энгельгардт неоднократно получал различные разыскные задания от Линденера, но его рапорты теперь посвящены были одному из опаснейших аспектов обвинения — оскорблению величества и касались событий 1797 года, когда вместо «бутова слуги» генерал-лейтенанта Боборыкина шефом Санкт-Петербургского драгунского полка назначен был генерал-майор Тараканов.
Смене шефа сопутствовали странные обстоятельства, о которых 24 апреля 1797 года Дехтярев, отстраненный от командования полком, писал Каховскому: «Милый шеф новый Т. полку имел странный с собою случай. Боборыкин не хотел ему отдать полку, он послал курьера к Линденеру, и через несколько дней Боборыкин опомнился и вдруг прислал к нему сообщение, что отдает полк. Новый шеф тотчас послал взять знамены и проч. <…> Боборыкин сошел с ума и через четверть часа уехал чорт его знает куда, ругая все что есть святого, даже Бутова!»
Дальше идет весьма значимый пассаж: «Я бы давно уехал к тебе, любезный брат! Но мне нужно дождаться Линденера, только что он отсюда уедет, то я еду к тебе. Мне ужасно грустно, и так грустно, как никогда еще не бывало, всякий день плачу. Не могу к тебе уехать, нужно для Тараканова еще несколько мне пробыть в полку, чтобы остеречь его от сверчков и клопов и показать честных людей».
Вряд ли генерал-лейтенант Боборыкин вел себя подобным образом по причине вздорного характера. Скорее всего, за этим стояла групповая борьба в Петербурге, борьба за влияние на армию. И внезапное свое смещение с поста Боборыкин воспринял как поражение «своих» в верхах. Задерживая передачу полка, он выяснял обстановку, надеясь на изменение ситуации. Этого не произошло, и этим объясняются его обида на Павла и фрондерское поведение.
Когда драгунский полковник, прошедший турецкие и польские войны, пишет, что он «всякий день плачет», — это не метафора. Открытая эмоциональность была характерной чертой психологической культуры эпохи.
Дехтярев грустил и плакал, разумеется, не оттого, что потерял командование полком. Хотя и это вряд ли его радовало. Весь их круг угнетали новая чужая атмосфера, произвол и гонения на «честных людей». Вскоре он написал Каховскому: «Спасибо, неоцененный друг! что ты навестил меня, я называю „навестил“, написав ко мне, ей-ей, не могу о сию пору проглотить проезд наших бедных товарищей. Тяжело и очень тяжело. Может, это и в порядке вещей, но я никак еще не привык видеть жареных людей. Все зависит от воображения, со временем статься может, вместо слиоз я буду, привыкнув, насмехаться всему, так как ты по разуму презираешь».
Речь, видимо, идет об очередной партии арестованных офицеров.
Капитан Кряжев в августе того же года писал Каховскому из Смоленска: «Дица Був (Бутов. —
Слухи есть, что Страхов исключается из службы, а Голубцов жалуется в первый чин, то есть в рядовые. Еще сказывают, что Чертков сам в Шпандау посажен.
Из линденерова полку все наличные штаб- и обер-офицеры, коих 83 человека, идут в отставку, потому что Линденер их считает наравне с гусарами. Они без дела к нему не могут ходить. Если его зовут куда в гости и он думает, что из его штаб- и обер-офицеров кто зван, то он не пойдет. Трактует их пьяницами и прочими ептетами… Шпандау, сказывают, так полон, что места нет, иногда по десяти и по пятнадцати кибиток вдруг привозят.
Идущих в отставку, говорят, всех помещают в подушный оклад, а иные говорят, что они оставлены будут без повышения, без мундира, штатскими чинами и с запрещением въезда в обе столицы.
Армия принца Конде принимается в нашу службу — офицеры с повышением чинов, а рядовые офицерами». Именно это письмо кончалось цитатой из Вольтеровой трагедии: «Ты спишь, Брут, а Рим в оковах!»
У них было ощущение террора, обрушившегося на офицерство. Слухи о предпочтении, которое отдавалось эмигрантам (армия принца Конде) перед русскими офицерами, воспринимались как прямое оскорбление.
Они не привыкли к тому стилю поведения, которое демонстрировали Линденер и другие «бутовы слуги». Нужно было быть Каховским с его принципиально стоической позицией, чтобы «по разуму презирать» происходящее и не впадать в отчаяние. Но стоицизм Каховского отнюдь не примирял его с павловской действительностью.
Надо помнить, что одной из фундаментальных черт их взаимоотношений был культ дружбы, которая из явления бытового превращалась в мощный духовный феномен и определяла их взгляд на происходящее. В том числе на судьбы их товарищей. И потому неудивительно, что их ненависть к императору и его методам управления принимала самоубийственно откровенные формы.
«Поверить можно тем людям, кои равную ненависть претерпевают от слуха, зрения и чувств Бутова сумасшеств», — писал майор Московского гренадерского полка Буланин.
И неудивительно, что у них не хватало инстинкта самосохранения, чтобы удержаться от демонстрации своей ненависти и презрения.
Это и фиксировал в своих рапортах подполковник Энгельгардт:
«Касательно до имени Бутова, что не имею ли какого сведения и не известно ли, кто бы был под сим названием, размышляя об оном, припомнил следующее. В бытность в городе Велиже, штаб-квартире бывшего Санкт-Петербургского драгунского полку, в который приехал шеф, генерал-майор Тараканов, на смену генерал-лейтенанту Боборыкину, привезя с собой шута именем Ерофеича, остановился на одной квартире с выключенным полковником Дехтяревым, с коим он вел приязнь и жили все заодно. А как часто я к нему прихаживал по долгу, яко к своему начальнику, а иногда от них бывал прошен на обед и на вечеринки, то неоднократно случалось мне видеть, что Дехтярев заставлял этого шута вытягиваться и подымать голову свыше обыкновенного вверх, надувать щеки и потом маршировать на обе стороны, поворачивать голову и за каждым поворотом так сильно из себя дух, что делало сей отзыв „був!“. А по окончанию сего Дехтярев спрашивал у него: как тебя зовут, на что он отвечал: „Бутов, лысая голова“. Потом спрашивал его, где Бутов живет? Ответствовал он: „Далече, в Гатчине“. Кто тебя сему учил? Отзывался: „Александр Каховский“, что они, представя себе весьма смешным и за утешение, а Дехтярев притом с криком говорил ему: „Браво, браво, полтина на водку“, чему всему и прочие его приятели подражали, и все это было ввиду самого Тараканова, а Дехтярев не только в таких случаях, но и пред всяким тогда, кто только приезживал, даже и посторонним, за первое удовольствие считал заставлять сказанного шута делать таковые гримасы! Сие неминуемо тоже должны были видеть полковник Бороздин, майоры Лермонтов и граф Миних, капитаны Курыш, Полнобоков, Лукашевич 1-ый, поручик Бережецкий, подпоручик Кононов, аудитор Лазарев, адъютант Радимовский и отставной подпоручик Глинка, но я, не вытерпя, призвал того шута в свою квартиру и запретил ему строжайше слушаться Дехтярева; который шут и затем не унялся, то я, обласкавши его, призвал вторично в свою квартиру и велел ему дать двадцать плетей. После того за деньги и за водку никак не соглашался представлять вышесказанного. По слухам же, оный шут находится в Смоленской губернии, Белецкой округе, в доме госпожи Баратынской, то не угодно будет для фундаментального узнания сего прозвания Бутова и прочего, что бы то значило, его сыскать и в том спросить».
На что они рассчитывали, публично издеваясь над императором? Неужели настолько отвыкли от доносительства?
Первый этап следствия был закончен в сентябре. Арестованные отправлены в Петербург в распоряжение генерал-прокурора князя Лопухина и генерал-аудитора князя Шаховского, судимы и приговорены к заключению в крепостях и ссылкам в разные места Сибири.
Далее произошло нечто неожиданное. Линденер получил распоряжение императора прекратить дальнейшее расследование и все бумаги по «дорогобужскому делу» уничтожить. Что и было им с величайшим неудовольствием выполнено.
Вот тут, скорее всего, и сказалось влияние петербургских «протекторов». То ли князь Лопухин, которому Павел доверял, убедил императора, что Линденер слишком усердствует и раздувает дело — генерал-прокурор впоследствии прибегал к этому приему; то ли сам Павел, вняв советам, решил, что расширение круга репрессированных слишком компрометантно.
Но упорный Линденер, выполнив простое указание — уничтожив материалы уже проведенного следствия, на свой страх и риск продолжал расследование. И быстро добился результатов.
Ермолов не попал в водоворот первого этапа следствия. Его переписка с товарищами наверняка не ограничивалась тем единственным, уже известным нам письмом Каховскому, что попало позже в руки Линденера. Остальные, по всей вероятности, были в числе тех бумаг, что уничтожили Сомов и Стрелецкий. Поскольку он находился в Несвиже, то не оказался в поле зрения подполковника Энгельгардта.
Но когда Линденер вторично послал в Смоляничи, а затем и в село Котлин, имение полковницы Розенберг, верных ему людей, то обнаружились новые материалы, которые дали ему возможность продолжить следствие. Вот тут-то обнаружились и письмо Ермолова, и упоминания его в письмах других участников «канальского цеха».
Этот обыск принес редкую удачу Линденеру — появились указания на связь смоленских «презрителей» с Зубовым.
13 ноября 1798 года Линденер доложил Павлу, что бумаги «дорогобужского дела» уничтожены, а 24 ноября направил императору новое послание:
«После такового от 13-го ноября открылось, что умышленно скорейшим отвозом Дехтярева в Петербург от предварений его, участниками сожжены в поместье Каховского разные еще бумаги[15] под полом, в хлебе и в трубе комнатной спрятанные, то же умышленно предводителем Сомовым, как Каховского роднею не доставлены были, потому и удалось их участникам разные интриги в Петербурге для уничтожения следствия употребить. Ныне наконец найдены две табакерки с портретами Зубовых и письма, наполненные оскорблениями ВЕЛИЧЕСТВА. Когда нарочно посланным, от него, Линденера, представлен будет от Калуги близ Калужской границы находившийся другой BRUTUS генерала Философова бывший адъютант Кряжев с его бумагами, из коих и допросов обнаружится дальнейшая их шайка. Ниже в Орле, Туле и Литовской границе о совершенным их уничтожением в подлиннике к ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ отправлено будет, то они уже не в большом числе. Генерал-лейтенант Линденер отправил к генерал-лейтенанту Эйлеру в Несвиж естафету арестовать подполковника Ермолова с бумагами и товарищами. И просит повелеть таковые доставить для следствия к нему в Калугу, где неприметно окончав их дело, к высочайшему рассмотрению доставит; арестант же секретно в лейб-каземате, что от города отдалено, до дальнейших повелений находиться будет. Сие осмеливается по той причине испрашивать, что как по делу значит Дорогобужския следствия в Петербурге суждены и обижено правосудие чрез сумнительного Фукса <…>».
Воистину убийственным для Каховского и его товарищей документом стал свод сведений, названный «Потребно к замечанию узнать источники связям с полковым командиром Киндяковым и с другими офицерами, и из которых все известное дело произошло», отправленный в Петербург под грифом «секретно» — как итог дорогобужского расследования. В нем, в частности, был такой абзац:
«На третий день возвращения Дехтярева (из Петербурга. —
Это был уже умысел на цареубийство.
Между тем, получив весомые — в виде золотых табакерок с портретами — доказательства связей преступников с кланом Зубовых, Линденер чувствует себя увереннее и расширяет пространство следствия.
24 ноября оказалось пиком деятельности Линденера на втором этапе следствия. В частности, 24 ноября он послал Эйлеру приказание арестовать подполковника Ермолова — на основании обнаруженного его письма Каховскому и упоминания о нем в письмах членов «канальского цеха».
Именно с этого момента Ермолов начал свои воспоминания, называя себя в третьем лице:
«Всем обязан он единственно милосердию государя. Спрашивая о многих обстоятельствах, относившихся до его брата, но как они совершенно не были известны Ермолову и были даже вымышлены, то ответы его заключались в одних отрицаниях. Генерал Л. призвал к себе офицера, сопровождавшего Ермолова, объявил о дарованной ему свободе и чтобы он возвратился обратно, если Ермолов пожелает возвратиться один. Ласково простясь с Ермоловым, он сказал, что посланному навстречу ему офицеру приказано отдать бумаги Смоленскому коменданту генерал-майору Долгорукову, в случае если еще он не препровожден из Несвижа. Сказал, что между возвращенными бумагами недостает журнала и нескольких чертежей, составленных во время пребывания в австрийской армии в Альпийских горах, которые государь изволит рассматривать. Проезжая обратно через Смоленск, Ермолов получил бумаги, доставленные разъехавшимся, вероятно, в ночное время офицером, и привез в Несвиж данное шефу баталиона повеление».
Из этого следует, что у Ермолова заранее был произведен обыск и изъят, в частности, журнал, то есть дневник, итальянского похода с картами, которые в момент допроса уже находились у императора.
При обыске у Ермолова, кроме карт, дневника и выписок из книг, изъяты были три письма Казадаева, по одному письму от Каховского и Дехтярева. Письмо Дехтярева — не то, что было присоединено к письму Каховского и которое мы уже цитировали, а другое, отдельное — и несколько писем от отца. Но поскольку все эти письма ничего преступного не содержали, то и в обвинении Ермолова не фигурировали.
7 декабря Линденер вынужден был вручить Ермолову следующий документ:
«По секрету.
Милостивый государь мой!
По обстоятельствам дела, вы от ареста и следствия освобождены, почему и извольте отправиться в Несвиж и явиться к г-ну генерал-лейтенанту и кавалеру Эйлеру.
С почтением моим пребуду, милостивый государь мой, покорный слуга
Но обильная добыча, полученная в результате второго обыска в Смоляничах: письмо самого Ермолова Каховскому, письмо к нему Дехтярева, упоминание в письме Кряжева Каховскому о пересылаемом письме Ермолова обнаружили несомненную включенность подполковника в дела «канальского цеха». Сыграло свою роль и наличие у него «конспиративной» клички.
Вряд ли Ермолову так легко обошлось бы и первое свидание с Линденером, если бы именно в это самое время генерал не получил повеление закрыть «дорогобужское дело» и сжечь все относящиеся до него бумаги.
Однако новые сведения, которые позволили Линденеру заподозрить целый ряд гражданских чиновников Смоленска в связях с уже осужденными преступниками, равно как и нескольких офицеров корпуса генерала Розенберга, стали весомым основанием для возобновления следствия.
И Линденер с прежним рвением принялся за работу…
Ермолов писал: «Прошло не менее двух недель, как исполненный чувств благодарности, прославляющий великодушие монарха, Ермолов, призванный к своему шефу, получает приказание отправиться в Петербург с фельдъегерем, нарочно за ним присланным. Я не был отставлен от службы, не был выключен, ниже арестован, и объявлено, что государь желает меня видеть.
Без затруднения дано мне два дня на приуготовление к дороге: до отъезда не учреждено за мною никакого присмотра; прощаюсь с знакомыми в Несвиже и окрестности и отправляюсь.
В жизни моей нередко улавливал я себя в недостатке предусмотрительности, но в 22 года, при свойствах и воображении от природы пылких, удостоенный всемилостивейшего прощения, вызываемый по желанию государя меня видеть, питавший чувства совершеннейшей преданности, я допускал самые обольщающие мечтания и видел перед собой блистательную будущность! Пред глазами было быстрое возвышение людей неизвестных и даже многих, оправдавших свое ничтожество, и меня увлекли надежды!»
Честно сказать, плохо во все это верится.
Мы помним ермоловское письмо с издевательскими пассажами в отношении Павла — «господина Бутова», его неукротимое презрение к своему начальству — «бутовым слугам», знаем его чувства к Каховскому и другим «старшим братьям». Зная все это, нельзя поверить в искренность деклараций о «чувстве совершеннейшей преданности» тому, кого «старшие братья» высмеивали и не прочь были убить и кто подверг их жестокой каре; поверить этим словам Ермолова — значит счесть его бездушным карьеристом, готовым предать своих друзей и наставников, своего почитаемого брата.
Денис Давыдов со слов своего кузена, что он специально оговаривает, описывает эти события более подробно: «Гроза, разразившаяся над Каховским, не осталась без последствий для Ермолова, которого было приказано арестовать. Отданный под наблюдение поручика Ограновича, он был заперт в своей квартире, причем все окна, обращенные на улицу, были наглухо забиты и к дверям был приставлен караул; одно лишь окно со стороны двора осталось отворенным. Вскоре последовало приказание о том, чтобы отвести Ермолова на суд к Линденеру, проживавшему в Калуге; невзирая на жестокие морозы, Ермолов был посажен с Ограновичем в повозку, на облучке которой сидело двое солдат с обнаженными саблями, и отправлен через Смоленск в Калугу. <…> Между тем прислано было из Петербурга высочайшее повеление о прощении подсудимых, вина которых даже в Петербурге найдена ничтожной. <…> Линденер, будучи в это время нездоров, приказал привести к себе в спальню Ермолова, которому было здесь объявлено высочайшее прощение. Линденер почел, однако, нужным сделать строгий выговор Ермолову, которого вся вина заключалась лишь в близком родстве с Каховским; заметив удивление на лице Ермолова, Линденер присовокупил: „Хотя видно, что ты многого не знаешь, но советую тебе отслужить перед отъездом молебен о здравии благодетеля твоего — нашего славного государя“. Приняв во внимание советы многих, утверждающих, что если им не будет отслужен молебен, то он вновь неминуемо подвергнется новым преследованиям, Ермолов, исполнив против воли приказание Линденера, отправился с Ограновичем в обратный путь».
Картина существенно отличается от представленной в воспоминаниях. Горький опыт всю последующую жизнь заставлял Ермолова не доверять тому, что положено на бумагу. Бумаги могли быть в любой момент изъяты и сделаны поводом для обвинения.
Рассказ Ермолова Давыдову куда более похож на правду, чем написанные воспоминания. Если бы не было записи Давыдова, то многое в воспоминаниях вызывало бы недоумение. Если, по утверждению Ермолова, он ничего не знал о деятельности старшего брата и ни в чем не был замешан, то при чем тут «милосердие государя», «всемилостивейшее прощение»? Воспроизведенная Ермоловым фраза Линденера — («Ты многого не знаешь») — возможно, далеко не бессмысленна. Очевидная близость его со старшим братом, в имении которого он некоторое время жил, даже при отсутствии прямых улик, в той ситуации могла быть достаточным основанием для исключения из службы как минимум. Возможно, Линденеру было известно о вмешательстве в судьбу подполковника неких персон в столице, смягчивших императора и вызвавших у него интерес к молодому офицеру. В противном случае сама фамилия подозреваемого должна была спровоцировать раздражение Павла.
Последующие события подтверждают эту особость ситуации вокруг Ермолова.
Выстраивая мифологизированную картину, Ермолов преследовал ясную цель — оставить потомкам куда более благополучный вариант событий своей молодости, чем были они в реальности.
Образ смутьяна, дерзко фрондирующего против власти и получившего по заслугам, его категорически не устраивал. Поэтому в воспоминаниях он настаивает на том, что все происшедшее было недоразумением.
Он желал остаться в исторической памяти фигурой цельной, героической — и в то же время несправедливо гонимой, что придавало его судьбе особый колорит.
Это характерное для мемуаристов заблуждение. Людям представляется, что являющие реальные жизненные обстоятельства документы вечно будут храниться в пыли и мраке архивов. Если сохранятся вообще. На этом заблуждении и строятся автобиографические мифы.
Алексей Петрович этого заблуждения также не избежал.
То, что происходило с ним в ноябре 1798-го — январе 1799 года, было куда драматичнее и интереснее, чем предложенная им самим картина.
В комплексе документов, относящихся ко второму аресту Ермолова, доставлению его в Петербург, не все логично и ясно. Но в целом ход событий понятен.
В частности, понятно, почему Ермолов не остался в Калуге в качестве жертвы Линденеровой инквизиции и почему следствие, несмотря на обилие новых материалов, захлебнулось.
В дело решительно вмешались «сильные персоны», а нетерпеливому, мятущемуся императору явно надоело разбираться в потоке бумаг, поступающих от Линденера, и он полностью перепоручил дело генерал-прокурору князю Лопухину.
А Лопухин повел себя и тонко, и решительно.
17 января 1799 года, после доклада Павлу, он оформил результат доклада в следующем документе: «Генерал-лейтенант Линденер по Высочайшему Вашего Императорского Величества повелению уничтожа дело по доносу генерал-майора Шепелева и подполковника Энгельгардта на 31 человек, и уведомляя меня о том, упомянул, что хотя после того открылись важнейшие обстоятельства, но арестанты от дальнейшего изыскания освобождены. (Речь идет о том моменте, когда был арестован и сразу же освобожден Ермолов. —
Перечислив уже известные соображения Линденера в несколько ироническом тоне: «генерал-лейтенант Линденер гадательно себя вопрошает» и так далее, Лопухин завершает изложение своего доклада вполне издевательски:
«Наконец заключает (Линденер. —
Понятно, что по поводу такой «важности» Павел мог только пожать плечами.
Заканчивает Лопухин и вовсе уничижительно для Линденера: «Что касается до подражателей Каховского и прочих, то генерал-лейтенант Линденер по доставленным оригинальным письмам почитает, кажется, всех тех, с кем они по знакомству переписывались о разных обыкновенных делах и случайных. Число же, составляющее их шайку, уповательно объявлено потому, что в Смоленске под следствием было и с лишком».
Линденеру пришлось смириться с тем, что Ермолов и Кряжев были изъяты из его юрисдикции и отправлены к «сумнительным» следователям в столицу. В результате капитан Кряжев, несмотря на данные им убийственные для Каховского и Дехтярева показания, изобличающие их в замыслах цареубийства, был отправлен в дальний монастырь в качестве вечного узника.
Судьба Ермолова при таком повороте событий сложилась иначе. После решения Павла по докладу Лопухина начался классический бюрократический процесс по вполне элементарному поводу — доставки Ермолова в Петербург.
Создается впечатление, что Лопухин стремился как можно скорее вырвать Ермолова из цепких рук Линденера, не допустив глубокого исследования связей подполковника с Каховским и «канальским цехом» вообще.
Дальнейшие события это предположение подтверждают.
Ермолов в воспоминаниях рассказывает: «В Петербурге привезли меня прямо в дом генерал-губернатора Петра Васильевича Лопухина (Лопухин был генерал-прокурором. —
Все замыкается на том же круге лиц. Вряд ли случайно Лопухин с такой настойчивостью требовал Ермолова в столицу, где начальником Тайной канцелярии был человек, близкий к графу Самойлову.
«Ему (Макарову. —
Неосведомленность Макарова, непосредственно подчиненного Лопухину, сомнительна. «Дорогобужское дело» было громким. Финальное расследование производилось именно в Тайной канцелярии под надзором генерал-прокурора, и калужское продолжение дела, столь близко известное Лопухину, вряд ли прошло мимо Макарова.
«Объяснения мои изложил я на бумаге; их поправил Макаров, конечно не прельщенный слогом моим, которого не смягчало чувство правоты, несправедливого преследования и заточения в каземате. Я переписал их и возвратился в прежнее место».
Здесь опять-таки сработал уже упомянутый синдром неверия в сохранность и обнародование документов. Далее Алексей Петрович со свойственной ему выразительностью рисует мрачную картину своего пребывания в каземате: «Из убийственной тюрьмы я с радостью готов был в Сибирь. В равелине ничего не происходит подобного описываемым ужасом инквизиции, но, конечно, многое заимствовано из сего благодетельного и человеколюбивого установления. Спокойствие ограждается могильною тишиною, совершенным безмолвием двух недремлющих сторожей, почти неразлучных. Охранение здоровья заключается в постоянной заботливости не обременять желудка ни лакомством пищи, ни излишним его количеством. Жилища освещаются неугасимою сальною свечою, опущенною в жестяную с водою трубкою. Различный бой барабана при утренней и вечерней заре служит исчислением времени; но когда бывает он недовольно внятным, поверка производится в коридоре, который освещен дневным светом и солнцем, не знакомыми в преисподней».
Это, безусловно, было написано человеком, побывавшим в равелине и прочувствовавшим убийственные подробности существования узника. Выдумать все это или описать с чужих слов — невозможно.
Непосредственность и силу впечатления от пребывания Алексея Петровича в каземате подтверждает и позднейший рассказ его Денису Давыдову: «Ермолова повезли на время в Петропавловскую крепость, где заперли в каземат, находящийся под водою в Алексеевском равелине. Комната, в которую он был заключен под именем преступника № 9, имела шесть шагов в поперечнике и печку, издававшую сильный смрад во время топки; комната эта освещалась одним сальным огарком, которого треск, вследствие большой сырости, громко раздавался, и стены ее от действия сильных морозов были покрыты плесенью. Наблюдение за заключенным было поручено Сенатского полка штабс-капитану Иглину и двум часовым, неотлучно находившимся в комнате».
Приведенные подробности делают рассказ абсолютно правдоподобным. Вопрос только в том — сколько же времени он там пробыл.
Когда речь идет о корректировке Ермоловым реальных событий, выстраивании того, что называется автобиографическим мифом, не надо воспринимать это как обвинение в преднамеренном обмане потомков и современников. Надо учитывать отношение к жанру мемуаров у людей того типа, к которому принадлежал Ермолов. С подобным явлением мы, например, часто встречаемся в мемуарах декабристов.
Задача мемуаристов этого типа — не воспроизвести буквально ход событий в его бытовой достоверности, но представить читателю модель судьбы человека, сознающего себя лицом историческим, выявить существо процесса, сформировавшего такую личность.
Вопрос о грани, отделяющей мемуары в точном смысле от художественно обработанной и выстроенной истории, — весьма непростой вопрос, особенно по отношению к людям XVIII — первой четверти XIX века.
Мемуары во все времена требуют осторожного и критического подхода, но нужно отличать корыстный обман от высокой задачи поучительного моделирования истории, создания новой реальности, отвечающей представлениям мемуариста о том,
Ермолов так описывает отправление свое в Петербург: «Прошло не менее двух недель (от свидания с Линденером и освобождения. —
Без затруднения дано мне два дня на приуготовление к дороге; до отъезда не учреждено за мною никакого присмотра; прощаюсь со знакомыми в Несвиже и окрестности и отправляюсь».
Но судя по приведенной выше переписке официальных лиц, уже 18 декабря Ермолов сидел под «крепким караулом». Маловероятно, чтобы Эйлер столь дерзко обманывал высокое начальство и позволял возможному преступнику находиться безо всякого присмотра.
Далее из рапорта Эйлера следует, что, получив в семь часов вечера 31 декабря предписание отправить арестанта в столицу, он выполнил это немедленно. Для того чтобы по указанию Лопухина дать арестанту возможность соответственно одеться и взять с собой белье, много времени не понадобилось.
Стало быть, «два дня на приуготовление к дороге» вызывают сомнения.
Лопухин отправил курьера к Эйлеру из Петербурга в Несвиж 26 декабря. Эйлер получил предписание вечером 31 декабря. Если он — по его утверждению — тут же отправил Ермолова с курьером, то они должны были прибыть в столицу через те же четыре дня на пятый, то есть не позднее 5 января. Хотя возможно, что Лопухин, написавший письмо Эйлеру, отправил курьера не сразу. Тогда все сроки сокращаются, но не более чем на один-два дня.
Вскоре по приезде Ермолов был заключен в каземат, допрошен расположенным к нему Макаровым. В результате этого стремительного следствия Алексею Петровичу инкриминировано было только его письмо Каховскому.
7 января Лопухин докладывал императору дело Ермолова, скорее всего не обременяя Павла ни текстом письма, ни вполне проницательными комментариями к нему Линденера.
Доклад состоял в следующем: «Генерал-лейтенант Линденер, отыскав в деревне Каховского бумаги и в числе их к Каховскому письмо артиллерийского Эйлера баталиона от подполковника Ермолова с дерзновенными выражениями, представил с оных к Вашему Императорскому Величеству копии, а Ермолова от команды требовал к следствию в Калугу. Вашему Величеству по тем бумагам благоугодно было предписать генерал-лейтенанту Линденеру дело сие уничтожить, что он, исполня, донес Вашему Величеству и меня уведомил. Между тем Ермолов, по первому его требованию, отправлен в Калугу, где уничтожением дела, получив свободу, отпущен был к должности. А как об отправлении его туда Ваше Императорское Величество изволили получить от генерал-лейтенанта Эйлера донесение, то по сему высочайше мне повелели того Ермолова от Линденера взять сюда; вследствие чего он ныне от Эйлера паки арестован и прислан сюда. Здесь в учиненной им дерзости раскаиваясь с сокрушением сердца, объявляет, что писал письмо к брату своему Каховскому 1797-го года в мае месяце без всякого, впрочем, основания, единственно по безрассудной молодости и ветрености. И как от Линденера уничтожением дела объявлено ему уже Высочайшее Вашего Императорского Величества прощение, то всеподданнейше и теперь просит продолжать дарованное милосердие.
Представя на благоусмотрение Вашего Императорского Величества объяснение Ермолова, испрашиваю дальнейшего о нем повеления».
Письмо, представленное императору, мало напоминает послание, написанное «слогом <…> которого не мягчило чувство правоты, несправедливого преследования и заточения в каземате». Это конечно же вариант опытного Макарова.
«По спросу о письме на имя брата моего Каховского в 1797-м году в мае покорно объясняю, что оное точно писал я и признаю произведением безрассудной моей дерзости и минутного на то время отсутствия разума, повергнувшего меня в таковое преступление, кое выше всякого снисхождения и нет жестокого наказания, коего бы я не заслужил и не почитал справедливым. Но, с другой стороны, смею донести, что сие письмо одно только есть, какое писал я к моему брату и кое с деяниями моими по службе не имело никакого сходства, ибо оную всегда выполнял со всевозможным усердием и рвением и начальству повиновался беспрекословно, в чем смею на всех моих начальников сослаться. В следствие сообщения генерал-лейтенанта Линденера к шефу моему, господину Эйлеру, по Высочайшему Его Императорского Величества повелению был я арестован и бумаги мои без изъятия все по строгом обычае взяты, в коих ничего противного и дерзкого не найдено, что все подтверждает истину мною вышесказанного, что переписки с братом я уже не имел и преступления брата моего от меня совершенно сокровенны. По милосердию Его Императорского Величества Всемилостивейшее и без сомнения по презрению оной глупости моей объявлено было мне Всемилостивейшее прощение и отправлен был к должности моей, но в Несвиже паки шефом господином Эйлером арестован и прислан сюда. Я не могу вновь никакого открытия сделать, как повторить мою вышесказанную вину и всеподданнейше прошу продолжить дарование Высочайшего милосердия, обещаю заслужить оное ревностию к службе, в которой жертвовать всегда готов жизнию.
От артиллерии подполковника и кавалера Ермолова».
Денис Давыдов предлагает свою, надо полагать — со слов Ермолова, версию: «По совету Макарова Ермолов написал на имя государя письмо, которое, будучи сообща исправлено, было им переписано начисто. Хотя оно было несколько раз прочитано и по возможности исправлено, но от внимания сочинителя и читателей ускользнуло одно выражение, которое, возбудив гнев Павла, имело для Ермолова самые плачевные последствия. В начале письма находилось следующее: „Чем мог я заслужить гнев моего государя?“ Прочитав письмо, государь приказал вновь заключить Ермолова в Алексеевский равелин, где он уже оставался около трех месяцев».
Но подобной фразы в письме нет: оно выдержано в классическом покаянном стиле тех времен. Однако Ермолову, как и следовавшему за ним Давыдову, важно было воссоздать тот образ молодого героя, который соответствовал бы общим представлениям о зрелом Ермолове, строптивом и высокомерном прославленном генерале, никому не позволявшем посягать на свое достоинство…
По свидетельствам Ермолова и Давыдова получается, что Ермолов провел в Алексеевском равелине около четырех месяцев — три недели до допроса и три месяца после доклада Лопухина Павлу.
Между тем имеется документ, который принципиально меняет картину.
Это указание императора генерал-прокурору:
«Господин действительный тайный советник и генерал-прокурор Лопухин. Артиллерии Эйлера баталиона подполковника Ермолова за дерзновенные в письмах выражения повелеваю, исключа из службы, отослать на вечное житье в Кострому и предписав тамошнему губернатору, чтобы имел за поведением его наистрожайшее наблюдение.
Пребываем вам благосклонны.
На подлинном подписано собственною Его Императорского Величества рукою тако:
Генваря 8 дня 1799 года в С.п. бурге».
Павел решил судьбу Ермолова на следующий день после доклада Лопухина, который, судя по явной проермоловской направленности доклада, рассчитывал на иной результат.
Очевидно, генерал-прокурор каким-то образом отсек императора от аналитических примечаний Линденера к ермоловскому письму, между тем комментарии Линденера были достаточно выразительны: «Дерзкая критика к оскорблению Величества, возмущая притом к нарушению спокойствия и тишины»; «Наименование Бутова тож значит, что и выше явствует к оскорблению Величества». И так далее.
И далее — известный уже нам вывод: «Сей Ермолов артиллерии подполковник, имевший с Каховским родство и особливую в презрительных делах связь».
Его организационная принадлежность к «канальскому цеху» явно подтверждалась наличием «конспиративной» клички — Еропкин. Останься Ермолов в руках Линденера, дело вряд ли обошлось бы ссылкой в уютную Кострому. Но в связи с этим комплексом документов встает вопрос — сколько же времени провел Ермолов в каземате?
В начале января он доставлен в Петербург. 8 января Павел определил его судьбу. В тот же день Лопухин пишет костромскому губернатору Кочетову:
«Милостивый государь мой Николай Иванович!
Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил подполковника Ермолова за известное Его Императорскому Величеству преступление, исключа из службы, отослать на вечное житье в Кострому, где за его поведением чинить наистрожайшее наблюдение. Сообщая вашему превосходительству к непременному и неукоснительному со стороны вашей исполнению объявленного Высочайшего повеления, препровождаю при сем означенного Ермолова, с тем, чтобы за перепискою его иметь смотрение и меня о том каждомесячно уведомлять».
Ермолов был отправлен в тот же или на следующий день — реакция Кочетова была скорой:
«Секретно.
Ваше Высокопревосходительство, Милостивый Государь Петр Васильевич!
Сего числа имел я честь получить с сенатским курьером секретное предписание Вашего Высокопревосходительства от 8-го генваря, при котором прислан по Его Высочайшему Императорского Величества соизволению исключенный из службы за известное Его Величеству преступление подполковник Ермолов в здешний город на вечное житье; и вследствие Высокомонаршей воли изображенной в предписании Вашего Высокопревосходительства долгом себе поставлю чинить точное и неупустительное исполнение и уведомлять каждомесячно Ваше Высокопревосходительство о пребывании помянутого Ермолова. О чем донеся, пребуду всегда с истинным высокопочитанием и совершенною преданностию
Вашего Высокопревосходительства Милостивого Государя всепокорный слуга
Генваря 12 дня 1799 года в Костроме».
Стало быть, Ермолов пробыл в Петербурге меньше недели и 12-го числа был уже в Костроме.
Времени на «без малого четырехмесячное сидение в равелине» категорически не остается.
Все было: и мрачный промозглый сумрак каземата, и чадящая свеча, и дымящая угарная печь, и гробовое молчание мира вокруг, и ужас перед возможностью провести в этом страшном пространстве годы и годы…
Все это секретный арестант испытал за несколько дней. И на впечатлительную натуру молодого Ермолова, ошеломленного ужасающим поворотом судьбы, эти несколько дней произвели незабываемо тяжкое впечатление.
Он на всю жизнь понял, что может грозить строптивцу, если он перешагнет некую черту…
Судя по мучительной подробности описания каземата, сделанного через много лет, этот дремлющий ужас был с ним всегда.
Остальное было все тем же автобиографическим мифом, призванным трагически укрупнить события.
В двух направлениях Ермолов-мемуарист модифицировал реальность. Во-первых, как уже говорилось, он старался изобразить горькую для него реальность более благостной и по отношению к нему уважительной, а во-вторых, хотел все же предстать перед потомками и поздними современниками рыцарем, отстаивающим свое достоинство, невинной, но гордой жертвой павловской тирании.
Ермолов вспоминал:
«По прибытии в Кострому мне объявлено назначение вечного пребывания в губернии по известному собственно государю императору преступлению. По счастию моему при губернаторе находился сын его, с которым в молодости моей учились мы вместе. По убеждению его он донес генерал-прокурору, что находит нужным оставить меня под собственным надзором для строжайшего наблюдения за моим поведением, и мне назначено было жить в Костроме».
Здесь мы сталкиваемся с очередной странностью. С одной стороны, Алексей Петрович уснащает свой рассказ вполне правдоподобными подробностями о вмешательстве бывшего соученика, губернаторского сына, с другой — в имеющихся документах версия ссылки в губернию подтверждения не находит. Приказ Павла о ссылке именно в Кострому — недвусмысленен. Отношение губернатора Кочетова к генерал-прокурору подтверждает: Ермолов прислан был для «вечного житья» в Костроме. И никакого послания к генерал-прокурору, о котором говорит Ермолов, в деле нет.
Ермолов лаконично, но вполне содержательно описал свою жизнь в Костроме:
«Некоторое время жил я в доме губернского прокурора Новикова, человека отлично доброго и благороднейших свойств, и вскоре вместе войска Донского с генерал-майором Платовым, впоследствии знаменитым войсковым атаманом, которому по воле императора назначена так же Кострома местопребыванием. Полтора года продолжалось мое пребывание; жители города оказывали мне великодушное расположение, не находя в свойствах моих, ни в образе поведения ничего обнаруживающего преступника. Я возвратился к изучению латинского языка, упражнялся в переводе лучших авторов, и время протекло почти неприметно, почти не омрачая веселости моей».
Относительно веселости, конечно, можно и усомниться. Прозябание в Костроме могло стать если не вечным, то многолетним.
Что до изучения латыни, то это важнейший психологический момент.
Ермолов всецело принадлежал к культуре, ориентированной на античные образцы. В его детстве это был Плутарх; можно смело предположить, что в жизнеописаниях Плутарха его более всего влекли истории удачливых полководцев. Денис Давыдов свидетельствует и в данном случае вполне основательно:
«Ермолов, воспользовавшись своим заточением, приобрел большие сведения в военных и исторических науках: он также выучился весьма основательно латинскому языку у соборного протоиерея и ключаря Егора Арсеньевича Груздева, которого будил ежедневно рано словами: „Пора, батюшка, вставать: Тит Ливий нас давно уже ждет“».
Через некоторое время он мог читать в подлиннике Тита Ливия, Тацита и Юлия Цезаря.
Литература на латыни, которую мог читать и переводить Ермолов, была обширна. Но он выбирает именно этих авторов. И вполне понятно почему.
Но прежде чем рассмотреть отношения его с античными авторами, надо представить себе его действительное настроение.
Он остался один. «Старшие братья» и общие их друзья по «канальскому цеху» были в крепостях и сибирских ссылках. Многочисленные приятели прекратили с ним отношения, опасаясь компрометации.
Верен ему оказался только Казадаев, письма к которому и дают нам картину, адекватную реальности. Как выяснилось в этот трагический момент, его клятвы в вечной дружбе не были пустой риторикой.
Как только возобновилась переписка между ними, Алексей Петрович счел необходимым представить другу свой вариант происшедшего.
Письма Ермолова своему другу из Костромы тщательно хранились в семье Казадаевых и уже в конце XIX века сын Александра Васильевича передал их Николаю Дубровину, когда тот писал краткую биографию Ермолова докавказского периода. Дубровин использовал несколько фрагментов. Теперь письма хранятся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки[16].
«Любезнейший друг Александр Васильевич!
Долгое молчание мое, думаю я, заставило тебя заглянуть в приказы, дабы усмотреть, не случилось ли со мной чего неприятного? Итак, я полагаю, что ты извещен, что я исключен из службы. Так, любезнейший друг, пал жребий судьбы на меня, и в моей воле осталось лишь терпеливо сносить ее жестокость. Я тебе скажу причину несчастия моего: ты знал брата моего, он впал в какое-то преступление, трудно верить мне, как брату его, но я самим Богом свидетельствую, что о преступлении его мне неизвестно. Бумаги его были взяты и в том числе найдено и мое одно письмо, два года назад писанное, признаюсь, что мерзкое несколько, но злоумышления и коварства в себе не скрывающее. Я был взят к ответу в Калугу к генералу Линденеру, и пока ехал я туда или, лучше сказать, везли меня туда, был я уже в продолжение того времени прощен и Линденером возвращена была мне шпага и объявлено Всемилостивейшее Государя прощение. Итак, я обратно прибыл к баталиону, питая в душе моей чистейшие чувства благодарности к нашему Монарху. Но недолго, любезный друг, был я счастлив. В другой раз за мною прислан курьер и я отправился в Петербург, однако же имея добрую надежду, ибо я ни арестован, ни выключен не был и льстился счастием быть представлен Государю. Не таковы были следствия моей надежды, я вместо быть представлен Государю посажен был в Петропавловскую крепость, а оттуда препровожден в Кострому, где полгода живу».
И дальше начинается собственно деловая, так сказать, часть письма:
«Нет, любезнейший Александр Васильевич, покровителей, которые бы могли облегчить мою участь, все средства вдруг пресеклись с моим благополучием, всему для меня конец, отдален от родных моих, лишился брата, коего не только участь для меня сокрыта, но самое место пребывания его неизвестно.
Любезнейший друг, ты столь хорошо был ко мне расположен, писал ко мне в Польшу, чтобы я назначил, чем одолжить меня. Вот случай не только одолжить меня, но и счастие мое составить. Ты средства делать добро не лишен, имеешь добрую душу, некогда называл меня своим приятелем, теперь уже состояния наши весьма разные, тем великодушнее будет с твоей стороны помочь мне в моем несчастии. Приведи на память те старания, которые употреблял я, чтобы оказать тебе мои услуги, то расположение, которым тщился доказать мою приверженность, но все сие не может сравниться с тем, что ты в состоянии мне сделать. Я жду возможного. Если и в сем случае я столько несчастлив, что по средствам твоим ничего получить невозможно сделать, по крайней мере через подателя сего Ивана Николаевича г-на Назарова, моего хорошего приятеля, сделай милость — отвечай мне. Ты же в состоянии вообразить себе, какое мне доставит сие удовольствие, тем еще более, что все меня оставили, к кому ни пишу, никто не отвечает. Вот, любезный друг, состояние человека, некогда бывшего счастливым. Теперь и само здоровье от чрезвычайной скорби ослабевает, исчезают способности, существование меня отягощает, лишь обязанность к родным моим обращает меня к должности христианина. Живу я здесь совершенно как монах, отдален от общества, питая скорбь мою в уединении, о упражнениях скажет тебе подробно приятель мой.
Вот, любезнейший друг, краткое начертание моего положения. Долго было бы описывать подробности для чувствительности твоей поразительные.
Впрочем, пожелаю тебе от чистого сердца всевозможных благ, пребуду навсегда с непременною и совершеннейшею приверженностию.
Покорный слуга
1799 года 9-го июля, Кострома».
Разумеется, можно предположить, что желая внушить другу ясное представление об ужасном положении и настроении своем (намек на тягу к самоубийству), Ермолов значительно повысил градус своего отчаяния по сравнению с реальностью. В конце концов, он не сидел в крепостном каземате, как Каховский и Бухаров, не прозябал в бесконечно далеком суровом Тобольске, как другие «старшие братья». Он жил в уютной Костроме, ничем не регламентированный в своих занятиях. Он сам писал потом, что «жители города оказывали мне великодушное расположение»; большую часть ссылки он жил вместе с Платовым, с которым сдружился, к нему расположен был губернатор, у него, как мы видим из писем Казадаеву, появились новые приятели, которым он доверял.
Вариант ссылки, казалось бы, вполне щадящий.
Но мы должны понимать, с кем имеем дело. То, что другому представлялось бы приемлемым, Ермолова вполне могло ввергнуть в отчаяние.
Надо помнить генеральную, с юности, жизненную установку нашего героя: «вперед и выше».
По его собственному утверждению, в данном случае вполне основательному, его тяжко угнетало ощущение упущенных возможностей. Мечты о славе и великих свершениях, которые еще недавно были основным содержанием его внутренней жизни, теперь становились вполне беспочвенными. «Судьба, не благоприятствующая мне, — писал он в воспоминаниях, — возбуждала сетования мои в одном только случае — когда вспоминал я, что баталион артиллерийский, к которому я принадлежал, находился в Италии, в армии, предводимой славным Суворовым, что товарищи мои участвуют в незабвенных подвигах непобедимой нашей армии. В чине подполковника был я в царствование Екатерины, имел орден св. Георгия и св. Владимира. Многим Суворов открыл быструю карьеру: неужели бы укрылись бы от него добрая воля, кипящая пламенная решимость, не знавшая тогда опасностей?»
Формула «на вечное житье» могла оказаться формулой его судьбы. В 1799 году вряд ли кто рассчитывал на скорое окончание павловской эры. Каждый упущенный год отдалял его от великой цели. Другие совершали подвиги, получали ордена и чины, а он оставался далеко позади, понимая, что наверстать упущенное может оказаться невозможным, даже если житье в Костроме окажется не вечным, но длительным.
Он писал чистую правду, утверждая, что наиболее мучительным для него был именно военный фон его костромского сидения. Он следил по газетам, которые исправно приходили в Кострому, за международными событиями. А кроме суворовских побед в Италии и тяжкого, но героического отступления из Швейцарии — знаменитый переход через Альпы, генерал Бонапарт, еще недавно артиллерийский лейтенант, завоевывал Египет…
Многие вчерашние друзья и приятели Ермолова и в самом деле сочли за благо не компрометировать себя перепиской с опальным. Но кроме верного Казадаева через полтора года после прибытия в Кострому у него появился и еще один корреспондент — тот самый его сослуживец поручик Огранович, который сопровождал его в Калугу после первого ареста. Причина длительного молчания Ограновича была вполне уважительна — он участвовал в Итальянском походе Суворова.
Ермолов писал:
«Любезный друг Иван Григорьевич!
Не в состоянии изобразить я тебе, какое удовольствие доставило мне письмо твое, но только смею уверить, что чувства благодарности с моей стороны были соразмерны оному. И не усомнись, в полной цене принимаю сие одолжение, радуясь при том, что ты окончил поход столь трудный благополучно. Весьма лестно быть участником тех побед, которые навсегда принесут вам много чести, доставя сверх того опытность, нужную достойным офицерам, каковы все те, коим некогда имел я счастие быть сотоварищем. Не думай, чтоб лесть извлекала сии приветствия, но верь, что они истинные чувства того, кто за счастие поставляет иметь многих из вас приятелями.
Я, благодаря Всевышнего, живу спокойно, уединенно; счастлив тем, что и здесь многие обо мне хорошо разумеют. Время хотя и медленно течет для несчастных, но разными упражнениями я сколь возможно его сокращаю; может быть сие и не долго продлится, ибо в милостях государя отчаиваться неблагоразумно, когда многие видим тому примеры».
Следующий абзац свидетельствует, что к этому времени эпистолярные связи костромского узника несколько расширились:
«Письмо, при сем приложенное, отдай Железнякову, но прежде прочти его и несколько посмеешься; а то он, стыдясь его, не покажет, и все мои поклоны пропадут даром. Прощай, любезный друг, и помни покорного слугу Ал. Ермолова.
24 мая 1800 г. Кострома.
P. S. Спешневу, Смагину и Бегунову поклонись!»
Дело не в том, что письмо это было написано через год после приведенного выше письма Казадаеву и Ермолов втянулся в костромскую жизнь. Дело в адресате. Шуточное письмо некому Железнякову свидетельствует, что Алексей Петрович и в самом деле не утратил в ссылке «веселости» своей. Ограновичу и бывшим сослуживцам по артиллерийскому батальону он мог ее демонстрировать.
Однако две вещи его мучили: предательство многих вчерашних товарищей и, самое важное, невозможность участвовать в войне.
11 июля, в ответ на письмо Ограновича, он сетовал: «Теперешние обстоятельства дают мне случай вернейшим образом испытать друзей моих и тех, которые меня помнят». У него, стало быть, немало было друзей и вне «канальского цеха», кроме «старших братьев»; «Но не лестью побуждаем, скажу тебе, что не все таковы как ты, и те самые, на дружбу которых более имел я права, меня чуждаются».
Огранович не был особенно близок к Ермолову в благополучные времена, но у него, очевидно, было чувство вины перед сослуживцем, которого он вынужден был возить как арестанта.
Кроме болезненной темы предательства друзей — а это сыграло не последнюю роль в том, что Ермолов сделался мнителен и недоверчив к людям, — он постоянно возвращается к еще более болезненному для него мотиву упущенной славы. «Напиши, любезный друг, — просит он Ограновича, — как ты поживаешь и что-нибудь слегка о твоем походе, как ты прежде и обещал. Ты чувствительно одолжишь меня. Я до сих пор не мог отучить себя, чтобы не с жадностию желать что-нибудь узнать о сослуживцах моих. Когда вы были в походе, всяких газет листы перебрасывал я с нетерпением, чтобы с кем-нибудь из вас повстречаться, и часто, прочитывая подвиги наших героев, то есть моих сослуживцев, воспламенялась кровь покоящегося воина. Что делать! Желал бы и я, разделив труды ваши, участвовать в славе вашей, но нет возможности и все пути преграждены. Прощай, любезный друг, и помни того, который тебя никогда забыть не в состоянии».
Эта невозможность самореализации в войне, естественном для него состоянии, эта тоска по упущенным возможностям должны были сделать еще более концентрированной и напряженной его мечту о прорыве к великим делам.
Имея в виду это обстоятельство, возвратимся к письмам Ермолова Казадаеву, документу фундаментальной важности.
Буквальное совпадение ключевых фраз письма от 9 июля 1799 года с текстом позднейших воспоминаний говорит о том, что Ермолов с самого начала выработал тот вариант случившегося, которым он хотел заменить реальную ситуацию.
Разумеется, Ермолов хотел представить себя стоически переносившим удары судьбы. Но если в воспоминаниях он говорил о том, что в ссылке сохранил свою «веселость», то Казадаеву пишет: «Теперь и самое здоровье мое, от чрезмерной скорби, ослабевает; исчезают способности, существование меня отягощает, лишь обязанность к родным моим обращает меня к должности христианина. Живу я здесь совершенно как монах, отдален от общества, питаю скорбь мою в уединении».
Между сохраненной несмотря ни на что «веселостью» и мыслями о самоубийстве, на что намекает в этом пассаже Алексей Петрович, и лежит истина.
Обратим внимание на два места в письмах Казадаеву и Ограновичу: «О упражнениях скажет тебе подробно приятель мой» и «Время хотя и медленно течет для несчастных, но разными упражнениями я сколь возможно его сокращаю».
В отрочестве воспитавший себя на Плутархе во французском переводе, теперь он принялся за изучение латыни, чтобы читать в подлиннике великих римлян.
Ему необходимы были духовная опора и знание, которое несмотря ни на что помогало выработать стратегию будущей жизнедеятельности.
Изучение античных авторов явилось в какой-то степени альтернативой действию, анестезией, ослабляющей тоску по действию.
Главным для него, несомненно, был Цезарь, — с его целеустремленностью, полководческим искусством и грандиозностью поставленных перед собой целей.
«Записки о галльской войне» не могли не напоминать Ермолову Персидский поход. И там, и там храбрости и многочисленности варваров, каковыми русские офицеры считали персов и их кавказских союзников, были противопоставлены выучка, дисциплина и несокрушимый боевой дух легионов цивилизованного мира.
Трудно сказать, когда родилась у Ермолова мечта о службе на Кавказе, мечта, реализации которой он будет добиваться с упорством и хитроумием. Но в 22 года сильный человек не смиряется со своей участью и не может поверить в окончательное поражение. И несомненно, что за два года, проведенные в костромском бездействии, — бездействии физическом, — Ермолов жил интенсивной умственной жизнью, стержнем которой были построение планов на будущее, выбор вариантов, осмысление своих возможностей. Самохарактеристика, которую он начертал в воспоминаниях: «Добрая воля, кипящая, пламенная решимость, не знающая опасностей», — свидетельствует об уверенности, что при благоприятных обстоятельствах он сможет осуществить самые смелые замыслы. Разумеется, на ниве войны.
Труды по римской истории Ливия и Тацита были не просто увлекательным чтением. Оба они, каждый по-своему, были певцами римских доблестей, а Тацит, почитатель суровых республиканских добродетелей, еще и обличителем деспотов времен империи. У Тацита, кроме частично сохранившихся «Анналов», повествующих о временах империи — о правлениях Тиберия, Клавдия и Нерона, есть принципиально важное в данном случае сочинение — «Германия», обширный рассказ о жизни германских племен, антиподов Рима.
За годы ссылки у Ермолова была возможность изучить Тацита в полном объеме. И если предположить, что в круг его чтения входила «Германия», то это отчасти объясняет его позднейшее стремление на Кавказ. Именно Тацитова «Германия», сурово убедительная, могла стать основой его представлений о взаимоотношениях Российской империи и кавказских народов.
Для человека, сформированного веком Просвещения, античные источники играли огромную роль. Возможно, большую, чем собственный опыт.
Глубокий исследователь римской идеологии Георгий Степанович Кнабе писал в работе о Таците:
«В книге Тацита Германия и Рим выступают как враги, ведущие между собой ожесточенные войны. Войны эти длятся уже более двух столетий. Они давно перестали быть военным конфликтом или даже рядом таковых. Перед нами вековое противоборство двух взаимоисключающих укладов жизни, где столкнулись Imperium, то есть государственный организм, подчиненный опирающейся на военную силу центральной власти, и Germanorum libertas, „германская свобода“, — хаос местнических интересов и эгоистического своеволия. В этом конфликте римляне и используют прежде всего особенности германцев, вытекающие из отсутствия у них развитой государственности, их неорганизованность. Распри, слабости, связанные с отсутствием единства и выдержки. И в „Германии“ и в других сочинениях Тацит подчеркивает, что живя войной и для войны, германцы так и не сумели выработать у себя дисциплину, привыкнуть к ответственности на поле боя, что отличает их от римлян и делает слабее последних»[17].
Эта ситуация позже идеально наложилась на ситуацию «Российская империя — горские народы Кавказа». Вплоть до того, что гибель мощных легионов Варра, истребленных германцами в Тевтобургском лесу в 9 году н. э., была прообразом трагедий русских отрядов в лесах Чечни.
Тацит и Цезарь, разработавший эффективную стратегию и тактику подавления бесстрашных германских племен, готовили в тихой Костроме будущего «проконсула Кавказа».
Переведенный в феврале 1827 года на Кавказ из Сибири декабрист Николай Цебриков, видевший в Тифлисе Ермолова, свидетельствовал, что сочинения Тацита и Цезаря были настольными книгами тогда еще командующего Кавказским корпусом.
Стало быть, два эти римлянина — историк-мыслитель и полководец-мыслитель — сопровождали Ермолова всю его активную жизнь.
Жизнь Ермолова, с пятнадцати его лет, была наполнена постоянными и стремительными переменами. Кострома была остановкой, паузой, возможностью всмотреться в себя, привести в систему представления о собственных возможностях, утвердиться в своем жизненном выборе, но и осознать хрупкость своего положения, свою зависимость от чужой и чуждой воли, здесь должна была укрепиться его жажда независимости, которая и привела его на Кавказ.
Отчаянные иеремиады Ермолова в письмах Казадаеву, не совсем соответствующие его основному настроению, имели, надо полагать, вполне определенную цель — подтолкнуть друга к конкретным действиям.
Александр Васильевич оказался и в самом деле «бесценным другом». Ресурсы для соответствующих действий у него были. И главный ресурс — свойство с любимцем императора графом Кутайсовым. Кроме того, он имел с екатерининских времен многочисленные связи в военных верхах, тем более что состоял при инспекторе всей артиллерии Корсакове.
Проникнувшись несчастьем своего друга, он немедленно начал действовать, хотя ему, как и всем в этом кругу, известно было «дело Каховского» — маловероятно, что он поверил наивным утверждениям Ермолова, и он понимал, что рискует.
К сожалению, не сохранились письма Казадаева в Кострому, и мы представляем себе происходившее по одним только ответным письмам Ермолова.
«Любезнейший друг Александр Васильевич!
Одолжения твои не только мои силы превышают, но и самые возможности выразить то чувство благодарности, коим я исполнен. Зная доброту сердца твоего и что ты не мне лишь одному, столько тебе приверженному, но и всем несчастным готов воспомоществовать, не напоминаю я о себе, ибо ты, храня еще во всей силе чувства дружбы, которые мы питали друг к другу, без сумнения обо мне помнишь и самое письмо твое, присланное с Иваном Николаевичем Назаровым, доказывает мне, что ты не только меня не забыл, но меня любишь и в несчастиях моих подаешь мне руку помощи.
Теперь пишу я тебе мало, но впоследствии изображу подробно, как я расположил жизнь мою, хотя и пустого много будет, но ты не поскучишь, желая знать, как препровождаю время. Прощай, любезнейший друг, будь благополучен, продолжай облегчать судьбу несчастных и тем сделай участь их бесценнее, что благополучием своим тебе они обязаны будут. Прощай, будь уверен, что я тебе не льстиво, но душевно предан и одолжения твои ценить умею. Продолжай их, не презирай тем состоянием, в каком нахожусь я теперь, оно может сделать меня несчастливым, но никогда не истребит тех чувств, которыми снискал я твою дружбу. Прощай.
1799 г., сентября 21-го дня».
Что за хлопоты предпринял Казадаев, мы не знаем. Он искал способов вернуть Ермолова в службу, но зная нрав императора, делал это с чрезвычайной осторожностью. О варианте, предложенном Казадаевым, есть несколько свидетельств.
Денис Давыдов рассказывает: «Между тем правитель дел инспектора артиллерии майор Казадаев, женатый на дочери генерала Резвого[18], любя Ермолова, советовал ему написать жалобное письмо к свояку своему, графу Ивану Павловичу Кутайсову (женатому на другой дочери Резвого), который ручался в том, что выхлопочет ему полное прощение и возвращение всего потерянного. При этом случае упрямство, коим всегда отличался Ермолов, обнаружилось в полном блеске. Хотя он благодарил Казадаева за его дружеское участие, но вместе с тем отказался писать к графу Кутайсову. Таким образом он отказывался от царского прощения, которое по ходатайству графа Кутайсова не замедлило бы последовать, и тем обрекал себя на заточение, которое могло быть весьма продолжительным».
Это почти буквальное воспроизведение рассказа самого Ермолова, который позже в собственных воспоминаниях нарисовал стоическую картину: «В Костроме получил я уведомление от одного из лучших приятелей, сослуживца, который по супружеству своему был в тесных связях родства с любимцем императора графом Кутайсовым, что, склонив внимание его к несчастному положению моему, имеет от него поручение дать мне знать, чтобы, изобразив его в самых трогательных выражениях, я обратился к нему с письмом моим и что он надеется испросить мне прощение. Конечно, неблагоразумием назову я твердую волю мою в сем случае, но не дорожил я свободою, подобным путем снисканное, и не отвечал на письмо приятеля моего».
Если Давыдов воспользовался устным рассказом своего кузена, то Погодин[19], описывая эту ситуацию, опирался на известный ему текст воспоминаний.
Ермолов, воспитавшийся на Плутархе и напитавшийся в ссылке высокими примерами римских доблестей, желал представить себя потомству достойным этих традиций.
Его рассказ — яркий образец автобиографического мифа.
Причем сведения Давыдова более правдоподобны, чем позднейший литературно обработанный вариант Ермолова. Ермолов рассказывал ему о том, что написание письма было инициативой Казадаева и ему еще предстояло обсудить это с графом Кутайсовым. В воспоминаниях же граф сам якобы предлагал эту акцию, гарантируя успех.
В этом случае отказ Ермолова, естественно, выглядит чистым героизмом.
На самом деле все было не совсем так и вполне соответствовало нравам эпохи.
«Любезнейший друг Александр Васильевич!
Письмо твое доставлено было верно, удовольствие, которое оно мне доставило, есть сверх всякого ожидания. Ты можешь представить себе, сколько человеку в моем положении лестно вспоминание друзей его, я не в силах возблагодарить тебя соответственно твоим одолжениям и попечении обо мне. Не припиши лести, если скажу я, что редки таковые друзья и что первый из них ты. Ты заслуживаешь удивление, соразмерное почтению, которое всякого к тебе иметь доставляешь. Я не имел случая оказать тебе ни малейших услуг и кроме истинного и душевного моего к тебе почтения не было других доказательств моей привязанности, но в сравнении с твоими обо мне стараниями возможные усилия с моей стороны заслужить оные будут недостаточны. Письмо сие препровождал я к тебе с коллежским советником здешним прокурором Александром Федоровичем Новиковым, который хорошим своим к мне расположением и одолжениями заслуживает возможное уважение и почтение. Ты к нему приласкайся и его весьма полюбишь».
Надо полагать, что пылкие излияния Алексея Петровича были совершенно искренни. Богатый, успешный по службе, во всех отношениях благополучный Казадаев пустился в рискованные хлопоты из чистого чувства дружбы и сострадания.
То, что письмо привез губернский прокурор — симптоматично. Костромское чиновничество явно сочувствовало ссыльному подполковнику. Вопреки утверждениям Алексея Петровича он пребывал в Костроме отнюдь не в пустоте.
И далее он излагает сюжет, в очередной раз демонстрирующий механизм автобиографического мифотворчества:
«Долго думал я о твоем мне совете писать письмо известной тебе особе, но кажется, слишком я несчастлив, чтобы могло сие средство послужить в пользу. Однако же, не взирая на все предузнания, должно все испытать, чтобы не упрекнуть себя после. Ты начал сам делать мне сие, мало если окажу я вспоможение, но малость тебе одному представляю сие усовершенствовать. Воспользуйся, любезный друг, сим верным случаем и с ним напиши мне обратно, нужно ли, необходимо <ли> употребить в действие сие единое средство? Ты можешь все писать без малейшего сумнения, и тогда примемся мы порядочно за дело. Или, может быть, нужно уже будет иметь терпение. Если и так, то верь, что я много его имею и недостатком оного не можешь упрекнуть своего друга. Располагай по возможностям, я на одного тебя имею мою надежду и слишком я тебя знаю, чтобы мочь сколько-нибудь усомниться. Я с нетерпением ожидаю твоего ответа. <…>
Всепокорнейший слуга
30-го ноября. Кострома».
Как видим, вопреки рассказам самого Алексея Петровича, воспроизведенным позднее в различных вариантах, он отнюдь не проявил римской стойкости, но готов был воспользоваться предложенной Казадаевым интригой, вполне типичной для времени и не заключающей в себе ничего особенно уничижительного.
Однако если внимательно вчитаться в письмо, то станет ясно, что прибегнуть к протекции пленного турчонка, капризом императора ставшего большим вельможей, Алексею Петровичу очень не хотелось. Он готов был пойти на это, но только в том случае, если бы Казадаев ручался за успех.
Дубровин, знакомый с этим письмом, резонно замечает:
«Погодин говорит, что Ермолов наотрез отказался писать письма, тогда как на самом деле это было не так. Очевидно, что рассказывая впоследствии, А. П. хотел замаскировать свои действия и выставить рельефнее свой характер».
Что произошло далее — неизвестно. То ли Казадаев, проконсультировавшись с Кутайсовым, понял, что тот не склонен ходатайствовать за преступника, чем-то сильно раздражившего Павла, и письмо не было написано, или оно было написано, но не принесло желаемого результата.
Во всяком случае, явных следов этой акции не зафиксировано. По утверждении Ермолова, равно как и по документальным свидетельствам, Алексей Петрович получил свободу только по смерти Павла.
И, однако, здесь мы сталкиваемся со странным противоречием.
Обратим внимание на фразу из воспоминаний Алексея Петровича, когда рассказывает он о костромской ссылке: «Полтора года продолжалось мое пребывание». На самом деле он пробыл в Костроме два с лишним года…
В конце концов, это могло быть опиской. Маловероятно, чтобы Ермолов забыл, сколько же времени провел он в ссылке. Странно только, что этого не заметили комментаторы его мемуаров.
Но в прошении Ермолова об отставке от 10 ноября 1827 года, где он подробно, с точными датами перечисляет все свои перемещения по службе по 1807 год, он, в частности, пишет: «Принят паки в службу в 8-й артиллерийский полк 1801 года марта 1».
Но 1 марта 1801 года Павел был еще жив и здоров. Убит он был через десять дней — 11 марта. Значит, Ермолов был освобожден и принят в службу при жизни императора?
В записках о своей молодости Алексей Петрович утверждает: «Скончался император Павел, и на другой день восшествия на престол Александр I освободил Каховского и меня в числе прочих соучастников вымышленного на него преступления».
Тщательный исследователь биографии нашего героя А. Г. Кавтарадзе сообщает:
«По восшествии на престол Александра I были освобождены многие лица, арестованные за время царствования его отца, в том числе и большинство членов смоленского офицерского кружка»[20].
Увы, отнюдь не большинство.
15 марта 1801 года Сенат получил именной указ нового императора «О прощении людей, содержащихся по делам, производившимся в Тайной Экспедиции, с присовокуплением 4-х списков оных».
«Обращая бдительное внимание на все состояния врученного Нам от Бога народа, и желая наипаче облегчить тягостный жребий людей, содержащихся по делам в Тайной Экспедиции производившимся, препровождаем при сем списки: 1) О заключенных в крепостях и разных мест сосланных с лишением чинов и дворянского достоинства; 2) О таковых же заключенных и сосланных без отнятия чинов и дворянства; 3) О содержащихся в крепостях и сосланных в разные места на поселение и в работу людей, не имевших чинов; и 4) О разосланных по городам и в деревни под наблюдение и присмотр Земских начальств, Всемилостивейше прощая всех, поименованных в тех списках без изъятия, возводя лишенных чинов и дворянства в первобытное их достоинство, и повелевая Сенату Нашему освободить их немедленно из настоящих мест их пребывания и дозволить возвратиться, кто куда желает, уничтожа над последними и порученный присмотр. В прочем Мы в полном надеянии пребываем, что воспользовавшиеся сею Нашею милостию, потщатся поведением своим соделаться оной достойными».
В первом списке числились подлежащими освобождению из Шлиссельбургской крепости бывший подпоручик Огонь-Догановский, а из Кексгольмской — бывший капитан Бухаров.
По второму списку освобождался из заключения в Спасо-Прилуцком монастыре титулярный советник Кряжев, незадолго до ареста перешедший из военной в статскую службу.
По четвертому списку освобождался сосланный в Кострому артиллерии подполковник Ермолов.
Списки эти — всего 130 человек — дают весьма поучительную картину павловских политических репрессий, отображая их размах и пестроту.
Тут и Радищев, живший после воцарения Павла в своем имении в Калужской губернии, возвращенный из Сибири, но не допущенный в столицы; и вольнодумец и авантюрист Кречетов, схваченный еще при Екатерине, основатель «тайного общества», в которое он звал великого князя Павла Петровича; и Балье, «при Высочайшем Дворе служивший кондитором» и, видимо, попавший под горячую императорскую руку и угодивший в Киево-Печерскую крепость; и княгиня Анна Голицына; и арап Александров, «служивший при дворе»; и англичанин Фокс, сосланный в Вятку; французы, поляки, много военных — от солдата до полковника; и «Уманьян, Беккер, Монтаний, иностранные купцы, бывшие в Москве»; и крестьяне; и даже солдатские жены, и т. д.
Из взятых по делу «канальского цеха» помилованы только четверо. Остальные еще ждали своей очереди. По какому принципу отбирались первые кандидаты на помилование — сказать невозможно.
Каховский упоминается в письмах Ермолова как свободный человек только со следующего года.
Тот же А. Г. Кавтарадзе, опираясь на послужной список Ермолова, пишет: «9 июня 1801 года Ермолов был принят в чине подполковника в 8-й артиллерийский полк».
Но Ермолов в прошении 1827 года об отставке говорит о том, что 9 июня произошло нечто иное: «Поступил в конноартиллерийский баталион 1801 г. июня 9».
По утверждению Алексея Петровича в том же документе 1827 года, 1 марта 1801 года он был зачислен в службу в 8-й артиллерийский полк, а 9 июня — в конноартиллерийский батальон, то есть получил конноартиллерийскую роту, которая дислоцировалась в Вильно.
Если же верить Своду законов и воспоминаниям Ермолова, 1 марта 1801 года он жил еще под присмотром в Костроме. Стало быть, имеет место несомненная ошибка или описка, которая кочевала из одного формуляра в другой.
То, что указ о его освобождении издан был не в первый день воцарения Александра, а через три дня — не 12, а 15 марта — это мелочь.
Не нужно, однако, думать, что ситуация с просьбой о помиловании — само по себе обсуждение такой необходимости — была для Ермолова легкой и простой. Нравы нравами, но внутри одной традиции разные люди чувствуют себя по-разному.
Едва ли не все, кто знал Ермолова или изучал его личность, особо подчеркивали его высочайшую самооценку. Как писал Дубровин: «Сознавая свои силы, Ермолов, сделавшись непомерно-честолюбив и упрям, стал относиться к некоторым с едким сарказмом, иронией и насмешками»[21].
Человеку с такой самооценкой, готовившему себя к великому поприщу, конечно же тяжко было обращаться с униженно-трогательным прошением к кому бы то ни было…
Итак, судя по документальным данным, Ермолов появился в Петербурге после воцарения Александра I.
Все приходилось начинать заново.
И сложность его положения была не только и не столько в том, что не было уже у него покровителей, «протекторов», а в том, что — по известному выражению — он вернулся в другую страну.
Стремительно короткая павловская эпоха рухнула в небытие.
Манифест от 12 марта 1801 года о вступлении на престол Александра гласил:
«Объявляем всем верным подданным Нашим. Судьбам Вышнего угодно было прервать жизнь любезного Родителя Нашего Государя Императора Павла Петровича, скончавшегося скоропостижно апоплексическим ударом в ночь с 11 на 12 число сего месяца. Мы восприемля наследственно Императорский Всероссийский Престол, восприемлем купно и обязанность управлять Богом нам врученный народ по закону и по сердцу в Бозе почившей Августейшей Бабки Нашей Государыни Императрицы Екатерины Великой, коея память Нам и всему Отечеству вечно пребудет любезна, да и по ЕЕ премудрым намерениям шествуя, достигнем вознести Россию на верх славы и доставить ненарушимое блаженство всем верным подданным нашим…»
В самом деле влияние эпохи Екатерины было еще сильно. Исторические эпохи не кончаются в одночасье. Эпоха павловская за своей краткостью и контрастностью по сравнению с эпохой предыдущей стала исключением из правил. Хотя фанатичная фрунтомания, привитая Павлом своим сыновьям, опасно роднила два царствования…
Положение оказавшегося в Петербурге Ермолова было таково, что его вряд ли волновали политические новшества, сопровождавшие смену персон на троне, восстановление дворянских выборов, отмена запрещения на ввоз в Россию иностранных книг, даже подтверждение Жалованной грамоты дворянству, декларирующей дворянские вольности и замороженной Павлом.
Его заботила собственная судьба. В подробных письмах Казадаеву, даже в тех, что пересылались с оказиями, нет и следа политических соображений.
Ермолов был сосредоточен на одной упорной мысли: как вернуть потерянное за годы опалы, как восстановить нормальный ход военной карьеры.
Вообще политические представления Алексея Петровича — сфера таинственная…
Вокруг Александра оказались люди, сформировавшиеся хотя в екатерининское время, но в разных слоях. Были две влиятельные группы. Первая — «молодые друзья» нового императора: граф Павел Строганов, бывший активным свидетелем французской революции и напитавшийся ее идеями; граф Виктор Кочубей, дипломат, племянник Безбородко; князь Адам Чарторыйский, польский патриот, который через три года станет министром иностранных дел России; Николай Новосильцев, боевой офицер, воевавший в 1794 году против Костюшко, несколько лет живший в Лондоне, человек выраженного государственного ума. Все они, кроме сорокалетнего Новосильцева, были ненамного старше 24-летнего императора. Все они были безусловные либералы, мечтавшие о существенных преобразованиях государственной жизни империи.
Второй крупной группировкой были екатерининские маститые вельможи, заседавшие в Государственном совете.
Первым серьезным столкновением между ними был спор о судьбе Грузии. Спор, от решения которого, как выяснилось через 15 лет, зависела судьба Ермолова. Именно тогда, в летние месяцы 1801 года, решался не только вопрос, быть ли Грузии частью Российской империи или остаться жертвой свирепой борьбы интересов окружавших ее исламских деспотий и воинственных горных народов, но и более частный вопрос: останется ли будущий генерал Ермолов на обычной рутинной стезе среди десятка таких же ярких, но заключенных в строгие рамки фигур, или же вырвется в совершенно иную сферу, соответствующую его «неограниченному честолюбию»?
История вхождения Грузии в состав Российской империи многосложная и драматическая. Излагать ее здесь сколько-нибудь подробно возможности нет[22].
Манифест Павла в ответ на просьбу царя Георгия XIII о вхождении Грузии в состав Российской империи был подписан 18 декабря 1800 года, когда Ермолов тосковал в Костроме.
Царь Георгий умер, а император Павел был убит.
Окончательное решение судьбы Грузии легло на Александра.
«Молодые друзья», считавшие, что прежде всего необходимо заняться внутренними реформами, были решительно против подтверждения павловского манифеста, понимая, какие сложности это влечет. В частности — обострение отношений с Персией и неизбежные столкновения с горскими народами.
«Екатерининские орлы» Государственного совета столь же решительно настаивали на включении христианского царства в состав империи. Любое расширение территории было для них императивом.
После длительных колебаний Александр манифестом от 12 сентября 1801 года подтвердил обещание своего убитого отца. Но в манифесте — в ответ на второй пункт прошения покойного царя Георгия — было сказано: «…Желали Мы испытать еще нет ли возможности восстановить первое правление (то есть царскую власть. —
В Грузию был направлен главноуправляющим, то есть наместником, генерал-лейтенант Кнорринг, а все члены царствующего дома, оказавшиеся в пределах досягаемости, были высланы в Россию…
Так был заложен краеугольный камень уникальной карьеры подполковника артиллерии, прозябавшего в Вильно. Именно благодаря решению Александра, непременным следствием которого должна была стать и стала великая Кавказская война, Ермолову суждено было стать не просто историческим лицом, но лицом историческим по преимуществу. Человеком-символом — «альтер эго» Российской империи.
У нас немного сведений о периоде жизни Ермолова после возвращения из ссылки и до начала Наполеоновских войн.
Сам он писал: «Я приезжаю в Петербург, около двух месяцев ежедневно скитаюсь в Военной коллегии, наскучив всему миру секретарей и писцов. Наконец доклад обо мне вносится государю, и я принят в службу. Мне отказали чин, хотя принадлежащий мне по справедливости, отказано старшинство в чине, конечно не с большею основательностию. Президент военной коллегии генерал Ламб, весьма уважаемый государем, при всем желании ничего не мог сделать в мою пользу».
Здесь почти все соответствует действительности.
Хотя главных покровителей Ермолова уже не было на сцене, но были влиятельные люди, помнившие его и готовые помочь.
Генерал В. И. Ламб был одним из них.
6 июня 1801 года он писал инспектору артиллерии Корсакову: «Милостивый государь мой, Алексей Иванович! Я сегодня имел счастие Государю императору докладывать между прочим и о господине Ермолове. Не знаю, угодил ли я вам во всем, но что от меня зависело, то все я сделал как добрый человек. Его Величеству угодно было повелеть принять его в 8-й артиллерийский полк, но только тем же чином. Как старшинство ни у кого не отнимается, то и нет сомнения, чтобы не получил он следующий чин при первом производстве, но до того времени надобно взять терпение. Я еще уверяю вас, что по истине просил верноподданнейше о чине, но высочайшего соизволения на то не было».
Чин полковника Ермолов не получил, но и старшинство у него отнято не было. Правда, особой пользы ему это не принесло. Он ждал производства еще пять лет.
Денис Давыдов — источник ясен — объяснял эту несправедливость: «Граф Аракчеев пользовался всяким случаем, чтобы выказать свое к нему неблаговоление; имея ввиду продержать его по возможности долее в под полковничьем чине, граф Аракчеев переводил в полевую артиллерию ему на голову либо отставных, либо престарелых и неспособных подполковников». Они получили чин раньше Ермолова, и, соответственно, старшинство оказывалось за ними, а следовательно, и производство в полковники.
Отношение и Александра, и Аракчеева к «прощенному преступнику» понятно: Александр, поддержавший заговор против своего отца, тем не менее воспринимал этих «провинциальных смутьянов» как нарушителей установленного порядка. Прощение было необходимым и рассчитанным жестом, но это не значит, что все прощенные были ему симпатичны. Одно дело четкий и быстрый дворцовый переворот, не грозящий устоям государства, и совсем иное — движение офицерства, расшатывающее — против кого бы оно ни было направлено — самые основы армейской дисциплины. А выход из-под генеральского контроля офицеров чреват был выходом из-под всякого контроля солдат.
Ермолова он вернул, но поощрять не собирался.
С Аракчеевым все было еще проще. Он знал, против кого конспирировали Ермолов и его друзья: против императора Павла, которому он, Аракчеев, был искренне предан.
Положение сложилось конечно же парадоксальное — любимый Аракчеевым Павел был свергнут и убит с согласия Александра, но теперь оба они сходились в неприязни к тем, кто высмеивал покойного императора и обдумывал планы его убийства…
Одно дело высший генералитет, исходивший из чувства самосохранения и просто сменивший персону на престоле, и совсем иное — молодые вольнодумцы, воспитанные в эпоху Орловых и Потемкина, эпоху, истоком которой был гвардейский мятеж.
Хотя идеолог и организатор переворота 11 марта Пален был из Петербурга удален.
Надо сказать, что соображения Александра были вполне резонны, дальнейшее развитие событий это подтвердило. Каховского с товарищами вряд ли следует считать идеологическими предтечами декабристов, но декабристы, безусловно, продолжили их нравственную и организационную традицию.
Периоду с момента своего освобождения по 1805 год Алексей Петрович в воспоминаниях уделяет одну страницу. Воспроизведем ее и попробуем развернуть.
«С трудом получил я роту конной артиллерии, которую колебались мне доверить как неизвестному офицеру между людьми новой категории». Вот важная и точная формула — «между людьми новой категории».
При каждом политическом катаклизме стремительно появляется эта «новая категория» людей, так или иначе причастных к смене власти или с первого же момента громко заявлявших о поддержке новой августейшей особы.
Хотя и существует мнение, что смоленские вольнодумцы были ориентированы на наследника Александра Павловича, а возможно, даже имели с ним связь, но в мартовском Петербурге 1801 года оказалось столько людей, стоявших вплотную к событиям, что в любом случае провинциальные сторонники великого князя Александра оказались вне поля августейшего внимания.
Имя Ермолова было неизвестно Александру, но зато вполне известно Аракчееву.
«Я имел за прежнюю службу Георгиевский и Владимирский ордена, употреблен был в войне с Польшей и против персиян, находился в конце 1795 года при австрийской армии в приморских Альпах. Но сие ни к чему мне не послужило, ибо неизвестен я был в экзерциргаузах, чужд смоленского поля, которое было защитою многих знаменитых людей нашего времени».
Когда Ермолов утверждал, что ему неизвестны были причины его ареста и ссылки, он, разумеется, кривил душой, выстраивая свою биографию. И тут обижаться было не на кого. Он и сетует только на судьбу.
Но после возвращения на службу ситуация изменилась. Изменился и адресат претензий. С этого времени обида, ощущение несправедливости — постоянная интонация его воспоминаний. Конечно же он имел куда больше заслуг, чем многие его новые сослуживцы. Конечно же он имел куда более профессиональных достоинств, чем многие его начальники. Но его не было уже несколько лет перед глазами тех же великих князей во время парадов и учений на том же Смоленском поле. Он был неизвестен, а следовательно — чужой.
«Я приезжаю в Вильну, где расположена моя рота. Людей множество, город приятный; отовсюду стекаются убегавшие прежнего правления насладиться кротким царствованием Александра 1-го; все благословляют имя его и любви к нему нет пределов! Весело идет жизнь моя, служба льстит честолюбию и составляет главное мое управление; все страсти покорены ей!»
Это был опасный период. Обстоятельства заставляли его становиться обыкновенным человеком, гасили его «непомерное честолюбие», ибо совершенно непонятно было, каким же образом может оно осуществиться. Его заявление: «служба льстит честолюбию и составляет главное мое управление» — правдоподобно только во второй половине фразы. Да, служил он с рвением. Ему нравилось служить. Но служба влекла его не сама по себе, а как достижение цели далеко не заурядной. Он понимал, что может удовлетворить свое честолюбие только на военном поприще.
Но как могло «льстить честолюбию» — его честолюбию! — положение командира конноартиллерийской роты, «завалявшегося в полуполковниках»?
Денис Давыдов, благоговевший перед Ермоловым, писал: «Алексей Петрович, не могущий не сознавать в себе способностей, был всегда одарен большим честолюбием».
Воспоминания являются — даже при фактологической правдивости — в большей степени литературой, чем исповедью.
«Весело идет жизнь моя…»
Чтобы составить себе ясное представление о жизни и настроении Ермолова в этот период, надо снова обратиться к его письмам Казадаеву.
Писем виленского периода довольно много, и они существенно контрастны по отношению к мемуарам, и каждое из них наполнено смыслом и выразительно очерчивает внутренний облик нового Ермолова — Ермолова после жизненной катастрофы. Но мы ограничимся несколькими фрагментами[23].
«Итак, я теперь опять имею пустую выгоду быть первым подполковником. Палкевич вышел в корпус Киевский. Ей богу, больно столько времени быть в одном чине и служба, имеющая для меня все приятности, иногда их теряет в виду моем. Но что делать, любезнейший друг, боюсь только, чтобы ты меня не упрекнул малодушием. Но кто, служа, не ищет протесниться сквозь кучу обогнавших, и если судьба доставит какой-нибудь случай по нашей службе, употреби его в пользу человека, кроме твоей подпоры никого не имеющего, и отправь меня куда-нибудь. Не думай, чтобы это были мои вымыслы. Нет, брат мой сидит подле меня и велит мне писать, чтобы ты выискал для меня
Это 1802 год. Ермолов меньше года в Вильно и уже томится своей службой.
Во-первых, ему давно уже положен по выслуге чин полковника. Но и когда он оказывается первым, то есть старшим подполковником в батальоне, он не надеется на производство. Для офицера застревание в одном чине чревато крушением карьеры. На него смотрели как на неспособного — каков бы ни был он на самом деле. И нужна была чья-то сильная рука, чтобы вытолкнуть его из этой мертвой заводи.
Во-вторых, такое ермоловское — «отправь меня куда-нибудь». Он слишком хорошо помнит первые годы своей службы: Молдавия, Польша, Италия, Каспий… Его натура жаждет движения не только по службе, но и в пространстве. Ему необходима динамика.
Каховский, выпущенный из крепости и живущий вместе с младшим братом, лучше чем кто бы то ни было понимает его натуру и те обстоятельства, при которых молодой честолюбец только и может быть собой в полной мере. «Чтобы ты выискал для меня
И старший, и младший знают, что в сложившейся ситуации только подвиг — деяние из ряда вон выходящее — может вырвать из служебной рутины, компенсировать потерянные годы, дать надежду на реализацию мечты.
Говоря сегодняшним языком, это стремление в какую-нибудь «горячую точку», а не просто перевод в другую губернию.
Он остро осознавал, насколько судьба его, его карьера в том ее виде, в каком она только и была для него приемлема, зависят от поддержки Казадаева, правителя дел инспектора артиллерии, и стоящего за ним Корсакова. И мысль о том, что Александр Васильевич сменит место службы, ужасала его.
«Любезнейший друг Александр Васильевич!
Я уже проклинаю твою отставку, с тех пор как ты получил ее, то уже ко мне не пишешь и как будто с нею получил вместе право забыть меня. <…> Новиков мне пишет, что ты старался о переводе моем в казаки, как жаль, что не удалось, а теперь совсем было бы не худо в смутных моих обстоятельствах.
Признаюсь тебе, как истинному другу, что я и в запорожцы идти не отказался. Едва ли лестно служить теперь в артиллерии. Я желал бы ускользнуть, но не предвижу никаких возможностей еще менее людей к тому способствовать могущих. Терпение необходимо. Может быть, не будет ли со временем случая употребить себя полезнее. Надобно подождать».
Всю военную жизнь Ермолова, всю его карьеру любой пост — вплоть до кавказского «проконсульства» — рано или поздно начинал его тяготить, как не отвечающий его представлениям о своих возможностях. И началось это в Вильно. Идея перевестись в казачьи войска, к старому приятелю по ссылке Платову, была в то время любимой идеей. Это была не просто смена климата и рода войск, но и возможность большей свободы, большей независимости.
Это была и память о временах его счастливой и удачливой юности — служба с Раевским, полк Булавы Великого Гетмана, где он получал первые навыки практического артиллерийского дела.
Он не случайно вспоминает запорожцев — в этой печальной шутке был свой смысл. Запорожская Сечь, уничтоженная Потемкиным, — сфера максимальной свободы…
Слух об отставке Казадаева оказался ложным. Александр Васильевич служил при Корсакове до 1803 года — до отставки самого Корсакова. Но вне зависимости от этого нарастает беспокойство в душе Ермолова.
«Мы слышим тысячу новостей касательно артиллерии, но я перестал верить, ибо все столько смешны и глупы, что едва ли можно им сбыться. Сколько бы ни прилагали труда вымышлять пустяки. <…> Как слышно, многие из генералов останутся лишними, да сверх того миллион полковников, и так нет надежды (на получение следующего чина. —
Не знаем, какие именно реформы имел в виду Ермолов, да это и неважно. Его раздражало все. Генералов и штаб-офицеров за екатерининское и особенно павловское время в армии стало и в самом деле слишком много. Высокие чины получали по разным причинам, далеко не всегда по боевым заслугам.
Ермолов не без оснований опасался затеряться в этой массе.
«Я здоров, любезный друг, занимаюсь службою прилежно, ибо мне в диковинку после такой праздной и томной жизни, как я два с половиной года вел. Только еще не могу попасть на лад. Не знаю, каким образом вкралась в меня страшная скука, что я редко или почти никогда весел не бываю, сижу один дома <…>».
Он не обманывал Казадаева. Его действительно одолевала хандра. Он отчаивался вырваться из рутины. Упования на «подвиг» становились все призрачнее. Казадаев и Корсаков могли ему помочь в мелких распрях с Капцевичем[24] и другими недоброжелателями, но явно не могли — как некогда Самойлов и Безбородко — «отправить куда-нибудь»… Он становился мнителен: «Что слышно про наших лошадей, их уничтожат при артиллерии и сколько для учения оставят и как скоро та перемена будет. Есть хорошая приличная к тому пословица, „как нам жениться, то и ночь коротка“. Заваляешься полуполковником в коннопешей роте».
Все его раздражало. И нелепая экономия за счет конноартиллерийских лошадей, которых собирались сократить, превратив конные роты в «коннопешие». Служить в таких ему было и вовсе не интересно. «Заваляешься полуполковником». Он умоляет Казадаева: «Выищи какую-нибудь комиссию, в которой можно бы возвратить потери, по службе сделанные по несчастию, так как брат мой говорит
Это уже сентябрь 1802 года.
Он убеждает себя, что его снова ждут неприятности, несчастья, окончательно ломающие его карьеру.
Мысль о том, что у него отнимут роту, все более его мучает.
Читать это тяжело. Мощный, бесконечно самолюбивый, мужественный человек находится в состоянии постоянной паники.
Сильно травмировала сознание Ермолова катастрофа 1798–1801 годов: арест, крепость, ссылка. Настолько сильно, что он ежечасно ожидал ударов судьбы. Тысячи офицеров служили, не имея в близких правителя дел инспектора артиллерии. Алексей Петрович не видит возможности служить без поддержки Казадаева и думает об отставке. Что ждало в случае отставки его, живущего на скудное офицерское жалованье? Статская должность где-нибудь в провинции? Что стало бы с его мечтами о славе и подвигах?
Слухи об отставке Корсакова и замене его Аракчеевым становились все определеннее. И пока Казадаев еще занимал свою должность, Алексей Петрович старался получить от него максимум помощи. Он регулярно хлопотал перед Казадаевым за своих подчиненных и просто людей, впавших в несчастье. Но главным для него была поддержка в делах службы: «Теперь, любезнейший друг, моя собственная просьба. От Баталиона Капцевича отправлен офицер для привода рекрут и я буду их получать от него. Ты не можешь вообразить, какую зависть производит наша служба в глазах господ пехотных офицеров и все те шиканы[25], которые мы вытерпливаем. Капцевич снабдил нашу роту 30 человеками, к конной службе совершенно неспособными, вытолкнув самых негодяев из своего баталиона[26]. Не можешь, любезный друг, прислать мне какой-нибудь фирман, с которым я бы явился пред великого генерала Капцевича и мог почтеннейше предложить ему о назначении рекрут годных. Божусь, любезнейший Александр Васильевич, я имею 30 таких, с которыми служить стыдно и теперь, если ты мне не выхлопочешь такого манифеста, то я пропаду совсем, ибо он рекрут, может быть, и не даст, а дадут негодяев из баталиона.
Прошу тебя, помоги человеку, тебя душевно любящему и тобою облагодетельственному».
Даты на письме нет, но это — по обстоятельствам — 1803 год.
Это не вздорность. Чтобы проявить себя, нужна образцовая команда, а для конноартиллерийской роты кадровый состав — вопрос первостепенный. Сбывая в его роту негодных солдат, тем самым лишают его надежды на продвижение.
7 сентября того же года он пишет: «Если верить размножаемым слухам, то Алексей Иванович (Корсаков. —
Наконец столь долго и с тревогой ожидаемое событие свершилось.
14 мая 1804 года Ермолов пишет: «Письмо твое я получил. С отставкою тебя не поздравляю, но еще жалею сердечно, что ты нас оставил, а более всего меня, который в едином тебе имел всю свою помощь».
Когда Ермолов говорил Ратчу об опасности слишком благоприятных условий службы в молодости, то он знал, что говорил. Юношеская привычка чувствовать себя под сильным покровительством и занимать особое положение привела к тому, что, потеряв это положение, он чувствовал себя беззащитным. Его отношения с Казадаевым были в некотором роде суррогатом того положения, которое давала ему протекция Самойлова, Безбородко, Зубова.
Теперь он терял и поддержку Казадаева.
Надо отдать должное Алексею Петровичу — он справился с этим очередным переломом в своей судьбе.
6 апреля 1805 года он писал своему другу, теперь уже занявшему пост начальника Горного кадетского корпуса: «Благодаря Бога, долговременной моей болезни избавился и теперь совершенно здоров. Слухи у нас о войне, не худо. Я не избегаю, напротив удвою прилежность мою к службе. Надо будет, как говорят, с конца шпаги доставать потерянное».
Если сопоставить то, как Ермолов описывал в воспоминаниях свою жизнь в Вильно, и то, что писал он об этой жизни и своем душевном состоянии Казадаеву, то возникает вопрос — чему верить? Откровенное противоречие между мемуарами и письмами вполне отражает глубокую противоречивость его натуры в том виде, в каком она сложилась под давлением обстоятельств. А это естественным образом определяло его взгляд на мир и на себя в мире.
Верить приходится и тому и другому.
Это две стороны его существования — внешняя и внутренняя. Человек сильного ума и немалого уже горького опыта, он понимал, что обстоятельства засасывают его в водоворот обыденности. Этого он, надо полагать, больше всего боялся с юности. Недаром он, пользуясь благосклонностью «сильных персон», раз за разом не просто менял места службы, но стремился к резким и экзотическим поворотам судьбы.
Он не хотел казаться смешным, демонстрируя свою тревогу и душевное уныние. Очевидно, внешне он жил так, как и должен был жить молодой, сильный, красивый офицер, острослов и ловелас.
«Мирное время продлило пребывание мое в Вильно до конца 1804 года. Праздность дала место некоторым наклонностям, и вашу, прелестные женщины, испытал я очаровательную силу; вам обязан многими в жизни приятными минутами».
Он не говорит о любви. Он говорит о забавах. Женщина — услада воина.
Ермолов никогда не был женат и объяснял это своим малым достатком. Он и в самом деле всю жизнь жил на жалованье, а в отставке — на пенсион. Но есть основания полагать, что дело отнюдь не только в этом. Неопределенная, но величественная цель, которую он перед собой ставил с юности, не сочеталась ни с какими частными узами — семейными в первую очередь.
Он был создан не просто для военной службы. Он был создан для войны. Война не просто давала возможность максимально проявить себя и выдвинуться — война была естественным для него образом существования.
Его «непомерное честолюбие» не давало ему покоя в мирной жизни, даже если она была заполнена напряженной служебной деятельностью.
«Недостает войны. Счастье некогда мне благоприятствовало!» — писал Ермолов. Счастье благоприятствовало ему в огне пражского штурма. Счастье благоприятствовало ему в головоломном горном переходе с генералом Булгаковым и под стенами Дербента.
Как только закончилась война — счастье изменило.
Теперь он жил надеждой на новую войну и энергично готовился к ней.
«Я получил повеление выступить из Вильны. Неблагосклонное начальство (Аракчеев. —
В нем удивительным образом уживались два несхожих характера.
Один Ермолов не мог удержаться, чтобы не надерзить всесильному Аракчееву. Он так вспоминал об этом эпизоде: «1805. Проходя из местечка Биржи инспектор всей артиллерии граф Аракчеев делал в Вильне смотр моей роты, и я, неблагоразумно и дерзко возразя на одно из его замечаний, умножил неблаговоление могущественного начальника, что и чувствовал впоследствии».
Денис Давыдов сохранил подробности этой истории: «Однажды конная рота Ермолова, сделав переход в двадцать восемь верст по весьма грязной дороге, прибыла в Вильну, где в это время находился граф Аракчеев. Не дав времени людям и лошадям обчиститься и отдохнуть, он сделал смотр роте Ермолова, которая быстро вскакала на находящуюся вблизи высоту. Аракчеев, осмотрев конную выправку солдат, заметил беспорядок в расположении орудий. На вопрос его: „Так ли поставлены орудия на случай наступления неприятеля?“, Ермолов отвечал: „Я имел лишь ввиду доказать вашему сиятельству, как выдержаны лошади мои, которые крайне утомлены“. „Хорошо, — отвечал граф, — содержание лошадей в артиллерии весьма важно“. Это вызвало резкий ответ Ермолова в присутствии многих свидетелей: „Жаль, ваше сиятельство, что в артиллерии репутация офицеров зависит от скотов“. Эти слова заставили взбешенного Аракчеева возвратиться в город. — Это сообщено мне генералом Бухмейером».
Особенность ситуации заключается в том, что Аракчеев ничем не спровоцировал дерзость Ермолова. То, что он сказал, было совершенно резонно и ничуть для Ермолова не обидно. Но Ермолов — прежний Ермолов! — мгновенно сообразив, что фраза Аракчеева дает возможность саркастической реакции, не упустил случая хоть так отплатить за перенесенные несправедливости. Хотя и знал, что оскорблять Аракчеева, да еще прилюдно — крайне опасно.
Возможно, некоторую роль сыграло то, что еще до этого Ермолов удостоился похвалы самого Александра, о чем с воодушевлением писал Казадаеву. Это было во время посещения императором Вильно. «Осматривал войска, Капцевича легион и мою когорту (характерна эта римская терминология. —
Но был и другой Ермолов, о котором точно писал Дубровин в уже упомянутой нами биографии Алексея Петровича: «Сознавая, что репутация его после ссылки недостаточно еще окрепла, он страшился за свою будущность и смотрел на все довольно мрачными глазами. Руководимый этой идеей, он в некоторых случаях выказывал юношескую робость и даже ребяческую боязнь. Вот один из подобных случаев. Офицер его роты, некто К., проиграл 600 рублей казенных денег. Ермолов тотчас же арестовал его, взыскал деньги с выигравших и уступив просьбам, а главное, „избегая случая сделать ему несчастие, сам собою испытавши сколько тягостно переносить оное“, Алексей Петрович согласился не доносить о поступке офицера»[27].
Но неожиданно ситуация сложилась таким образом, что противный закону поступок Ермолова, который обязан был отдать провинившегося офицера под суд, мог стать известен высшему начальству.
Решительный, дерзкий, самоуверенный Ермолов впал в панику.
Как и в других случаях, его подлинное состояние можно понять из писем Казадаеву: «Все обрывается на мне, для чего я скрыл его преступление и тотчас не донес по команде. <…> Вот, любезный друг, каково быть добросердечным! Ищешь способов сделать добро, радуешься, сделав оное, способствовать другим поставляешь то первым долгом и благополучием, а в награду обращается то самому во вред и наконец кончится тем, что сам потерпишь и всего лишишься. Страшно боюсь я хлопот; трехлетнее несчастие сделало меня робким».
«Сделало меня робким…» Вот он — другой Ермолов.
История с юным поручиком Комаровским, которого, судя по утверждению самого Ермолова, завлекли и обыграли более опытные люди, мучила Алексея Петровича и по другой причине. Он несколько раз возвращается к ней в письмах Казадаеву, горько сетуя, что он, сам того не желая, стал причиной тяжелого испытания для молодого офицера, — эта история, в конце концов, привела к тому, что Комаровского перевели в дальний гарнизон, в Кизляр, «за неспособностью». Это было не только обидно, но и ломало ему карьеру.
Дело в том, что, скрыв преступление поручика от высшего начальства, Ермолов тем не менее просил ближайшее начальство под любым предлогом перевести его в другую часть. К ужасу и Комаровского, и Ермолова, начальство выбрало этот простейший вариант.
И Ермолов умоляет Казадаева помочь Комаровскому.
Состояние неуверенности, тяжелой раздвоенности при внешней брутальной повадке продолжалось долго. Оно прошло только с событиями Двенадцатого года, да и то не до конца…
Павел Христофорович Граббе вспоминал эпизод 1810 года, когда он был уже адъютантом генерала Ермолова: «В начале этого года, не помню в котором месяце, Алексей Петрович Ермолов позвал меня из своего кабинета, с озабоченным видом подал мне только что распечатанное им официальное письмо от военного министра Барклая де Толли. Смысл содержания его был следующий. Имея в виду важное поручение, для которого нужен офицер с образованием, сведениями, некоторою опытностию и надежным поведением, он полагает, что адъютант его выбора должен соединять в себе эти качества и потому просит прислать его немедленно в Санкт-Петербург, где по прибытии он имеет явиться к дежурному генералу. Прочитав несколько раз это письмо и отдавая его Алексею Петровичу, я опять поражен был беспокойством, более усилившимся на его лице. Взглянув на меня заботливо, он спросил: не припомню ли я какой неосторожности, какого-нибудь необдуманного слова, сказанного в обществе или наедине кому-нибудь… Происшествия первой его молодости в царствование императора Павла сделали его недоверчивым».
Это очень значимое свидетельство. В 1810 году генерал Ермолов слишком хорошо помнил, сколько доносчиков вдруг появилось вокруг него и его «старших братьев» в 1798 году. Он вполне допускает, что нечто подобное могло повториться и сейчас: «необдуманное слово», сказанное его адъютантом, могло дойти до Петербурга…
Опасения Ермолова не оправдались — Граббе ждало «употребление по военно-дипломатической части». Он был направлен военным агентом в Мюнхен. Но реакция Ермолова на внезапный вызов молодого офицера в столицу чрезвычайно характерна для его внутреннего состояния.
Разумеется, он прежде всего думал о судьбе Граббе, но обнаружившаяся неблагонадежность адъютанта — коль скоро это и в самом деле случилось бы — бросила бы тень и на его собственную репутацию, и без того небезупречную.
Уже на Кавказе, на пике своей карьеры, он был обеспокоен тем, что два его любимых адъютанта лишены доверия высшей власти — тот же Граббе, который в 1822 году был смещен с должности командира Лубенского гусарского полка и отправлен в отставку, и генерал-майор Михаил Фонвизин, блестящий военный интеллектуал, которому Александр упорно не желал доверить командование строевой частью и решительно отказывал в назначении на Кавказ, о чем просил императора Ермолов. Но если Граббе сумел убедить и Александра, и Николая в своей лояльности и кончил жизнь генералом от кавалерии, генерал-адъютантом, графом и членом Государственного совета, то Фонвизина ждали Петропавловская крепость и Сибирь…
Пока же подполковник Ермолов со страстью готовил свою роту к желанной войне, понимая, что в будущих сражениях он должен не просто достойно выполнить свой долг, но отличиться так, чтобы преодолеть предубеждение любого начальства и прославить свое имя.
Участие Ермолова в Наполеоновских войнах с 1805 по 1815 год ставит перед нами совершенно особую задачу, если исходить из того принципа, который был сформулирован в самом начале: смысл книги не в том, чтобы перечислить разнородные события жизни нашего героя, но в том, чтобы показать, как в его судьбе преломилась судьба империи…
Поэтому нам придется выбирать наиболее характерные для военной практики Ермолова эпизоды, дающие представление о его боевом стиле. В данном случае известная формула «стиль — это человек» вполне приложима к Ермолову-офицеру.
Для Ермолова война — при всем том, что уже было сказано, — не была самоцелью, а исключительно средством самореализации, путем к цели, которую он вряд ли решался ясно формулировать, настолько высока и опасна она была.
Забегая далеко вперед имеет смысл привести два эпизода, которые дают представление о масштабах этой цели, некий очерк мечты, которая вела Ермолова и не умирала, несмотря на все жизненные срывы и разочарования.
Дубровин, говоря о боевых успехах Ермолова и высочайших поощрениях, очень точно выразил суть дела: «В таких случаях своей жизни Ермолов находил некоторый исход и удовлетворение своему необъятному честолюбию…»
«Некоторый исход <…> необъятному честолюбию». Каков был бы полный исход, можно только догадываться.
«Необъятное честолюбие» и невозможность удовлетворить его в полной мере (вариант артиллериста Бонапарта) — горькое противоречие между самооценкой и своей реальной ролью — и формировали этот тяжко парадоксальный характер.
В 1834 году Павел Христофорович Граббе, уже генерал-майор и начальник драгунской дивизии, возвращаясь из Москвы к месту службы, заехал навестить Ермолова в его деревне. «Между прочими предметами разговора мне случилось ему сказать, что не должно терять надежды, что в важных обстоятельствах государь вспомнит об нем и вызовет на поле деятельности. На это он отвечал, что боится последствий долгого бездействия и следственно ошибок, важных в том звании, которое ему принадлежит — звании главнокомандующего».
«В том звании, которое ему принадлежит…»
Отправленный в отставку при оскорбительных для него обстоятельствах, исключенный из любой государственной деятельности Николаем, который не любил и боялся его, «закупоренный Николаем в банку», как сказал Тынянов, Алексей Петрович в случае новой войны видел себя только в одной роли — главнокомандующего одной из действующих армий…
Но еще до этого, в 1822 году, в разговоре с Александром он в ответ на откровенно провокационную шутку императора, — которая по сути была вовсе не шуткой, — позволил себе открыться, пожалуй, единственный раз в жизни. Но этого достаточно, чтобы понять характер его мечтаний.
Один из младших современников Ермолова зафиксировал со слов самого Алексея Петровича в высшей степени красноречивый эпизод: «Он рассказывал, что в 1821 году был назначен главнокомандующим стотысячной армией, долженствующей принять участие в усмирении смут в Италии, волнуемой карбонариями. В Неаполе произошел мятеж, король вынужден был подписать конституцию. Вскоре Ермолов был вызван в Лайбах, в котором находились союзные монархи, для совещаний. Алексей Петрович находился при императоре. Во время обеда государь подавал разные знаки кн. Волконскому, сидевшему против него, указывая на его соседа. Волконский не мог понять пантомим императора и потому на вопрос его после окончания обеда отвечал, что не догадывается, что государь хотел ему сказать, указывая на Ермолова.
— Неужели ты не понял того, что я желал объяснить тебе, что Алексей Петрович, кажется, воображает, что на нем мантия и что он занимает уже первые роли.
Ермолов, стоявший невдалеке, не смущаясь, отвечал:
— Государь, вы нисколько не ошибаетесь, и если бы я был подданным какого-нибудь немецкого принца, то, конечно, предположение ваше было бы совершенно справедливо; но служа такому великому монарху, как вы, с меня довольно будет и второго места».
Это похоже на правду. Мы знаем и подозрительность Александра, и любовь Ермолова к острым реакциям. Но даже если Ермолов придумал этот эпизод или приукрасил свое поведение, то и в этом случае ситуация уникальна. Ни об одном из русских генералов, кроме Ермолова, — даже самых популярных и прославленных, — император не сказал бы ничего подобного, и никому из них не пришло бы в голову придумывать подобные истории.
«Неограниченное честолюбие» и могучая самооценка Алексея Петровича создавали вокруг него только ему одному присущую атмосферу.
Заявлять о своей претензии на второе место в Российской империи было ничуть не менее вызывающе, чем скромно претендовать на роль узурпатора власти в одном из немецких государств.
Но это было через 16 лет, когда генерал от инфантерии Ермолов уже почувствовал вкус почти неограниченной власти над огромным краем. А пока что он упорно и терпеливо превращал свою конноартиллерийскую роту в идеальное орудие для быстрого продвижения по службе и жаждал войны.
Привыкший к триумфам Польской и Персидской кампаний, он достаточно туманно представлял себе возможности будущего противника. Впрочем, героически заблуждался отнюдь не он один…
Война, о которой он мечтал, началась, и казалось, что очень вовремя…
Несмотря на всю свою целеустремленность, Ермолов страдал перепадами настроения. В 1804 году он, доведенный до отчаяния небрежением начальства, упорно не дававшего ему следующего чина, сделал чрезвычайно рискованный шаг, который мог погубить его карьеру. Он подал рапорт об отставке.
Это был не совсем обычный рапорт. Ссылаясь на расстроенное здоровье и имущественное положение семьи, — что было вполне традиционно, — Алексей Петрович объяснял желание отставки необходимостью находиться рядом с отцом. Но при этом, со свойственным ему сарказмом, он дал понять начальству истинную причину своего ухода. Он писал, что поскольку он уже семь лет состоит в чине подполковника, то будет разумно отставить его майором. Как он сам выразился в воспоминаниях: «Я думаю, что подобной просьбы не бывало и, кажется, надлежало справиться о состоянии моего здоровья!»
Имелось в виду здоровье психическое.
Рапорт попал к Аракчееву, инспектору всей артиллерии, и тот, поняв, разумеется, истинные мотивы рапорта и при всей своей антипатии к Ермолову не желая терять хорошего офицера, на которого к тому же обратил внимание император, посоветовал ему повременить с отставкой.
В начале войны состоялось личное знакомство Ермолова с Кутузовым. «Пришедши с ротою к Радзивиллову, я уже не застал армии и догонял ее ускоренными маршами, почему ехавшему из Петербурга генералу Кутузову попался я на дороге, и он, осмотрев роту, два уже месяца находящуюся в движении, одобрил хороший за ней присмотр, ободрил приветствием офицеров и солдат, расспросил о прежней моей службе и удивился, что, имевши два знака отличия времен Екатерины, я имел только чин подполковника, при быстрых производствах прошедшего царствования. Он сказал мне, что будет иметь меня на замечании…»
Планы коалиционного генералитета, австрийского прежде всего, категорически не совпали с планами Наполеона. Он вовсе не склонен был ждать, пока соединятся армии его противников. Рядом стремительных и точных маневров он рассек австрийские силы и окружил основную их часть под командованием генерала Мака в крепости Ульм и вынудил к сдаче.
Немногочисленная русская армия, к которой не успели еще подтянуться идущие из России войска, оказалась лицом к лицу с победоносной французской армией.
Ермолов кроме своей конноартиллерийской роты получил под начало еще и две роты пешей артиллерии. Это, безусловно, был признак доверия со стороны главнокомандующего Кутузова, но положение, в которое в результате он попал, Алексея Петровича отнюдь не устраивало. Его команда «осталась в особенном распоряжении главнокомандующего как резерв артиллерии. Сие особенное благоволение, привязывая меня к главной квартире, делало последним участником при раздаче продовольствия людям и лошадям, и тогда как способы вообще были для всех недостаточны и затруднительны, а мне почасту и вовсе отказываемы, то, побуждаемый голодом, просил я о присоединении моей команды к каким-нибудь из войск. Мне в сем было отказано».
Кутузов хотел иметь под рукой абсолютно надежную и боеспособную артиллерийскую часть с командиром, которому он доверял.
В тяжелых арьергардных боях конная рота Ермолова неизменно шла в дело и спасала положение.
Здесь выявилась едва ли не главная черта Ермолова — способность мгновенно оценивать ситуации и самостоятельно принимать решения, в том числе и рискованные, и стремительно их осуществлять.
Так было и 22 октября, в бою при Аштеттене, когда «Мариупольского гусарского полка подполковник Ингельстром, офицер блистательной храбрости, с двумя эскадронами стремительно врезался в пехоту, отбросив неприятеля далеко назад, и уже гусары ворвались на батарею. Но одна картечь — и одним храбрым стало меньше в нашей армии. После смерти его рассыпались его эскадроны, и неприятель остановился в бегстве своем». То, что идет далее, снова возвращает нас к тому культу дружбы, который играл такую роль в жизни молодого русского дворянства того времени: «За два дня перед тем, как добрые приятели, дали мы слово один другому воспользоваться случаем действовать вместе, и я, лишь узнал о данном ему приказании атаковать, бросился на помощь с конною моею ротою, но уже не застал его живого и, только остановив неприятеля движение, дал способ эскадронам его собраться и удержаться на месте. Я продолжал канонаду…»
Заметим — приказ атаковать получил Ингельстром, а Ермолов бросился в бой без приказа — по собственной инициативе, будучи верен дружескому слову…
Для первых боевых ермоловских эпизодов 1805 года, его первой большой европейской войны, характерно стремительное порывистое индивидуальное действие.
Особое положение роты и высокая маневренность конной артиллерии способствовали выявлению этой черты боевой идеологии Ермолова.
Недаром его кумиром становится Багратион, хотя через много лет в мемуарах он не раз отозвался о князе Петре Ивановиче весьма критически.
Но характеристики русских генералов, данные Ермоловым в мемуарах, — особая тема, тесно связанная с анализом характера зрелого Ермолова.
К этому мы со временем придем.
Катастрофа под Аустерлицем, которая определила для многих русских офицеров психологический ландшафт всего десятилетия с 1805 по 1815 год, оказалась для русской армии, привыкшей к победам и ощущавшей себя наследницей громкой славы Румянцева и Суворова, полной неожиданностью.
Решающему сражению предшествовали длительные маневры, ожесточенные бои тактического значения, в которых французы далеко не всегда одерживали верх. Боевые качества русских солдат и офицеров, решительность лучших генералов, выучеников Суворова, таких как Багратион и Милорадович, да и сам главнокомандующий Кутузов, концентрация русско-австрийских войск, не уступавших по численности армии Наполеона, а то и превосходивших ее, — все это давало верную надежду на успех.
Конноартиллерийская рота Ермолова была придана кавалерийской дивизии генерала Уварова, шедшей в авангарде.
Наполеон, несмотря на несколько громких побед над австрийцами, еще не был тем непобедимым Наполеоном, чья шляпа, по угрюмой шутке Веллингтона, стоила на поле сражения больше, чем 30 тысяч солдат.
«Битва трех императоров», как называли впоследствии Аустерлиц, поскольку во главе армий стояли императоры французский, русский и австрийский, оказалась триумфом не только стратегического искусства Наполеона, но и образцом его умения вести психологическую игру с противником. В канун битвы он сумел создать у русских и австрийцев ясное впечатление, что француз выдохся и смертельно боится сражения.
Фарс удался. Отправленный для переговоров князь Долгорукий все принял за чистую монету и убедил Александра, что Наполеон предчувствует неминуемое поражение и надо немедленно атаковать.
Аустерлицкая катастрофа осталась для Ермолова на всю жизнь свидетельством того, что война не терпит застывших схем и тем подобна самой жизни.
Между тем Наполеон разработал план операции, который станет классическим и основным принципом наполеоновской тактики на полях сражений.
Его лапидарно и исчерпывающе изложил граф де Сегюр, французский генерал и военный историк, участник событий: «В то время как наши левый и особенно правый фланги, отодвинутые к заднему углу долины, по которой все глубже наступает на них неприятель, стойко держатся, — в центре, на вершине плоскогорья, где союзная армия, растянувшись влево, подставляет нам ослабленный фронт, мы обрушиваемся на нее стремительной атакой. Благодаря этому маневру оба неприятельских фланга внезапно окажутся отрезанными друг от друга. Тогда один из них, атакуемый с фронта и расстроенный нашей победой в центре, должен будет отступить, между тем как другой, слишком выдвинувшийся вперед, обойденный, парализованный той же победой в центре и запертый среди прудов в той ловушке, куда мы его заманили, будет частью уничтожен, частью взят в плен»[28].
Это станет излюбленным приемом Наполеона: демонстративное, но сильное давление на один из флангов, с тем чтобы противник израсходовал резервы, затем мощный прорыв центра с выходом в тылы вражеской армии. Так было и при Бородине: сокрушительное давление на левый фланг русской армии, Семеновские флеши, а затем таранный удар по центру — захват Курганной батареи…
Через много лет Ермолов, располагавший не только уникальной памятью, но и прочной документальной базой, своим ясным римским стилем очертил ситуацию с четкостью и выразительностью подлинного военного профессионала.
«Еще до рассвета выступила армия, опасаясь, по-видимому, чтобы неприятель не успел уйти далеко. Войска на марше должны были войти в места по диспозиции для них назначенные, и потому начали колонны встречаться между собой, проходить одна сквозь другую, отчего произошел беспорядок, который ночное время более умножало. Войска разорвались, смешались, и конечно не в темноте удобно им было отыскивать места свои. Колонны пехоты, состоящие из большого числа полков, не имели при себе ни человека конницы, так что нечем было открыть, что происходит впереди, или узнать, что делают и где находятся ближайшие войска, назначенные к действию…
С началом дня, когда полагали мы себя в довольном расстоянии от неприятеля и думали поправить нарушенный темнотою ночи порядок, мы увидели всю Французскую армию в боевом порядке, и между нами не было и двух верст расстояния.
Из всего заключить можно, сколько достоверные имели мы известия об отступлении неприятеля и чем обязаны премудро начертанной австрийской диспозиции… Когда же перешли мы болотистый и топкий ручей, и многие из колонн вдались в селения, лежащие между озер по низменной долине, простирающейся до подошвы занимаемых неприятелем возвышенностей, когда обнаружились все наши силы и несоразмерные между колонн промежутки, — открылся ужасный с батарей огонь, и неприятель двинулся к нам навстречу, сохраняя всегда выгоду возвышенного положения. Некоторые из колонн наших в следовании их были атакованы во фланг и не имели времени развернуться, другие, хотя и устроили полки свои, но лишены будучи содействия и помощи других войск, или даже окруженные, не могли удержаться против превосходящих сил, и в самое короткое время многие части нашей армии приведены были в ужаснейшее замешательство… И так с одного крыла до другого войска наши по очереди, одни после других, были расстроены, опрокинуты и преследуемы. Потеря наша наиболее умножилась, когда войска наши стеснились у канала чрезвычайно топкого, на котором мало было мостов, а иначе как по мосту, перейти оный было невозможно. Здесь бегущая конница наша бросилась вброд и потопила много людей и лошадей, а я, оставленный полками, при которых я находился, остановил свою батарею, предполагая своим действием оной удержать преследующую нас конницу. Первые орудия, которые я мог освободить от подавляющей их собственной кавалерии, сделав несколько выстрелов, были взяты, люди переколоты, и я достался в плен».
Но и на этот раз «счастие благоприятствовало» Ермолову. Гусарский полковник Шау с несколькими драгунами догнал группу французов, уводивших Ермолова, и отбил его у самых передовых линий противника.
«Присоединясь к остаткам истребленной моей роты, нашел я дивизию в величайшем беспорядке у подошвы холма, на коем находился государь. Холм занят был лейб-гренадерским полком и одной ротою гвардейской артиллерии, которые не участвовали в сражении и потому сохранили устройство. При государе почти никого не было из приближенных, на лице его изображалась величайшая горесть, глаза были наполнены слезами».
Для Ермолова сражение на этом не кончилось. «На прямейшей дороге к городу Аустерлицу, через который должны были проходить наши войска, учрежден большой пост, который поручен мне в команду, вероятно потому, что никто не желал принять сего неприятного назначения. <…> Я с отрядом своим обязан спасением тому презрению, которое имел неприятель к малым моим силам, ибо в совершеннейшей победе не мог он желать прибавить несколько сотен пленных… Я должен был выслушивать музыку, песни и радостные крики в неприятельском лагере, нас дразнили русским криком „ура!“. Пред полуночью я получил приказание отойти, что должно было последовать гораздо прежде, но посланный офицер ко мне не доехал. В городке Аустерлице, давшем имя незабвенному сражению, нашел арриергард князя Багратиона, который не хотел верить, чтобы могли держать меня одного в шести верстах впереди и не восхитился сим распоряжением генерал-адъютанта Уварова. Прошедши далее еще четыре версты, прибыл я к армии, но еще не все в оной части собраны были и о некоторых не было даже известия; беспорядок дошел до того, что в армии, казалось, полков не было: видны были разные толпы. Государь не знал, где был главнокомандующий генерал Кутузов, а сей беспокоился насчет государя».
Мемуары были написаны через много лет после Аустерлица, но Ермолов, несмотря на стилистическую сдержанность, удивительно живо передает горькую растерянность, охватившую русскую армию — от императора до простого солдата.
Воспоминания Ермолова, по видимости повествовательно-объективные, на самом деле насквозь идеологичны и, если угодно, философичны. Он работал над ними на Кавказе, во второй половине своего пребывания там, — в первые годы ему было не до мемуаров, — когда и этот, желанный, казалось бы, прорыв не принес тех результатов, на которые он рассчитывал, затем, обрабатывая их в отставке, несправедливой и оскорбительной, Алексей Петрович сводил счеты не столько со своими недругами, сколько с историей.
Он предъявлял счет не конкретным людям, но историческим обстоятельствам, мешавшим ему достойно делать свое дело и в конечном счете занять подобающее место.
Ермолов так тщательно выписывает всё безумие, бестолковость, бездарность происшедшего не только для того, чтобы обвинить начальствующих. Он говорит о зловеще таинственной подоплеке процесса, в который он был вовлечен. Он говорит о судьбе.
Он с изумлением пишет о поведении своих товарищей после отступления армии в Венгрию: «Были даны два праздника и, к удивлению, находились многие, которые могли желать забав и увеселений после постыднейшего сражения и тогда, как неприятель должен был найти поражение и гибель».
Французы должны были потерпеть поражение и погибнуть. Должны были! Почему этого не произошло?
«Я не описал Аустерлицкого сражения с большою подробностию, ибо сопровождали его обстоятельства столько странные, что я не умел дать ни малейшей связи происшествиям. Случалось мне слышать рассуждения о сем сражении достойных офицеров, но ни один из них не имел ясного о нем понятия, и только согласовались в том, что никогда не были свидетелями подобного события».
Ермолов не говорит об ошибках командования. Он говорит о необъяснимой странности происшедшего, суть которого недоступна даже его ясному и сильному уму.
Разумеется, при желании он мог проанализировать бездарную диспозицию, подготовленную австрийским штабом, оценить преступную самоуверенность гвардейской молодежи, окружавшей Александра, его, Александра, военный дилетантизм, ошибки отдельных командиров и сделать совершенно конкретные выводы. Причины аустерлицкой катастрофы отнюдь не были неразрешимо загадочны.
Он предпочел придать этому сражению, в котором потерял свою роту — и людей, и орудия, и сам чудом избежал плена, вернее, побывал в кратковременном плену, — он предпочел придать происшедшему почти мистический смысл.
Тому могли быть две причины.
Во-первых, его взгляд на мир — на мир войны в частности — глубже и драматичнее, чем у большинства его товарищей. Они могли веселиться, а он не мог, ибо ощущал мучительный стыд — «постыднейшее сражение». Едва ли не ключевое определение. Это, во-вторых, — для него, воспитавшего себя на Плутархе, Цезаре, Ариосто, с его рыцарским пафосом, чудовищный разгром стал тяжким потрясением. Ему не хватало войны. Он жаждал войны, которая должна была вернуть потерянное за годы опалы. И что получилось?
«В непродолжительном времени вышли за прошедшую войну награды. Многие весьма щедрые получили за одно сражение при Аустерлице; мне за дела во всю компанию дан орден св. Анны второй степени, ибо ничего нельзя было дать менее»[29].
Хотя нет оснований сомневаться, что он проявил свою всегдашнюю абсолютную отвагу и тактическое мастерство.
Главнокомандующий Кутузов счел нужным это подтвердить.
«Аттестат.
1-го конноартиллерийского баталиона подполковнику Ермолову в том, что сентября 4-го числа, 1805 года, видел я его роту, с которою он, по Высочайшему повелению спешил соединиться с армиею, шел без растахов (то есть без отдыха. —
Кроме ордена он получил наконец-то и полковничий чин, проходив девять лет в подполковниках. Получил по личному настоянию Кутузова и Ф. П. Уварова, лично наблюдавшего Ермолова в деле. Но не этого ожидал он от вожделенной войны.
Война — концентрат исторической энергии — обманула и показала свою зловещую алогичность. Для двойственной натуры Ермолова — артиллерист-математик и рационалист, одаренный вместе с тем «пылкой натурой» и возбужденным воображением, — это было особенно тяжело.
Но другого пути у него не было. Он стал готовиться к следующей войне.
Для Ермолова предстоящая война имела особое значение. Он получил чин полковника. На него обратил внимание император. Он блестяще проявил себя в качестве артиллериста, что официально было засвидетельствовано Кутузовым. Его узнали в армии.
Теперь оставалось сделать решительный рывок — появилась возможность «подвига». То, о чем они с Каховским мечтали в унылые виленские времена.
Тем более что полковник Ермолов был уже не командир роты, но получил в подчинение 7-ю артиллерийскую бригаду в дивизии генерал-лейтенанта Дорохова.
Пруссия объявила войну Франции, а в начале октября 1806 года одна из двух переформированных русских армий под командованием генерала Беннигсена перешла Неман и двинулась на соединение с пруссаками.
Вторая армия под командованием генерала Буксгевдена выступила позднее и вступила в пределы Пруссии в конце ноября.
Но к этому времени судьба Пруссии была уже решена.
Искусно маневрируя, Наполеон заставил пруссаков растянуть свои силы. 14 октября при Йене он разгромил одну часть прусской армии, причем почти в точности повторилась ситуация Аустерлица. В тот же день маршал Даву под Ауэрштедтом, имея 26 тысяч штыков и сабель, разбил вдвое превосходящую его армию пруссаков. Причем ему удалось не только разгромить противника, но и заставить его бежать в направлении Йены.
Русские армии остались один на один с победоносным Наполеоном.
Ермолов в мемуарах несколькими фразами представил падение Пруссии: «Наполеон, лично предводительствуя сильною армиею, при городке Ауерштедте совершенно разбил прусские войска. Сражение неудачнее было потерянного австрийцами при Ульме. Также потеряна была вся почти артиллерия и в плену было необыкновенно большое число войск. Преследуемые остатки армии или рассеяны или принуждены сдаться… Лучшие крепости взяты и некоторые даже без сопротивления… Мгновенно пала слава войск, преодолевших страшный союз могущественнейших в Европе государей».
Александра, однако, не оставляла надежда разбить Наполеона и тем самым смыть позор Аустерлица и восстановить европейское равновесие.
Армиям Беннигсена и Буксгевдена приказано было соединиться и продолжать военные действия.
Оценивая ретроспективно в мемуарах тогдашнее положение дел, Алексей Петрович охарактеризовал его весьма критически: «В Белостоке сошлись армии, и начальствующие ими, не будучи приятелями прежде, встретились совершенно злодеями. Никогда не было согласия в предприятиях, всегдашняя нестройность в самых ничтожных распоряжениях, и в таком состоянии дел наших ожидали мы прибытия неприятеля, ободренного победами».
Надо ясно представлять себе положение в русской армии, где при отсутствии решительного командующего немалую роль в успехе или неуспехе боевых действий играли взаимоотношения между генералами.
Взаимная острая неприязнь Беннигсена и Буксгевдена, тяжело отражавшаяся на судьбе кампании, была лишь одним из примеров этого прискорбного явления — печального наследия екатерининской эпохи с ее соперничеством «сильных персон» и удачливых полководцев. Но если при Екатерине это имело политический смысл, исключая возможность возникновения объединенной оппозиции, то при Александре игра честолюбий и самолюбий, без всякой политической подоплеки, оказалась сколь бессмысленной, столь и пагубной.
Кампания началась крайне неудачно для русских. Хотя главнокомандующим над обеими армиями, таким образом превратившимися в одну, назначен был фельдмаршал граф Михаил Федорович Каменский, обладавший большим боевым опытом и отличившийся во всех турецких войнах, положения это, однако, не спасло. Каменский при несомненных достоинствах отличался и большими странностями. Относительно его действий в 1806 году существуют противоположные мнения.
Ермолов в воспоминаниях писал: «В сие время прибыл к командованию обеими армиями генерал-фельдмаршал граф Каменский. Опытный начальник при первом взгляде увидел, сколько опасно положение войск наших, рассыпанных на большом пространстве, тогда как неприятель имел свои силы в совокупности… Он приказал поспешнее собрать войска. Близость неприятеля не допускала сделать того иначе, как отступивши на некоторое расстояние».
Ермолов был свидетелем и участником событий. Как мы знаем, он с почтением относился к Беннигсену. Но в данном случае его версия благоприятна Каменскому.
В знаменитой «Военной энциклопедии» издания Сытина ситуация излагается по-иному: «Прибыв к армии, он (Каменский. —
Кому верить?
В столкновениях, которые автор относит к числу «частных неудач», принимал участие и Ермолов. Он вспоминает отряд генерала Чаплица, который не был отрезан от основных сил и не был уничтожен только благодаря счастливому стечению обстоятельств: «При сем отряде находился и я с тремя ротами артиллерии и легко мог видеть, что направление его на Цеханов не приносило никакой пользы, но было следствием одного неблагоразумного распоряжения графа Буксгевдена». Таким образом, распылял войска, по Ермолову, отнюдь не Каменский, совершенно наоборот: «Фельдмаршал, узнав о том и сделав строгое замечание за нелепое раздробление сил, приказал отряду немедленно возвратиться, но мы уже были на месте и утомленные грязною чрезвычайно дорогою не могли тотчас выступить обратно».
Отряд Чаплица, а соответственно, и роты Ермолова спас генерал Пален, который до ночи сдерживал превосходящие силы противника и дал возможность Чаплицу выскользнуть из ловушки.
Ермолов был прав, когда писал: «Счастие мне благоприятствовало…»
Из воспоминаний Алексея Петровича, который, как правило, достаточно точно воспроизводил чисто военные ситуации, можно понять, почему Каменскому не удалось сосредоточить войска: «Армия наша чрезвычайно нуждалась в продовольствии, и единственную пищу составлял картофель, который надобно было отыскивать вдалеке и терпеть для того отлучки большого числа людей. Нередко войска направляемы были не туда, где присутствия их требовали обстоятельства, но где надеяться можно было сыскать несколько лучшее продовольствие. Повсюду селения были пусты, глубокая осень и беспрерывные дожди разрушили дороги, и без пособия жителей не было средств сделать подводы».
Это было уже второе тяжкое отступление, пережитое Ермоловым за последний год. Желанная война оборачивалась своей далеко не романтической изнанкой.
Но его это не пугало…
14 декабря (по старому стилю, естественно) Алексей Петрович со своими орудиями снова оказался на краю гибели. Это было при местечке Голимине, куда отступил для соединения с другими частями отряд Чаплица.
Тут Ермолову явно изменила память, и он утверждает, что русским пришлось сражаться с кавалерией Мюрата. Кавалерия в бою участвовала, но главной атакующей силой были пехотные полки маршалов Ожеро и Даву.
Дэвид Чандлер, располагавший документами и мемуарами участников, после описания сражения при Пултуске, пишет: «В тот же самый день произошел еще один ожесточенный бой у Голимина, где Даву и Ожеро с 38 200 солдатами схватились с 18-тысячным авангардом Буксгевдена, но безрезультатно. Авангардом командовали князь Голицын и генерал Дохтуров. <…> Как и следовало ожидать, из-за численного превосходства победа досталась французам, но Марбо рассказывает об одном случае, ярко показавшем непоколебимую храбрость и решительность русской пехоты, достойно выполнившей свою задачу. Войска Ожеро атаковали деревню с одной стороны, а с другой — Даву угрожал перерезать связь русских с Пултуском, и Голицын приказал своим солдатам сосредоточиться именно здесь. „Наши солдаты стреляли по русским с расстояния только двадцати пяти шагов, — вспоминает Марбо, — они продолжали двигаться через фронт Ожеро, не отвечая огнем, потому что иначе им пришлось бы останавливаться, а для них было дорого каждое мгновение. Каждая дивизия, каждый полк проходили колоннами по двое под нашим обстрелом, не говоря ни слова и ни на мгновение не замедляя шага. Улицы Голимина были завалены умирающими и ранеными, но мы не услышали ни единого стона“»[30].
Ермолов до конца жизни остался в уверенности, что бой при Голимине можно было выиграть, если бы не хаотическое командование. Его ум артиллериста-математика неизменно анализировал происходящее, отыскивая упущенные возможности, а темперамент не давал мириться с поражениями и прощать промахи генералов: «По старшинству, думать надобно, командовал с нашей стороны генерал Дохтуров, но справедливее сказать, не командовал никто: ибо когда послал я бригадного адъютанта за приказанием, он, отыскивая начальника и переходя от одного к другому, не более получаса времени был по крайней мере у пяти генералов и ничего не успел испросить в разрешение».
А «испросить» было что.
Под давлением сильнейшего противника русские батальоны отходили без определенной системы, и Ермолов с его артиллерией, бившей по наступающим французам до последнего, рисковал остаться в одиночестве: «Долго не смел я отступать без приказания, но не видя необходимости оставаться последним, согласил я подполковника князя Жевахова с двумя эскадронами Павлоградского гусарского полка идти вместе… Пройдя местечко Голимин, взял я направление на местечко Маков».
Русские части, отступая, теряли в непролазной грязи артиллерию: «Той же участи должна была подвергнуться и моя рота; но, захватя выпряженных лошадей, брошенных от рот, я избавился от стыда лишиться орудий без выстрела».
Полковник Ермолов был верен себе — он уходил с позиции только тогда, когда оставаться на ней не имело смысла, и единственный не терял орудий.
Очевидно, в это время стало складываться его парадоксальное отношение к Наполеону, столь значимое для его будущей жизненной стратегии.
Радожицкий, бывший в то время молодым офицером, точно сформулировал это двойственное восприятие русскими военными своего грозного противника: «Он был врагом всех наций Европы, стремясь поработить их своему самодержавию, но он был гений войны и политики: гению подражали, а врага ненавидели».
Врага ненавидели, а гению подражали… Это надо запомнить.
Ермолов, как и многие молодые русские честолюбцы, не мог не восхищаться стремительной карьерой коллеги-артиллериста и настороженно обдумывать его опасный опыт. Но в силу своей особости он внутренне готов был к более радикальным выводам, чем его товарищи по оружию. Причем вряд ли выводы эти были ясно оформлены и ориентированы на захват государственной власти. Он был слишком умен, чтобы не понимать разницу положений.
В 1806 году его увлек прежде всего именно военный гений Наполеона.
Ермолова, получившего еще недавно политическое воспитание в компании потенциальных цареубийц — «старших братьев» из «канальского цеха», вряд ли смущала беззаконность, нелегитимность власти императора французов. Но теперь Наполеон предстал перед ним как великий мастер дела войны, самого достойного дела в мире.
Горько сетуя на неразбериху под Голимином, Ермолов писал: «…простителен ли подобный просчет, когда употреблены на то средства в три раза более тех, что имел неприятель? Надобно было видеть, что бы с таковыми сделал Наполеон».
Последняя фраза многозначительна — признание несомненного превосходства этого «чудного вождя».
И в это же время рождается уверенность, что несмотря ни на что, усвоив полученные уроки, Наполеона можно победить. Уверенность, которая не в последнюю очередь определила загадочное, можно сказать иррациональное, поведение начальника штаба 1-й армии летом 1812 года…
Теперь же при отступлении Ермолов в очередной раз продемонстрировал приверженность решительным и жестким действиям, неожиданным для неприятеля и смущающим собственное командование: «Оставлен был ариергард в команде генерал-майора Маркова для прикрытия армии, переходящей за реку. До самой ночи с чрезвычайною медленностию продолжалось ее движение. В беспорядке теснились обозы на длинном мосту, а уже неприятель, вышедший из окружающих лесов, в больших силах занял позицию недалеко от местечка.
Нельзя было в короткое время разрушить мост, и потому опасно было, чтобы неприятель, пользуясь темнотою ночи, не овладел им. С позволения начальника послал я команду и приказал ей зажечь два квартала, принадлежащие к месту, дабы осветить приближение неприятеля, если бы покусился он на оный. Два раза подходили его войска и в некоторых местах осматривали броды, но большая часть сорока орудий, которыми я командовал, употреблены были на защиту оных, и нетрудно было успеть в том».
В качестве факелов, освещавших подходы к реке, использованы были дома мирных жителей, и пушки Ермолова, скрытые в темноте и неуязвимые для неприятельских выстрелов, косили французов, оказавшихся на озаренном пожаром пространстве. «Потеря от канонады должна была быть значительной…»
В те благословенные времена жечь во имя боевой целесообразности жилые дома было не очень принято, тем более что русские войска находились на дружественной им территории: «Мне грозили наказанием за произведенный пожар, в главной квартире много о том рассуждали и находили меру жестокою. Я разумел, что после хорошего обеда, на досуге, а особливо в 20 верстах от опасности, нетрудно щеголять великодушием. Вняли однако же моим оправданиям».
Возрастающее уважение к гению Наполеона сочеталось в это время с возрастающим недоверием к своим военачальникам.
Нужно постоянно держать в памяти свидетельства об особенностях характера и стиле поведения молодого Ермолова, о мощном честолюбии и сознании превосходства над окружающими которого писали едва ли не все, близко его знавшие.
И еще одно, безусловно, понял 29-летний полковник: его страна не что иное, как военная империя, живущая по соответствующим законам, как некогда жила по этим законам великая Римская империя.
Духом войны был пропитан воздух, которым он дышал.
Иначе и быть не могло. Вся его молодость к этому времени прошла на фоне больших и малых войн, которые вела Россия.
Ощущение своей органичной принадлежности к постоянно воюющей победоносной державе, где громкая слава достигалась только путем боевого подвига, осознание своего военного профессионализма, подкрепленное суровым опытом, в сочетании с известными чертами личности Ермолова, порождали то высокомерие, не поколебленное даже горькими уроками 1805–1806 годов, которое заставляло многих опасаться и недолюбливать его.
Это давнее ощущение своего превосходства, подавленное арестом, ссылкой, рутинной и бесперспективной службой после освобождения, теперь, когда Ермолов смог проявить себя на поле боя, вернулось в полной мере.
Конечно, воспоминания сочинялись через десять с лишним лет после описанных событий, но генерал от инфантерии Ермолов, скорее всего, точно воспроизводил мироощущение полковника Ермолова, его презрительно-ироническое отношение к генералам, его окружавшим.
Пассаж о великодушии после сытного обеда в 20 верстах от поля боя — выразительное тому свидетельство.
Он писал об одном из двух командующих — Буксгевдене: «Если не понимать сего, не надо браться за командование армией».
Он не сомневается, что на месте генералов выбрал бы куда более рациональные решения: «Неустрашимый генерал Барклай де Толли, презирая опасность, всюду находился сам; но сие сражение не приносит чести его распорядительности; конечно, не мудрено было сделать что-нибудь лучшее!»
Иронически отзывается он и о храбреце Милорадовиче.
Денис Давыдов утверждает, что многие генералы, страдавшие от сарказмов полковника Ермолова, мечтали, чтобы его произвели в генералы, и он бы стал лояльнее.
Отступление русской армии после Пултуска напоминало Ермолову закончившуюся аустерлицкой катастрофой кампанию 1805 года. Отряд генерала Маркова, которому придана была бригада Ермолова, не раз оказывался на краю гибели: «Неприятель под сильным огнем своих батарей теснил остальную часть авангарда, и мы отступали шаг за шагом. Артиллерия наша не делала других выстрелов кроме картечных». Это означает, что приходилось отбиваться от вплотную подходившего противника.
Ермолова постоянно преследовал ужас потери орудий. Это было несовместимо с представлением о «подвиге». Они отступали через лес, по глубокому снегу и незамерзшим болотам. Чтобы орудия не завязли, пришлось решиться на весьма рискованный маневр — пройти рядом с расположившимися на ночлег французами. Маневр себя оправдал — потери от ружейного огня оказались невелики. Преследовать русский отряд в темноте французы не стали. Ермолов привел к основным силам все свои орудия.
Зимняя кампания с бесконечными мучительными — особенно для артиллерии — маршами по отвратительным польским и прусским дорогам изматывала обе армии.
Особенно страдали непривычные к восточноевропейской зиме французы. Снабжать армию продовольствием становилось все труднее. Дело дошло до того, что маршалы стали перехватывать друг у друга обозы с провиантом. Солдаты большими массами разбредались по окрестным поселениям и мародерствовали.
Наполеон понял, что необходима пауза.
29 декабря, через три дня после Пултуска и Голимина, он написал своему военному министру: «Ужасные дороги и плохая погода вынудили меня встать на зимние квартиры».
Была и еще одна причина — отчаянное сопротивление русских, яростно огрызавшихся при отступлении и не дававших навязать себе решающее сражение.
Наполеон уехал в Варшаву, оттянув в окрестности польской столицы свои основные силы. В непосредственной близости от русской армии остался корпус Бернадотта.
Однако Беннигсен, официально заменивший Каменского на посту главнокомандующего, не собирался ждать весны и сопутствующей ей распутицы. Он мечтал о лаврах победителя Наполеона.
Надо помнить, что Ермолов был близок с Беннигсеном со времен своей юности, а честолюбивая уверенность опытного и решительного генерала без сомнения оказывала влияние и на то, как оценивал Алексей Петрович перспективу противоборства с Наполеоном.
2 января состоялся военный совет, на котором Беннигсен представил свой план грядущей кампании. Он рассчитывал внезапным наступлением в столь неблагоприятное время года застать врасплох французские войска, разбросанные по обширному пространству, оттеснить их на запад и вывести армию на выгодные для весеннего наступления исходные рубежи.
К середине января русскому командованию удалось сосредоточить в Северной Польше до шестидесяти тысяч штыков и сабель при многочисленной артиллерии. К русским присоединился тринадцатитысячный прусский корпус.
14 января Беннигсен начал наступление. Корпус Бернадотта и в самом деле был бы захвачен врасплох, если бы не столь частая на войне случайность. Недалеко от французских биваков русские колонны наткнулись на выдвинувшиеся далеко вперед от мест своей дислокации части корпуса Нея, которым в этих местах находиться вовсе не полагалось. Но они рыскали в поисках провианта.
Бернадотт успел подготовиться к столкновению.
Оценив ситуацию, Наполеон составил план разгрома русской армии: Бернадотт, отступая, заманивал Беннигсена в ловушку, в то время как остальные корпуса французской армии стали стремительно сосредоточиваться.
В свою очередь, русскую армию спасла такая же случайность.
Начальник штаба французской армии маршал Бертье всегда дублировал рассылаемые в корпуса приказы, и одна из копий приказа Бернадотту, содержавшая план действий, была отправлена с молодым неопытным офицером, который заблудился в польских лесах и был схвачен казаками. Бумаги были доставлены Багратиону, командовавшему авангардом, а он переслал их Беннигсену.
Ермолов писал: «Особенное счастие дало нам в руки сего курьера, ибо иначе следовавшая по одной дороге наша армия, не в состоянии будучи собраться скоро, или разбита была бы по частям, или, по крайней мере разрезана будучи в каком-нибудь пункте, принуждена к отступлению, удаляясь от своей операционной линии и всех сделанных запасов. В сем последнем предположении спаслась бы лишь одна та часть войск, которая до того недалеко перешла Либштадт; все прочие, оторванные от сообщений с Россиею и непременно отброшенные к морю, подверглись бы бедственным следствиям или необходимости положить оружие».
Снова началось тяжелое отступление с наседавшим на арьергард неприятелем. Постоянно возникали ситуации критические: «7-я дивизия генерал-лейтенанта Дорохова, которую закрывал ариергард, шла в большом беспорядке, обозы ее стесняли позади дорогу, и мы, беспрестанно занимая позиции и весьма мало удаляясь, дрались до самой глубокой ночи. <…> Артиллерия была весь день в ужасном огне, и если бы перебитых лошадей не заменяли гусары отнятыми у неприятеля, я должен был бы потерять несколько орудий. Конную роту мою, как наиболее подвижную, употреблял я наиболее. Нельзя было обойтись без ее содействия в лесу, и даже ночью она направляла свои выстрелы или на крик неприятеля, или на звук его барабана. Войска были ею чрезвычайно довольны, и князь Багратион отозвался с особенною похвалою».
Именно в этой кампании высоко возрос авторитет Ермолова как артиллерийского офицера, бесстрашного и искусного, умеющего организовать взаимодействие своих артиллеристов с другими родами войск и не терявшегося в любых обстоятельствах, а главное, готового, рискуя собой, защитить соратников огнем своих орудий.
Багратион, на глазах которого сражался Ермолов, не мог этого не оценить.
Бесконечные маневры, частные, но яростные и кровопролитные бои, польские дремучие леса, снега и морозы изнуряли обе армии. И та и другая желали решающего сражения.
Ситуация сложилась парадоксальная. Русский штаб оказался полностью в курсе замыслов противника, тем более что летучие казачьи отряды перехватили еще семерых французских курьеров, которые везли дубликаты все того же наполеоновского приказа Бернадотту. А Наполеон был в полной уверенности, что план его выполняется. Бернадоттже вообще ничего не знал.
Беннигсен, который, по выражению военного историка и теоретика генерала Жомини, «слепо несся навстречу своей гибели», немедленно начал отступать, подыскивая сильную позицию для решающего сражения.
Только тогда Наполеон осознал, что происходит. Он писал в Париж своему министру иностранных дел Талейрану: «Теперь очевидно, что он (Беннигсен. —
После ожесточенного столкновения у городка Ионкова, когда начавшуюся было битву прекратила ранняя зимняя темнота, Беннигсен, неудовлетворенный позицией, увел русские колонны.
При этом французы захватили большие склады с продовольствием, что значительно облегчило положение страдающих от усиливающихся морозов солдат.
Апофеозом этой тяжелейшей для обеих армий кампании стало долгожданное сражение при Прейсиш-Эйлау, подтвердившее уверенность Ермолова в уязвимости Наполеона, а потому особенно для нас существенное.
При поверхностном взгляде кампания 1806–1807 годов представляется радом крупных сражений, между тем как это были непрерывные боевые действия, а крупные сражения только венчали время от времени этот кровавый процесс.
Прейсиш-Эйлау было событием из ряда вон выходящим.
Денис Давыдов оставил об этом специальный мемуар «Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау 1807 года января 26-го и 27-го»[31]:
«
Дела давно минувших лет…
И Ермолов, и Оссиан здесь далеко не случайны. Очерк «Воспоминание» написан в первой половине 1830-х годов и опубликован в «Библиотеке для чтения» в 1835 году, когда Ермолов оказался в глухой отставке, хотя и числился в Государственном совете. В отставке был и нелюбимый Николаем генерал-лейтенант Давыдов.
Денису Васильевичу важно было напомнить обществу о героических временах, когда оба они с Ермоловым играли активные и героические роли — каждый на своем месте: Ермолов будучи командиром всей артиллерии авангарда, а Давыдов, штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка, — адъютантом Багратиона, который авангардом и командовал.
Давыдов очень точно определяет историческое место сражения, ставя его рядом с Бородином, что весьма принципиально.
«Сражение при Прейсиш-Эйлау почти свеяно с памяти современников бурею Бородинского сражения, и потому многие дают преимущества последнему перед первым. Поистине, предмет спора оружия под Бородиным был возвышеннее, величественнее, более хватался за сердце русское, чем спор оружия под Эйлау; под Бородиным дело шло быть или не быть России. Это сражение — наше собственное, наше родное сражение… Предмет спора оружия под Эйлау представляется с иной точки зрения. Правда, что он был кровавым предисловием Наполеонова вторжения в Россию, но кто тогда видел это? Несколько избранных природою, более других одаренных проницательностью; большей же части из нас он казался усилием, чуждым существенных польз России, единым спором и щегольством военной славы обеих сражавшихся армий, окончательным закладом: чья возьмет, и понтировкою на удальство, в надежде на рукоплескание зрителей, с полным еще кошельком в кармане, а не игрою на последний приют, на последний кусок хлеба и на пулю в лоб при проигрыше, как это было под Бородиным».
Кого имел в виду Давыдов, когда говорил о «нескольких избранных», понимавших значение битвы при Эйлау? Не Ермолова ли, которому посвятил свой мемуар? Тому Ермолову, который в каждом столкновении с Наполеоном искал то зерно, из которого должна была, по его убеждению, произрасти победа?
Давыдов пишет: «Необходимо было удержать стремление неприятеля, чтобы дать время и батарейной артиллерии примкнуть к армии и армии довершить свое разрешение и упрочить оседлость позиции. <…> Полковник Ермолов, командовавший всею артиллерией арьергарда, сыпал картечи в густоту наступающих колонн, коих передние рады ложились лоском, но следующие шагали по трупам их и валили вперед, не укрощаясь ни в отваге, ни в наглости.
Несмотря на все наши усилия удержать место боя, арьергард оттеснен был к городу. <…> Неприятель, усиля решительный натиск свой свежей силой, вломился в город…»
Город назывался Прейсиш-Эйлау.
Взяв резервную дивизию и встав во главе нее, Багратион отбил город. Наступившая ночь прервала сражение.
Нет надобности и возможности подробно описывать кровавую бойню под Прейсиш-Эйлау. Мы остановимся на том, что так или иначе имело отношение к Ермолову. Не только потому, что он был активным действующим лицом этого события, но и по психологическим для него последствиям этого страшного пролога Бородина.
Конноартиллерийские роты Ермолова активно действовали в начале сражения, когда обе армии только еще занимали свои позиции, подтягивая отставшие части. На этом этапе Ермолов по-прежнему был в арьергарде Багратиона, сдерживая напор французов: «Оборотившись против оных и способствуемы местоположением, долго дрались мы упорно. <…> Багратион отпустил назад всю кавалерию и часть артиллерии, дабы свободнее быть в движениях. <…> Около двух часов имели мы выгоды на нашей стороне; наконец двинулся неприятель большими силами; идущие впереди три колонны направлены одна по большой дороге, где у нас мало было пехоты, другая против Псковского и Софийского мушкетерских полков, и третья против моей батареи из 24-х орудий. Шедшая по большой дороге проходила с удобностию и угрожала взять в тыл твердейший пункт нашей позиции. Прочие медленно приближались по причине глубокого снега, лежащего на равнине, и долго были под картечными выстрелами. Однако же дошла одна, хотя весьма расстроенная, и легла от штыков Псковского и Софийского полков, другая положила тела свои недалеко от фронта моей батареи».
У нас уже шла речь о скромности автора записок в описании своих действий. Другой в этой ситуации мог бы развернуть яркую сцену расстрела в упор картечью атакующей колонны неприятеля. Ермолов ограничивается сдержанной полуфразой, из которой, однако, все ясно — атакующие были подпущены на минимальное расстояние, на котором картечь становилась сокрушительным препятствием. Это был излюбленный прием Ермолова, сколь опасный для артиллеристов, столь и эффективный.
Все время отхода арьергарда конные роты Ермолова прикрывали отступавшие войска, сдерживая неприятеля.
Теперь надо понять, где находился Ермолов со своей конной артиллерией в решающие моменты сражения.
Чандлер пишет: «Даву теперь присутствовал со всеми силами, и в час дня Наполеон направил их вперед (с Сент-Илером на их левом фланге) в широкий охват вокруг открытого фланга Толстого. <…> Всю вторую половину дня шли ожесточенные бои на южном фланге, и понемногу, но уверенно, Даву оттеснял назад русских, пока линия Беннигсена не стала напоминать форму шпильки (очевидно, Чандлер имеет в виду, что отступавший под напором Даву фланг русской армии образовал острый угол по отношению к остальным ее частям. —
Обратимся к запискам Ермолова: «Вскоре после начала сражения на правом нашем фланге слышна была в отдалении канонада. Известно было, что маршал Ней преследует корпус прусских войск в команде генерала Лестока, которому главнокомандующий приказал сколько можно ранее присоединиться к армии, но чего он не выполнил. Когда неприятель около двух часов пополудни возобновил усилия, главнокомандующий послал подтверждение, чтобы он шел сколько можно поспешнее, но между тем надобно было чем-то умедлить успехи неприятеля на левом крыле нашем. Посланная туда 8-я дивизия отозвана к центру, где необходимо было умножение сил; резервы наши давно уже были в действии. Итак, мне приказано было идти туда с двумя конными ротами. Дежурный генерал-лейтенант граф Толстой махнул рукою влево, и я должен был принять сие за направление. Я не знал, с каким намерением я туда отправляюсь, кого там найду, к кому поступлю под начальство. Присоединив еще одну роту конной артиллерии, прибыл я на обширное поле оконечности левого фланга, где слабые остатки войск едва держались против превосходного неприятеля, который продвинулся вправо, занял высоты батареями и одну мызу уже почти в тылу войск наших».
Это был тот самый маневр полков маршала Даву, направленных Наполеоном в обход левого фланга. Поскольку левый фланг и так уже составлял, по свидетельству Ермолова, прямой угол по отношению к фронту русской армии, то дальнейшее его отступление грозило выходом в русский тыл крупных неприятельских сил, что вело к катастрофе.
Ермолов с его конноартиллерийскими ротами фактически был в резерве. Его ввели в действие в критический момент. И как это не раз бывало, он спас положение: «Я зажег сию последнюю (мызу. —
Это означало, что хотя Даву и сильно потеснил левый фланг русской армии, но завершить гибельный для нее маневр ему не дали 30 орудий Ермолова.
Чандлер меланхолически подвел итог эйлаускому побоищу: «Четырнадцать часов непрерывного сражения так и не дали никакого результата, хотя многочисленные воины — цвет и французской и русской армий — лежали мертвые или погибли от ран и замерзли на кровавом снегу»[33].
Потери обеих армий были огромны. Французы потеряли не менее 25 тысяч, а русские — не менее 15.
Поскольку Беннигсен истощил все свои резервы, а у Наполеона остались нетронутой гвардия и сильный корпус Бернадотта, то, вопреки настоянию многих генералов, Беннигсен решил отступить. Ночью русская армия ушла со своих позиций.
Измученные французы не в силах были ее преследовать.
Через две недели в результате ряда маневров русская армия снова проходила мимо Прейсиш-Эйлау, и Ермолов оставил в воспоминаниях в высшей степени характерную для него, военного профессионала, запись: «С любопытством осматривал я поле сражения.
Я ужаснулся, увидевши число тел на местах, где стояли наши линии, но еще более нашел их там, где были войска неприятеля, и особенно, где стеснялись его колонны, готовясь к нападению, не взирая, что в продолжение нескольких дней приказано было жителям местечка (как то они сами сказывали) тела французов отвозить в ближайшее озеро, ибо нельзя было зарывать в землю замерзшую. Как артиллерийский офицер примечал я действие наших батарей и был доволен. В местечке не было целого дома; сожжен квартал, где, по словам жителей, сносились раненые, причем много их истреблено».
Какими-либо комментариями по поводу увиденного и услышанного — в частности о гибели в огне раненых в результате действия русской артиллерии — Алексей Петрович пренебрег…
…В своих «Записках» декабрист князь Сергей Григорьевич Волконский, в 1807 году — поручик Кавалергардского полка, вспоминал: «Говоря о Прейсиш-Эйлау, как не упомянуть о Ермолове, с этого сражения началась его знаменитость в военном деле».
Для Ермолова это сражение при Прейсиш-Эйлау имело особое значение. Прежде всего, его отчаянную смелость и твердость невозможно было не заметить: «Главнокомандующий, желая видеть ближе действия генерала Лестока, был на левом фланге и удивлен был, нашедши от моих рот всех лошадей, все передки и ни одного орудия; узнавши о причине, был чрезвычайно доволен».
Он снискал не только благоволение Беннигсена, симпатизировавшего ему с юности: «Между многими чиновниками, представленными великому князю, удостоился и я его приветствия, по засвидетельствованию князя Багратиона о моей службе. До того не был я ему известен, никогда не служивши в столице».
Впоследствии знакомство с великим князем Константином Павловичем приняло форму своеобразной дружбы, несомненно Ермолову полезной.
Но главным было другое: «Вскоре приказано было готовиться к встрече государя вместе с королем прусским. Построив единообразно шалаши, дали мы им опрятную наружность и лагерю вид стройности. Выбрав в полках людей менее голых, пополнили с других одежду и показали их под ружьем. Обнаженных спрятали в лесу и расположили на одной отдаленной высоте в виде аванпоста. Тут увидел я удобный способ представлять войска и как уверяют государя, что они ни в чем не имеют недостатка. Подъезжая к каждой части войск, он называл начальников по фамилии прусскому королю и между прочим сказал обо мне, что и в прежнюю кампанию доволен был моей службою. <…> Я был вне себя от радости, ибо не был избалован в службе приветствиями. Король прусский дал орден за достоинство трем штаб-офицерам, в числе коих и я находился».
Пятилетние усилия после ссылки дали наконец реальные плоды. Мечты о великом поприще обретали почву.
«Вышли награды на Прейсиш-Эйлавское сражение. Вместо 3-го класса Георгия, к которому удостоен я был главнокомандующим, я получил Владимира.
В действии сделан мне участником артиллерии генерал-майор граф Кутайсов. Его одно любопытство привело на мою батарею, и как я не был в его команде, то он и не мешался в мои распоряжения. Однако, не имевши даже 4-го класса, ему дан орден Георгия 3-го класса[34]. <…> Князь Багратион объяснил главнокомандующему сделанную мне несправедливость, и он, признавая сам, что я обижен, ничего однако же не сделал. Вот продолжение тех приятностей по службе, которыми довольно часто я наделяем!»
То, что высокий орден получил вместо Ермолова Кутайсов, сын того самого любимца Павла, которому Ермолов собирался писать из ссылки, неудивительно. Он был близок ко двору, его хорошо знал Александр, который и принимал такие решения, и Беннигсен тут был бессилен.
И, однако же, несмотря на эти обиды, Ермолов мог быть доволен. Впервые он по-настоящему обратил на себя внимание высших начальников. Во время промежуточных боев между Прейсиш-Эйлау и решающим сражением у Фридланда он не раз отличился: «В сей день с моею ротою я был в ужаснейшем огне и одну неприятельскую батарею сбил, не употребляя других выстрелов, кроме картечных».
Во время встречного боя у Гейльсберга он едва не погиб: «Неприятельская кавалерия прорывала наши линии, и с тылу взяты были некоторые из моих орудий. Одна из атак столько была решительна, что большая часть нашей конницы опрокинута за селение Лангевизе. Но расположенные в оном егерские полки генерала Раевского остановили успех неприятеля, и конница наша, устроившись, возвратилась на свое место, и отбиты потерянные орудия. Я спасся благодаря быстроте моей лошади, ибо во время действия батареи часть конницы приехала с тылу и на меня бросились несколько человек французских кирасир <…> — Главнокомандующий благодарил меня за службу, а великий князь оказал мне особое благоволение».
При Гейльсберге Ермолов укрепил свою репутацию в глазах Константина Павловича, который, формально не командуя ни одним соединением, выполнял роль наблюдающего и представлял командующего на правом фланге. Том самом, где были Багратион и Ермолов с конноартиллерийской ротой.
Когда кавалерия Мюрата потеснила русскую кавалерию и над правым флангом нависла опасность обхода, именно Константин удачно сманеврировал артиллерией, открывшей огонь по флангу наступающих дивизий маршала Сульта и заставившей их отступить.
Ермолов со свойственным ему дерзким хладнокровием выжидал, пока французы не приблизятся на минимальное расстояние. Константина это нервировало, и он послал адъютанта поторопить артиллеристов. Тогда Ермолов произнес известную фразу, которая восхитила великого князя: «Я буду стрелять, когда различу белокурых от черноволосых».
Ермолов знал, кому он адресует свой ответ.
Константин оценил и выдержку полковника, и его способность нетривиально выразиться. Он и сам был известный острослов.
«Особое благоволение» вздорного и придирчивого Константина стоило дорогого. Немногие могли им похвастаться…
Бойня при Прейсиш-Эйлау и полупобеда при Гейльсберге нанесли сильнейший удар по репутации Наполеона. Он в обоих случаях заставил русскую армию покинуть позиции, но отнюдь не разгромил ее. Результаты битв ничуть не напоминали победы над пруссаками и австрийцами, а потери были тяжкие.
Наполеон понимал, что только решительная победа может загладить эйлаускую неудачу и безрезультатность более мелких столкновений.
А для Ермолова происшедшее стало еще одним сильным аргументом в пользу его уверенности — Наполеона можно победить. Он был уверен, что причины успехов французского гиганта не только и, быть может, не столько в его военном гении, сколько в посредственности противостоящих ему военачальников.
К Ермолову возвращалось его высокомерие. По-настоящему он уважал только Багратиона.
Наконец 2 июня наступила развязка — сражение при Фридланде. Разгром русской армии, однако, не перечеркнул уверенность Ермолова в уязвимости Наполеона, но укрепил его пренебрежение к собственному командованию.
Беннигсен, как с полным основанием утверждают военные историки, выбрал для сражения наихудшую позицию. Он не рассчитывал столкнуться со всей армией Наполеона, а предполагал, что перед ним передовой корпус Ланна, который он надеялся разгромить до прибытия главных французских сил. Ланн, однако, не дал себя разгромить, а Наполеон начал решительное наступление под вечер, в 5 часов 30 минут пополудни, когда обычно боевые действия прекращались. Но Беннигсен, сознавая слабость позиции, намеревался отвести армию за реку Алле, тылом к которой стояли русские дивизии, а Наполеон, только под вечер прибывший на место боя, мгновенно понял роковую ошибку противника. Этим и было вызвано вечернее наступление.
Сгрудившаяся на небольшом пространстве, прижатая к реке армия Беннигсена оказалась в смертельной ловушке.
Ермолов, мастер картечного огня в упор, имел скорбную возможность наблюдать его действие со стороны противника.
«Мы занялись продолжительною бесплодною перестрелкою и бесполезно потеряли столько времени, что прибыла кавалерия против нашего правого фланга и лес против арриергарда наполнился пехотою. <…> В шесть часов вечера прибыл Наполеон, и вся армия соединилась. Скрывая за лесом движения, главные силы собрались против левого крыла; в опушке леса неприметно устроилась батарея в сорок орудий, и началась ужасная канонада. По близости расстояния выстрелы были горизонтальные, и первые не могли выдержать конные полки арриергарда. Вскоре он отступил также. Все вообще войска начали отступать к мостам. <…> С артиллериею арриергарда успел я перейти по ближайшему понтонному мосту…»
Ермолову повезло. Счастье снова ему благоприятствовало. Основную часть русской армии, в беспорядке отступавшей к немногочисленным мостам, французская артиллерия расстреливала в упор.
Марбо, весьма неточно описывавший ход битвы, участником которой он был, тем не менее дает представление об ожесточенности боя: «Русские в ярости героически защищались и, хотя были окружены со всех сторон, тем не менее отказывались сдаваться. Многие из них умерли под ударами наших штыков, а остальные скатились с высоких берегов в реку, где почти все утонули. <…> Во время битвы мы взяли немного пленных, но число убитых или раненых врагов было огромным».
Чандлер, как обычно опиравшийся на разного рода источники, дает картину, вполне совпадающую со свидетельством Ермолова, но более подробную.
«Солдаты Беннигсена стали, отступая, сбиваться все плотнее и плотнее на все уменьшавшемся участке местности. Виктор полностью использовал свои возможности и выдвинул более тридцати пушек к фронту своего корпусного района. Под командой способного артиллерийского генерала Сенариона канониры смело вручную передвигали вперед скачками свои пушки. Начавшись с 1600 ярдов, дистанция быстро уменьшилась до 600 шагов, тогда пушки остановились и дали страшный залп по плотной массе русских. Вскоре пушки были уже на дистанции 300, а затем 150 ярдов от русской линии фронта, изрыгая смерть с монотонной регулярностью. Наконец артиллеристы подтащили свои дымящиеся орудия на 60 шагов до пехоты Беннигсена. На этом расстоянии прямой наводкой французская картечь косила ряды противника»[35].
Отчаянные атаки русской кавалерии и гвардейских полков исправить положение не могли. Как писал Ермолов, «та же ужасная батарея остановила храбрый порыв».
Это был разгром. Беннигсен, еще недавно уверенный в своем превосходстве над французским императором, требовал от Александра срочного заключения перемирия. Государь колебался. После Прейсиш-Эйлау и Гейльсберга он рассчитывал на иной результат.
Тогда великий князь Константин Павлович предложил старшему брату дать каждому русскому солдату по пистолету и приказать застрелиться. Это был бы более быстрый и гуманный способ покончить со своей армией.
Александр должен был ответить на вопрос: ради кого погибали русские солдаты? Правдивый ответ мог быть только один — ради интересов Пруссии и Англии.
Есть версия разговора августейших братьев, по которой Константин напомнил Александру о судьбе их отца и сообщил о ропоте офицеров, уставших от унизительных поражений.
Судя по тону записок, поражение при Фридланде поколебало даже упрямую воинственность Ермолова. В его описании переговоров о мире после Фридланда чувствуется вздох облегчения: «Наполеон желает мира, не перемирия!»
Нет надобности рассказывать здесь историю свидания двух императоров на плоту посредине Немана под городком Тильзит, вошедшим таким образом в историю.
Мы не знаем, что чувствовал наш герой, наблюдая совместный марш французской и русской гвардий перед двумя императорами после переговоров, начавшихся фразой Наполеона: «Из-за чего мы воюем?»
Очевидно, как и у многих русских военных, чувства эти были двойственные. Облегчение от того, что прекратилось непрерывное кровопролитие, которому еще вчера не видно было конца, и чувство унижения, поскольку переговоры велись с победителем.
После Пултуска и Эйлау, вселивших такие надежды, Наполеон продемонстрировал всю мощь своего военного гения и высочайшие качества французской армии.
Правда, мир нужен был французскому титану не меньше, чем его противникам. Солдаты были изнурены и не понимали цели своих тяжких усилий.
Франция ждала мира. Ей ничего не угрожало.
«Из-за чего мы воюем?» Это был вопрос из области большой политики.
Смысл своей личной войны Ермолов сформулировал подробно и отчетливо: «Итак, кончил я войну с самого начала оной и до заключения мира в должности начальника артиллерии в авангарде. По особенному счастию моему, не потерял я в роте моей ни одного орудия, тогда как многие в обстоятельствах гораздо менее затруднительных лишились оных».
Он действительно был на удивление удачлив. Он сам ставил своих артиллеристов в положения предельно затруднительные, когда не потерять орудия было невозможно! «В сражении при Гейльсберге многие из орудий впадали в руки неприятеля, ибо приказано было мною офицерам менее заботиться о сохранении пушек, как о том, чтобы на самом близком расстоянии последними выстрелами заплатили за себя, если будут оставлены».
Однако все попавшие в руки французов орудия ермоловской роты были тут же отбиты русскими драгунами.
«О распоряжении моем, спасающем ответственность за оставленные орудия, известно было начальству и доведено до сведения самого государя, который впоследствии весьма милостиво о том меня спрашивал».
Ермолов был мастер не просто героических, но эффектно героических поступков. Он рисковал жизнями своих подчиненных и своей собственной, но уверен был, что в случае удачи риск окупится.
Это была та самая установка на «подвиг», без которого ему не вырваться было из общего ряда.
Заканчивая раздел записок о войнах 1805–1807 годов, он подробно и деловито подвел итог преимуществам, полученным в результате своего профессионального умения, доблести — иногда самоубийственной — и таланта «показать товар лицом»: «Я имел счастие приобрести благоволение великого князя Константина Павловича, который о службе моей отзывался с похвалою. Князя Багратиона пользовался я особым благорасположением и доверенностию. Он делал мне поручения по службе, не одному моему званию принадлежащие. Два раза представлен я им к производству в генерал-майоры, и он со своей стороны делал возможное настояние, но потому безуспешно, что не было еще до того производства за отличия, а единственно по старшинству. Между товарищами я снискал уважение, подчиненные были ко мне привязаны. Словом, по службе открывались мне новые виды и надежда менее испытывать неприятностей, нежели прежде. В продолжение войны я получил следующие награды: за сражение при Голимине золотую шпагу с надписью „За храбрость“, при Прейсиш-Эйлау Св. Владимира 3-й степени, при Гутштатте и Пасарге Св. Георгия 3-го класса и при Гейльсберге алмазные знаки Св. Анны 2-го класса».
Проигранная война закончилась для полковника Ермолова весьма успешно. Потому что это была война, его стихия, и только в этой стихии, вне зависимости от конечного стратегического результата, он мог показать, на что способен.
О новом положении Ермолова и его резко возросшей репутации в армии свидетельствуют записки генерала Беннигсена о войне 1807 года. Полковник Ермолов постоянно возникает на страницах записок, хотя, что естественно, главными персонажами в них являются лица в куда более высоких чинах.
Ермолов оказался среди двух-трех штаб-офицеров, которых Беннигсен счел необходимым, так сказать, оставить в истории этой войны — и в истории вообще.
«Этими батареями распоряжался и командовал искусный и храбрый полковник конной артиллерии Ермолов — офицер, с величайшим отличием действовавший во всех делах этой кампании, о котором я буду иметь случай часто упоминать в моих записках».
«Полковник Ермолов очень отличился при этом случае: он сумел очень хорошо воспользоваться местностью и, поставив выгодно свою конную батарею, открывал огонь так удачно, что неприятель с большой осмотрительностью следовал за нашим ариергардом».
«Сильная колонна неприятельской кавалерии пыталась обойти наш отряд с правого фланга. Храбрый полковник Ермолов с двумя орудиями своей конноартиллерийской роты выдвинулся вперед и перебил много людей у французов, бросившихся на эту маленькую батарею и скоро ею овладевших. Генерал Корф немедленно атаковал неприятеля, в свою очередь опрокинул его и взял обратно наши два орудия, одно мгновение находившиеся в руках французов».
Эти эпизоды относятся к разным сражениям кампании 1807 года. Причем последний эпизод — это бой при Гейльсберге — наиболее характерен для боевого стиля Ермолова: самоубийственно дерзкого. «Особенное счастие» и в самом деле сопутствовало ему. По логике вещей он должен был погибнуть, но не был ни разу даже ранен.
Беннигсен знал Ермолова с детства и благоволил к нему, но тут ему не надо было кривить душой, обращая особое внимание современников и потомков на «храброго полковника». Ермолов и в самом деле проявил себя с блеском. Полученные им награды вполне соответствовали его реальным заслугам.
Но удивительно: несмотря на благожелательность Кутузова, восхищение Беннигсена, поддержку, которую оказывали ему великий князь Константин Павлович и Багратион, — словно бы какая-то тень лежала на его пути к высоким наградам и скорому продвижению в чинах.
Тем не менее по сравнению с довоенным положением своим Ермолов сделал стремительный рывок. Свое обещание, данное Казадаеву — «вернуть потерянное с конца шпаги», он выполнил.
Теперь ему предстояло точно выбрать стиль поведения в новой, мирной, ситуации, чтобы снова не попасть в мертвую паузу.
Военные заслуги при обилии решительных карьеристов с сильными протекциями могли оказаться бесполезными. Слишком многое в русской армии зависело от личных отношений с вышестоящими.
Но в случае с Ермоловым был и еще один редкий фактор, который не мог не оказать давления на непосредственное начальство Алексея Петровича, равно как в свое время роковым образом сказался на отношении к нему высшей власти. Это было его мощное личное обаяние.
Граббе, близко знавший его и много лет наблюдавший его воздействие на окружающих, писал: «Народность (то есть популярность. —
Это конечно же слова Николая I.
В «Записках» Ермолова мы не найдем патриотических деклараций, равно как не найдем их и в «Записках о галльской войне» Цезаря, и в «Египетском походе» Бонапарта.
Все трое рассматривали себя как исторических персонажей и писали свою историю.
Но как же соотносилось понимание Ермоловым интересов Отечества с его же необъятным честолюбием?
Без сомнения, он сознавал себя солдатом Российской империи более, чем слугой конкретного государя. Но и это был лишь один слой его сознания. Его вйдение себя в мире было куда объемнее.
Этим он принципиально отличался от блестящего и удачливого Воронцова, для которого сфера честолюбия не выходила за границы системы.
С существенными оговорками можно проводить параллели между самоощущением Ермолова и таковым же Михаила Орлова.
Пока что Ермолову нужно было осваиваться в мирной реальности, куда менее для него органичной, чем реальность войны.
Особый и достаточно запутанный сюжет ермоловской биографии — его отношения с Аракчеевым, длящиеся с момента его вступления на службу после ссылки и по кавказский период.
Как мы помним, отношения эти складывались тяжело и для Ермолова крайне неприятно.
Явная неприязнь к нему Аракчеева объяснялась по-разному. Мы помним беспричинно дерзкий ответ подполковника инспектору артиллерии, взбесивший Аракчеева. Эта дерзость могла быть вызвана давней нелюбовью к Аракчееву, «бутову слуге», того круга офицеров, к которому Ермолов принадлежал во времена Несвижа.
То есть у них была достаточно давняя история отношений, окрашенная и политически.
Были и совсем простые, явно апокрифические версии. Так, Денис Давыдов утверждал: «Граф Аракчеев, почитая Ермолова прежним фаворитом, преследовал его весьма долго; оставаясь в чине подполковника в продолжение девяти лет, Ермолов думал одно время, перейдя в инженеры, сопровождать генерала Анрепа на Ионические острова. Когда генерал Бухмейер объяснил графу его ошибку, этот последний решился вознаградить Ермолова за все прошедшее».
Хотя ничего подобного быть на самом деле не могло.
Александр Петрович Ермолов, довольно дальний родственник нашего героя, родился в 1754 году. В «случай» он попал в 1785 году и состоял в фаворитах год и четыре месяца. Аракчеев в это время был кадетом Артиллерийского и Инженерного кадетского корпуса. Фаворит императрицы генерал Ермолов безусловно был известен кадетам.
В начале XIX века, когда Аракчеев впервые увидел Алексея Петровича, бывшему фавориту было около пятидесяти лет. Спутать 25-летнего подполковника с 50-летним генералом Аракчеев никак не мог. Другое дело, что ему, возможно, не понравилась фамилия, вызывавшая малоприятные ассоциации у преданного памяти Павла Аракчеева. Но главное все же заключалось в стиле поведения молодого офицера, прилюдно оскорбившего высокого начальника.
Тем более странно, что с какого-то момента Аракчеев стал явно покровительствовать Ермолову. Резкий поворот в его отношении к Ермолову произошел в конце 1807 года, после Тильзита.
Ермолов вспоминал: «В конце августа прибыл инспектор всей артиллерии граф Аракчеев, осмотрел артиллерию, распределил укомплектование оной и, продолжая прежнее ко мне неблаговоление, приказал мне оставаться в лагере по 1-ое число октября, когда всем прочим артиллерийским бригадам назначено итти по квартирам 1-го сентября. К сему весьма грубым образом прибавил он, что я должен был приехать к нему в Витебск для объяснения о недостатках. Я отвечал, что неблагорасположение ко мне не должно препятствовать рассмотрению моих рапортов. Оскорбили меня подобные грубости, и я не скрывал намерения непременно оставить службу. Узнавши о сем, граф Аракчеев призвал меня к себе и предложил дать мне отпуск для свидания с родственниками, приказал приехать в Петербург, чтобы со мною лучше познакомиться».
Более того, Аракчеев стал ходатайствовать за Ермолова перед императором.
12 декабря 1807 года он отправил Ермолову письмо из Петербурга:
«Милостивый Государь,
Алексей Петрович!
При оставлении по болезни моей командование Артиллерийским Департаментом, я почел приятным себе долгом отличить роту, вами командуемую, перед Государем Императором, испрося на имя ваше у сего препровождаемый рескрипт, не имея ничего у себя более ввиду, как доказать вам, милостивому государю, то уважение, которое я всегда имел к службе вашей, а вас прося при оном случае, дабы вы оставались ко мне всегда хорошим приятелем, чего желает пребывающий к вам с почтением и преданностию,
милостивый государь, покорный слуга,
Граф Аракчеев».
Рескрипт — собственноручно написанное или подписанное письмо императора штаб-офицеру — большая редкость в александровское царствование. И есть все основания считать, что Аракчеев пишет чистую правду. Маловероятно, что это могло быть личной инициативой Александра.
В рескрипте было сказано:
«Господину артиллерии полковнику Ермолову.
Отличное действие в прошедшую кампанию командуемой вами конноартиллерийской роты подает мне приятный повод изъявить оной особое мое благоволение, а вместе с сим инспектор артиллерии граф Аракчеев препроводит к вам тысячу рублей для награждения в роте, по вашему назначению, тех фейерверкеров и рядовых, кои по отличному своему знанию артиллерийской науки, заслуживают уважение, что самое примите в знак и к вам особого моего благоволения.
В С.-Петербурге. Ноября 30-го дня 1807 года.
На подлинном подписано:
Александр».
Что же произошло? Еще недавно Аракчеев с присущей ему грубостью требовал объяснения «в недостатках», а теперь толкует о всегдашнем уважении к службе Ермолова и просит быть его приятелем.
Давыдов предлагает еще одно объяснение: «П. И. Меллер-Закомельский содействовал своим отзывом перемене расположения Аракчеева к Ермолову». Вполне возможно, что было и это. Во время войны 1805 года он командовал артиллерией армии, в которой состояла и рота Ермолова, и, соответственно, знал его. А в декабре 1807 года Меллер-Закомельский сменил Аракчеева на посту инспектора всей артиллерии.
Но, скорее всего, решающую роль сыграло другое.
Трудно сказать, собирался ли Ермолов на самом деле идти в отставку.
Мы уже говорили, что вне армии его ждала малопривлекательная жизнь средней руки статского чиновника. Других источников дохода, кроме жалованья, у него не было. Это было бы крушение всех его честолюбивых мечтаний.
Скорее всего, настойчивые разговоры Ермолова о своей отставке, рассчитанные на то, что они дойдут до высшего начальства, были тактическим ходом. И он сработал.
Аракчеев был грубым и жестоким, на нем числится немало тяжких грехов. Зато в числе его несомненных достоинств было то, что граф был не только фанатично предан артиллерийскому делу, но и обладал незаурядными организаторскими способностями. Его заслуги перед русской артиллерией несомненны. Он мог не любить Ермолова — этот самоуверенный и дерзкий офицер с сомнительным прошлым и фамилией, вызывающей вполне определенные ассоциации, его раздражал. И не мог не раздражать. Но, сам будучи профессионалом, Аракчеев не мог не видеть профессионализма Ермолова.
Когда же он узнал о намерении полковника подать в отставку, у него должны были появиться два соображения.
Во-первых, ему наверняка было жаль терять хорошего артиллериста. Одно дело — преследовать его мелкими придирками и грубостями, и совсем другое — лишиться его.
Во-вторых, и это, надо полагать, главное — Аракчеев знал, что Ермолов известен Александру и государь отметил отчаянного полковника. Указ о его отставке должен был пройти утверждение императора. И тогда неизбежно встал бы вопрос: почему хороший боевой офицер, кавалер ордена Святого Георгия 3-го класса, уважаемый известными военачальниками, вдруг подает в отставку? Если бы император узнал, что причиной тому оскорбительное отношение к Ермолову Аракчеева, то последнему пришлось бы объясняться с государем. Причем аргументов у него не нашлось бы.
Гораздо выгоднее было в данной ситуации покровительствовать полковнику, который имел шансы стать любимцем императора, чем преследовать его.
Ермолов, наученный суровым жизненным опытом и прекрасно понимающий механизмы карьеры в русской армии, счел благоразумным это покровительство принять, не теряя при этом достоинства.
Он понимал, что судьба его в конечном счете зависела теперь от императора…
При этом надо сознавать — понимал это и сам Ермолов, — что, несмотря на все свои успехи, для русского общества он был фигурой малозаметной.
Вигель, внимательнейшим образом следивший за современной ему историей, рисуя в своих записках картину будущей «Илиады», посвященной Отечественной войне, все расставил по местам: «И ты предстанешь тут, близнец его (Воронцова. —
«Почти в первый раз» имя Ермолова, по мнению Вигеля, оказалось на слуху в 1812 году. А во время кампаний 1805–1807 годов двадцатилетний Вигель, служивший в Министерстве иностранных дел и в Министерстве внутренних дел, знал, разумеется, чьи имена тогда гремелй.
Полковнику Ермолову, замеченному императором, снискавшему благоволение Аракчеева, оцененному крупнейшими военачальниками, еще предстоял долгий путь к осуществлению проектов, которые соответствовали его «необъятному честолюбию».
В начале 1808 года Ермолов приехал в Петербург, где был принят Аракчеевым, который сообщил ему, что за отличия в последней войне император пожаловал двум конноартиллерийским ротам специальные нашивки на мундиры. Это были роты Ермолова и князя Яшвиля, который долгие годы оставался соперником Алексея Петровича на артиллерийском поприще.
Аракчеев лично представил Ермолова императору.
Казалось, за всем этим должен был последовать незаурядный карьерный взлет.
Обстоятельства, однако, сложились несколько по-иному.
«Пробыв в Петербурге три дня, я подал графу Аракчееву записку о том, что во время ссылки моей при покойном императоре Павле I-м многие обошли меня в чине, и потому состою я почти последним полковником артиллерии. Я объяснил ему, что если не получу я принадлежащего мне старшинства, я почту и то немалою выгодою, что ему, как военному министру, известно будет, что я лишен службы не по причине неспособности к оной».
Вряд ли это был удачный ход. Аракчеев не мог не знать дело «канальского цеха» и наверняка считал, что смутьяны получили по заслугам. Напоминать ему о гонениях павловских времен, в которых он сам принимал деятельное участие, было неразумно. Тем более что Аракчеев прекрасно знал цену Ермолову как артиллеристу, и пассаж этот мог быть воспринят как едкая ирония.
Но Алексей Петрович давал понять министру и через него, возможно, императору, что лестного рескрипта, нашивок на мундир и ласкового приема ему мало.
Ответа не последовало. Он почувствовал, что зарвался, и немедленно уехал из столицы в Орел к отцу. Там он узнал, что «при общем производстве по артиллерии пожалован генерал-майором и назначен инспектором части конноартиллерийских рот, с прибавлением к жалованию двух тысяч рублей».
Тут важна формулировка — «при общем производстве». Ему дали понять, и он понял, что он отнюдь не находится на особом положении. Он получил следующий чин вместе с другими, когда подошел положенный срок.
Подлежащие его инспекции роты дислоцировались главным образом в Молдавии. Куда он и отправился. В ту самую Молдавию, где он начинал свою службу без малого 20 лет назад юным капитаном с сильной протекцией.
С этого времени, на первый взгляд для Ермолова благоприятного, берет начало тенденция, которая требует объяснения. 32-летний генерал-майор с высокой боевой репутацией регулярно получает второстепенные назначения.
В 1809 году Россия вела две войны: с Австрией, вынужденную, как союзницей Наполеона, и вязкую, изнурительную, третий год длящуюся — с Турцией. Ермолов не попал ни на ту, ни на другую.
После Молдавии он был назначен начальником резервных войск в Волынской и Подольской пограничных губерниях и должен был исполнять по сути дела полицейские функции. Он понимал, что теряет время.
По окончании войны с Австрией — Наполеон снова стал победителем — сводный отряд Ермолова был передислоцирован в Полтавскую и Черниговскую губернии. Штаб расположился в Киеве, где Алексей Петрович мог «бывать на праздниках, ездить на гуляния», но он-то жаждал совсем иного. Он хотел воевать.
В отчаянии он обратился к Аракчееву, но Змей ответил ему ласковым и ничего не значащим письмом.
Очевидно, у Александра были свои соображения относительно молодого генерала со строптивым характером и честолюбивыми видами. Почему-то он считал нужным держать Ермолова на вторых ролях. Возможно, сказывалось влияние ближнего окружения императора, раздраженного стремительным продвижением Ермолова в кампанию 1806–1807 годов и его независимой повадкой.
Он был не такой, как большинство его сослуживцев. В нем чувствовали завышенные претензии, выходящие за обычные рамки. Он слишком хотел служить. В нем чувствовалась установка на «подвиг». Его честолюбие было какого-то иного, необычного рода. Оно напоминало честолюбие «екатерининских орлов», которым тесно было в структурированном имперском пространстве.
В нем чувствовали что-то опасное. Быть может, ему — несмотря ни на что — не доверяли до конца.
К киевскому периоду относится свидетельство, которое многое объясняет в формировании ермоловского мифа. Это воспоминание знаменитой кавалерист-девицы Дуровой о знакомстве с Алексеем Петровичем, когда она в качестве корнета Александрова оказалась в киевской ставке Ермолова: «Прием генерала был весьма ласков и вежлив. Обращение Ермолова имеет какую-то обворожительную простоту и вместе обязательность. Я заметила в нем черту, заставляющую меня предполагать в Ермолове необыкновенный ум: ни в ком из бывающих у него офицеров не полагает он невоспитания, незнания, неумения жить; с каждым говорит он как с равным себе и не старается упростить свой разговор, чтоб быть понятным; он не имеет смешного предубеждения, что выражения и способ объясняться людей лучшего тона не могут быть понятны для людей среднего сословия. Эта высокая черта ума и доброты предубедила меня видеть все уже с хорошей стороны в нашем генерале. Черты лица и физиономия Ермолова показывают душу великую и непреклонную».
Этот человек, безжалостный на поле боя, способный на хладнокровную жестокость, если этого требовали, по его разумению, обстоятельства, опасно дерзкий с вышестоящими, умел очаровывать и привлекать к себе самых разных людей. И, скорее всего, это было не расчетливой игрой — хотя элемент игры тоже присутствовал, но феерическим многообразием ермоловской натуры. Возможно, он бывал непобедимо обаятелен именно тогда, когда оказывался самим собой, когда ему не нужно было защищаться, выстраивать линию обороны между собой и враждебной средой. В этом случае он становился «патером Грубером».
Странная судьба Ермолова после быстрого выдвижения в 1807 году удивляла его боевых товарищей.
В мае 1811 года, когда Ермолов тосковал в Киеве, он получил красноречивое письмо от генерала Якова Петровича Кульнева, с которым сблизился еще в 1794 году во время Польской кампании. Как и Ермолов, Кульнев отличился при штурме Праги.
Кульнев был старше Ермолова на 14 лет и успел показать себя как лихой кавалерист еще во вторую турецкую войну 1787–1791 годов.
Он продемонстрировал отчаянную храбрость при Фридланде, пробившись со своим гусарским полком из безнадежного, казалось бы, окружения, и упрочил репутацию блестящего кавалерийского генерала во время войны со Швецией. К 1811 году Кульнев был одним из популярнейших военачальников в русской армии. Все это надо знать, чтобы оценить значение его письма:
«Cher Camarade[37],
Алексей Петрович!
Ни время, ни отсутствие дальше не могло истребить из памяти моей любви и того почтения, кое привлекли вы себе от всей армии, что не лестно вам говорю, и всегда об вас вспоминал, для чего вас не было в шведскую и последнюю кампанию, турецкую войну. Человеку с вашими способностями не мешало знать образ той и другой войны, и, я полагаю, преградою сей мешала вам какая ни есть придворная чумичка. Время еще не ушло; кажется, в скорости увидимся на ратном поле…»
Надо полагать, Кульнев был не одинок в своем недоумении и в своих надеждах.
В это самое время положение Ермолова стало меняться, но совсем не так, как ему бы хотелось. Со свойственной ему лапидарностью он описал в воспоминаниях эти странные на первый взгляд события: «Получив на короткое время увольнение в отпуск, приехал я в Петербург. Я представлен был государю в кабинете, что представляемо было не менее, как дивизионным начальникам. Слух носился о рождающихся неудовольствиях с Наполеоном, с которым редко можно кончить их иначе, как с оружием. Многие к сим причинам относили благосклонный прием, делаемый военным. Не имея сего самолюбия, боялся я в душе моей на случай войны остаться в резерве. Инспектор всей артиллерии барон Меллер-Закомельский хотел употребить старание о переводе меня в гвардейскую артиллерийскую бригаду, но я отказался, боясь парадной службы, на которую не чувствовал я себя годным, и возвратился в Киев».
Ермолов умел быть неотразимо обаятельным не только для наивных молодых корнетов вроде Александрова-Дуровой.
Командир дивизии, в которую, как мы знаем, входили солдаты Ермолова в киевский период, генерал-лейтенант Аркадий Суворов писал ему с театра военных действий, куда Ермолов, к своему великому огорчению, не попал:
«Распрепочтенный наш Наместник!
Начну тем: знав дружбу твою ко мне, прошед чрез огонь и воду, и будучи несколько раз при смерти, совсем теперь почти здоров, и так, опомнясь несколько, принимаюсь опять за старое ремесло: 1, спешу сражаться; 2, собираюсь ехать с собаками; 3, от любви еду в Локод посмотреть, можно ли прыгнуть и не ушибиться; к удовольствию же твоему может быть, что второй и третий номер не удастся, ибо с кривой и подлой рукой на век останусь… Прощай, почтенный Друг, будь здоров, счастлив и по возможности покоен!
Остаюсь по гроб тебе преданный
Суворов.
Часто случается, что мы с Главнокомандующим об тебе долго разговариваем: он цену тебе знает в полной мере, доброго отменно много, уверен, что весенняя кампания помирит его с недоброжелателями… 28 Генваря.
Бухарест 811».
В этом письме все значимо: и дружба восходящей звезды русской армии, генерала со столь громкой фамилией и безусловными военными дарованиями, — очевидно, они сошлись во время кампании 1807 года, и то, что Суворов и главнокомандующий Каменский, на которого возлагались основные надежды в будущей войне с Наполеоном, «долго разговаривают» о Ермолове — всего-навсего генерал-майоре на невысокой должности, и то, что Суворов полушутя называет оставшегося в Киеве друга «Наместником», и, как ни странно это может показаться, упоминание Суворовым о своей «кривой и подлой руке». Очевидно, он или был ранен, или каким-то образом серьезно повредил руку, и это сыграло роковую роль — 13 апреля того же года, меньше чем через три месяца после цитированного письма, он погиб: генерал-лейтенант светлейший князь Суворов-Рымникский утонул в реке Рымник, спасая солдата, своего денщика…
Главнокомандующий Каменский заболел и умер в мае…
Письма Кульнева и Суворова, беседы Суворова с Каменским свидетельствуют об особом положении, которое уже тогда занимал Ермолов в сознании своих товарищей по оружию. И дело было, разумеется, не просто в его обаянии и умении нравиться людям. В нем ощущались сила и необычность, природу которой далеко не все понимали, но о которой догадывались.
И если, как свидетельствовал Вигель, в обществе он был мало известен, то в армии ситуация была иная.
Александр об этом знал, хотя его отношение к этому генералу, неожиданно приобретавшему популярность в военных кругах в канун надвигающейся войны, было далеко не простым.
18 июня 1811 года Ермолов писал Казадаеву из Киева: «Полтора месяца назад переломил я себе руку и самым опаснейшим образом, могли быть неприятные следствия, но благодаря искусству и чрезвычайному попечению доктора я надеюсь в короткое время получить употребление руки».
В письме присутствует характерный для Ермолова пассаж: «Самого сего доктора сын отправляется ныне в корпус тобою командуемый, если ты будешь иметь на него внимание, сделай благодеяние, ибо отец его человек весьма добрый и при недостаточном состоянии обремененный многочисленным семейством».
Ермолов, при всей его замкнутости на себе и своей миссии, безусловно получал удовлетворение, прося за других, покровительствуя низшим и нуждающимся в помощи.
Сломанная рука Ермолова вызывала беспокойство императора!
31 мая 1811 года генерал от инфантерии Милорадович, киевский военный губернатор, получил неожиданный запрос из Петербурга: «Его Императорскому Величеству благоугодно иметь верное известие о состоянии здоровья артиллерии генерал-майора Ермолова, а потому поручить мне изволил отнестись к Вашему Высокопревосходительству, чтобы вы донесли о том Его Величеству с нарочно отправляемой по сему случаю эстафетою; да и впредь по временам доносить, в каком положении он находиться будет.
Военный министр Барклай де Толли».
И июня Милорадович отнесся к Ермолову: «С особливым удовольствием я имею честь препроводить к Вашему Превосходительству список с отношением ко мне Господина Военного Министра, из коего вы усмотреть изволите, сколь много Его Императорское Величество принимает участие в состоянии здоровья вашего. Я уже имел счастие доносить Государю Императору об оном и по отзывам доктора, вас пользующего, уверен, что в самом скором времени буду иметь счастие донесением своим успокоить Государя Императора, столь милостиво занимающегося положением отлично служащего генерала».
Ермолов в воспоминаниях довольно ядовито прокомментировал происшедшее: «Удивлен я был сим вниманием и стал сберегать руку, принадлежащую гвардии. До того менее я заботился об армейской голове моей!»
Гвардия здесь появилась, разумеется, не случайно.
31 марта 1811 года Ермолов получил запрос из столицы: «По случаю продолжительной болезни командира лейб-гвардии артиллерийского баталиона генерал-майора Касперского, к скорому выздоровлению которого и надежды не предвидится, Его Императорскому Величеству угодно назначить на место его, Касперского, другого достойного командира; зная же отличные достоинства ваши и усердие на пользу службы, повелел мне предложить Вашему Превосходительству, не желаете ли вы иметь сего места, где еще более будете иметь случай заслужить Монаршее к вам благоволение? Я, сообщая вам о сем, прошу вас, не замедля, для доклада Государю Императору, о желании вашем меня уведомить. Пребывая всегда с истинным почтением и преданности
Вашего Превосходительства
покорный слуга
Барклай де Толли».
Ситуация была далеко не тривиальная. Император имел безусловное право назначить любого генерала на любую должность, отнюдь не интересуясь его мнением. Как правило, так и бывало. Иногда, правда, Александр спрашивал своего подданного о его предпочтениях при личной беседе.
И Александр, и Барклай де Толли не сомневались в радостном согласии Ермолова, которого при всех лестных характеристиках и боевых заслугах долго держали на второстепенных должностях вдали от столицы, не пуская при этом в действующую армию. И ошиблись.
Как мы знаем, Ермолов незадолго до того отговорил Меллера-Закомельского хлопотать о переводе его в гвардейскую артиллерию, опасаясь оказаться вдали от театров боевых действий.
Историю с предложением, переданным через военного министра, он описывает в воспоминаниях так: «…Военный министр уведомил письмом, что государь желает знать, согласен ли я служить в гвардии командиром артиллерийской бригады? Я отвечал, что служа в армии и более будучи употребляем, я надеюсь обратить на себя внимание государя, что по состоянию не могу содержать себя в Петербурге, а без заслуг ничего выпрашивать не смею».
Однако Александр все уже решил. Ему представлялось правильным приблизить этого многообещающего, хотя и с необычными повадками генерала, чтобы иметь возможность присмотреться к нему.
Приближалась большая война.
«Высочайший приказ о переводе меня в гвардию был ответом на письмо мое!» — иронически констатировал Ермолов.
Но здесь все было не так просто.
Военный министр в письме от 31 марта предлагал Ермолову командование лейб-гвардии артиллерийским батальоном, которым до этого командовал генерал-майор Касперский. Но под командой Касперского находились две роты легкой артиллерии, которые и составляли батальон, входивший в бригаду гвардейской артиллерии вместе с другим батальоном — двумя ротами тяжелых батарейных орудий. Командовал бригадой полковник Александр Христофорович Эйлер, внук великого математика и сын того самого генерала Эйлера, под командой которого служил молодой подполковник Ермолов в Несвиже.
После отказа Ермолова возглавить лейб-гвардии артиллерийский батальон Александр, явно идя ему навстречу, назначает его командиром всей гвардейской артиллерийской бригады.
Упрямство Ермолова принесло свои плоды: вместо батальона он получил бригаду.
Его финансовый аргумент — совершенно резонный — императору было нетрудно отвести.
«Господину артиллерии Генерал-Майору и Кавалеру Ермолову.
Его Императорское Величество по всеподданнейшему докладу моему, Всемилостивейше пожаловать изволил Вашему Превосходительству прибавление к жалованию вашему по две тысячи рублей в треть (шесть тысяч в год. —
Военный Министр Барклай де Толли».
Понятно, что Ермолов оказался на особом счету у императора. Однако сам он отнюдь не был удовлетворен сложившейся ситуацией. Ермолов не мог спорить с монархом и оспаривать свое назначение, но в новой должности вовсе не видел восстановления справедливости по отношению к себе.
Он не склонен был идти традиционным карьерным путем. Какой может быть «подвиг», какой прорыв во время столичной службы?
Не этого он желал, потому, завершая главу записок «От окончания войны в Пруссии до кампании 1812 года», он подвел итог всем своим обидам.
И это притом что вскоре после получения под командование артиллерийской бригады он одновременно получает и гвардейскую пехотную бригаду — лейб-гвардии Измайловский и лейб-гвардии Литовский полки.
«Таким неожиданным образом переменилось вдруг состояние бедного армейского офицера, и я могу служить ободряющим примером для всех, подобных мне». Пассаж, казалось бы, радостный. Но Ермолов тонко чувствует стиль. Недаром он не раз переписывал свои воспоминания. Дальнейший текст превращает вышесказанное в явный сарказм:
«В молодости моей начал я службу под сильным покровительством и вскоре лишился оного. В царствование императора Павла 1-го содержался в крепости и отправлен в ссылку на вечное пребывание. Все младшие по службе сделались моими начальниками, и я при нынешнем государе вступил в службу без всяких выгод, испытал множество неприятностей по неблаговолению начальства, всего достигал с большими усилиями, по очереди и нередко с равными правами на награду неравные имел успехи со многими другими. В доказательство сего скажу пример, теперь со мною случившийся. Отряды резервных войск поручены были артиллерии генерал-майорам князю Яшвилю и Игнатьеву, но по расположению моего отряда на границе на мне одном возлежала стража оной, и с большею властию большая ответственность. Им обоим дан орден Св. Анны первого класса, мне даже не изъявлено благодарности.
О сделанной мне обиде объяснялся я с военным министром Барклаем де Толли, который с важностию немецкого бургомистра весьма хладнокровно отвечал мне: „Правда, что упустил из виду службу вашу“».
Вспомним, что эти претензии Алексей Петрович предъявлял Барклаю уже после того, как получил две гвардейские бригады и основательную прибавку к жалованью.
Но то, что он пишет далее, имеет гораздо больше резона: «Не менее сего досаден мне был отказ в представлении инспектора всей артиллерии, коим просил он определить меня начальником артиллерии в Молдавскую армию под предводительством генерала Кутузова, благосклонно расположенного ко мне».
Он хотел воевать. Кутузов был назначен главнокомандующим, с тем чтобы решительно кончить войну с турками ввиду надвигавшейся войны с Наполеоном. Вот там и в самом деле было немало возможностей для «подвига».
И далее Ермолов пишет чрезвычайно важную для нас и для понимания его устремлений вещь: «После сего поданною запискою военному министру объяснил я необходимость лечиться кавказскими минеральными водами и просил об определении меня на линию бригадным командиром».
Это первый случай, когда Ермолов ясно выразил желание служить на Кавказе. Гвардейский генерал просит перевести его на край империи с несомненным понижением. Для Ермолова в этом был глубокий смысл. Барклай же понял этот демарш так, как поняло бы его большинство высокого генералитета: «Он сказал мне, что по собственному благоволению ко мне государя я хочу заставить дать мне награду и прошу об удалении, зная, что на оное не будет согласия. Итак, я успел только, к общему всех удивлению, разгорячить ледовитого немца, который изъяснялся с великим жаром».
Стало быть, это была публичная сцена, и Ермолов был при свидетелях обвинен в интриганстве.
Мы знаем, что Алексей Петрович отнюдь не чурался разного рода маневров, когда речь шла о карьерном продвижении. Но в данном случае военный министр, измеряя его обычными мерками, был не прав. Командир бригады на Кавказской линии в это время обладал гораздо большей самостоятельностью по сравнению с более высокими начальниками в России и особенно в Петербурге.
Успешное командование бригадой на линии — а в успехе Ермолов вряд ли сомневался, помня опыт Персидского похода, — открывало перспективы более высоких назначений на Кавказе.
Казалось бы, странно — все уже понимали в начале 1812 года, что близится большая европейская война. А Ермолов просится на Кавказ — глубочайшую периферию грядущих событий. Но он знал, что, как бы он ни отличился в европейской войне, он останется одним из многих отличившихся генералов. (Собственно говоря, так и получилось.) Причем некоторые имели постоянную сильную поддержку. А насколько надежен был императорский фавор?
«В Азии целые царства к нашим услугам…» Кроме турецкой войны, которая должна была скоро завершиться, в том краю шла с 1804 года война с Персией. Еще недавно, в 1810 году, воинственный и ненавидящий русских наследник персидского престола Аббас-мирза вторгся с большой армией в области, контролируемые Россией. Он был отброшен, но война не закончилась, и можно было ждать ее развития. Это была та война, которую прервал в свое время император Павел. Незавершенная война Ермолова.
Против персов воевали именно войска Кавказского корпуса. Разгромивший с малыми силами полчища Аббас-мирзы генерал Котляревский прославился на всю Россию. Он был единственный в своем роде. У него не было соперников…
«Вскоре за сим, — продолжает Ермолов, описав скандал с Барклаем, — я удостоверился, что весьма трудно переменить мое назначение, ибо когда инспектор всей артиллерии (по согласию моему) вошел с докладом о поручении мне осмотра и приведении в оборонительное положение крепости Рижской и постового укрепления в Динабурге, государь, не изъявив своего согласия, приказал сказать мне, что впредь назначения мои будут зависеть от него и что я ни в ком не имею нужды. Когда же, увидев меня, спросил, сообщено ли мне его приказание, и прибавил: „За что гонять тебя из Петербурга? Однако же я помешал, и без того много будет дела“. Не смел я признаться, что желал сим переменить род службы моей…»
К фразе о Рижской крепости и Динабурге Ермолов сделал выразительную сноску: «Инспектор всей артиллерии желал доставить мне случай получить награду, которая дана была генерал-майорам Яшвилю и Игнатьеву».
Ни одна несправедливость по службе Алексеем Петровичем не забывалась…
Ситуация с повышенным вниманием императора к своему генералу печально напоминает обещание Николая I быть личным цензором Пушкина, что загнало поэта в тупик. Если с военным министром и любым начальником Ермолов мог обсуждать свои назначения и приводить возражения в случае несогласия, то с императором спорить не приходилось.
Характер назначений Ермолова с этого времени и до 1816 года вызывает много недоумений. В чем мы и убедимся.
Впереди была Великая война 1812–1815 годов, которая наконец сделала Ермолова известным всей России, не принеся ему, однако, того удовлетворения, на которое, казалось бы, мог он рассчитывать.
Но недаром знавшие Ермолова считали упрямство одной из главных черт его характера.
Несмотря ни на что он шел к осуществлению своей грандиозной мечты, мечты, питаемой его «необъятным честолюбием».
К войне активно готовились обе стороны. Вопрос заключался в том, кто выступит первым.
Вопреки расхожим представлениям Россия отнюдь не ждала пассивно вторжения французской армады. Благодаря хорошо организованной военным министром Барклаем де Толли разведке русское руководство ясно представляло себе планы и потенциальные возможности Наполеона и готовило превентивный удар.
Причем не только собственно военными средствами.
В 1812 году было достигнуто тайное соглашение с бывшим наполеоновским маршалом Бернадоттом, усыновленным шведским королем и ставшим наследником шведского престола. В качестве компенсации за отнятую Финляндию Швеции обещана была Норвегия. Бернадотт, ненавидевший Наполеона и завидовавший ему, согласился войти в антифранцузскую коалицию.
Летом и осенью 1811 года Кутузов дважды разгромил турецкие армии и, будучи незаурядным дипломатом, сумел убедить султана в том, что Наполеон и Александр снова друзья. В этой ситуации туркам ничего не оставалось, как заключить выгодный для России мир.
Расчет Наполеона на фланговые удары по России с севера и юга рухнул.
Одновременно велись тайные переговоры с Австрией и Пруссией, которые, наученные тяжким опытом, не решались открыто выступить против Наполеона, но обещали России свое содействие.
Однако в последнюю минуту прусский король, запуганный Наполеоном, отказался от своих обязательств…
«Бросок в Европу» не состоялся.
Александр, наученный трагическим опытом Аустерлица и Фридланда, сознавал, насколько опасно лобовое столкновение с легионами Наполеона. Еще 2 марта 1810 года он одобрил стратегическую идею Барклая, изложенную им в записке «О защите западных пределов России».
Крупный дипломат, многолетний посол России в Англии Семен Романович Воронцов перед самой войной писал генералу Михаилу Семеновичу Воронцову, своему сыну: «Даже если бы начало операций было бы для нас неблагоприятным, то мы все можем выиграть, упорствуя в оборонительной войне, отступая. Если враг будет нас преследовать, он погиб, ибо чем больше он будет удаляться от своих продовольственных магазинов и складов оружия и чем больше он будет внедряться в страну без проходимых дорог, без припасов, которые можно будет у него отнять, тем больше он будет доведен до жалкого положения, и он кончит тем, что будет истреблен нашей зимой, которая всегда была нашей верной союзницей».
Идея «оборонительной войны» владела многими и далеко не худшими умами русского общества.
Андрей Григорьевич Тартаковский, автор блестящей книги «Неразгаданный Барклай», писал: «В армии идея „скифской“ войны разрабатывалась самой образованной в военно-ученом отношении частью штабного офицерства и военной разведки (Барклай сумел фактически заново создать ее, став военным министром). Люди из этой среды, располагая точными сведениями о ресурсах России и Франции, могли трезво прогнозировать соответствующий обстановке способ ведения военной кампании. Так, отступательные планы предоставили начальник службы Генерального штаба в России князь П. М. Волконский, полковник Я. П. Гавердовский, военный агент России в Вене Ф. В. Тейль фон Сераскернен. Подобные рекомендации не раз высказывал перед самой войной полковник А. И. Чернышев, один из самых удачливых русских военных разведчиков, добывший чуть ли не под носом у Наполеона ценнейшие для России данные о его армии и его намерениях. В сентябре 1811 года он советовал, дабы „спутать ту систему войны, которой держится Наполеон“, „затягивать на продолжительное время боевые действия, имея всегда достаточные армии в резерве“. В феврале 1812 года в одном из последних донесений из Парижа Чернышев снова предлагал отступить вглубь страны, уклоняясь от больших сражений»[38].
Однако среди тех, кто придерживался идеи «скифской» войны — заманивания противника вглубь враждебного пространства, пресекая его коммуникации и изнуряя постоянными нападениями, не было Ермолова. Даже если он и осознавал смысл подобной стратегии, его восприятие мира вообще и войны в особенности противилось подобному подходу, ибо он не соответствовал идеологии «подвига». Он знал, что существуют иные планы, и один из них, самый радикальный, принадлежал его старшему другу князю Петру Ивановичу Багратиону.
В начале марта 1812 года гвардия, в которой теперь служил Ермолов, выступила к западной границе. Уже на марше Алексей Петрович узнал, что он назначен командующим гвардейской дивизией. В то время это была вся гвардейская пехота — полки лейб-гвардии Преображенский, Семеновский, Измайловский, Литовский, Егерский, Финляндский и Гвардейский морской экипаж.
Как резонно писал потом Ермолов: «Назначение, которому могли позавидовать и люди самого знатного происхождения и несравненно старшие в чине. Долго не решаюсь я верить чудесному обороту положения моего».
Назначение действительно было неожиданным, и объяснить его трудно. Тем более что командовать гвардейской пехотой поставлен был артиллерист, именно на артиллерийском поприще заработавший свою высокую боевую репутацию.
Назначение озадачило не только Ермолова. Михаил Воронцов, командир сводно-гренадерской дивизии в армии Багратиона, писал их общему с Ермоловым другу Закревскому, директору Особой канцелярии при военном министре: «Скажите, как вам не стыдно не давать нам ни одного порядочного артиллерийского генерала. Ведь не шутка, у вас их три: Кутайсов, Яшвиль и Ермолов, вольно вам из последнего (лучший артиллерийский офицер в России) сделать пехотного гвардейского».
Либо Александр имел какие-то особые виды на Ермолова, на что он ему намекнул, как мы помним, либо сказалось влияние командующего гвардейским корпусом великого князя Константина Павловича, явно подпавшего под обаяние Ермолова.
Как бы то ни было, весной 1812 года, в самый канун Великой войны, Алексей Петрович пережил резкий карьерный взлет и, проявив свои таланты и доблесть в период военных действий, мог достигнуть еще больших высот.
Этого не произошло по двум причинам. Во-первых, из-за нового назначения; во-вторых, из-за принципиального расхождения во взглядах на характер будущей войны и с военным министром, который вскоре стал его непосредственным начальником, и с самим императором.
В воспоминаниях Ермолов рисует картину, не совсем совпадающую с реальностью, но дающую возможность понять истинные его мотивации:
«Россия тщетно старалась избежать войны, должна была наконец принять сильные против нее меры.
Мнения насчет образа войны были различны. Не смея взять на себя разбора о степени основательности их, я скажу только то, что мне случалось слышать».
Эта совершенно не характерная для Ермолова скромность имеет свое объяснение: он не желал представить потомству свою позицию того времени. А она у него была, и он отстаивал ее самыми разными способами.
«Военный министр предпочитал войну наступательную. Некоторые находили полезным занять Варшавское герцогство и, вступивши в Пруссию, дать королю благовидную причину присоединиться к нам, средство усилить армию и далее действовать сообразно обстоятельствам. Если бы превосходящие силы неприятеля заставили перейти в войну оборонительную, Пруссия предоставляет местность особенно для того удобную, средство, продовольствие изобильное, и война производилась бы вне границ наших, где приобретенные от Польши области не допускают большой степени к ним доверенности».
Трудно себе представить, чтобы Ермолов, столь близкий в это время к Александру, не знал о существовании «скифского» плана, о котором знали и толковали столь многие из окружения государя.
Когда он пишет, что «военный министр предпочитал войну наступательную», то опирается на кратковременные колебания Барклая конца июня 1812 года, когда у того появилась надежда разгромить передовые корпуса Великой армии до сосредоточения ее главных сил. Это действительно было. Была даже срочно составлена диспозиция — но анализ обстановки тут же заставил отказаться от этой мысли.
Зафиксировав это вполне второстепенное событие, Алексей Петрович ни единым словом не говорит о главном плане. Оборонительная война на территории Пруссии не имела ничего общего со «скифским» планом вовлечения французов в российские пространства. Территория Пруссии не давала возможности широкого маневра, и попытка противостоять более чем двукратно превосходящим в тот момент силам Наполеона могла кончиться только катастрофой…
Забыв «скифский» план Барклая — Александра, Ермолов зато прекрасно помнил план превентивной войны 1811 года, разработанный Багратионом: «Несравненно большие могли предстоять выгоды, если бы годом ранее, заняв Герцогство Варшавское, вступили мы в союз с королем Прусским».
Но «вступить в союз с королем Прусским» было отнюдь не просто. Фридрих Вильгельм патологически боялся Наполеона и, имея на руках договор о военном союзе с Россией от 5 октября 1811 года, 12 февраля 1812 года подписал такой же договор с Францией, обязавшись выставить в случае войны с Россией 20 тысяч штыков и сабель и 60 орудий…
10 июня 1812 года французский посол Лористон вручил ноту об объявлении войны председателю Государственного совета и Комитета министров Николаю Ивановичу Салтыкову, уполномоченному управлять внутренними делами в отсутствие императора.
В девять часов вечера 11 июня 1812 года батальоны генерала Морана из корпуса маршала Даву форсировали Неман.
Рано утром 12 июня 1812 года французские саперы навели через Неман четыре понтонных моста и Великая армия начала массированную переправу.
13 июня император Александр отправил из Вильно генерала Балашова к Наполеону с предложением мирных переговоров и одновременно обнародовал манифест о войне с Францией.
Миссия Балашова успеха не имела.
Чтобы сломить Англию, Наполеону необходимо было заставить Россию следовать его политике. Заставить Россию, как казалось, можно было только оружием.
Одобрив в принципе «скифский» план Барклая де Толли, Александр не исключал и другого варианта действий, как, впрочем, не исключал его на этом этапе и Барклай. Вооруженные силы России составляли три армии: 1-я Западная армия под командованием военного министра генерала от инфантерии Барклая де Толли, 2-я Западная армия под командованием генерала от инфантерии князя Багратиона, 3-я Резервная, Обсервационная (наблюдательная) армия под командованием генерала от кавалерии Тормасова и два резервных корпуса.
1-я армия дислоцировалась на момент начала войны в районе Вильно.
2-я армия — южнее, на территории Белоруссии.
3-я армия — еще южнее, в районе границы с Австрией, за действиями которой она и должна была наблюдать.
В этот момент активную роль играли две Западные армии, вместе насчитывавшие порядка 165 тысяч штыков и сабель. Из них 45 тысяч приходилось на армию Багратиона.
Наполеон сосредоточил на театре военных действий не менее 420 тысяч.
У Александра была любимая идея, предложенная ему прусским генералом Фулем, которого царь чрезвычайно ценил. По плану Фуля 1-я армия должна была сосредоточиться в сильно укрепленном лагере, расположенном в излучине Западной Двины близ местечка Дриссы, и принять на себя удар французов, а 2-я армия при этом атаковала бы противника во фланг.
Наполеон же планировал вклиниться крупными силами между двумя русскими армиями, не допуская их соединения, и разгромить их по очереди. План этот он стал приводить в действие со свойственной ему решительностью.
Багратион, понимая, какая опасность грозит его небольшой армии, начал стремительно отступать, ища возможности пробиться на соединение с 1-й армией. Поскольку многочисленные корпуса Великой армии наступали широким фронтом с разных направлений, то сориентироваться было нелегко. И возможно, что на первом этапе Багратион выбрал не самый удачный маршрут. Во всяком случае, Ермолов, любивший и почитавший его, писал: «Маршал Даву поспешил к Минску с сильным корпусом. <…> Князь Багратион мог бы предупредить Даву в Минске, и если бы даже встретился с его войсками, то конечно с одними передовыми, как то известно сделалось после; надобно было и он должен был решиться атаковать, предполагая даже понести некоторую потерю, чтобы овладеть дорогою на Смоленск. Изменила князю Багратиону всегдашняя его предприимчивость. К тому же скорость движения его умедливали худые от Несвижа дороги…»
Какие были дороги вокруг Несвижа, «резиденции дураков», Алексей Петрович хорошо помнил…
Но в данном пассаже не это главное. «Он должен был решиться атаковать» — вот формула действия, на которой, как мы увидим, настаивал Ермолов.
В это самое время, 30 июня, в служебном положении Ермолова произошла еще одна резкая и отнюдь не желанная им перемена. Он был назначен начальником Главного штаба 1-й армии.
Для Ермолова, прирожденного артиллериста и «лучшего артиллерийского офицера» армии — по утверждению вовсе не склонного к комплиментам Воронцова, перевод в пехоту, хотя и гвардейскую, выглядел достаточно абсурдно. Но это хотя бы компенсировалось высоким постом и надеждой проявить себя во главе гвардейских полков. Но пост начальника штаба армии, хотя делал его вышестоящим по отношению ко всему генералитету армии, лишал при этом возможности «подвига», непосредственного командования войсками в бою. Он просто не мыслил себя на штабной работе.
Этим назначением Александр задал и ему, и нам еще одну задачу. То ли он счел, что во время войны во главе гвардейской пехоты должен стоять более опытный генерал, то ли хотел иметь при Барклае человека, не разделяющего концепцию «скифской» войны, на тот случай, если придется менять стратегический замысел. А то, что Ермолов придерживался принципиально отличной точки зрения на образ действий, Александр не мог не знать. Ермолов этого не скрывал.
Был и еще один любопытный момент. Денис Давыдов утверждал: «Чрезвычайные обстоятельства, в которых была в то время поставлена Россия, вынуждали Государя иметь подробные и по возможности частые известия о всем том, что происходило в армии. Уезжая из Полоцка, Государь приказал Ермолову извещать его письмами о важнейших происшествиях армии».
Полностью доверять этому сообщению нельзя. Ермолов действительно писал Александру из армии через голову главнокомандующего, что со временем поставило его в весьма непростое положение. Возможно, версия, которую предлагает Давыдов со слов самого Алексея Петровича, была попыткой оправдать эти действия. Но не исключено, что Александр, в то время увлеченный Ермоловым, и в самом деле дал ему такое щекотливое поручение. Тогда назначение его начальником штаба при Барклае приобретает вполне понятный смысл.
Алексей Петрович как мог отбивался от нового назначения: «От назначения сего употребил я все средства уклониться, представляя самому государю, что я не приуготовлял себя к многотрудной сей должности, что достаточных для того сведений не имею и что обстоятельства, в которых находится армия, требуют более опытного офицера и более известного армии».
Ермолов не в первый раз демонстрирует излишнюю скромность. Он был уже достаточно известен.
Офицер Гвардейского Генерального штаба Николай Дмитриевич Дурново 30 июня записал в дневнике: «Полковник Толь назначен генерал-квартирмейстером вместо Мухина, генерал Ермолов — начальником штаба вместо Паулуччи. Все удовлетворены этими назначениями».
У того же Дурново есть запись от 26 июня, которая отчасти объясняет ужас Ермолова перед новой должностью: «Мы трудились как каторжные над картой России. Во всех корпусах не хватало карт местностей, по которым они проходили. Вместо того, чтобы изготавливать в Петербурге карты Азии и Африки, нужно было подумать о карте Русской Польши».
Очевидно, Ермолов знал о состоянии штабной документации.
5 июля, в тот самый день, когда 1-я армия выступила из Дрисского лагеря, князь Петр Михайлович Волконский, управляющий квартирмейстерской частью русской армии, то есть фактически начальник Генштаба Вооруженных сил России, отнесся к его превосходительству генерал-майору Ермолову:
«Милостивый Государь,
Алексей Петрович!
По отношению Вашего Превосходительства от 4-го июля из № 244 о доставлении к Вам карты по дирекции от Дриссы до Полоцка и от Полоцка до Невеля, препровождаю к Вам, Милостивый Государь, первый лист от начала сей дирекции; прочие же листы по мере изготовления оных, доставляемы к Вам будут без малейшего замедления».
То есть у начальника штаба отступающей армии до последнего момента не было карт местности, по которой она должна была отходить. Листы, как и утверждал Дурново, изготовлялись в последний момент в лихорадочном темпе.
В отчаянии Алексей Петрович пытался прибегнуть к сильной протекции: «Я просил графа Аракчеева употребить за меня его могущественное ходатайство. Он, подтвердивши, сколько трудна предлагаемая мне должность, не только не ободрил меня в принятии оной, напротив, нашел благорассудительным намерение мое от нее избавиться, говоря, что при военном министре она несравненно затруднительнее, нежели при всяком другом».
Давыдов передает разговор Ермолова с Аракчеевым: «Граф Аракчеев, узнав о назначении, сказал Ермолову: „Вам, как человеку молодому, предстоит много хлопот; Михаил Богданович весьма дурно изъясняется и многого недосказывает, а потому вам надо стараться понимать его и дополнять его распоряжения своими собственными“».
Барклай де Толли служил в русской армии не одно десятилетие, и его умения «изъясняться» хватило на то, чтобы провести немало сложных операций и одержать ряд громких побед. Надо полагать, что подчиненные его достаточно хорошо понимали. Аракчеев явно не питал симпатий к Барклаю и соответственно настраивал Ермолова.
Впрочем, личные отношения Ермолова с главнокомандующим были и без того, мягко говоря, прохладными.
Может, Александр, хорошо осведомленный о взаимоотношениях в генеральской среде, учитывал и это, фактически поручая Ермолову следить за своим начальником?..
В конце концов у Ермолова состоялся прямой разговор с императором: «Государь, сказавши мне, что граф Аракчеев докладывал ему по просьбе моей, сделал мне вопрос: „Кто из генералов, по мнению моему, более способен?“ — „Первый встретившийся, конечно, не менее меня годен“, — отвечал я. Окончанием разговора была решительная его воля, чтобы я вступил в должность».
Между тем положение становилось все тревожнее.
Ошибка Багратиона — если это была ошибка, а не необходимость — делала объединение русских армий весьма проблематичным.
Александра это тревожило, но, судя по сохранившимся документам, он не осознавал всю драматичность происходящего.
27 июня авангард 1-й Западной армии вступил в Дрисский лагерь.
Генерал Паулуччи, в то время еще начальник штаба армии, осмотрев лагерь, сказал Фулю, что построить его мог «или сумасшедший или изменник».
Крупнейший военный теоретик Карл Клаузевиц, анализируя ход военных действий, писал: «Если бы русские сами добровольно не покинули этой позиции, то они оказались бы оторванными от тыла и безразлично, было бы их 90 000 или 120 000 человек, они были бы загнаны в полукруг окопов и принуждены к капитуляции»[39].
Александр, однако, при первом осмотре позиции остался ею чрезвычайно доволен.
Была подготовлена «Генеральная диспозиция к наступательным действиям», которая завершалась соображениями, как быстро и неожиданно разгромить вторгшиеся на русскую территорию корпуса неприятеля.
«Вероятно, после разбития корпусов Нея, Мюрата и Удино, пресечется им всякое сообщение с Давустом, и тогда наши армии беспрепятственно и с видимою пользою могут действовать на сообщение Давуста. <…>
После соединения обеих армий в окрестностях Ошмяны, соберется около 170 000 Российского войска против 160 000 союзных сил, которые, без сомнения, будут совершенно разбиты и рассеяны.
После таковых успехов должно продолжать наступательные действия: со всею возможною деятельностию, минуя Вильну, итти на Троки и заставить отступить неприятеля на правый берег Вилейки и далее через Вилькомир в Самогицию. Сие положение лишит его всех сообщений с Вислою и принудит склониться к миру, который увенчает славу Русского оружия.
В лагере при Дриссе.
28-го июня, 1812 г.».
В это время главным действующим лицом был Александр I, мечтавший возглавить армию. Стало быть, уроки Аустерлица были усвоены далеко не полностью.
В том, что корпуса Нея, Мюрата и Удино будут разбиты, у Александра сомнений нет.
Скорее всего, Ермолов разделял эти настроения. И в качестве начальника Главного штаба 1-й армии он с понятным чувством подписал приказ по армии июня 3-го дня.
«Главная квартира
Город Дрисса:
По повелению Главнокомандующего Армиею Г-на Генерал от Инфантерии Военного Министра и Кавалера Барклая де Толли объявляется:
Сейчас получено из 2-й Западной армии приятное известие о новом успехе оружия нашего. — Там при местечке Мире генерал Платов с казаками своими истребил совершенно три целые полка неприятельской кавалерии. — Теперь ваша, храбрые воины, очередь наказать дерзость врага, устремившегося на отечество наше. Время к тому уже наступило. Мы перешли Двину не для того, чтобы удалиться от него; но для того, единственно, чтобы завлекши его сюда, положить предел бегству его. Чтобы Двина была гробом ему. — Внемлите сей истине и намерение наше с благословением Божиим исполнится».
Приказ сочинял, разумеется, не Барклай де Толли, а сам Ермолов.
О серьезности намерений Александра в этот момент свидетельствует и то, что знающий его настроения и всегда желавший им соответствовать Аракчеев, отнюдь не будучи стратегом, подал императору записку «О наступлении решительной минуты и необходимости сразиться с неприятелем».
Записка была написана рукой Аракчеева, а на полях начертано Александром: «Представляя собственному Вашему благоусмотрению. Я уверен, что Вы не упустите взять нужные меры, если неприятель переправится большими силами от Динабурга для следования к Петербургу».
Положение Барклая как автора и главного исполнителя «скифского» плана усложнялось тем, что сторонники плана наступательного были связаны между собой приязненными личными отношениями. Казалось бы, трудно представить себе более различных людей, чем Багратион и Аракчеев. Тем не менее сложная игра в среде высшего генералитета провоцировала самые причудливые союзы.
25 сентября 1809 года Багратион, командовавший тогда Молдавской армией, писал военному министру Аракчееву: «Два письма приятнейших ваших я имел честь получить, за которые наичувствительнейше благодарю. Я не хочу более ни распространять, ни уверять вас, сколь много вас люблю и почитаю, ибо оно лишнее. Я вашему сиятельству доказывал и всегда докажу мою любовь, уважение и нелицемерную преданность. Я не двуличка. Кого люблю, то прямо притом я имею совесть и честь. Мне вас невозможно не любить, во-первых, давно вы сами меня любите, а во-вторых, вы наш хозяин и начальников начальник. Я люблю службу и повинуюсь свято, что прикажут исполню и всегда донесу, как исполняю».
Нет смысла сейчас разбираться, насколько искренни были взаимные чувства Багратиона и Аракчеева. Равно как трудно определить и истинный характер взаимоотношений Аракчеева и Ермолова.
То, что Ермолов искренне почитал Багратиона — несомненно. Как несомненно и то, что Багратион отвечал ему взаимностью. Их еще роднила демонстративная нелюбовь к «инородцам», и в том же письме Багратион уверял Аракчеева: «Признаюсь в откровенности, как чисто русский и верноподданный нашему монарху…» Грузинский аристократ князь Петр Иванович яростно подчеркивал свою русскость, не сомневаясь, что честное и самоотверженное служение России дает ему это право.
У сторонников генерального сражения вблизи границы были сильные позиции.
В этой ситуации Ермолову, видевшему явные признаки благоволения со стороны императора, знающему настроения Багратиона и Аракчеева, при его темпераменте и характере трудно было удержаться от собственной игры…
Барклай, несмотря на некоторые колебания и появившуюся надежду разбить противника по частям, был настроен отнюдь не так решительно: «Я не понимаю, что мы будем делать со всею нашею армиею в Дрисском лагере…» Он предлагал вывести армию из лагеря и начать маневренную войну, избегая решительного сражения. Но и эту идею пришлось отбросить, когда стало очевидно подавляющее численное превосходство уже подтянутых Наполеоном корпусов. Теперь главной задачей для Барклая было объединение двух армий.
А это оказалось задачей почти неисполнимой, ибо Наполеон делал все, чтобы не допустить объединения и раздавить 45-тысячную армию Багратиона.
В тот самый день, 3 июля, когда Ермолов подписал тот самый бравурный приказ, Багратион отправил ему далеко не бравурное, раздраженное против Барклая письмо.
«На марше, 3-го.
Я расчел свои марши так, что 23 июня главная моя квартира должна была быть в Минске, авангард далее, а партии уже около Светян. Но меня повернули на Новогрудек и велели итти или на Белицу, или на Николаев, перейти Неман и тянуться к Вилейке, к Смаргони, для соединения. (По наступательному плану Александра, на берегах Вилейки должна была решиться судьба Наполеона. Все то, о чем с горечью и яростью пишет Багратион, обвиняя Барклая, вполне соответствует диспозиции от 28 июня, отражающей взгляды Александра и других сторонников наступательной стратегии. —
Я дал все способы и наставления Игнатьеву и начал сам спешить, но на хвост мой начал нападать король Вестфальский, которого бьют как свинью точно. Вдруг получаю рапорт от Игнатьева, что неприятель приблизился в Свеслоч, от Бобруйска в 40 верстах, тогда, как я был еще в Слуцке и все в драке. Что делать? Сзади неприятель, сбоку неприятель, и вчерась получил известие, что и Минск занят. Я никакой здесь позиции не имею, кроме болот, лесов, гребли и пески. Надо мне выдраться, но Могилев в опасности, и мне надо бежать. Куда? В Смоленск, дабы прикрыть Россию несчастную. И кем? Гос. Фулем! Я имею войска до 45 тысяч. Правда, пойду смело на 50 т. и более, но тогда, когда бы я был свободен, а как теперь и на 10 т. не могу. Что день опоздаю, то и окружен. Спас Дорохова деташемент[40], и Платов примкнул. Жаль Государя, я его как душу люблю, предан ему, но видно нас не любит. Как позволил ретироваться из Свенцян в Дриссу. Бойтесь Бога, стыдитесь! России жалко! Войско их шапками бы закидали! Писал я, слезно просил: наступайте, я помогу. За что Вы страмите Россию и армию? Наступайте, ради Бога! Ей Богу, неприятель места не найдет, куда ретироваться. Они боятся нас: войско ропщет и все недовольны. У вас зад был чист и фланги, зачем побежали? Надобно наступать; у вас 100 т., а я бы тогда помог; а то вы побежали; где я вас найду? Нет, мой милый, я служил моему природному Государю, а не Бонапарте. Мы проданы, я вижу; нас ведут на гибель; я не могу равнодушно смотреть. Уже истинно еле дышу от досады, огорчения и смущения. Я, ежели выдерусь отсюдова, ни за что не останусь командовать армиею и служить; стыдно носить мундир, ей Богу, и болен. А ежели наступать будете с первою армиею, тогда я здоров. А то, что за дурак? Министр сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать и бить фланг и тыл какой-то неприятельский. (Багратион не знал, что это был план Фуля, который Александр на первых порах пытался реализовать, а Барклай должен был подчиняться. —
Проси Государя наступать, иначе я не слуга никак!..
Я волосы деру на себе, что не могу баталию дать, ибо окружают поминутно меня.
Ради Бога Христа, наступайте! Как хочешь, разбирай мою руку. Меня не воином сделали, а подьячим, столько письма! <…>
Прощай, Христос с вами! а я зипун надену».
Это выразительное послание, в котором яростно выплеснулся грузинский темперамент князя Петра Ивановича, по своему пафосу вполне соответствует и приказу от 3 июля, а главное, мнению Алексея Петровича, которое он высказал на военном совете вскоре по прибытии армии в Дрисский лагерь.
Русское командование получило в это время точные сведения о численности французских корпусов, надвигавшихся на Дриссу и стремившихся обойти с фланга 1-ю армию, чтобы отрезать ее от Центральной России и от 2-й армии.
Барклай де Толли решительно настаивал на возвращении к «скифскому» плану и отступлению на восток. Его поддержал Беннигсен.
Суть плана Ермолова, который в качестве начальника Главного штаба получил право голоса, сводилась к ясной формуле: «Нужно теперь итти на неприятеля, искать его, где бы он ни был, напасть, драться со всею жестокостию».
Это была его позиция, родившаяся еще во времена первого этапа войн с Наполеоном, когда поражение под Аустерлицем, по искреннему его убеждению, было историческим недоразумением.
Он упорно верил, что Наполеона можно разбить, — для этого требуются максимальная решимость и напор, превосходящий боевую энергию противника. «Напасть, драться со всею жестокостию».
Когда письмо Багратиона дошло до Ермолова, 1-я армия уже оставила Дрисский лагерь и пошла на восток, к Полоцку.
Героический авантюризм Багратиона и Ермолова был отвергнут. В действие вступил ненавистный им «скифский» план.
Приказ, подписанный Ермоловым, от 5 июля, когда армия начала отступление, выглядит совсем не так, как героический рапорт от 3-го числа. Это сугубо деловой, сухой документ. Никакой риторики.
«Предупреждаются гг. корпусные командиры, что ежели от корпусов не будут присылаемы адъютанты в главную квартиру за приказанием, то таковые особенно к ним доставляться не будут и строгая ответственность возляжет на дежурных штаб-офицеров. <…>
Войски выступают в поход в 1 час пополудни. Г-м корпусным начальникам направление известно; на половине дороги привал, в каком порядке, в каковом оный застанет войска. Привал продолжать час или по усмотрению не более двух».
Армия шла на восток, и путь был нелегок.
Наполеон нагонял отступающую армию, и надо было увеличивать темп и выработать наиболее рациональный порядок движения. Это было обязанностью начальника Главного штаба.
Армию освобождали от балласта, собирали в кулак все силы и готовили к стремительному отходу.
7 июля произошло событие принципиальной важности: император покинул армию.
Смысл этого поступка был понятен. Наступательной войны не получилось, а возглавлять отступающую армию и брать на себя ответственность за отступление было совершенно неразумно.
Отъезд из армии был обставлен вполне корректно. Трое влиятельных и близких к царю вельмож — Аракчеев, министр полиции Балашов и государственный секретарь адмирал Шишков, сопровождавшие императора в походе, обратились к нему с письмом, в котором убеждали государя заняться организацией необходимых армии резервов. Для этого нужно было находиться в столице…
На марше из Полоцка к Витебску Ермолов получил еще одно письмо от Багратиона от 7 июля.
«Насилу выпутался из ада! Дураки меня выпустили; теперь побегу к Могилеву; авось их в клещи поставлю. Платов к вам бежит. Ради Бога, не страмитесь, наступайте, а то право худо и стыдно мундир носить; право скину. Они революцию делают в Несвиже, хотели в Гродно начать, но не удалось, в Вильне тож хотели, в Минске. (Багратион, очевидно, имеет в виду опасения, что Наполеон, объявив волю крестьянам, взбунтует им население против русского правительства. —
Прощай, любезный! Христос с вами…»
Материала о взаимоотношениях Багратиона и Ермолова до 1812 года имеется немного. И только эти письма дают представление о степени их близости и того доверия, которое испытывал к Алексею Петровичу князь Петр Иванович.
Помимо чисто человеческих симпатий их роднило представление о стиле войны: «Итти на неприятеля, искать его, напасть, драться со всею жестокостию» — девиз Ермолова. «Мой маневр — искать и бить!» — девиз Багратиона.
Они были уверены в правильности своего «маневра».
Маловероятно, чтобы Наполеон дал русским возможность бить свои корпуса поодиночке. А в случае массированного фронтального столкновения объединенных Западных армий — 165 тысяч штыков и сабель — с более чем вдвое превосходящей по численности французской армией во главе с гениальным полководцем дело бы с неизбежностью кончилось катастрофой.
Ни Багратион, ни Ермолов искренне не могли в это поверить. Они хорошо помнили заветы Суворова, в данном случае категорически неприменимые.
Отсюда с начала июля начинает развиваться горькая драма взаимного непонимания трех сильных и достойных людей — Барклая, Багратиона, Ермолова, в которой Алексей Петрович играл едва ли не центральную и самую опасную роль. И этот сюжет окрасил его жизнь не только в роковом 1812 году, но и в последующий период.
8 июля 1-я Западная армия выступила из Полоцка на Витебск. Корпуса шли разными маршрутами и 12-го числа соединились под Витебском.
Отступление 1-й армии, как недавно 2-й, теперь сопровождалось арьергардными боями, часто удачными для русских. Но это были тактические успехи. Главной стратегической задачей оставалось объединение двух армий. Это было тем более важно, что 3-я армия генерала Тормасова была далеко и вела постоянные бои с выдвинутыми в ее направлении французскими и саксонскими войсками.
Положение осложнялось внутренним конфликтом, вспыхнувшим вскоре после отъезда из армии императора.
Если в начале отступления дело ограничивалось обращениями Багратиона к Александру и глухим неодобрением действий Барклая со стороны части генералитета, то с середины месяца конфликт вышел наружу.
Ермолов вспоминал: «В Полоцке также на прочном основании утвердилась вражда между великим князем Константином Павловичем и главнокомандующим. Опоздавший выступить в назначенное время командир Конной гвардии полковник Арсеньев был им арестован. Довольно сего, чтобы возродить вражду[41]; слишком много, чтобы усилить давно существующую. Великий князь воспылал гневом, ледовитый Барклай де Толли не охладил горячности».
Ермолов прав — это была старая вражда, еще со времен Фридланда, когда Барклай отмел дилетантские предложения Константина.
Но дело, конечно, было не в обиженном подчиненном великого князя. Дело было в принципиальном неприятии стратегии Барклая, «скифского» плана.
Уезжая из армии, Александр оставил там Главную квартиру, состоящую из близких ему лиц. Беннигсен, герцог Александр Вюртембергский, принц Ольденбургский, молодые флигель-адъютанты, не имевшие боевого опыта, — все были решительно на стороне Константина и вели себя совершенно независимо по отношению к главнокомандующему, не неся при этом никакой ответственности.
Ермолов оказался в чрезвычайно сложном положении. Его покровителями и старшими друзьями были Багратион и великий князь Константин. Оба они находились в непримиримом конфликте с Барклаем. Но если Багратион прилюдно соблюдал приличия и скрепя сердце выполнял приказы военного министра, то цесаревич, унаследовавший бешеный нрав отца и обладавший самопредставлением брата государя, к тому же — наследника престола, вел себя вполне чудовищно.
После первой же грубой выходки с его стороны, 12 июля, Барклай выслал его в Москву.
Но вскоре Константин возвратился и возглавил «генеральскую оппозицию».
Ермолову приходилось лавировать между своим непосредственным начальником и великим князем, которому он не без оснований считал себя обязанным и на благосклонность которого рассчитывал впредь.
При этом его, боевого генерала, угнетали повседневные рутинные обязанности, а он постоянно пытался принять участие в боевых действиях: «В Будилове представил я главнокомандующему мысль мою перейти на левый берег Двины; основывал ее на том расчете, что неприятель проходил по берегу реки путем трудным и неудобным, что только кавалерия неприятельская усмотрена была против Полоцка, но главные силы и артиллерия были назади и от нас не менее как в трех переходах. Переправившись, следовать поспешно на Оршу, заставить маршала Даву развлечь силы его, в то время когда все его внимание обращено было на движение 2-й армии, и тем способствовать князю Багратиону соединиться с 1-ю армиею. Уничтожить расположенный в Орше неприятельский отряд, и перейдя на левый берег Днепра, закрыть собою Смоленск. Отправить туда прямою из Витебска дорогою все обозы и тягости, дабы не препятствовали армии в быстром ее движении. Все сие можно было совершить, не подвергаясь ни малейшей опасности».
Барклай, сперва склоняясь к идее Ермолова, вскоре от нее отказался, как полагал Алексей Петрович, под влиянием «тяжелого немецкого педанта» флигель-адъютанта Вольцогена.
Тогда Ермолов впервые обратился через голову главнокомандующего к императору.
Надо сказать, что несмотря на утверждение Ермолова, есть основания сомневаться, что Александр и в самом деле поручил начальнику штаба армии писать ему лично без ведома главнокомандующего. В начале первого письма нет, как можно было бы ожидать, ссылки на высочайшее поручение. Зачин совершенно иной, свидетельствующий скорее о собственной инициативе генерала. Хотя нет возможности утверждать что-либо с полной определенностью.
Ермолов обратился к Александру 16 июля сразу после отклонения Барклаем его предложения, что подтверждает их принципиальные разногласия:
«Всемилостивейший Государь!
Должность по воле Вашего Императорского Величества при армии мною отправляемая, все обстоятельства известными делая мне, обязывает повернуть к стопам Государя мне благотворящего мои относительно до положения армии замечания.
После пяти дней бесполезно в лагере при Дриссе проведенных в намерении приготовить продовольствие войскам, армия выступила в Полоцк. Между тем, неприятель, представляя повсюду передовым нашим постам малые весьма силы, спешил собрать главнейшие. Движение на Полоцк было одно, обещавшее соединение со 2-ю армиею, нужна была скорость. На третьем от Полоцка к Витебску переходе надо было идти на Сенной Коханово. Сим движением если еще и не соединялись армии, то по крайней мере происходила выгода, что 1-я армия становилась уже на дорогу, идущую через Смоленск в Москву, закрывала сердце России и все средства для дальнейших мер поставляла за собою. Неприятель, как из последствий видно, оборотя в Могилев главнейшие свои силы, бессилен был по прямому на Смоленск направлению. Неприятель, видя себя между двух армий на близком расстоянии, не мог бы дать сражения, но должен был отступить. Главнокомандующий согласился было переправиться в Будилове через Двину, но отменил по причине недостатка продовольствия, и армия двинулась к Витебску. Между тем, необычайной скорости маршами неприятельские силы на третий день пребывания армии в Витебске прибыли и соединение армий более нежели когда сделалось сумнительным. Три дня сражения продолжалися упорнейшие с довольно значущими силами армии нашей и мы отступили к Поречью. Далее главнокомандующий не объявлял еще направления. Неприятель может быть прежде нас в Смоленске, отбросив далеко 2-ю армию. Если неприятель предприимчив, может заградить нам путь. Мы опрокинем и пройдем, но обозы армии подвергаются опасности; вслед за нами идет неприятель, много превосходящий нас силами. Трудны пути ему, войско его изнурено, но на сем невозможно основывать успехов, те же трудности путей и для наших войск. В. И. В. и для нас не могут они быть не чувствительны. Неприятель имеет числом ужасную кавалерию, наша чрезвычайно потерпела в последних делах, от ген. Платова даже ни одна партия с нами не соединилась.
Ваше Императорское Величество! Истинное сие дело наших изображение, точное положение армии определит наши средства предпринять должно к уничтожению усилий неприятеля. Государь! 1-я армия одна противустать должна неприятелю и без соединения его с другою его армиею несравненно сильнейшему, успех сомнителен.
Корпус ген. Витгенштейна бесполезно от нас отдален. Если неприятель силен против него, то он слаб сдержать его стремление. Если он останется без действия, то слишком силен его корпус, чтобы армия не чувствовала его отдаления. Государь, необходим начальник обеих армий. Соединение их будет поспешное и действие согласное. В. И. В. угодно было одобрять смелость мою, с каковою всегда говорил истинно. Государь, ты один из Царей, могущих слышать ее безбоязненно.
Верноподданный н-к Главн. Штаба 1-й армии ген.-м.
Письмо явно писалось в спешке, поскольку появилась срочная оказия, и оттого оно не по-ермоловски сбивчиво и запутано. Хотя была, вероятно, и другая причина. Ермолов понимал, что делает рискованный шаг, который может обернуться против него (в чем он, как оказалось, не ошибся), производит странное впечатление. Во-первых, отмена Барклаем маневра, предложенного Ермоловым, уже не приписывается злостному влиянию «тяжелого немецкого педанта Вольцогена», а объясняется заботой главнокомандующего о продовольствовании армии. Вспомним, что по плану Ермолова армия должна была далеко оторваться от обозов для свободы маневрирования. Барклай, очевидно, счел это опасным.
Здесь в очередной раз проявилось принципиальное расхождение взглядов Барклая и его начальника штаба на фундаментальные основы военного искусства. «Методик» Барклай (как называл его презрительно Багратион) полагал необходимым просчитывать все возможные последствия того или иного шага и действовать, исходя из наиболее надежного варианта. Ермолов — как и Багратион — делал ставку на стремительность и неожиданность, будучи уверенным, что яростный натиск минимизирует любой риск (хотя надо отдать должное опытному Багратиону, он далеко не всегда следовал тому принципу, который настойчиво навязывал Барклаю, — наступать во что бы то ни стало!).
Собственно, здесь Ермолов еще ни в чем не решается впрямую обвинить Барклая. Он обиняками дает понять императору, что его план эффективнее прямолинейной стратегии главнокомандующего, поставившей под угрозу саму возможность объединения армий. А без соединения армий успех «сумнителен». Порицая бесполезное, на его взгляд, отдаление от основных сил корпуса Витгенштейна, он, наконец, формулирует то, ради чего, собственно, и было написано письмо: «Государь, необходим начальник обеих армий».
Для всех было ясно, что речь идет о Багратионе.
Для Алексея Петровича соединение двух армий под командованием Багратиона означало не только изменение стратегии и отмену «скифского» плана, но и надежду на прямое участие в боевых действиях.
Александр получил письмо только 27 июля, когда обстановка кардинально изменилась.
В воспоминаниях Ермолов подробно описывает ситуацию, возникшую в результате того, что «необыкновенной скорости маршами неприятель» нагнал 1-ю армию и пытался навязать ей генеральное сражение. Но в этот момент и Ермолов при всей его самоуверенности понимал, что силы слишком неравны, инициатива принадлежит Наполеону, исходные принципы стратегии Багратиона «искать и бить» в данном случае не действуют. Необходимо было задержать Наполеона, чтобы дать возможность основным силам оторваться от французов, «много превосходящих нас силами», и прежде всего — от «числом ужасной кавалерии».
«Надобен был генерал, который дождался бы сил неприятельских и они бы его не устрашили». Ермолов предложил на эту роль графа Остермана-Толстого, которого знал по войнам 1806–1807 годов, героя Пултуска и Прейсиш-Эйлау. Одной этой рекомендацией участие Ермолова в событиях не ограничилось.
Остерман со своим корпусом упрямо держался против превосходящих сил французов, пока не наступила ночь, прервавшая бой. Его войска понесли тяжелые потери, и в подкрепление ему направлена была свежая дивизия генерала Коновницына. Далее произошло нечто труднопредставимое, но, увы, характерное для нравов русской армии того времени.
«В два дня времени неприятель сражался с главными своими силами, которых чувствуемо было присутствие по стремительности атак их. Ни храбрость войск, ни самого генерала Коновницына бесстрашие не могли удержать их. Опрокинутые стрелки наши быстро отходили толпами. Генерал Коновницын, негодуя, что команду над войсками принял генерал Тучков, не заботился о восстановлении порядка, последний не внимал важности обстоятельств и потребной деятельности не оказывал».
Дело могло кончиться полным разгромом русского арьергарда и, соответственно, серьезными осложнениями для всей армии. Положение спас Ермолов, присланный на место сражения Барклаем: «Я сделал им представление о необходимости вывести войска из замешательства и обратить к устройству».
Очевидно, это «представление» было достаточно внушительным, судя по тому, что рассорившиеся в разгар боя генералы приняли все необходимые меры, и беспорядочное бегство превратилось в достойное отступление.
В воспоминаниях Ермолов жестко прокомментировал этот эпизод: «Невозможно оспаривать, что продолжая с успехом начатое дело, приятно самому его кончить, но непростительно до того простирать зависть и самолюбие, чтобы допустить беспорядок, с намерением обратить его на счет начальника. В настоящем случае это было слишком очевидно!»
Ермолов постоянно и решительно вмешивался в управление армией, рискуя раздражить Барклая, как было и в случае отступления от Витебска.
Несмотря на героизм и ожесточенное упорство войск, удерживавших неприятеля, было ясно, что долго они не продержатся. Надо было или уводить армию, или принимать сражение. Тут мы в очередной раз сталкиваемся с явлением, которое можно назвать ретроспективной модификацией реальных событий.
Судя по воспоминаниям Ермолова, Барклай всерьез задумывался над возможностью дать сразу под Витебском генеральное сражение. Хотя это и вызывает сомнения: вряд ли бы он решил перечеркнуть «скифский» план, тем более что ситуация сложилась для русской армии отнюдь не благоприятная.
Известный исследователь войны 1812 года пишет: «Позиция на Лучесе (река. —
Автор опирался на прочную документальную основу.
В воспоминаниях Ермолова все выглядит и так, и не так.
«Внимательно рассмотрев невыгодное расположение армии, решился я представить главнокомандующему об оставлении позиции немедленно. Предложение всеконечно смелое, предприимчивость молодого человека, но расчет впрочем был с моей стороны: лучше предпринять отступление с некоторым сомнением, совершить его беспрепятственно, нежели принять сражение и, без сомнения, не иметь надежды на успех, а может быть, подвергнуться совершенному поражению. В одном случае, по мнению моему, можно не отвергнуть сражения, если другая армия готова остановить торжествующего неприятеля и преодолеть его, обессиленного потерею. Мы были совсем в другом положении».
Это замечательная декларация: Ермолов через много лет после описываемых событий формулирует основополагающую идею Барклая, ту самую, против которой они с Багратионом горячо протестовали. Но теперь он предлагает ее в качестве собственной.
Неудивительно. Когда Алексей Петрович писал свои воспоминания, абсолютная правота Барклая была очевидна, его репутация восстановлена. Те, кто в свое время поносил и клеймил его, отдавали должное его стратегической мудрости.
Странно было бы Ермолову отстаивать тогдашнюю свою позицию. Поэтому он воспроизводит события так, как они должны были бы выглядеть из 1820-х годов:
«Главнокомандующий колебался согласиться на мое предложение. Ему как военному министру известно было во всем объеме положение наше и конечно требовало глубокого соображения! (Даже теперь Алексей Петрович не удержался от сарказма. —
Был первый час пополудни…»
На первый взгляд то, что пишет Ермолов, вполне соответствует документальным данным. Но Алексей Петрович был мастером нюансов и деталей.
Он ни словом не упоминает о военном совете, собранном Барклаем, совете, который и высказался за отступление. Важную роль в этом решении сыграла специальная записка Беннигсена, которую тот подал в этот день Барклаю. С другой же стороны, Ермолов дает понять, что главнокомандующий испрашивал мнение генералов, так что в прямом искажении реальности его не обвинишь.
Но получается так, что он был единственным, кто решительно настаивал на отступлении, принимая на себя всю ответственность. Он тонко дает понять это: «Я боялся непреклонности главнокомандующего, боялся и его согласия».
Странно было бы думать, что многоопытный Барклай де Толли не видел изъянов позиции и не осознавал, что при двойном перевесе сил у Наполеона — а наступающими командовал сам Наполеон — генеральное сражение неизбежно приведет к катастрофе.
Но, как уже говорилось, измученный упреками в трусости и измене, он хотел, чтобы решение об очередном отступлении принято было коллективно.
По Ермолову же получается, что без его настояния Барклай неизбежно пошел бы на губительную авантюру.
«Не скрою некоторого чувства гордости, что главнокомандующий, опытный и чрезвычайно осторожный, нашел основательным предположение мое об отступлении».
Но Ермолов не был бы Ермоловым, если б оставил происшедшее без комментария, ставившего все на свои места.
«О дерзость, божество, пред жертвенником которого человек не раз в жизни своей должен преклонить колена! Ты иногда спутница благоразумия, нередко оставляя его в удел робкому, провождаешь смелого к великим предприятиям; тебе в сей день принесена достойная жертва!»
Главное, стало быть, на пути к «великим предприятиям» — дерзость. Но 15 июля 1812 года — в виде редкого исключения — пришлось принести «достойную жертву» дерзости в виде благоразумия.
Ермолов оправдывал отступление от своего главного принципа.
Надо сказать, что в конечном счете было принято более рациональное предложение Тучкова. Армия начала отступление не в тот же час, а именно ночью. Причем была использована традиционная хитрость — на позициях русской армии всю ночь горели костры, в то время как самой армии там уже не было.
Изготовившийся к генеральному сражению Наполеон на рассвете 16 июля увидел перед собой пустое пространство…
Барклай методически и упорно осуществлял свой план.
20 июля 1-я армия пришла в Смоленск, а через два дня, обыграв в маневренной войне французов, к Смоленску вышла и 2-я армия. Первый и главный стратегический результат — соединение армий — был достигнут.
За день до этого, 21 июля, произошло событие незаурядного психологического смысла: князь Багратион, опередив свою армию, прибыл в Смоленск и при встрече с Барклаем де Толли заявил, что он готов подчиниться ему как военному министру.
Этот жест многих удивил. Формально старшинство по чину было у Багратиона, а этому в русской армии придавалось большое значение. Правда, это было условное старшинство: и Барклай, и Багратион были произведены в генералы от инфантерии в один день одним приказом, 20 марта 1809 года, но в приказе фамилия Багратиона стояла раньше фамилии Барклая.
Прорыв Багратиона к Смоленску Ермолов считал необыкновенно счастливым стечением обстоятельств. Отчасти так оно и было — кроме мужественной стремительности князя Петра Ивановича и необыкновенной выносливости его солдат решающую роль сыграли ошибки противника.
Жером, король Вестфалии, которого русские офицеры называли королем Еремой, будучи наиболее бездарным из всех братьев Бонапартов, вместо того чтобы следовать по пятам Багратиона, отрезая его от 1-й армии, двигался не торопясь, позволяя себе длительные дневки, а потому далеко отстал от 2-й армии, вызвав ярость Наполеона, который подчинил его маршалу Даву. Но и многоопытный Даву оказался не на высоте.
Теперь все ждали от Барклая генерального сражения и изгнания Наполеона из пределов России.
После отступления от Витебска Барклай послал Александру письмо, объясняющее смысл его действий. Александр ответил ему обширным посланием: «Михайло Богданович! Я получил донесения ваши, касающиеся причин, побудивших вас идти первою армиею на Смоленск, так и о соединении вашем со второю армиею.
Так как вы для наступательных действий соединение сие считали необходимо нужным, то я радуюсь, что теперь ничто уже не препятствует предпринять их, и судя по тому как вы меня уведомляете, ожидаю в скором времени самых счастливых последствий».
Далее идет принципиально важный абзац: «Я не могу умолчать, что хотя по многим причинам и обстоятельствам при начатии военных действий нужно было оставить пределы нашей земли, однако же не иначе как с прискорбностью должен был видеть, что сии отступательные действия продолжались до самого Смоленска…
Вы развязаны во всех ваших действиях без всякого пристрастия и помешательства, а потому и надеюсь я, что вы не упустите ничего к пресечению намерений неприятельских как и нанесению ему всевозможного вреда. Напротив того, возьмете все строгие меры к недопусканию своих людей до грабежа, обид и разорения поселянам и обывателям.
Я с нетерпением ожидаю известий о ваших наступательных движениях, которые, по словам вашим, почитаю теперь уже начатыми. Поручаю себя покровительству Божию и твердо надеюсь на справедливость защищаемого мною дела, на искусство и усердие ваше, на дарование и ревность моих генералов, храбрость офицеров и всего воинства, ожидаю в скором времени услышать отступление неприятеля и славу подвигов ваших».
Это письмо датировано 30 июля, когда до битвы за Смоленск оставалось четыре дня, а русские армии маневрировали в нескольких переходах от города.
Письмо исполнено печального для Барклая смысла. Император, одобривший в свое время «скифский» план, давал понять, что его поддержка кончается. Он требовал «наступательных движений», не очень представляя себе реальное соотношение сил.
Барклай знал, что ресурс императорской поддержки заканчивается, а «генеральская оппозиция» во главе с великим князем становится все агрессивнее.
Именно этим вызваны были его «колебания». Время от времени он делал вид, что готов уступить общему настроению и попытать счастья в генеральном сражении. Более того, некоторые из позиций, выбранных для этого, уже начинали укреплять. А затем армия снова уходила на восток. Есть предположение, что эти недостроенные укрепления должны были убедить Наполеона, что русские вот-вот остановятся.
25 июля Барклай собрал военный совет, чтобы обсудить возможность и характер «наступательных действий».
На совете присутствовали Багратион, Ермолов, начальник штаба 2-й армии генерал Сен-При, генерал-квартирмейстеры 1-й армии Толь и 2-й армии Вистицкий, флигель-адъютант Вольцоген и великий князь Константин Павлович.
Все они были сторонниками активных действий.
Было решено, воспользовавшись разбросанностью наполеоновских корпусов, ударить по центру французской армии, прорвать его и попытаться уничтожить разъединенные силы противника.
Судя по всему, Ермолов был не только горячим энтузиастом этой операции, но и рассчитывал принять в ней непосредственное участие.
Как начальник штаба 1-й, главной, армии он сразу после военного совета составил «Дистанцию наступательным действиям к стороне местечка Рудня на 26 июля».
Имеет смысл хотя бы частично процитировать этот документ, первые фразы которого дышат надеждой на перелом в ходе кампании.
«Неприятель раздельным положением своих сил подает нам удобный случай разбить его по частям, и для того 1-я и 2-я армии, составя два боковых корпуса, первый по дороге через село Касплю, в направлении к Поречью, а другой при местечке Красном, на левом берегу Днепра, каждый по 5000 человек, выступают главными силами по трем дорогам следующим порядком <…>».
Дальше шла подробная роспись следования войск.
«По приближению колонн к новому лагерю, войсковой атаман, генерал от кавалерии Платов начинает сбивать неприятельские пикеты и растянутым своим движением прикрывает марш всех колонн; авангарды колонн 1-й и 2-й, поступающие в команду генерал-майора графа Палена, служат подкреплением генералу Платову.
Под прикрытием сих последних чиновники квартирмейстерской части делают рекогносцировки дорогам, идущим параллельно в направлении к Рудне, и буде где найдутся испорченные неприятелем мосты, оные немедленно исправить».
Он долго ждал, когда ему представится случай подписать такой документ. И час настал.
Вряд ли Барклай верил в успех операции. Он слишком хорошо помнил, кто ему противостоит и что поставлено на карту. Помнил, что реально он может ввести в бой до 120 тысяч штыков и сабель, а Наполеон, коль скоро по всевозможным обстоятельствам не удастся быстро разгромить хотя бы часть вражеских корпусов, может сконцентрировать силы, в полтора раза большие. И тогда выгодное в первый период положение русской армии по отношению к наполеоновским войскам может стать причиной катастрофы.
В случае успеха французам мог быть нанесен существенный урон, не фатальный, однако, для их общего положения. Но если бы русская армия, встретив сильное сопротивление передовых корпусов, увязла в боях с ними, то оторваться от подоспевшего с главными силами Наполеона было бы чрезвычайно трудно и возможность окружения становилась реальной.
Тем не менее 26 июля наступление началось.
Ермолов пишет: «В расстоянии небольшого перехода от Рудни армии остановились. Главнокомандующий колебался идти вперед, князь Багратион требовал того настоятельно. Вместо быстрого движения в предприятии нашем лучшего ручательства за успех дан армиям день бесполезного отдыха, неприятелю лишний день для соединения сил! Он мог уже узнать о нашем приближении!»
Решение Барклая было отнюдь не бессмысленным. Он получил данные разведки, сообщавшей о сосредоточении французских войск у Поречья, что создавало опасность обхода французами правого фланга русских войск. Данные эти при последующей проверке оказались неточными, но «методик» Барклай не счел возможным рисковать.
Военный историк Любомир Григорьевич Бескровный, проанализировав сложившееся положение, пришел к выводу: «Вообще предположение Барклая де Толли о возможном обходе его правого фланга не было лишено оснований. Из Витебска к Смоленску шли три дороги, одна — через Поречье, другая — через Рудню, третья — через Красный. Наступлением через Поречье русскую армию можно было отбросить к югу от Московской дороги, движением через Рудню — нанести удар в лоб, а через Бобиновичи — Красный — обойти русскую армию с тыла, отрезав ее от основных баз снабжения».
Вот этого последнего варианта больше всего опасался Барклай, неохотно согласившийся на рискованную операцию. До сих пор Наполеону не удавалось отрезать русские армии от основного российского пространства и вырваться на оперативный простор, имея перед собой слабозащищенные обе русские столицы. Барклай совершенно не расположен был предоставлять противнику такой шанс.
А Наполеон между тем, дав своей армии недельный отдых вокруг Витебска, двинулся на Смоленск…
Русские армии, не имея достаточно точных данных о местоположении и намерениях противника, маневрировали в районе Рудни, не предпринимая попыток атаковать французов.
Ермолов был в ярости. Через много лет эта ярость прорвалась в его воспоминаниях: «Не забуду я странного намерения твоего, Барклай де Толли; слышу упреки за отмену атаки на Рудню. За что терпел я от тебя упреки, Багратион, благодетель мой! При первой мысли о нападении на Рудню не я ли настаивал на исполнении ее, не я ли убеждал употребить возможную скорость?»
2 августа «ужасная», по выражению Ермолова, кавалерия Мюрата атаковала именно городок Красный, что означало возникновение самого опасного варианта. Красный занимала 27-я дивизия генерала Неверовского.
Русские сопротивлялись яростно. Но силы были слишком неравны. Неверовский, построив войска в два каре, начал отступать к Смоленску.
Отступление 27-й дивизии, выдержавшей на протяжении многих верст 40 атак кавалерии Мюрата, — один из самых героических эпизодов кампании 1812 года.
Когда Барклаю стало известно об атаке на Красный, он — да и не только он — понял, что Наполеон может оказаться у Смоленска раньше, нежели туда успеют русские армии. 1-я армия находилась в 40 километрах от Смоленска, а 2-я — в 30 километрах. Осторожность Барклая, не давшего увлечь себя далеко от этого важнейшего пункта, оказалась оправданной. Но и сложившаяся ситуация выглядела весьма угрожающей. Наполеон переигрывал Барклая.
Измученная дивизия Неверовского, потерявшая сотни солдат, достигнув Смоленска, не смогла бы противостоять силам Наполеона.
К счастью, корпус Раевского, вышедший к Рудне позже остальной армии, находился от города в 12 километрах. Багратион послал Раевскому приказ немедленно возвращаться в Смоленск и соединиться с Неверовским. Туда же были направлены еще два отряда.
«Нерешительность» Барклая минимизировала риск и предотвратила едва не разразившуюся катастрофу.
Надежды, которые Алексей Петрович возлагал на разработанную им совместно с Толем операцию, были так велики, что он не мог трезво принять реальность, которую сам же здраво проанализировал.
Сохранились два письма Ермолова, написанные в эти дни Багратиону и свидетельствующие как о крайней неопределенности ситуации, так и об упрямом стремлении Алексея Петровича во что бы то ни стало продолжить наступление.
1-я и 2-я армии находились сравнительно недалеко друг от друга, и письма могли быть доставлены к адресату не далее чем через сутки.
4 августа Багратион получил от Ермолова следующее послание: «Ваше Сиятельство! Ничего не знает (Барклай. —
О чем, собственно, идет речь в письме, написанном, когда Наполеон уже шел к Смоленску, о чем Ермолов догадывался или, вернее, крайне этого опасался?
Барклай, чуявший опасность, собирался отправить к Смоленску на всякий случай один из корпусов своей армии. Если бы Ермолов с его даром убеждения не отговорил главнокомандующего, то грозную массу наполеоновских войск встретили бы не обескровленная дивизия Неверовского и утомленный форсированным маршем корпус Раевского, а два корпуса, что сделало бы первый период защиты города куда менее драматичным и тяжким для русских войск. Но Ермолов настоял на своем и в канун смоленской битвы гордился этим. Однако он понимал, что Наполеон не станет бездействовать, и это вызывало у него острую тревогу.
Наполеон поступил именно так, как предполагал Ермолов: сконцентрировал войска, форсировал Днепр и стремительно двинулся к Смоленску.
Судя по цитированному письму, Ермолов продолжал, несмотря ни на что, возражать против прекращения диверсий против удаленных от остальных французских сил корпусов. 2-я армия должна была или не допустить форсирование французами Днепра, или же удерживать их под Смоленском, пока, выполнив свою задачу, 1-я армия не вернется туда же. Это конечно же была героическая авантюра. Барклай таких вещей не терпел.
Прежде чем рассказать о сражении под Смоленском, стоит привести фрагмент из записок умного и тонкого наблюдателя Павла Христофоровича Граббе, одного из любимых адъютантов Ермолова, подтверждающий наши рассуждения о роковом во многих отношениях наступлении на Рудню: «Переносясь мыслию в ту эпоху, помню, какое общее веселие произвело во всех соединение армий. Труднейшее было с успехом исполнено… Но тем затруднительнее стало положение Барклая де Толли. От самого Государя, как видно из его рескрипта, до последнего солдата, все полагали, что с соединением армий не только должно сократиться отступление, но остается только наступать на неприятеля, столь далеко зашедшего. Военный совет, к которому прибегнул Барклай де Толли, решил наступление. Я остаюсь при мысли, что главнокомандующий тогда же принял намерение противное всеобщему слепому увлечению, подал вид будто разделяет его, но остался при прежней системе выжидания обстоятельств более верных».
Поразительно точно генерал Граббе ретроспективно понял скрытые намерения Барклая. Он пишет: «Князь Багратион, облегченный от ответственности, говорил только о решительном сражении. Теперь можно утвердительно сказать, что оно имело бы самые гибельные последствия».
И дальше Граббе с точностью военного профессионала и с лапидарностью опытного мемуариста набросал картину происходившего 3 августа: «Между тем наши армии в несвязных движениях переходили без нужды с дороги на другую, Наполеон, безответственный властелин никем не оспариваемых своих соображений, быстро соединил свою армию, все еще далеко превосходную числом против нашей. 3-го августа в Расасне, на левом берегу Днепра, собралось до 200 000 готовых кинуться на Смоленск, прикрытый тогда одною 27-й дивизией под начальством генерал-майора Неверовского. День 2 августа принадлежит Неверовскому. Он внес его в историю. Атакованный авангардом под начальством Мюрата, за которым следовала вся огромная туча французской армии, не имея за собой до Смоленска ни малейшей опоры, Неверовский, окруженный, отрезанный, совершал свое львиное отступление, самими неприятелями так названное.
Между тем, обе наши армии, в неведении об неприятеле, удалялись более и более от угрожаемого Смоленска по направлению на Рудню, 2-я армия следовала на Надву и услышала канонаду на левом берегу. <…> Из 1-й армии по полученному вскоре неясному известию Ермолов послал меня туда же вперед разведать о происходящем».
Граббе, все видевший своими глазами, подтверждает опасения и Барклая, и Ермолова. Только главнокомандующий, исходя из этих опасений, хотел вернуться к Смоленску, а его начальник штаба считал, что надо рискнуть и все же попытаться нанести урон противнику, находящемуся в двухдневных переходах.
Второе письмо Ермолова Багратиону написано скорее всего утром 4-го числа, и оно исполнено острого беспокойства. Ермолов догадывается, к чему может привести поход на Рудню: «Мое мнение, что они (французы. —
Ермолов уже предвидит, что Наполеон может форсировать Днепр и, оказавшись на левом берегу, ринуться к Смоленску. Потому он планирует понтонный мост значительно выше по Днепру, недалеко от Смоленска в Катыни, чтобы в случае прорыва французов к Смоленску раньше русских армий выйти им в тыл. Как всегда в критической ситуации, он полон боевой энергии.
Мы так подробно рассказываем о наступлении на Рудню, потому что этот авантюрный план, навязанный главнокомандующему оппозиционным генералитетом, резко обострил отношения в верхах армий и, соответственно, радикализировал позицию Ермолова.
27 июля, через день после начала наступления, когда стало ясно, что Барклай не намерен рисковать и не испытывает ни малейшего энтузиазма по поводу планов Багратиона и Ермолова и, опасаясь флангового обхода, двинул армии на Поречье, Алексей Петрович на первом же биваке написал второе письмо императору. Причем отправил его не непосредственно Александру, что подтвердило бы факт их договоренности, а приложил к письму, адресованному Аракчееву.
«Ваше сиятельство, м. г. граф Алексей Андреевич. Я, почитая себя обязанным представить Государю Императору мнения мои о действиях армии, имею честь представить оное вашему сиятельству с тем, что если изволите вы найти их достойными внимания Е. И. В., благоволили бы их представить, если же признать изволите их бесполезными, оставить или возвратить мне. Я имею честь покорнейше объявить вашему сиятельству, что я взял смелость писать не с каким другим намерением, как открыть образ мыслей моих относительно положения армии и предположения о намерениях неприятеля.
Я открываю удобность оценить мои способности, ибо лучше хочу, чтобы виден был недостаток оных, нежели скрывая, занижать недостойно и место по обстоятельствам слишком важное и на которое нельзя сыскать человека слишком способного.
С глубочайшим высокопочитанием и совершенною преданностию имею честь быть…»
Алексей Петрович, как всегда искусно играя стилем, ставит достаточно дерзкий вопрос: если вы, высокие начальники, не сочтете мои соображения резонными, то чего ради держать меня на моем посту?
И первое, и второе письма Ермолова императору посвящены, казалось бы, частным вопросам — в первом случае, как мы помним, отказу Барклая выполнить маневр, предложенный Ермоловым, во втором — разногласиям Барклая с большинством генералитета, Багратионом и Ермоловым в первую очередь, возникшим в процессе наступления на Рудню.
Второе письмо обширнее первого, но и его стоит привести целиком, поскольку это не только, так сказать, программно-стратегический, но и глубоко личный документ, свидетельствующий о смятении, в котором находился в это время Алексей Петрович, понимавший, какую рискованную игру он ведет.
Более того, есть основания предположить, что эта игра, основанная на двуличии и коварстве по отношению к Барклаю, давалась ему совсем нелегко.
Но слишком сильны были стимулы.
Аракчеев передал письмо императору.
«Всемилостивейший Государь.
Главнокомандующий, донеся В. И. В. о всех происшествиях в точном их виде, не избавляет меня обязанности повергать к стопам В. И. В. донесения мои, хотя бы для того единственно, чтобы служить могли доказательством образа понятия моего о всем, что до положения армии относится.
Отступление наше от Витебска с необычайною решительностию произведенное, чтобы не дать ей наименования дерзости, тогда как иначе неизбежно было общее дело, приведя неприятеля в недоумение, доставило нам возможность прибыть в Смоленск. 2-я армия, глупою поспешностию маршала Даву, ожидавшего нападения в Могилеве, после жестокого сражения храбрым ген. — лейт. Раевским данного, сокрывшее движение свое беспрепятственно, тоже прибыла к Смоленску. Маршал Даву должен был прежде нас занять Смоленск, и без больших усилий, ибо в Орше были части войск, его армии принадлежавших, и так неожиданно и вблизи многочисленных неприятельских сил армии соединились. В. И. В., мы вместе. Армии наши слабее числа неприятеля, но усердием, желанием сразиться, даже самым озлобленным, соделываемо не менее сильными. Нет возможности избежать сражения всеми силами, ибо неприятель не может терять время в праздности. Могут приспеть к нам усиления, может сблизиться армия ген. Тормасова, не столько опасная в нынешнем его отдалении, и самыми успехами его ничего решительного не производящая до тех пор, как станет на операционной линии неприятеля. Покрывшая себя славою Молдавская армия, неравнодушный взгляд неприятеля на себя привлекающая, может получить опасное для него направление. Государь, наши способы не менее самих он знает. Нельзя медлить ему. Соглашение всех армий действие, соединенные всех способов напряжения, гибельные для него, итак, уничтожение армии в преддвериях, так сказать Москвы стоящей, должно быть единственною его целию, сим не только умедливается состояние наших ополчений, но частию уничтожается и угрожаемая Москва, как сердце России, не может не произвести влияния на прочие страны Империи. На сем основывает коварный неприятель свои расчисления. Государь, армия В. И. В. имела уже успех, солдат не устрашен и мы Русские! но напряжение всех возможных усилий необходимо, малейшее медление опасно!»
Смысл этого торопливого текста сводится к одной простой мысли: неприятель понимает всю гибельность для него промедления в действиях, затягивания войны, сосредоточения всех разбросанных на большом пространстве русских армий, а потому стремится к решительному столкновению. И, по мнению Алексея Петровича, нужно вырвать у него стратегическую инициативу, пока он не настиг и не разгромил соединившиеся армии Барклая и Багратиона, что повлечет за собой падение Москвы и деморализацию всей империи.
Ермолов убежден, что решительность и «озлобление» русских солдат способны компенсировать численное превосходство противника, что выучке и мужеству французов, военному гению Наполеона можно с успехом противопоставить отчаянную ярость озлобленных на врага солдат, их ненависть к захватчику-оскорбителю, не просто мужество, но безоглядное самопожертвование, на которое не способен враг. Это была все та же идеология «подвига» как боевого принципа, перекрывающего любые другие качества противника и любые другие резоны планирования операций.
Разумеется, он прекрасно понимал, что надо подготовить условия для реализации «подвига», но при этом был уверен, что именно «подвиг», а не «метод» пролагает путь к победе.
Эта идеология была внутренне противоречива. Но таков был и сам характер нашего героя, его мощная натура, соотношение его мечтаний и его реальных возможностей в реальных обстоятельствах…
Вторая часть письма Александру посвящена была столкновению представлений, с одной стороны, Багратиона и Ермолова, с другой — Барклая, в дни наступления на Рудню. Затем — общий сокрушительный вывод: «Государь, нужно единоначалие, хотя усерднее к пользе отечества, к защите его, великодушнее в поступках, наклоннее к принятию предложений, быть невозможно достойного кн. Багратиона, но не весьма часты примеры добровольной подчиненности, Государь, Ты мне прощаешь смелость мою в изречении правды».
Упрек Барклаю в выборе неточного направления удара изложен довольно неопределенно. Ермолов все же не готов прямо обвинять главнокомандующего в некомпетентности, но ясно дает понять, что на его месте другой, более решительный и прозорливый военачальник мог бы нанести существенный урон неприятелю, поставив его в то положение, в «каком мы доселе находимся». То есть в положение отступающего и обороняющегося. Речь снова идет о стратегической инициативе.
Но главное, конечно, ясно выраженное пожелание сделать главнокомандующим Багратиона, как средоточие всех возможных достоинств. «Не весьма часты примеры добровольной подчиненности». Багратион добровольно подчинился Барклаю, и ничего хорошего из этого, по мнению Алексея Петровича, не получилось. Нужна была твердая воля императора.
Битва за Смоленск была первым крупным сражением кампании 1812 года.
Раевский и Неверовский ввели свои войска внутрь городских стен и в течение многих часов выдерживали атаки подавляюще превосходящих сил противника.
Понимая, каково приходится Раевскому, Багратион с марша послал ему с нарочным записку: «Друг мой! Я не иду, а бегу; желал бы иметь крылья, чтобы соединиться с тобой…»
Но 2-я армия подошла к Смоленску только вечером 4 августа, а маршал Ней начал наступление с семи часов утра этого дня.
Войска 1-й армии начали прибывать в течение ночи…
Битва за Смоленск имела для Алексея Петровича особое личное значение. В июле военные действия вообще проходили в местах его молодости, но Смоленск имел в его воспоминаниях роль ни с чем не сравнимую.
Прервав последовательное описание событий, он позволяет себе лирическое отступление: «Итак, в Смоленске, там, где в ребячестве живал я с моими родными, где служил в молодости моей, имел много знакомых между дворянством, приветливым и гостеприимным». Ни слова об аресте, о любимом старшем брате… «Теперь я в летах, перешедших время пылкой молодости, и если не по собственному убеждению, то, по мнению многих, человек довольно порядочный и занимаю видное место в армии. Удивительные и для меня самого едва ли постижимые перевороты!»
Сдача Смоленска вызвала в нем нехарактерные, казалось бы, для него чувства. Он вспоминал смоленскую драму через добрый десяток лет, но, надо полагать, что в то время, когда она разворачивалась, его чувства были еще интенсивнее.
«Итак, оставили мы Смоленск, привлекли на него все роды бедствий, превратили в жилище ужаса и смерти. Казалось, упрекая нам, снедающим его пожаром, он, к стыду нашему, расточал им мрак, скрывающий наше отступление». И дальше — главное: «Разрушение Смоленска познакомило меня с новым совершенно для меня чувством, которого войны, вне пределов отечества выносимые, не сообщают. Не видел опустошения земли собственной, не видел пылающих городов моего отечества. В первый раз в жизни коснулся ушей моих стон соотчичей, в первый раз раскрылись глаза на ужас бедственного их положения. Великодушие почитаю я даром Божества, но едва ли бы дал ему место прежде отмщения!»
«Отмщение». Это надо запомнить, чтобы впоследствии оценивать поведение Ермолова по отношению к неприятелю.
После ухода из Смоленска по решению Барклая возмущенный Багратион обратился к Александру с письмом, в котором, осуждая стратегию военного министра, он, в частности, писал: «Смоленск представлял немалую удобность к затруднению неприятеля на долгое время и к нанесению ему важного вреда. Я по соображении обстоятельств и судя, что неприятель в два дня под Смоленском потерял более 20 тысяч, когда со стороны нашей и половину не составляет потеря, позволю себе мыслить, что при удержании Смоленска еще один, два дня, неприятель принужден был бы ретироваться».
Аракчееву он писал еще решительнее: «Я клянусь вам моею честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он мог бы потерять половину армии, но не взять Смоленск».
Это было сильным преувеличением. Упрямая защита уже разрушенного города свелась бы к взаимному перемалыванию войск, что при значительном численном перевесе неприятеля было совершенно невыгодно русским. Не говоря уже о том, что, обладая численным перевесом и полной свободой маневра, Наполеон мог, подтянув разбросанные корпуса, сковать основные силы русской армии в Смоленске и обойти ее с флангов.
Рассказ Ермолова о решении оставить Смоленск — это нечастый случай, когда Алексею Петровичу удалось подняться над страстями того периода и трезво взглянуть как на общую ситуацию, так и на свою роль в событиях.
«Главнокомандующий поручил мне осмотреть, в каком положении дела наши в городе. Сражение продолжалось с жестокостию; урон с нашей стороны чувствителен; урон неприятеля несравненно больше, ибо нас от действия артиллерии охраняли крепостные стены. За час до вечера неприятель был близко к стенам; часть предместья по левой стороне во власти его; единственный мост наш на Днепре осыпаем был ядрами; город во многих местах объят пламенем, вне стен не было уже ни одного из наших стрелков». Эта картина далеко не соответствовала сообщениям Багратиона. И далее Ермолов с холодной трезвостью выступает против своего «друга и благодетеля».
«Князь Багратион склонил главнокомандующего еще один день продолжать оборону города, переправиться за Днепр и атаковать неприятеля, и что он то же сделает со своей стороны. На вопрос главнокомандующего отвечал генерал-квартирмейстер Толь, что надобно атаковать двумя колоннами из города. Удивило меня подобное предложение человека с его взглядом и понятиями. Я сделал замечание, что в городе весьма мало ворот и они с поворотами на башнях. Большое число войск скоро пройти их не может, равно как и устроиться в боевой порядок, не имея впереди свободного пространства и под огнем батарей, близко к стене придвинутых. Скоро ли может приспеть сопровождающая атаки артиллерия, и как большое количество войск собрать без замешательства в тесных улицах города, среди развалин домов, разрушенных бомбами?.. 2-я армия не должна переправиться за Днепр выше города и еще менее атаковать правый фланг неприятеля, как то предполагал князь Багратион. Легко было воспрепятствовать переправе армии или, отбросивши атаку, разорвать сообщение с 1-ю армиею, уничтожить согласие в действиях войск и способы взаимного воспомоществования. Небольшими силами неприятель мог войска наши не выпускать из крепости и свои войска сосредоточить по произволу».
То есть Багратион и поддерживающие его генералы пытались, по ясному утверждению Ермолова, втянуть Барклая в заведомо катастрофическую операцию.
У Алексея Петровича хватило честности не ограничиться описанием своего благоразумия.
«Предоставленные мною рассуждения не воздержали меня от неблагоразумного в свою очередь поступка. Я поддержал мнение гг. корпусных командиров еще один день продолжить защиту города. Желание их доведено до сведения (Барклая де Толли. —
Единственной причиной, по которой Ермолов, понимавший бесперспективность наступательной операции, настаивал на дальнейшей защите города, могла быть боязнь оттолкнуть и обидеть Багратиона.
Описывая защиту Смоленска, Ермолов говорит лишь об одном своем активном поступке: «Я приказал вынести из города образ Смоленской Божьей Матери, укрывая его от бесчинств и поругания святыни!»
В ночь с 6 на 7 августа русские войска оставили Смоленск и с кровавыми арьергардными боями стали отходить в сторону Москвы.
Начался новый во многих отношениях период войны.
В армии еще не знали, что 5 августа собранный Александром Чрезвычайный комитет, состоящий из председателя Государственного совета фельдмаршала графа Салтыкова, членов Государственного совета князя Лопухина и графа Кочубея, петербургского генерал-губернатора графа Вязьмитинова, министра полиции Балашова, в присутствии Аракчеева избрал главнокомандующим всеми русскими армиями генерала от инфантерии Михаила Илларионовича Кутузова.
В армии еще не знали о решении Чрезвычайного комитета, и борьба генералов с Барклаем принимала все более ожесточенный характер.
Еще до смоленского сражения, вскоре после Ермолова, к Александру обратился генерал-адъютант граф Павел Андреевич Шувалов, командир 4-го пехотного корпуса. Перечислив все беды, которые претерпевает русская армия под командованием Барклая де Толли, он закончил свое послание так: «Начальник Главного штаба, генерал Ермолов, невзирая на его пламенное усердие, хорошо известное Вашему Величеству по его преданной службе, и несмотря на его выдающиеся таланты, не в силах противостоять злу при таком начальнике. Государь, соблаговолите на сей раз выказать мне свое доверие и убедитесь в истинности слов моих. Необходим другой главнокомандующий, один над обеими армиями; и Вашему Величеству надлежит назначить его немедленно, не теряя ни минуты, иначе Россия погибнет. Припадаю к стопам Вашего Величества, моля об этом, и не только от своего имени, но и от имени ваших армий».
Возможно, это письмо было последней каплей, которая заставила императора созвать Чрезвычайный комитет и 8 августа назначить по его рекомендации Кутузова, весьма им нелюбимого.
Апелляция Шувалова к авторитету Ермолова, младшего по званию и по возрасту, свидетельствует, увы, что именно Алексей Петрович был душой оппозиции главнокомандующему.
Барклай это понимал. Позже, в ноябре 1812 года, в одной из своих оправдательных записок императору он скажет, что «начальник главного штаба моего А. П. Ермолов, человек с достоинствами, но лживый и интригант, единственно из лести к некоторым вышеназванным особам и к его императорскому высочеству и князю Багратиону совершенно согласовался с общим поведением».
Относительно мотивов поведения Ермолова Барклай не совсем прав.
Дело было не только в «лести», хотя Ермолов безусловно учитывал позиции своих «благодетелей» и старших друзей — Багратиона и великого князя Константина, но у него были и другие, более глубинные причины желать смещения Барклая. При главнокомандующем Багратионе он рассчитывал на активное участие в наступательных действиях, на возможность «подвига».
Речь шла о жизненной философии, о фундаментальных поведенческих установках.
После сдачи Смоленска, когда недовольство генералов достигло высшей точки, Константин Павлович решил выступить их рупором. 9 августа он устроил безобразную сцену на глазах многих генералов и офицеров штаба. Он кричал Барклаю: «Немец, шмерц, изменник, подлец, ты продаешь Россию, я не хочу состоять у тебя в команде!»
По воспоминаниям свидетеля, Барклай «в первое мгновение остановился, посмотрел на великого князя и, не обращая более внимания, хладнокровно продолжал ходить взад и вперед». Великий князь оказался в дурацком положении, а на следующий день он получил приказ главнокомандующего отбыть из армии в Петербург с документами, которые Барклай отправлял императору.
Петр Христофорович Граббе вспоминает: «Мне случилось быть одному у Алексея Петровича Ермолова, когда цесаревич вошел, чтобы проститься с ним и получить отправляемое с ним донесение государю».
Ермолов отправил с великим князем свое третье письмо императору, в котором писал: «Отступление, долгое время продолжающееся, тяжелые марши возбуждают ропот в людях, теряется доверие к начальникам. Солдат, сражаясь, как лев, всегда уверен, что ему надобно будет отступать. <…> Я люблю отечество мое, люблю правду, а потому обязан сказать, что дарованиям главнокомандующего здешней армии мало есть удивляющихся, еще менее имеющих к нему доверенность, войско же совсем ее не имеет».
Он писал сущую правду. Но одной из главных причин этого недоверия было поведение его самого и его единомышленников…
Интриги против главнокомандующего не мешали Ермолову, как мы убедимся, ревностно исполнять свои обязанности.
9 августа обе армии остановились западнее города Дорогобужа, памятного Ермолову по печальным делам 1797–1798 годов, у села Усвятье. Генерал-квартирмейстер 1-й армии Толь предлагал дать здесь генеральное сражение…
Теперь надо вернуться на сутки назад, к событиям 7 августа, весьма существенным для Алексея Петровича хотя бы потому, что за сражение при Валутиной Горе он награжден был чином генерал-лейтенанта — не в порядке очередного производства, а за выдающиеся заслуги. Рапорт об этом поощрении был подан Барклаем.
Сражение при Валутиной Горе оказалось одним из роковых моментов кампании 1812 года.
В энциклопедическом издании «Большая Европейская война» ему, в отличие от многих других боев, посвящен подробный пассаж: «Корпуса маршала М. Нея, див. ген. Ж.-А. Жюно и маршала И. Мюрата переправились на правый берег Днепра и атаковали при Валутиной Горе, Лубино, Заболотье и других местах на Московской дороге отряд генерал-майора П. А. Тучкова 3-го, пытаясь отрезать отступающие от Смоленска российские войска. Русские под командой прибывшего к войскам генерала от инфантерии М. Б. Барклая де Толли, постепенно отступая и постоянно получая подкрепления, удержали свою позицию и позволили корпусам 1-й Западной армии Барклая де Толли, отступающей от Смоленска, перейти на Московскую дорогу. Генерал-майор Тучков 3-й взят в плен»[43].
Даже из этой лаконичной справки понятен смысл происшедшего: французам в очередной раз не удалось отсечь русскую армию от основного пространства империи, лишив путей снабжения, и снова разделить две Западные армии. Тогда бы стратегическая ситуация резко изменилась бы в их пользу.
В событиях при Валутиной Горе едва ли не ключевую роль сыграл Ермолов, получивший наконец возможность проявить себя как военачальник, а не штабист.
Наиболее подробное описание сражения и роли в нем Алексея Петровича принадлежит Денису Давыдову. Рассказ его подтверждается другими источниками.
«Генерал-майор Тучков (он ныне сенатором в Москве), отлично сражавшийся, был изранен и взят в плен в сражении под Заболотьем, что французы называют Валутинским. Это сражение, называемое также Лубинским, описано генералом Михайловским-Данилевским, который даже не упомянул о рапорте, поданном Ермоловым князю Кутузову. Я скажу несколько слов о тех обстоятельствах боя, которые известны лишь весьма немногим. Распорядившись насчет отступления армии из-под Смоленска, Барклай и Ермолов ночевали в арьергарде близ самого города. Барклай, предполагая, что прочие корпуса армии станут между тем выдвигаться по дороге к Соловьевской переправе, приказал разбудить себя в полночь для того, чтобы лично приказать арьергарду начать отступление. Когда наступила полночь, он с ужасом увидел, что второй корпус вовсе еще не трогался с места; он сказал Ермолову: „Nous sommes en grand danger; comment a-t-il-pu arriver?“[44]
К этому он присовокупил: „Поезжайте вперед, ускоряйте марш войск, а я пока здесь останусь“. Дурные дороги задержали корпус Остермана, который следовал потому весьма медленно. Прибыв на рассвете в место, где корпуса Остермана и Тучкова 1-го располагались на ночлег, Ермолов именем Барклая приказал им следовать дальше. Князь Багратион, Ермолов и Толь утверждают, что Тучкову 3-му надлежало не только занять перекресток дорог, но и придвинуться ближе к Смоленску на подкрепление Карпова и смену князя Горчакова. Услышав пушечные выстрелы, Ермолов писал отсюда Барклаю: „Если выстрелы, мною услышанные, — с вашей стороны, мы можем много потерять; если же они со стороны Тучкова 3-го, большая часть нашей артиллерии может сделаться добычею неприятеля; во всяком случае прошу ваше высокопревосходительство не беспокоиться, я приму все необходимые меры“».
Ситуация была критическая. Если б французам удалось, раздавив небольшой отряд Тучкова, захватить перекресток, то, помимо всего прочего, русская артиллерия и обозы оказались бы отрезанными от главных сил.
«В самом деле, — продолжает Давыдов, — сто восемьдесят орудий, следуя медленно и по дурным дорогам, находились еще в далеком расстоянии от Соловьевской переправы. К величайшему благополучию нашему Жюно, находившийся на нашем левом фланге, не трогался с места; Ермолов обнаружил здесь редкую деятельность и замечательную предусмотрительность. По его распоряжению граф Кутайсов и генерал Пассек поспешили к артиллерии, которой указано было следовать как можно скорее; здесь в первый раз была употреблена команда: „На орудие садись!“ Ермолов, достигнув перекрестка, поехал далее по направлению к Соловьевской переправе и возвращал назад встречаемые им войска… Получив записку Ермолова, Барклай отвечал: „С Богом, начинайте, а я между тем подъеду“. Прибыв вскоре к колонне Тучкова 3-го и найдя, что здесь уже были приняты все необходимые меры, Барклай дозволил Ермолову распоряжаться войсками. Между тем, неприятель, заняв одну высоту несколькими орудиями, наносил нам большой вред; Ермолов приказал Желтухину со своими лейб-гренадерами овладеть этой высотой. Желтухин, не заметив, что высота весьма крута, повел слишком быстро своих гренадер, которые, будучи весьма утомлены во время подъема, были опрокинуты неприятелем. Неприятель, заметив, что этот храбрый полк, здесь сильно потерпевший, намеревается вновь атаковать высоту, свез свои орудия».
Давыдов, разумеется, рассказывает о Валутинском сражении в основном по словам Ермолова. Но, что характерно для Алексея Петровича, Давыдов не узнал об одной немаловажной детали: лейб-гренадер в атаку вел сам Ермолов, который упомянул об этом в рапорте Барклаю, ибо Барклай был свидетелем происходящего: «Батарея наша из четырех орудий была сбита, и я, не вверяя утомленным полкам 17-й дивизии восстановление прервавшегося порядка, лейб-гренадерский полк в присутствии вашего высокопревосходительства повел сам на батарею неприятельскую. Полковник Желтухин, действуя отлично храбро, опрокинул все, что встречалось ему на пути. Я достигал уже батареи, но сильный картечный огонь, храброму сему полку пресекший путь, привел его в расстройство. Атаки неприятеля, однако же, прекратились».
В рапорте своем Ермолов перечислил еще целый ряд предпринятых им самостоятельно мер, свидетельствующих о его решительной энергии. Он и в самом деле был душой всей операции по спасению армии. Он взял на себя всю ответственность, давая указания даже великому князю Константину Павловичу, еще находящемуся в армии и командовавшему гвардией.
Приведя в воспоминаниях полный текст рапорта, Алексей Петрович заметил: «В продолжение сражения были минуты, в которые невозможно было допустить уверенности в счастливом окончании оного».
О том, что у Ермолова в некоторые моменты боя появлялись самые грозные предчувствия, свидетельствует его адъютант Павел Христофорович Граббе. Он сжато, но выразительно описал всю операцию: «Темнота ночи, узкие дороги, неточность приказаний были виною, что солнце было уже высоко, а наши корпуса пробирались еще и не достигли перекрестка; между тем Жюно наводил уже мост на Днепре в Прудишеве, Мюрат с массами кавалерии спешил туда же. Ней после нерешительного преследования на него ариергарда обращен также на Лубино. Наше положение сделалось чрезвычайно опасно. Разъединенные на большом пространстве по проселочным путям войска наши, если бы неприятель занял перекресток, могли быть отрезаны от войск, продолжавших свое движение к Соловьеву. Барклай де Толли выехал сам на большую дорогу. К счастию, Тучков 3-й, первый на нее вышедший, понял опасность, угрожавшую армии и, несмотря на совсем иное назначение, повернул направо навстречу неприятелю и занял позицию впереди перекрестка… Наступила, однако, критическая минута. Ней с бешенством атаковал Тучкова, осадил его и войска, на дороге стоявшие, картечным огнем рассеял. Барклай де Толли, в некотором расстоянии следивший за ходом дела, внезапно осыпанный картечью и не имея под рукою ни артиллерии, ни других войск, поскакал назад навстречу им. Миновав вслед за ним роковой перекресток, граф Кутайсов увидел меня и в коротких словах передал мне свои опасения, что момент наступил решительный, такой, что каждому следовало делать, что велит ему сердце. Ермолов шепнул мне на ухо: „Аустерлиц!“».
Очевидно, это и в самом деле был страшный момент, если Алексей Петрович вспомнил об аустерлицкой катастрофе.
В рапорте Ермолов пишет кратко, полагая, что Барклай сам помнит подробности: «На центре усилились батареи неприятеля, но противостоящие неустрашимо 3-й дивизии полки Черниговский, Муромский и Селенгинский, удержа место, отразили неприятеля, который, бросясь на большую дорогу, привел в замешательство часть войск, оную прикрывавших. В должности дежурного генерала флигель-адъютант полковник Кикин, адъютант мой лейб-гвардии конной артиллерии поручик Граббе и состоящий при мне штабс-ротмистр Деюнкер, адъютант генерала Милорадовича, собрав рассеянных людей, бросались с барабанный боем в штыки и в короткое время очистили дорогу, восстановя тем связь между частями войск».
Стало быть, пехота Нея, поддержанная сильным орудийным огнем, не просто «привела в замешательство часть войск», но, опрокинув русскую пехоту, вклинилась между полками, разорвав единый фронт обороны в ключевом пункте — на большой дороге, контроль над которой открывал французам возможность стремительного дальнейшего наступления и удара в тыл уходящей к Днепру армии.
Граббе рассказывает этот драматический эпизод несколько по-иному: «Бессознательно поворотил я лошадь и поскакал по оставленной дороге. По кустарникам с обеих сторон пробирались назад солдаты, укрываясь от ядер, прыгавших по дороге. Заметив между ними несколько барабанщиков, я вызвал их, приказал бить сбор, и в невероятно короткое время сбежались со всех сторон ко мне несколько сот унтер-офицеров и солдат разных воротников; из офицеров Кавалергардского полка Башмаков, и де-Юнкер. Мы двинулись вперед, закрыли собой перекресток и стали на виду неприятеля на дороге.
Скоро подошел с дивизиею Коновницын, посланный главнокомандующим для восстановления дела. Найдя уже войска там, где он ожидал скорее найти неприятеля, он в самых лестных словах выразил мне свое уважение и приветствовал наверное с Георгиевским крестом».
Адъютант Барклая де Толли барон В. И. Левенштерн подвел итоги этого дня: «Сопротивление, оказанное неприятелю генералом Барклаем при Валутине и Лубине, спасло нас. Армии князя Багратиона угрожала опасность быть разделенной надвое. Если бы Наполеон пробился сквозь нее, то участь кампании была бы решена.
Император французов и его генералы не проявили в этот день своей обычной решительности, тогда как Барклай действовал с удвоенной энергией… Наполеон был вне себя от бешенства! В этот день утром он предсказывал совершенную гибель нашей армии; правда, ни один человек сколько-нибудь знакомый с военным делом не мог отрицать опасность нашего положения.
Генерал Барклай превзошел в этом случае самого себя. Его спокойствие и присутствие духа были несравненны!
Он подвергался величайшей опасности. Генерал Ермолов выполнил свой долг блестящим образом, но героем дня был генерал Коновницын».
Левенштерн находился во время боя на другом участке и потому, верно оценивая ситуацию в общем, неточен в деталях.
Во-первых, опасность быть «разделенной надвое» угрожала не 2-й, а 1-й армии.
Во-вторых, генерал Коновницын с дивизией прибыл на линию огня уже на исходе боя, когда главная опасность миновала. Героем дня был все же Ермолов.
За дело при Валутиной Горе Граббе получил орден Святого Георгия 4-го класса, а Ермолов — чин генерал-лейтенанта.
Благородный Барклай, прекрасно понимая роль своего начальника штаба в спасении армии, сделал то, что считал должным: доставил ему следующий чин вне очереди.
Это, однако, не изменило сути их отношений.
10 августа, на следующий день после того, как великий князь устроил публичный скандал главнокомандующему, произошла другая характерная сцена. Ермолов описывает ее в сдержанных тонах, а Граббе — более откровенно. Алексей Петрович в воспоминаниях вообще избегал малоприятного для него сюжета — травли Барклая и интриг против него. Он даже великого князя старался представить «скромным и почтительным».
Сопоставление свидетельств его и Граббе демонстрирует рассчитанную сдержанность Ермолова — когда дело касалось неприятных ему событий.
Речь идет о выборе места в районе Усвятья для предполагаемого сражения, что поручено было генерал-квартирмейстеру полковнику Толю. Но когда Барклай — вполне резонно, с точки зрения Ермолова, — указал Толю на принципиальные изъяны выбранной им позиции, Толь ответил откровенной дерзостью.
Ермолов: «Полковник Толь отвечал, что лучшей позиции быть не может и что он не понимает, чего от него требуют, давая разуметь, что он знает свое дело».
Конечно, полковник Толь вряд ли бы решился на что-то подобное, если бы не ощущал враждебности, окружавшей Барклая, и не надеялся на поддержку. Произошло, однако, нечто неожиданное.
Багратион относился к министру отрицательно, но, как истинный военный, знал цену субординации и дисциплине, и поведение оппозиционеров 1-й армии, несмотря на то, что он был, по сути дела, с ними солидарен, не могло его не раздражать.
«Главнокомандующий выслушал его, — продолжает Ермолов, — с неимоверною холодностию, но князь Багратион напомнил ему, что, отвечая начальнику и сверх того в присутствии брата Государя, дерзость весьма неуместна и за то надлежало слишком снисходительному главнокомандующему надеть на него солдатскую суму, и что он, мальчишка, должен бы чувствовать, что многие не менее его знакомы с предметом».
Граббе: «Отыскивали удобной позиции для принятия генерального сражения. Генерал-квартирмейстер Толь выбрал перед Дорогобужем казавшуюся ему выгодною. Оба главнокомандующие и цесаревич Константин с своими штабами выехали 12-го августа (ошибка мемуариста. —
Тут любопытна одна деталь — во время бешеной вспышки Багратиона «цесаревич осадил свою лошадь в толпу», то есть попятился. Сутки назад он прилюдно оскорбил главнокомандующего и, возможно, представил себе, как мог бы отреагировать на его поведение Багратион, присутствуй он при скандальной сцене. Великий князь, конечно, не полковник Толь — и тем не менее.
Демарш Багратиона, несмотря ни на что, делает ему честь.
Возможно, именно публичная поддержка Барклая главнокомандующим 2-й армией решила судьбу великого князя.
Для Ермолова это был выразительный знак — никакие интриги во благо Отечества и в пользу Багратиона не должны разрушать армию.
Филантропом Алексея Петровича назвать никак нельзя. Его несомненное человеколюбие, за что его любили солдаты и офицеры, распространялось исключительно на своих.
Генерал Маевский, в 1812 году служивший при штабе Кутузова помощником дежурного генерала, которым был тогда Коновницын, и, соответственно, постоянно наблюдавший Ермолова, сохранившего пост начальника штаба 1-й армии, оставил жестокое свидетельство: «На ночь подоспела к нам гвардия. Она кроме избы фельдмаршала уничтожила и сожгла все другие. Фельдмаршал, выходя к ним, одобрил их попечение о себе и просил поберечь только его избу, чтобы было где самому ему согреться. Это воспламенило воинов. И надо было видеть, что в эту ночь происходило! <…> К этому своевольству, сумятице и шуму присоединился ужасный холод. И посреди жалостной картины бивака к фельдмаршалу врывается в полночь офицер французского войска и просит помилования и спасения. Это встревожило и нас, а кончилось смешным, но жестоким. К Ермолову привели в полночь пленных, а он был утомлен и сердит. В таком худом расположении он говорит казацкому офицеру: „Охота тебе возиться с ними; ты бы их там же…“ Для казака этого было довольно. Он вышел и тут же принял их всех в дротики. Один из них сорвался с копья и полетел прямо к фельдмаршалу, где он был принят и успокоен по-отечески».
Нет оснований утверждать, что Ермолов был сторонником тотального убийства пленных. Это могло быть печальным эпизодом, но эпизодом тем не менее характерным. Была ли вызвана его жестокость только чувством мести, как он сам утверждал? Мести за разорение России, за горести ее жителей, за сожженный Смоленск, за сожженную — не французами! — Москву, за позор Аустерлица и Фридланда? Не только.
Нужно представить себе, в каком культурном пласте были воспитаны русские дворяне ермоловского интеллектуального уровня, вышедшие из XVIII века, какая литература питала их воображение, диктовала им способы взаимоотношения с миром.
16 августа, накануне прибытия новоназначенного главнокомандующего всеми русскими армиями светлейшего князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, войска расположились на позиции под Вязьмой. Все чувствовали близость решающего столкновения.
«В Вязьме, — вспоминал Граббе, — я зашел к графу Кутайсову под вечер. Он сидел при одной свечке, задумчивый, грустный; разговор неодолимо отозвался унынием. Перед ним лежал Оссиан в переводе Кострова. Он стал громко читать песнь Картона. Приятный его голос, дар чтения, грустное содержание песни, созвучное настроению душ наших, приковали мой слух и взгляд к нему. Я будто предчувствовал, что слышу последнюю песнь лебедя».
Эпос Оссиана был сочинен шотландцем Макферсоном и долгое время выдавался за открытое им оригинальное произведение древнешотландского барда.
Поэмы Оссиана были популярны в среде русского дворянства. Их читали во французских переводах, но в 1792 году основная часть вышла в переводах талантливого одописца, переводчика «Илиады» Ермила Кострова, почитателя и воспевателя Суворова.
Издание «Оссиан, сын фингалов, бард третьего века: галльские стихотворения» посвящено было Суворову, который восторженно откликнулся на перевод и посвящение: «Оссиан мой спутник, меня воспламеняет; я вижу и слышу Фингала в тумане на высокой скале сидящего и говорящего: „Оскар, одолевай силу в оружии! щади слабую руку“. — Честь и слава певцам! — Они мужают нас и делают творцами общих благ».
Прославил Костров и взятие Суворовым Варшавы, в котором отличился Ермолов.
Певец русской воинской славы, Костров неслучайно обратился к Гомеру. В то время вызревал «греческий проект» Екатерины и Потемкина — завоевание Константинополя и основание Греческой империи.
То, что он взялся за Оссиана, свидетельствует о его незаурядном чутье: он знал, что может импонировать русскому офицерству.
Начальник артиллерии 1-й армии молодой граф Кутайсов в тяжелейшем походе-отступлении 1812 года возил с собой томик костровского Оссиана.
Это говорит о многом.
В песнях Оссиана русского офицера-интеллектуала, возросшего на жестоком опыте турецких и польских войн, должен был привлекать романтический культ героической смерти, смертельного конфликта, который разрешался кроваво и беспощадно. Для той жизни, которую они вели, им необходимо было идеологическое обоснование помимо официальной имперско-патриотической идеи.
Для того чтобы не щадить ни своей, ни чужой жизни, людям склада Ермолова и Кутайсова нужен был вдохновляющий миф. Для Ермолова с его высокими мечтаниями и «неограниченным честолюбием» это было особенно важно.
Николай Николаевич Муравьев, впоследствии верный сподвижник Ермолова, сам прошедший горнило 1812 года, вспоминал: «Кутайсов был приятель Ермолову — молодой человек с большими дарованиями, от которых можно было много ожидать в будущем. Накануне сражения (мне это недавно рассказывал сам Алексей Петрович) они вместе читали „Фингала“, как Кутайсова вдруг поразила мысль о предстоящей ему скорой смерти; он сообщил беспокойство свое Ермолову, который ничем не мог отвратить дум, внезапно озаботивших его приятеля». Это был канун Бородина.
Есть и еще один вариант этой сцены: Ермолов, посмотрев на Кутайсова, сказал ему, что он предвидит его смерть в предстоящей битве.
Они неслучайно читали в эти дни именно Оссиана, и неслучайно это чтение в их сознании окрашивало ожидание смертельной битвы в мрачно роковые тона.
Что мог декларировать Кутайсов под Вязьмой, за несколько дней до Бородина? Судя по утверждению Граббе, это был мрачный текст, соответствовавший настроению молодого генерала — скорее всего, это был пассаж, возвещающий скорую гибель и самого молодого Картона, и других героев.
«Познай, вещаю я, познай; душа моя собственным воспламеняется жаром, и я бестрепетен среди тысящи сопостат, хотя сильные мои от меня далече. Но меч мой уже сотрясается на бедре моем, желая блистать в моей деснице.
Возгремите, барды, песни печали, восплачьте над жребием иноплеменных; они пали прежде нас; но скоро и мы падем».
Здесь, как видим, для русского офицера сконцентрирован зловещий смысл происходящего: готовность к подвигу, чреватому гибелью, равно как и уверенность в гибели «сопостатов», «сынов земли дальния».
В канун Бородина они читали «Фингала». Тут уже невозможно хотя бы гипотетически вычленить подходящий текст, ибо Фингал — сквозной герой огромного эпоса. Но очевидно, что именно свирепый романтизм Макферсона идеально соответствовал мироощущению и Кутайсова, и Ермолова.
Представление о мире как об арене вечной войны, где в живых остается сильнейший, представление о человеке достойном, как о воине, живущем по законам боя, совмещалось с ожесточенной мстительностью, охватившей Ермолова. Его жестокость по отношению к противнику проистекала из законов героически безжалостного мира, наиболее отчетливо представленного в оссиановском эпосе.
Куртуазное благородство Ариосто, жизненный стиль «шевалье» — все это осталось далеко позади.
Надвигалось Бородино — сконцентрированная в считаные часы эпопея, по высокой доблести и абсолютной жестокости своей вполне соответствующая кровавым пиршествам Оссиана.
Помимо столь несомненных стимулов — патриотический пыл, солдатский долг, ненависть к агрессору — воинам интеллектуального уровня Ермолова и Кутайсова не менее важно было ощущать себя персонажами героического мифа и иметь право жить по его суровым законам. «Возгремите, барды, песни печали, восплачьте над жребием иноплеменных; они пали прежде нас; но скоро и мы падем»…
В день Бородина они вместе пойдут на верную смерть, и только «особое счастие» Ермолова спасет его. Они вместе участвовали в самоубийственной атаке — хотя Кутайсову надлежало быть в совершенно ином месте. Потому что к этому моменту были друзьями. Что было не всегда.
Когда Ермолов писал в воспоминаниях, что он первый познакомил Кутайсова с опасностями войны, то имел в виду бой под Голимином, где он, 29-летний полковник, ветеран трех кампаний, командовал артиллерийской бригадой, а 22-летний генерал-майор Кутайсов получил боевое крещение.
Затем был конфликт после сражения при Эйлау, когда, по мнению Ермолова, Кутайсов получил орден Святого Георгия 3-й степени, причитавшийся ему. И вообще, баловень судьбы, сын павловского фаворита, с детства хорошо знакомый Александру, делавший карьеру легко и весело, должен был раздражать Ермолова, с 1796 года тянувшего лямку офицера без протекции, прошедшего крепость, ссылку, опалу, кровавые сражения…
Но в канун Бородина все это было позади.
Читая вместе Оссиана, они словно бы давали друг другу клятву боевой верности.
17 августа в лагерь под Царевым Займищем прибыл главнокомандующий светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Его приезд вызвал бурю энтузиазма в войсках, но, вопреки намерениям Барклая и чаяниям армии, Кутузов продолжал отступление.
Багратион, потерявший надежду возглавить обе армии, яростно отреагировал на появление Кутузова. «Хорош и сей гусь, который назван князем и вождем, — писал он Ростопчину. — Если особенного он повеления не имеет, чтобы наступать, я вас уверяю, что тоже приведет к вам, как и Барклай. <…> Теперь пойдут у вождя нашего сплетни бабьи да интриги».
Барклай испытывал горечь не меньшую, чем князь Петр Иванович. Но его реакция была принципиально иной: «В звании главнокомандующего, подчиненного князю Кутузову, я знаю свои обязанности и буду исполнять их точно».
Генерал Маевский в воспоминаниях выразительно представил атмосферу в армии после приезда Кутузова: «Несчастная ретирада наша до Смоленска делает честь твердости и уму бессмертного Барклая. Собственное его оправдание есть лучшая улика жестоко действовавшим против его особы. Остальные дела его и смерть (после которой хвалят даже и врагов своих) есть лучшая поучительница его талантов; но в современном понятии смотрят в настоящее, не относясь в будущее, и каждый указывает на Суворова, забывая, что Наполеон не сераскир (звание турецких командующих. —
С приездом Кутузова в Царево Займище все умы воспрянули и полагали видеть на другой день Наполеона совершенно разбитым, опрокинутым, уничтоженным. В опасной болезни надежда на лекаря весьма спасительна. Кутузов всегда имел у себя верное оружие — ласкать общим надеждам. Между тем посреди ожидания к упорной защите мы слышим, что армия трогается назад. Никто не ропщет, никто не упрекает Кутузова<…>».
После того как позиция при Цареве Займище, выбранная Барклаем для решительного сражения — выбранная, быть может, не столько по причинам рациональным, сколько от отчаяния, — была категорически забракована Кутузовым, армия, отступая с арьергардными боями, остановилась 21 августа у Колоцкого монастыря, а на следующий день, сделав еще один переход, стала у села Бородино.
После назначения Кутузова главнокомандующим над всеми русскими армиями Барклай де Толли и Багратион остались на своих постах.
Начальником Главного штаба всех армий Александр назначил Беннигсена, несмотря на давнюю вражду его с Кутузовым. Это был типичный для императора ход.
Сохранил свой пост и Ермолов, которого это вряд ли радовало. Он понимал, что в генеральном сражении, когда будет решаться судьба России, его роль может оказаться обидно пассивной.
Накануне сражения 26 августа Алексей Петрович, как начальник Главного штаба 1-й армии, издал распоряжение, объясняющее взгляд Барклая на характер действий подчиненных ему генералов и офицеров на следующий день.
«Главнокомандующий 1-й Западною армиею извещает господ генералов, командующих частей войск, что во время сражения будет он находиться или на правом армии фланге, или в центре, по большой дороге, между 4 и 6 корпусами, где могут находить его имеющие приказания.
Главнокомандующий особенно поручает господам корпусным командирам без особенной надобности не вводить в дело резервы свои, разумея о второй линии корпусов, но по надобности распоряжать ими по рассмотрению. Общий же армии резерв иначе как по воле самого главнокомандующего никуда не употреблять.
Внушить господам шефам и командующим егерскими полками сколько возможно в начале дела менее высылать стрелков, но иметь небольшие резервы для освежения в цепи людей, а прочих людей, построенными сзади в колонне. Большая стрелков потеря не может отнестись к искусному неприятеля действию, но чрезмерному числу стрелков, противупоставляемых огню неприятеля. Вообще сколько можно избегать перестрелки, которая никогда не влечет за собою важных последствий, но стоит неприметно немалого количества людей. Вообще, преследуя неприятеля, не вдаваться слишком далеко, дабы можно иметь от прилежащих частей войск воспомоществование. В атаках, на неприятеля производимых, войскам воспретить кричать: ура! разве в десяти уже от неприятеля шагах, тогда сие позволяется. Во всяком другом случае взыщется строго.
По размещении артиллерии по батареям, остальная артиллерия в Корпусах должна быть по бригадам в резерве. Во второй же линии стоящая остается на своем месте. Сею в резерве артиллериею распоряжается корпусной командир или начальник всей артиллерии в армии, который дает только знать корпусному командиру, что употребил оную и где. Начальнику всей артиллерии не препятствовать в распоряжениях его, ибо он действует по воле главнокомандующего или сообразно цели, ему объявленной.
Господа корпусные командиры особенно обратят внимание, дабы люди не занимались пустою стрельбою и артиллерия сколько можно щадила снаряды, ибо скорая, но безвредная пальба сначала может удивить неприятеля, но заставит потерять всякое уважение.
Особенных прикрытий вблизи самих батарей расположенных не иметь, но учреждать оные по мере приближения неприятеля или явного его на батарею покушения, иначе вдруг неприятелю даются две цели, и сама батарея и ее прикрытие.
Колоннам, идущим в атаку, бить в барабаны.
Подобные документы были, разумеется, совместным творчеством Барклая и Ермолова. При всей своей кажущейся простоте это весьма осмысленный текст. Лишенный малейшего пафоса, что было чуждо Барклаю, он являет здравый смысл и точный профессиональный взгляд на технологию боя.
Особое внимание надо обратить на проблему резервов, которую Барклай, «методик», считал первостепенной.
Помимо заботы о сохранении резервов, что характерно для боевого стиля Барклая, в «Распоряжении» есть еще целый ряд принципиальных моментов.
Аскетичная сдержанность в употреблении егерей как стрелков, беспокоящих неприятеля, что должно уменьшить потери в самом начале сражения, категорический запрет на эффектную, но малоэффективную ружейную стрельбу, запрет на такой традиционный прием, как громовое «ура!», — это, скорее всего, Барклай.
Последний запрет кажется странным, но на самом деле он глубоко осмыслен. Во-первых, он позволял сберечь дыхание на бегу; во-вторых, безмолвно надвигающаяся масса, ощетинившаяся штыками, психологически подавляла противника. Так поступали, как мы знаем, и французы.
В канун сражения Барклай старался учесть даже второстепенные факторы, которые, как ему подсказывал многолетний боевой опыт, суммируясь, способствуют успеху. Для него в бою не было мелочей.
Но есть в распоряжении пассаж, который, скорее всего, принадлежит Ермолову. Это запрет отвлекать пехоту на прикрытие артиллерии без крайней надобности. Артиллеристы должны выполнять свой долг, а пехота — свой.
Оба этих незаурядных каждый в своем роде человека — главнокомандующий 1-й армией и его начальник штаба, оказавшиеся по горькому стечению обстоятельств антагонистами, — жаждали проявить себя в день Бородина.
Барклаю необходимо было реабилитировать себя в глазах армии, Ермолову — взять реванш за недостаточное, по его мнению, участие в реальных боевых действиях прошедших месяцев и совершить желанный «подвиг».
Но прежде чем говорить об участии в бою Барклая и Ермолова, надо дать представление о самом бое — как воспринималась героическая трагедия Бородина ее участниками.
Федор Глинка в «Очерках Бородинского сражения» сумел не только живописать фактическую сторону события, но и передать то отчаянное напряжение, то убийственное вдохновение, которое владело участниками смертельной схватки двух великих армий. Именно поэтому имеет смысл предложить читателю фрагменты его «Очерков», посвященных бою на левом фланге, у Семеновских флешей, которые Глинка называет другим военным термином — редантами.
«Какие-то тусклые неверные сумерки лежали над полем ужасов, над нивою смерти. В этих сумерках ничего не видно было, кроме грозных колонн, наступающих и разбитых, эскадронов бегущих. Груды трупов человеческих и конских, множество распущенных по воле лошадей, множество действующих подбитых пушек, разметанное оружие, лужи крови, тучи дыма — вот черты из общей картины поля Бородинского… Деревня Семеновская пылает, домы оседают, горящие бревна катятся. Бледное зарево во множестве лопающихся бомб и гранат бросает тусклый синеватый отблеск на одну половину картины, которая с другой стороны освещена пожаром горящей деревни.
Конная артиллерия длинной цепью скачет по мостовой из трупов…
Постигнув намерение маршалов и видя грозное движение французских сил, князь Багратион замыслил великое дело. Приказания отданы, и все левое крыло наше во всей длине своей двинулось с места и пошло скорым шагом в штыки! Сошлись!.. У нас нет языка, чтобы описать эту свалку, этот сшиб, этот протяжный треск, это последнее борение тысячей! Всякий хватался за чашу роковых весов, чтобы перетянуть их на свою сторону. Но окончательным следствием этого упорного борения было раздробление! Тысячи расшиблись на единицы, и каждая кружилась, действовала, дралась! Это была личная, частная борьба человека с человеком, воина с воином, и русские не уступали ни на вершок места. Но судьбы вышние склонили чашу весов на сторону французов».
Так мог написать только человек, сам видевший этот ужас и обонявший этот кровавый пар и при этом наделенный талантом литератора и чутьем художника…
Обратимся к нашим героям, каждый из которых искал свой подвиг.
Глинка писал: «Михайло Богданович Барклай де Толли, главнокомандующий 1-ю Западною армиею и военный министр в то время, человек исторический, действовал в день Бородинской битвы с необыкновенным самоотвержением… Нельзя было смотреть без особенного чувства уважения, как этот человек силою воли и нравственных правил ставил себя выше природы человеческой! С ледяным хладнокровием, которого не мог растопить и зной битвы Бородинской, втеснялся он в самые опасные места. Белый конь полководца отличался издали под черными клубами дыма. На его челе, обнаженном от волос, на его лице честном, спокойном, отличавшемся неподвижностию черт, и в глазах, полных рассудительности, выражались присутствие духа, стойкость неколебимая и дума важная. Напрасно искали в нем игры страстей, искажающих лицо, высказывающих тревогу души! Он все затаил в себе, кроме любви к общему делу. Везде являлся он подчиненным покорным, военачальником опытным. Множество офицеров переранено, перебито около него: он сохранен какою-то высшею десницею. Я сам слышал, как офицеры и даже солдаты говорили, указывая на почтенного своего вождя: он ищет смерти!»
По свидетельству очевидца, Барклай сделал все от него зависящее, чтобы оказаться идеальной мишенью, — он руководил боем на белом коне, в полной парадной форме, при всех орденах.
Ермолов вспоминал: «На другой день после Бородинского сражения главнокомандующий Барклай де Толли, самым лестным для меня образом одобрив действия мои в сражении, бывши ближайшим свидетелем их и говоря о многих других обстоятельствах, сказал мне: „Вчера я искал смерти и нашел ее“. Имевши много случаев узнать твердый характер его и чрезвычайное терпение, я с удивлением увидел слезы на глазах его, которые он старался скрыть. Сильны должны быть огорчения!»
Своей самоубийственной храбростью и точными распоряжениями на Бородинском поле Барклай вернул себе уважение армии. (Но, увы, не общества…)
Тяжелораненый Багратион, увидев проезжавшего мимо Левенштерна, просил его: «Скажите генералу Барклаю, что участь армии и ее спасение зависят от него». Это вполне правдоподобно.
В Кутузова он не верил.
Надо сказать, что и Ермолов в воспоминаниях подчеркнул особую роль Барклая: «Недостаточны были средства наши, и князь Кутузов, пребывающий постоянно на батарее у селения Горки, не видя близко мест, где явно было, сколько сомнительно и опасно положение наше, допускал надежду на благоприятный оборот. Военный министр, все обозревая сам, давал направление действиям, и ни одно обстоятельство не укрывалось от его внимания».
(Любопытно, что испытывал Алексей Петрович, когда через десяток лет писал: Кутузов «высказывал, что потеря Смоленска была преддверием падения Москвы, не скрывая намерения набросить невыгодный свет на действия главнокомандующего военного министра, в котором и нелюбящие его уважали большую опытность, заботливость и отличную деятельность».
Многочисленные хвалебные пассажи, посвященные Барклаю, разбросанные в воспоминаниях, свидетельствуют, что угрызения совести были не чужды Ермолову.)
Барклай был свободен в своих действиях и мог, демонстративно рискуя жизнью, совершить свой «подвиг».
С Ермоловым дело обстояло иначе. В начале сражения он проявлял обычную свою активность и энергию.
Полковник 1-го егерского полка Михаил Михайлович Петров вспоминал о бое за село Бородино, начавшем этот день: «К окончанию этого удачного натиска нашего прискакав по мостам, отнятым нами у неприятеля, начальник Главного штаба генерал Ермолов с капитаном Сеславиным приказал оставить село Бородино, до половины занятое, и, отозвав из него полк на правый берег Кол очи, истребить оба моста дотла <…> что надлежало исполнять под сильным близким огнем неприятеля, стрелявшего по нас из восьми орудий с бугров селения и из ружей от крайних домов и огорожей. Но все это успешно мною исполнено через особое соревнование к чести моих офицеров <…> бывших со мною для примера и ободрения подчиненных по груди в воде тенистой речки, при глазах нашего русского Роланда А. П. Ермолова, стоявшего на окраине берега над нами под убийственными выстрелами неприятеля и одобрявшего наше превозможение всего…»
Этот стиль поведения, характерный для Алексея Петровича, считавшего необходимым разделить опасность с подчиненными, даже когда в этом не было формальной необходимости, и создавал ему репутацию героя. Начальник Главного штаба мог, отдав соответствующее приказание, вернуться на командный пункт, к ставке Кутузова. Но Ермолов остался стоять «под убийственными выстрелами» на высоком берегу, демонстративно рискуя жизнью, пока егеря не разрушили мосты.
«Наш русский Роланд» — полковник Петров и не подозревал, сколь точное нашел определение. Конечно, он не знал, что самосознание Ермолова формировалось под влиянием рыцарской мифологии «Неистового Роланда»…
Затем Кутузов держал Ермолова при себе.
Этому могут быть два объяснения. Отправляя Кутузова в армию, Александр показал ему письма Ермолова. Как бы Михаил Илларионович ни относился к Барклаю, но то, что начальник штаба армии обращался через голову своего главнокомандующего к императору, Кутузову очень не понравилось. Быть может, поэтому он и не хотел дать Ермолову возможность отличиться. Но, скорее всего, он просто держал Ермолова при себе, чтобы в критический момент использовать его решительность и находчивость.
И момент этот наступил: стало известно, что Багратион ранен и левый фланг может быть опрокинут.
Ермолов вспоминал: «Около полудня 2-я армия была в таком состоянии, что некоторые части ее не иначе как отведя на выстрел возможно было привести в порядок».
Направив на левый фланг подкрепления, Кутузов приказал Ермолову «отправиться немедленно во 2-ю армию, снабдить артиллерию снарядами, в которых оказался недостаток. Удостоил меня доверенности представить ему замечания мои, если усмотрю средства полезные в местных обстоятельствах настоящего времени».
Как это неоднократно уже было, Алексей Петрович продемонстрировал здесь свою скромность. Он был направлен туда, где с минуты на минуту могла разразиться катастрофа, и должен был на месте принять соответствующие решения, маневрируя артиллерией, а не просто сообщить Кутузову свои соображения.
Барклай находился в центре позиции — далеко от флешей.
«Известно было, что начальник Главного штаба 2-й армии граф Сен-При ранен, и, немногих весьма имея знакомых между заменившими прежних начальников, ожидал я встретить большие затруднения и, чтобы не появиться вполне бесполезным, предложил начальнику артиллерии 1-й армии графу Кутайсову назначить в распоряжение мое три конноартиллерийские роты с полковником Никитиным, известным отличною своею храбростию. Во весь опор понеслись роты из резерва, и Никитин уже при мне за приказанием».
Стало быть, Ермолов собирался действовать.
«Когда послан я был во 2-ю армию, граф Кутайсов желал непременно быть со мною. Дружески убеждал я его возвратиться к своему месту, напомнил ему замечание князя Кутузова, с негодованием выраженное, за то, что не бывает при нем, когда наиболее ему надобен; не принял он моего совета и остался со мною».
Они вместе в ночь перед битвой читали героические, смертью насыщенные песни Оссиана. И Кутайсов, полный тяжких предчувствий, во что бы то ни стало хотел сопровождать друга туда, где шла самая страшная резня и решалась судьба сражения.
Но до Багратионовых флешей они не доехали. Подвиг и смерть ждали их ранее: «Приближаясь ко 2-й армии, увидел я правое крыло ее на возвышении, которое входило в корпус генерала Раевского. Оно было покрыто дымом и охранявшие его войска рассеянные».
Это была только что захваченная французами Курганная батарея — центр русской позиции.
«Многим из нас известно было и слишком очевидно, что важный пункт этот, по мнению генерала Беннигсена, невозможно оставить во власти неприятеля, не подвергаясь самым гибельным последствиям».
Если бы французы удержали за собой центральный редут, то они, во-первых, установив там сильную батарею, могли вести фланкирующий огонь по расположенным слева и справа от редута русским войскам, а во-вторых, в образовавшуюся брешь Наполеон бросил бы свежие полки и эскадроны — прорыв центра был один из любимых его приемов, — и противник оказался бы в тылу разрезанной надвое русской армии.
«Я немедленно туда обратился. Гибельна была потеря времени, и я приказал из ближайшего VI корпуса Уфимского пехотного полка 3-му баталиону майора Демидова идти за мною развернутым фронтом, думая остановить отступающих».
Объясняя причины падения редута, Ермолов, между прочим, писал: «Недостаточны были способы для защиты местности, при всех усилиях известного неустрашимого генерал-майора Паскевича». Когда Алексей Петрович писал воспоминания, он еще не мог знать, какую зловещую роль сыграет в его судьбе этот «неустрашимый генерал». Но, исправляя через много лет свои воспоминания, Паскевича ненавидя, оставил этот пассаж. Что делает ему честь.
«Подойдя к небольшой углубленной долине, отделяющей занятое неприятелем возвышение, нашел я егерские полки 11-й, 19-й и 40-й, служащие резервом. Несмотря на крутизну восхода, приказал я егерским полкам и 3-му баталиону Уфимского полка атаковать штыками, любимым оружием русского солдата. Бой яростный и ужасный не продолжался более получаса: сопротивление встречено отчаянное, возвышение отнято, орудия возвращены, и не было слышно ни одного ружейного выстрела.
Израненный штыками, можно сказать, снятый со штыков неустрашимый бригадный генерал Бонами получил пощаду».
Во всех официальных и неофициальных отчетах о Бородинской битве атака уфимцев во главе с Ермоловым на «батарею Раевского», или Курганную батарею, представляется как один из ключевых эпизодов боя.
Сам Алексей Петрович в специальном примечании к основному своему рассказу, сделанному позднее, несколько развернул сюжет: «Не раз случалось мне видеть, как бросаются подчиненные за идущим вперед начальником: так пошли и за мной войска, видя, что я приказываю самим их полковым командирам. Сверх того, я имел в руке пук георгиевских лент со знаком отличия военного ордена, бросал вперед по нескольку из них, и множество стремилось за ними. Являлись примеры изумительной неустрашимости. Внезапность происшествия не давала места размышлениям; совершившееся предприятие не допускало возврата. Неожиданна была моя встреча с егерскими полками. Предприятие перестало быть безрассудною дерзостию, и моему счастию немало было завиствующих!»
Последняя фраза чрезвычайно значима. Ермолов сознается, что попытка отбить редут только с одним батальоном и остановленными беглецами была авантюрой, «безрассудной дерзостью». Он еще не знал, что в долине стоят невидимые ему три егерских полка. Но он ощутил возможность «подвига» и ни мгновения не колебался.
Этот эпизод — главный для Ермолова в Бородинском сражении, один из главных в его боевой жизни по своему резонансу, один из краеугольных камней ермоловской легенды — воспроизводится в различных вариантах. Именно из-за его значимости в судьбе нашего героя стоит привести некоторые из них.
Наиболее развернутый рассказ принадлежит Денису Давыдову: «Это блистательное дело происходило при следующих обстоятельствах; получив известие о ране князя Багратиона и о том, что 2-я армия в замешательстве, Кутузов послал туда Ермолова с тем, чтобы, ободрив войско, привести его в порядок. Ермолов приказал храброму полковнику Никитину (ныне генерал от кавалерии) взять с собою три конные роты и не терять его из виду, когда он отправится во вторую армию. Бывший начальник артиллерии 1-й армии граф Кутайсов решился сопровождать его, несмотря на все представления Ермолова, говорившего ему: „Ты всегда бросаешься туда, куда тебе не следует, давно ли тебе был выговор от главнокомандующего за то, что тебя нигде отыскать не могли. Я еду во 2-ю армию, мне совершенно незнакомую, приказывать там именем главнокомандующего, а ты что там делать будешь?“».
Есть что-то созвучное роковой предопределенности, преследовавшей героев Оссиана, в этом стремлении Кутайсова не расставаться с Ермоловым, предсказавшим его гибель, стремлении, которое его и погубило…
«Они следовали полем, как вдруг заметили вправо на редуте Раевского большое смятение: редутом овладели французы, которые, не найдя на нем зарядов, не могли обратить противу нас взятых орудий; Ермолов рассудил весьма основательно: вместо того чтобы ехать во 2-ю армию, где ему, может быть, с незнакомыми войсками не удастся исправить ход дела, не лучше ли здесь восстановить ход сражения и выбить неприятеля из редута, господствовавшего над всем полем сражения и справедливо названного Беннигсеном ключом позиции. (Ссылка на Беннигсена выдает основной источник информации — Ермолова. —
Свидетельство о «свите Барклая», участвовавшей в атаке, приведенное Давыдовым (безусловно, со слов Ермолова), надо запомнить.
Равно как и фразу «Пощады не было никому».
Близкий к Ермолову Николай Николаевич Муравьев вспоминал: «Алексей Петрович Ермолов был тогда начальником Главного штаба у Барклая. Он собрал разбитую пехоту нашу в беспорядочную толпу, состоявшую из людей разных полков; случившемуся тут барабанщику приказал бить на штыки, и сам с обнаженною саблею в руках повел сию сборную команду на батарею. Усилившиеся на ней французы хотели уже увезти наши оставшиеся орудия, когда отчаянная толпа, взбежав на высоту под предводительством храброго Ермолова, переколола всех французов на батарее (потому что Ермолов запретил брать в плен), и орудия наши были возвращены… Сим подвигом Ермолов спас всю армию».
Ермолов не зря упомянул о своем счастье. Судьба и в самом деле хранила его. Не совсем ясно — спешился ли он, возглавив атаку уфимцев, егерей и «отчаянной толпы», или оставался в седле, что многократно увеличивало опасность. Но он уцелел. Как пишет Муравьев, «сам он был ранен пулею в шею; рана его была не тяжелая, но он не мог далее в сражении оставаться и уехал».
Кутайсова не обманули ни собственное предчувствие, ни предсказание Ермолова.
Муравьев: «С ним находился артиллерии генерал-майор Кутайсов, которого убило ядром. Тела его не нашли; ядро, вероятно, ударило ему в голову, потому что лошадь, которую потом поймали, была облита кровью, а передняя лука седла обрызгана мозгом. 27-го числа раненый офицер доставил в дежурство георгиевский крест, который, по его словам, был снят с убитого генерала. Крест сей признали за принадлежавший Кутайсову».
Ермолов, воевавший с 1794 года и привыкший к смертям, гибель Кутайсова, судя по всему, пережил тяжело. Тем более что он считал его, как артиллериста, своим «крестником». Он писал в воспоминаниях: «Мне предоставлено было судьбою познакомить его с первыми войны опасностями (1806).
Вечным будет сожаление мое, что он не внял убеждениям моим возвратиться к своему месту и, если бы не желание непременно быть со мною, быть может, не пал бы он бесполезною жертвою».
Муравьев не преувеличивал, когда писал, что Ермолов «сим подвигом спас всю армию». Своей стремительной решительностью, своей готовностью к «безрассудной дерзости», порожденной жаждой «подвига», Ермолов не дал Наполеону времени воспользоваться захватом ключевой позиции и бросить войска в прорыв.
В многочисленных свидетельствах о возглавленной Ермоловым атаке на редут нет, как ни удивительно, ни слова о тех конных ротах, которые Алексей Петрович вел на левый фланг.
Лишь Авраам Норов, артиллерист, командовавший двумя гвардейскими орудиями на Семеновских флешах, единственный прояснил эту ситуацию: «Поравнявшись с центральною батареею, они (Ермолов и Кутайсов. —
Оба главнокомандующих — и Барклай, относившийся к Ермолову с резкой неприязнью, и Кутузов, потерявший к нему былое доверие, — тем не менее отметили его поступок в своих докладах.
Рапорт Ермолова Барклаю, написанный 20 сентября, дает наиболее точную картину: «Августа 26-го дня, занят будучи исполнением поручений Вашего высокопревосходительства и собственно по званию моему разными распоряжениями, около полудня был я его светлостью послан на левый фланг осмотреть расположение артиллерии и усилить оную по обстоятельствам. Проезжая центр армии, я увидел укрепленную высоту, на коей стояла батарея из 18 орудий, составлявшая правое крыло 2-й армии, в руках неприятеля, в больших уже силах на ней гнездившегося. Батареи неприятеля господствовали уже окрестностью сей высоты, и с обеих ее сторон спешили колонны распространить приобретенные им успехи. Стрелки наши во многих толпах не только без устройства, но уже и без обороны бежавшие, приведенные в совершенное замешательство и отступающие нестройно 18,19 и 40-й егерские полки дали неприятелю утвердиться. Высота сия, повелевающая всем пространством, на коем устроены были обе армии, 18 орудий, доставшихся неприятелю, были слишком важным обстоятельством, чтобы не испытать возвратить сделанную потерю. Я предпринял оное. Нужна была дерзость и мое счастие, и я успел.
Взяв один только 3-й баталион Уфимского пехотного полка, остановил я бегущих и толпою в образе колонны ударил в штыки. Неприятель защищался жестоко, батареи его делали страшное опустошение, но ничто не устояло.
3-й баталион Уфимского полка и 18-й егерский полк бросились прямо на батарею. 19-й и 40-й егерские полки по левую сторону оной, и в четверть часа наказана дерзость неприятеля. Батарея во власти нашей, вся высота и поле около оной покрыто телами, и бригадный генерал Бонами был один из неприятелей, снискавший пощаду. Неприятель преследован даже гораздо дальше батареи, но смешавшиеся полки, более прежнего умножавшийся беспорядок, а паче превосходные неприятеля вблизи силы, шедшие в подкрепление своим, заставили меня отозвать преследующих. С трудом мог я заставить устроить людей в колонны, ибо один порядок мог удержать батарею, отовсюду угрожаемую, пока Ваше высокопревосходительство прислать изволили полки 6-го корпуса».
Рапорт Ермолова ценен еще и тем, что содержит рассказ о дальнейших событиях. Если все, кто писал об атаке, ограничивались захватом батареи, то Ермолов сообщает о не менее важном и героическом удержании ее:
«Я нашел 18 орудий на всей батарее, два заряда картечи, два раза переменил большую часть артиллерии. Офицеры и прислуга при орудиях были побиты, и, наконец, употребляя людей от баталиона Уфимского полка, удержал неприятеля сильные покушения в продолжении полутора часов. Вызвал начальника 24-й дивизии генерал-майора Лихачева и, сдав ему батарею, готов будучи отправиться на левый фланг, был ранен в шею».
Ермолов подробно рассказал в воспоминаниях о своем ранении: «Картечь, поразившая насмерть унтер-офицера, прошед сквозь его ребра, пробила воротник моей шинели, разодрала воротник сюртука, но шелковый на шее платок смягчил удар контузии. Я упал, некоторое время был без чувств, шея была синего цвета, большая вокруг опухоль и сильно помятые на шее жилы. Меня снесли с возвышения, и отдых возвратил мне чувства».
К счастью, это произошло, когда командование редутом уже принял Лихачев, и не привело к замешательству.
Если для атаки на редут необходимы были дерзость, храбрость Ермолова и его уверенность в своем «счастьи», то для удержания позиции понадобились его энергия, умение организовать в горячке боя человеческий хаос и брутальное упорство.
Рапорт корректирует и собственные воспоминания Алексея Петровича, и рассказы современников. Бросив на редут батальон уфимцев, он нашел в долине перед ним не просто стоявшие егерские полки, но полки, тоже находившиеся в «расстройстве». Отсюда и живописное определение всего отряда: «толпа в образе колонны», то есть это была именно бегущая в атаку толпа, уподобившаяся в своем атакующем стремлении колонне.
Чувствуя себя спасителем армии, Ермолов проявил высокую степень самостоятельности — именно он приказал генерал-майору Лихачеву ввести на редут солдат его 24-й дивизии.
И ранен он был уже в финале всей операции.
Ермолову необыкновенно везло. Его счастье было с ним.
Ермолов остался верен себе и, свидетельствуя о собственном героическом поведении, назвал и тех, кто разделял с ним опасность: «Овладение сею батареею принадлежит решительности и мужеству чиновников (офицеров. —
В тяжелом бою за удержание отбитой батареи Ермолов сделал ставку на орудия. Из его рапорта можно понять, что он «два раза переменил большую часть артиллерии», то есть заменил поврежденные орудия вызванными из резерва и приставил к орудиям пехотинцев Уфимского полка, которыми командовал адъютант начальника артиллерии армии, тоже артиллерист. Ермолов сумел обеспечить батарею должным количеством зарядов — иначе удержать редут не удалось бы.
Барклай де Толли написал рапорт только 26 сентября: с 20-го числа армия стояла в Тарутинском лагере, появилось время для письменных отчетов.
Подробно описав ход битвы и свои распоряжения, он подошел к интересующему нас сюжету: «К полудни 2-я армия, весь 8-й корпус и сводная гренадерская дивизия, потеряв большую часть своих генералов и лишившись самого даже главнокомандующего своего, была опрокинута, все укрепления левого фланга взяты были неприятелем, который всеми силами угрожал левому нашему флангу и тылу 7-го и 6-го корпусов…
Вскоре после овладения неприятелем всеми укреплениями левого фланга сделал он, под прикрытием сильнейшей канонады и перекрестного огня многочисленной его артиллерии, атаку на центральную батарею, прикрываемую 26-й дивизиею. Ему удалось оную взять и опрокинуть вышесказанную дивизию, но начальник Главного штаба 1-й армии генерал-майор Ермолов с обыкновенною своею решительностью, взяв один только 3-й баталион Уфимского полка, остановил бегущих и толпою в образе колонны (Барклай оценил выразительный образ, предложенный Ермоловым! —
Но при этом он сообщает о собственных действиях: «Вслед за означенным баталионом послал я еще один баталион, чтобы правее сей батареи зайти неприятелю во фланг, а на подкрепление им послал я Оренбургский драгунский полк еще правее, чтобы покрыть их правый фланг и врубиться в неприятельские колонны, кои следовали на подкрепление атакующих его войск».
Завершил этот фрагмент рапорта Барклай, еще раз отметив заслуги Ермолова: «Генерал-майор Ермолов удержал оную (батарею. —
Дивизию двинул к редуту Барклай, но непосредственно поручил Лихачеву защищать его именно Ермолов.
Почему Ермолову пришлось с малыми силами полтора часа отбивать атаки французов? Протяженность фронта русской армии достигала восьми верст, и переброска войск под шквальным огнем противника занимала значительное время.
Главнокомандующий фельдмаршал Кутузов, суммируя полученные сведения в донесении императору Александру, отчетливо выделил эпизод с возвращением «батареи Раевского»: «Начальник Главного штаба генерал-майор Ермолов, видя неприятеля, овладевшего батареею, важнейшею во всей позиции, со свойственной ему храбростию и решительностию, вместе с отличным генерал-майором Кутайсовым взял один только Уфимского пехотного полка баталион и, устроя сколько можно скорее бежавших, подавая собою пример, ударил в штыки. Неприятель защищался жестоко, но ничто не устояло против русского штыка».
У Кутузова, правда, появляются новые действующие лица: «Генерал-майор Паскевич с полками ударил в штыки на неприятеля, за батареею находящегося; генерал-адъютант Васильчиков учинил то же с правой стороны, и неприятель был совершенно истреблен».
Последние сведения Кутузов получил от Раевского, который в это время ни на батарее, ни вблизи нее не был. Его корпус защищал обширную позицию.
Чтобы поставить точку в этой реконструкции, стоит привести свидетельство надежного мемуариста Граббе, который находился тогда рядом с Ермоловым: «Долго Кутузов не отпускал от себя Ермолова и графа Кутайсова, порывавшихся к Багратиону. Но, когда стали доходить одно за другим донесения об огромной потере, 2-й армиею понесенной при отражении яростных атак неприятеля, о смерти и ранах одного начальника за другим, наконец, и самого князя Багратиона, князь Кутузов приказал Ермолову ехать туда для восстановления дел. Граф Кутайсов поехал с нами. Здесь я видел его в последний раз.
Едва поравнялись мы с батареей Раевского, направляясь прямейшим путем на правый фланг (на левый фланг. —
Стало быть, Ермолов и в самом деле вел атакующую колонну верхом, являя собой идеальную мишень и сознавая это…
«Знаменитый подвиг» Ермолова прогремел по армии и России. Во время Бородинской битвы несколько крупных военачальников, не считая Кутузова, принимали стратегические в масштабах боя решения и выполняли фундаментальные задачи: Барклай де Толли, Багратион, Дохтуров, Багговут, Раевский, Милорадович… Но именно на долю Ермолова выпал случай в считаные минуты спасти армию и прославить свое имя.
Счастье не изменило ему. И хотя ни до, ни после этого он не принимал деятельного участия в сражении, штурма Центрального редута оказалось достаточно — как по реальному значению, так и по ошеломляющей концентрации доблести и везения, чтобы сделать его одной из крупнейших фигур Бородинской эпопеи.
После Бородина Ермолов накрепко и окончательно вошел в «обойму» наиболее выдающихся генералов русской армии.
Бородинская битва была мучительно трудным для русской армии сражением. Н. А. Троицкий, объективный и трезвый историк, писал: «Наполеон диктовал ход сражения, атакуя все что хотел и как хотел, а Кутузов только отражал его атаки, перебрасывая свои войска из тех мест, где не было прямой опасности, в те места, которые подвергались атакам… <…> Бородинская битва имела поразительную особенность… располагая меньшими силами (по подсчетам автора, русская армия насчитывала 154 тысячи штыков и сабель, включая 28 тысяч ополченцев и 11 тысяч казаков, а французская около 134 тысяч. —
Это говорится не для того, чтобы принизить полководческий талант Кутузова, а для того, чтобы стало понятно, с каким страшным противником имел дело русский главнокомандующий. Кутузов понимал это лучше, чем кто бы то ни было — за исключением Барклая де Толли.
Был и еще один фактор, непосредственно связанный с Ермоловым и Кутайсовым. «Французы превосходили русских в маневренности и мощи артиллерийского огня, хотя количественно и даже по калибру орудий русская артиллерия была сильнее французской, — пишет Троицкий. — Искусно маневрируя, Наполеон сумел и в количественном отношении создать артиллерийское превосходство на левом крыле (400 орудий против 300), а после захвата флешей взять русский центр под перекрестный огонь с обоих флангов»[46].
Это подтверждает и Граббе. Свою роль здесь сыграла гибель Кутайсова — русская артиллерия осталась без общего руководства. Решения иногда принимались командирами артиллерийских рот. Появление русских орудий перед занимавшими командные позиции французскими батареями вело к неоправданным потерям. Невольно приходит мысль, что сетования Воронцова по поводу того, что лучший артиллерийский генерал Ермолов поставлен командовать гвардейской пехотой, были справедливы. Как командующий артиллерией он принес бы куда больше пользы, чем в качестве начальника штаба…
«Победа осталась нерешенная между обеими армиями» — так Граббе подвел итог Бородинской драмы.
Однако главное было достигнуто: русская армия доказала, что может противостоять Наполеону в лобовом столкновении.
Для гениального корсиканца это было начало конца.
Барклай представил Ермолова к ордену Святого Георгия 2-й степени. Это была максимально высокая награда для генерала его уровня. Но Кутузов предпочел, чтобы Георгием 2-й степени наградили самого Барклая. Алексей Петрович получил орден Святой Анны 1-й степени с алмазами.
Это было почетно, но отнюдь не соответствовало его реальным заслугам — Святую Анну 1-й степени получили за кампанию 1812 года более двухсот генерал-майоров и генерал-лейтенантов. Ермолов не считал себя стоящим в общем ряду.
Оттого-то в конце кампании он и счел нужным довольно дерзко напомнить главнокомандующему о своих заслугах.
Через четыре дня после Бородинского сражения император Александр писал Кутузову: «Князь Михаил Ларионович! Знаменитый ваш подвиг в отражении главных неприятельских сил, дерзнувших приблизиться к древней нашей столице, обратил на сии новые заслуги ваши мое и всего отечества внимание.
Совершите начатое столь благоуспешно вами дело, пользуясь приобретенным преимуществом и не давая неприятелю оправляться. Рука Господня да будет над вами и над храбрым Нашим воинством, от которого Россия ждет славы своей, а вся Европа своего спокойствия!
В вознаграждение трудов ваших, возлагаем мы на вас сан Генерал-Фельдмаршала, жалуем вам единовременно сто тысяч рублей и повелеваем супруге вашей, княгине Екатерине Ильинишне, быть Двора Нашего Статс-дамою.
Всем, бывшим в сражении нижним чинам, жалуем по пяти рублей на человека. Мы ожидаем от вас особенного донесения о сподвизавшихся с вами главных начальниках, а вслед за оными обо всех прочих чинах, дабы по представлению вашему сделать им достойную награду.
Пребываем вам благосклонны.
То, что Александр пребывал в состоянии восторженного возбуждения, вызвано было не в последнюю очередь бравурным донесением самого Кутузова. Его содержание Ермолов охарактеризовал одной фразой: «Государю представлено донесение о совершенной победе».
Быть может, в первые часы после прекращения огня вечером 26 августа Кутузов, не имея полной информации о состоянии армии, и вправду так думал. Во всяком случае, он намеревался утром следующего дня возобновить сражение, о чем сказал Барклаю. Тот немедленно отправил записку командиру 2-го корпуса Багговуту: «Главнокомандующий приказал, что неприятель в сегодняшнем сражении не менее нас ослаблен, и приказывал армиям стать в боевой порядок и завтра возобновить с неприятелем сражение».
Подобные сообщения были отправлены и в другие корпуса. Ермолов вспоминал: «Адъютант мой артиллерии поручик Граббе был послан с сим объявлением. В нескольких полках приглашаем был сойти с лошади, офицеры целовали его за радостную весть, нижние чины приняли ее с удовольствием».
Однако восторг этот длился недолго. Граббе, только что возвестивший товарищам «радостную весть», очень скоро должен был отправиться в путь с совершенно противоположной новостью: «Нелегко было доехать до Горок. Темнота, разбросанные тела, толпы раненых, ящики артиллерийские и повозки за снарядами или с ними шедшие, ямы на изрытом поле беспрестанно задерживали меня. В Горках я нашел глубокое безмолвие. Отыскав крестьянский дом, в котором стоял Барклай де Толли, я насилу добился свечи и вошел в избу, где он спал. Он лежал на полу в глубоком сне, и кругом его спали его адъютанты. Когда я разбудил его тихонько и, подавая записку, объявил с чем я приехал, он вскочил на ноги и в первый раз в жизни я услышал из его уст, всегда умеренных и кротких, самые жестокие выражения против Беннигсена, которого, не знаю почему, он почитал главным виновником решенного отступления».
В отличие от Кутузова и контуженного Ермолова Барклай, стало быть, ночевал рядом с передовыми линиями, там, где наутро должно было возобновиться сражение.
В отношении приказа Кутузова Барклай с Ермоловым вполне сходились. Они только, так сказать, поменялись реакциями — Ермолов был печален, а Барклай пришел в бешенство. Внутри он был вовсе не так холоден, «ледовит», по выражению Ермолова, как снаружи. В нем еще не остыл азарт боя. Он знал, какую роль сыграл он 26 августа, и надеялся, что 27-го или погибнет, или окончательно реабилитирует себя.
Сражение необходимо было и Ермолову: после штурма редута, в полной мере показав, на что он способен, он вернулся бы на передовые позиции уже не прежним Ермоловым. Ему, как и Барклаю, нужно было закрепить успех.
В присутствии младшего офицера и проснувшихся адъютантов Барклай, даже в крайнем возбуждении, не мог оскорбительно отзываться о главнокомандующем. Но Беннигсена он презирал и ненавидел и потому сорвал на нем свое горестное негодование.
Отступление было организовано четко и слаженно. Наполеон послал вослед русской армии четыре кавалерийских корпуса и пехотную дивизию под общим командованием Мюрата. К вечеру французы столкнулись под Можайском с арьергардом Милорадовича. Попытка с ходу взять Можайск не удалась.
Армия ушла дальше по направлению к Москве, а Милорадович, защищаясь и контратакуя, сдерживал Мюрата двое суток, дав возможность уйти всем обозам и увезти раненых.
Каковы будут дальнейшие действия главнокомандующего, скорее всего, с полной определенностью не знал и он сам. Маловероятно, чтобы он думал о еще одном сражении под стенами Москвы.
Ермолов вспоминал: «Князь Кутузов показывал намерение, не доходя до Москвы, собственно для спасения ее дать еще сражение. Частные начальники были о том предуведомлены. Генералу Беннигсену поручено избрать позицию; чины квартирмейстерской части его сопровождали».
Точка зрения самого Алексея Петровича была двойственной: «Кто мог иметь сведения о средствах неприятеля, о нашей потере, конечно, не находил того возможным; многие, однако же, ожидали, и сам я верил несколько».
Он верил, потому что хотел верить. Потому что мечтал сражаться. При этом, прекрасно зная реальное соотношение сил и боевые качества наполеоновской армии, не мог не сознавать авантюрности подобной позиции.
У него был свой достаточно трезвый стратегический план, который он, однако, держал при себе: «Я позволил себе некоторые предположения, о которых не сообщил никому, в той уверенности, что по недостатку опытности в предмете, требующем обширных соображений, могли они подвергнуться большим погрешностям. Я думал, что армия наша от Можайска могла взять направление на Калугу и оставить Москву. Неприятель не смел бы занять ее слабым отрядом, не решился бы отделить больших сил в присутствии нашей армии, за которой должен был следовать непременно. Конечно, не обратился бы он к Москве со всею армиею, оставя тыл ее и сообщения подверженным опасности».
В плане был свой резон в том смысле, что Москва была бы на этом этапе избавлена от захвата Наполеоном. Но подобный маневр неизбежно привел бы русскую армию к необходимости остановиться и, рано или поздно, испытать силы в новом Бородине.
Кутузов слишком хорошо понимал, чем это грозит. Очевидно, в его изощренном уме уже созревала мысль о том, что Москва должна как губка впитать в себя неприятельскую армию и задержать ее на длительное время. Это время необходимо было, чтобы русская армия пополнилась, отдохнула, довооружилась.
Кутузов явно надеялся, что в случае такого развития событий никакого генерального сражения, этого молоха, перемалывающего армию, больше вообще не понадобится…
Если бы Ермолову на походе от Бородина к Москве предложили такой вариант, он бы возмутился. Победа без боя — это был не его стиль.
Утром 1 сентября, когда армия, чей арьергард непрерывно отбивался от наседавших французов, остановилась у селения Фили, Кутузов приказал строить укрепления на той позиции, что была выбрана Беннигсеном.
С римской невозмутимостью Ермолов рисует сцену, свидетельствующую о хитроумии старого фельдмаршала: «В присутствии окружавших его генералов спросил он меня, какова мне кажется позиция? Почтительно отвечал я, что по одному взгляду невозможно судить положительно о месте, назначаемом для шестидесяти или более тысяч человек, но что весьма заметные в нем недостатки допускают мысль о невозможности на нем удержаться. Кутузов взял меня за руку, ощупал пульс и сказал: „Здоров ли ты?“ <…> Я сказал, что драться на нем он не будет или будет разбит непременно. Ни один из генералов не сказал своего мнения, хотя немногие могли догадываться, что князь Кутузов никакой нужды в том не имеет, желая только показать решительное намерение защищать Москву, совершенно о том не помышляя».
После чего Кутузов приказал Ермолову и Толю изучить позицию. Выводы Ермолова остались прежними.
Войска продолжали строить земляные укрепления.
В это время у Алексея Петровича состоялся любопытный разговор с графом Ростопчиным, приехавшим из Москвы и долго совещавшимся с Кутузовым. «Увидевши меня, граф отвел в сторону и спросил: „Не понимаю, для чего усиливаетесь вы непременно защищать Москву, когда, овладев ею, неприятель не приобретет ничего полезного. Принадлежащие казне сокровища и все имущество вывезены; из церквей, за исключением немногих, взяты драгоценности, богатые золотые и серебряные украшения. Спасены важнейшие государственные архивы, многие владельцы частных домов укрыли лучшее свое имущество. В Москве останется до пятидесяти тысяч самого беднейшего народа, не имеющего другого приюта“. Весьма замечательные последние его слова: „Если без боя оставите Москву, то вслед за собою увидите ее пылающую!“».
То, что Алексей Петрович далее говорит о Кутузове, имеет непосредственное отношение к нему самому: «Ему по сердцу было предложение графа Ростопчина, но незадолго перед тем клялся он своими седыми волосами, что неприятелю нет другого пути к Москве, как чрез его тело. Он не остановился бы оставить Москву, если бы не ему могла быть присвоена первая мысль о том».
Обратим внимание: граф Ростопчин, генерал-губернатор Москвы, один из первых вельмож государства, вступает в разговор с генерал-майором, пускай и начальником штаба, и явно рассчитывает на его влияние.
Ермолов объясняет этот нетривиальный факт своим званием — то есть должностью. Отчасти это могло быть верно. Но только отчасти. После Бородина Алексей Петрович стал знаменитостью. Он стал фигурой символической, олицетворявшей доблесть и самоотверженность русского воина.
Можно было бы усомниться в реальности этого разговора, но он подтвержден в воспоминаниях Граббе. Правда, там ситуация представлена по-иному: «Я ходил с Ермоловым вдвоем, когда решено было отступление. Граф Ростопчин, приехавший для узнания о судьбе Москвы, подошел к Ермолову, а я отошел из приличия и продолжал ходить в нескольких шагах от них. Разговор был живой, голоса повышались и наконец Ростопчин, наклонясь к уху Ермолова, сказал однако вслух: „Если вы Москву оставите, она запылает за вами“».
Расхождения в свидетельствах Ермолова и Граббе важны для выяснения истинного отношения Алексея Петровича к сдаче Москвы.
Если принять за достоверное рассказ Граббе, то не похоже, чтобы Ростопчин был сторонником этой сдачи и уговаривал Ермолова. Последние слова скорее звучат как суровое предупреждение, а не как простая информация.
«Голоса повышались» — то есть Ермолов с Ростопчиным спорили.
Нет оснований не верить Ермолову, но и трудно представить Ростопчина, уговаривавшего Кутузова, а затем Ермолова сдать Москву.
В Журнале военных действий, который велся в штабе Кутузова, говорится: «Сентября 1. Армия отступила к г. Москве; расположилась лагерем: правый фланг пред деревнею Фили, центр между селами Троицким и Волынским, а левый фланг пред селом Воробьевым; арьергард армии при деревне Сетуне.
Сей день пребудет вечно незабвенным для России, ибо собранный совет у фельдмаршала князя Кутузова в деревне Фили решил пожертвованием Москвы спасти армию. Члены, составлявшие оный, были следующие: фельдмаршал князь Кутузов, генералы: Барклай де Толли, Беннигсен и Дохтуров, генерал-лейтенанты: граф Остерман и Коновницын, генерал-майор и начальник Главного штаба Ермолов и генерал-квартирмейстер полковник Толь. (Не указаны генералы М. И. Платов и Ф. П. Уваров; позже присоединился Н. Н. Раевский. —
Фельдмаршал, представя Военному совету положение армии, просил мнения каждого из членов на следующие вопросы: ожидать ли неприятеля в позиции и дать ему сражение или сдать столицу без сражения? На сие генерал Барклай де Толли отвечал, что в позиции, в которой армия расположена, сражения принять невозможно и что лучше отступить с армией через Москву к Нижнему Новгороду как к пункту главных наших сообщений между северными и южными губерниями.
Генерал Беннигсен, выбравший позицию пред Москвою, считал ее непреодолимою, и потому предлагал ожидать в оной неприятеля и дать сражение.
Генерал Дохтуров был сего же мнения.
Генерал Коновницын, находя позицию пред Москвою невыгодною, предлагал идти на неприятеля и атаковать его там, где встретят, в чем также согласны генералы Остерман и Ермолов; но сей последний присовокупил вопрос: известны ли нам дороги, по которым колонны должны двинуться на неприятеля?
Полковник Толь представил совершенную невозможность держаться армии выбранной генералом Беннигсеном позиции, ибо с неминуемой потерею сражения, а вместе с ним и Москвы, армия подвергалась совершенному истреблению и потерею всей артиллерии, и потому предлагал немедленно оставить позицию при Филях, сделать фланговый марш линиями влево и расположить армию правым флангом к деревне Воробьевой, а левым между Новой и Старой Калугскими дорогами в направлении между деревень Шатилово и Воронкова; из сей же позиции, если обстоятельства потребуют, отступить по старой Калугской дороге, поелику главные запасы съестные и военные ожидаются по сему направлению.
После сего фельдмаршал, обратясь к членам, сказал, что с потерянием Москвы не потеряна еще Россия и что первою обязанностию поставляет он сберечь армию, сблизиться к тем войскам, которые идут к ней на подкрепление, и самим уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю и потому намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге».
Ермолов рассказывает о принципиально значимом прологе этого знаменитого военного совета: «День клонился к вечеру, и еще не было никаких особенных распоряжений. Военный министр призвал меня к себе, с отличным благоразумием, основательностию истолковал мне причины, по коим полагает он отступление необходимым, пошел к князю Кутузову и мне приказал идти за собою. Никому лучше военного министра не могли быть известны способы для продолжения войны и какими из них в настоящее время пользоваться возможно; чтобы употребить более благонадежные, надобно выиграть время, и для того оставить Москву необходимо.
Князь Кутузов, внимательно выслушав, не мог скрыть восхищения своего, что не ему присвоена будет мысль об отступлении, и, желая сколько возможно отклонить от себя упреки, приказал к восьми часам вечера созвать гг. генералов на совет».
Обратим внимание — с каким подчеркнутым почтением пишет Алексей Петрович о Барклае. Надо полагать, совесть его была отнюдь не спокойна.
Рассказывая о совете в Филях, Ермолов подробно воспроизводит речь Барклая. Воспроизводит, безусловно, не по памяти. У Алексея Петровича был мощный инстинкт летописца, обращенный прежде всего на себя самого. Он верил, что даже при неблагоприятном повороте судьбе, при любом итоге его жизненной карьеры он должен оставить свидетельство о себе, доказывающее его резкую особость, демонстрирующее те жестокие препоны, которые ему приходилось преодолевать, опровергающее те враждебные отзывы, в возможности которых он не сомневался. А потому он собирал документы, вел дневниковые записи — без этого невозможно представить себе процесс написания его мемуаров. Разумеется, зафиксировано и документировано было не все, но в описании ключевых моментов он, безусловно, опирался на обширный свод материалов.
Он вспоминал: «В селении Фили, в своей квартире, принял князь Кутузов собравшихся генералов. Совет составили: главнокомандующий военный министр Барклай де Толли, генерал барон Беннигсен, генерал Дохтуров, генерал-адъютант Уваров, генерал-лейтенанты граф Остерман-Толстой, Коновницын и Раевский; последний, приехавший из ариергарда, бывшего уже не в далеком расстоянии от Москвы, почему генерал Милорадович не мог отлучиться от него. Военный министр начал объяснение настоящего положения дел следующим образом: „Позиция весьма невыгодна, дождаться на ней неприятеля весьма опасно; превозмочь его, располагающего превосходящими силами, более нежели сомнительно. Если бы после сражения могли мы удержать место, но такой же потерпели урон, как при Бородине, то не будем в состоянии защищать столько обширного города. Потеря Москвы будет чувствительною для Государя, но не будет внезапным для него происшествием, к окончанию войны его не наклонит и решительная воля его продолжит ее с твердостию. Сохранив Москву, Россия не сохранится от войны жестокой, разорительной; но, сберегши армию, еще не уничтожаются надежды отечества, и война, единое средство к спасению, может продолжаться с удобством. Успеют присоединиться в разных местах за Москвою приуготовляемые войска; туда же заблаговременно перемещены все рекрутские депо. В Казани учрежден вновь литейный завод, основан новый ружейный завод Киевский; в Туле оканчиваются ружья из остатков прежнего металла. Киевский арсенал вывезен; порох, изготовленный в заводах, определен в артиллерийские снаряды и патроны и отправлен внутрь России“».
Барклай, таким образом, помимо прочего, сообщил совету о тех мерах, которые были приняты им еще перед войной как военным министром. Из сказанного им ясно, что он предвидел неизбежность отступления и готовился, и именно к «скифской» войне.
Мнения генералов резко разделились. Остерман-Толстой и Раевский, знаменитые своей абсолютной храбростью, высказались за отступление. Их поддержал Уваров.
В сведениях Журнала военных действий и в свидетельстве Ермолова есть существенные разночтения. По Журналу, например, Дохтуров настаивал на сражении, а по Ермолову — он в конце концов соглашается на отступление.
Но нам важна позиция самого Алексея Петровича.
Как писал он позже: «Все сказанное Барклаем на военном совете в Филях заслуживает того, чтобы быть отпечатанным золотыми буквами». И тем не менее…
Ермолов, который пока еще был генерал-майором, по обычаю военных советов должен был первым высказать свое мнение.
Обычно приводится суждение Ермолова относительно судьбы Москвы. Но сам он в воспоминаниях предваряет этот сюжет другим — весьма характерным для него. Барклай, убедительно обосновав необходимость отступления, предложил «взять направление на Владимир в намерении сохранить сообщение с Петербургом, где находилась царская фамилия». «Совершенно убежденный в основательности предложения военного министра, я осмелился заметить одно направление на Владимир, не согласующееся с обстоятельствами. Царская фамилия, оставя Петербург, могла назначить пребывание свое во многих местах, совершенно от опасности удобных, не порабощая армию невыгодному ей направлению, которое нарушало связь нашу с полуденными областями, изобилующими разными для армии потребностями, и чрезвычайно затрудняло сообщение с армиями генерала Тормасова и адмирала Чичагова».
Эскапада Алексея Петровича по сути своей была чрезвычайно дерзкой. Он, собственно, заявил, что безопасность царской фамилии дело второстепенное — к услугам императора и его родственников огромное российское пространство. И думать надо об армии и стратегических выгодах, а не об интересах августейшего семейства.
Можно было предположить, что Ермолов преувеличил свою смелость задним числом, если бы мы не знали его более поздних рискованных выходок против царской семьи.
После Бородина, надо полагать, он почувствовал себя уверенно. Он предлагал в письме великому князю Константину Павловичу в ответ на беспокойство по поводу безопасного места для родов великой княгини Елены Павловны биться с ним об заклад, что в Петербурге можно рожать совершенно спокойно…
Но для нас главное — его позиция по роковому вопросу.
«Не защищая мнения моего, вполне неосновательного, предложил атаковать неприятеля. Девятьсот верст непрерывного отступления не располагают его к ожиданию со стороны нашего предприятия; что внезапность сия, при переходе войск его в оборонительное состояние, без сомнения, произведет между ними большое замешательство, которым его светлости как искусному полководцу предлежит воспользоваться, и это может произвести большой оборот в наших делах. С неудовольствием князь Кутузов сказал мне, что такое мнение я даю потому, что не на мне лежит ответственность».
Через много лет, оценивая свою позицию, Ермолов называет мнение свое «вполне неосновательным» и дает объяснение его явной авантюрности: «Не решился я, как офицер, недовольно еще известный, страшась обвинения соотечественников, дать согласия на оставление Москвы…»
Ермолов уже знал точно аргументированное мнение Барклая, знал, что Кутузов склоняется к такому же решению; сам он не считал возможным сражаться на позиции при Филях. Он, начальник Главного штаба, лучше многих представлял себе реальное состояние армии. И тем не менее…
В том объяснении, которое он предлагает, разумеется, есть резон.
Он еще не мог знать мнения других высших чинов. Оказаться в меньшинстве — будучи сторонником сдачи древней столицы — было смертельно опасно для репутации, которую он уже себе создал. Репутации героя, человека отчаянных решений, приносящих удачу, генерала, чьим девизом было идти навстречу неприятелю и «драться со всею жестокостию» вне зависимости от соотношения сил.
Но, скорее всего, дело было сложнее. Понимая умом необходимость отступления — Бородино было жестоким уроком не только Наполеону, — он не мог смириться с подобным решением на другом уровне представлений…
Проходом отступающей русской армии через Москву руководил Барклай. Ермолов был направлен Кутузовым в арьергард Милорадовича, который, сдерживая французов, должен был дать возможность армии в порядке уйти из Москвы. И та и другая операции были проведены твердо и точно. Опасения, что в древней столице начнутся мятежи и резни, не оправдались. Хотя, по свидетельству очевидца, «ломали кабаки и лавки».
К моменту вступления в Москву французов там осталось из 270 тысяч жителей не более десяти тысяч.
Ростопчин приказал вывести из города всех пожарных с «огнегасительными снарядами». Он готовил Москву к сожжению.
На военных складах осталось 156 орудий, которые потом использовал Наполеон, 74 974 ружья, 39 846 сабель, 27 119 артиллерийских снарядов.
В городе осталось более двадцати двух тысяч русских раненых, многие из которых погибли при пожаре.
Москва запылала, как только французы вступили в нее…
Ермолов писал: «Итак, армия прошла наконец Москву. <…> Вскоре затем слышны были в Москве два взрыва и обнаружился большой пожар. Я вспомнил слова графа Ростопчина, сказанные мне накануне, и Москва стыд поругания скрыла в развалинах своих и пепле! Собственными нашими руками разнесен пожирающий ее пламень. Напрасно возлагать вину на неприятеля и оправдываться в том, что возвышает честь народа. Россиянин каждый честно, весь город вообще, великодушно жертвует общей пользе. В добровольном разрушении Москвы усматривают враги предзнаменование их бедствий; все доселе народы, счастию Наполеона более пятнадцати лет покорствующие, не явили подобного примера. Судьба сберегла его для славы россиян!»
Эти строки, написанные через много лет после роковых событий, тем не менее дают представление о состоянии духа Алексея Петровича в сентябре 1812 года: «Смерть врагам, преступившим границы отечества».
Кутузов понимал, какое решение он принял. Да, он фактически повторил доводы Барклая, но отвечал за решение он.
«Князь Михаил Ларионович! С 29-го августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем от 1 сентября получил я, через Ярославль, от Московского Главнокомандующего печальное извещение, что вы решились с армией оставить Москву. Вы сами можете вообразить действие, какое произвело сие известие, а молчаливость ваша усугубляет мое удивление.
Я отправляю с сим генерал-адъютанта, князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь несчастной решимости.
Если мы вспомним восторженное послание Александра Кутузову от 31 августа, то станет понятно, как разочарован был император и какое раздражение вызвал у него этот хитрый старик, который вопреки своим обещаниям не только отдал Наполеону древнюю столицу, но и не счел нужным оповестить об этом Петербург. Это выглядело как демонстративное пренебрежение.
У Кутузова были чисто психологические причины не спешить с рапортом.
Хотя твердая позиция Барклая и облегчила ему роковое решение, но, судя по всему, пережил он его тяжело.
4 сентября он продиктовал и отправил императору донесение, в котором объяснял свои мотивы. К 7-му числу Александр просто не успел его получить.
В этот день Кутузова видел посланный к нему из арьергарда капитан Бологовский: «Он сидел одинокий, с поникшей головою, и казался удрученным». И было от чего.
В Москве, как уже говорилось, оставалось более двадцати двух тысяч раненых. Сотни подвод были заняты под вывоз пожарных и «огнегасительного снаряда». Для раненых подвод не хватило.
Ермолову, одной из фундаментальных черт воинской натуры которого была искренняя и бескорыстная забота о боевых товарищах — одна из причин его популярности, — видеть это было больно: «Душу мою раздирал стон раненых, оставляемых во власти неприятеля. В городе Гжатске князь Кутузов дал необдуманное повеление свозить отовсюду больных и раненых в Москву… С негодованием смотрели на это войска».
Сделать ничего он не мог. Кутузов твердо решил превратить Москву в смертельную ловушку для Наполеона.
Он отправил Мюрату, для передачи начальнику штаба наполеоновской армии маршалу Бертье, записку, в которой писал: «Раненые, остающиеся в Москве, поручаются человеколюбию французских войск». При этом он знал, что город будет сожжен, и представлял себе судьбу своих солдат — героев Бородина.
В рапорте от 4 сентября Кутузов писал императору: «Все сокровища, арсенал и почти все имущества, как казенные, так и частные, из Москвы вывезены, и ни один дворянин в ней не остался».
Возможно, Кутузова ввел в заблуждение Ростопчин, который, как мы помним, говорил совершенно то же самое Ермолову, убеждая оставить Москву.
Но факт остается фактом. В рапорте нет ни слова правды. В Москве оставались и раненые офицеры, то есть дворяне, которые в большинстве своем были спасены французами и устроены вместе с ранеными французскими офицерами.
Оставление Москвы было не только политической, но и грандиозной человеческой трагедией. Жертва, принесенная для вовлечения в гибель противника, была невообразимо велика.
Все это рассказано не для компрометации фельдмаршала, но прежде всего для того, чтобы читатель представил себе степень взаимного ожесточения.
Кутузов между тем явно решил не обращать внимания на настроения верховной власти и делать свое дело.
Тогда произведен был знаменитый фланговый марш, в результате которого русская армия оторвалась от французского авангарда и после ряда неожиданных для противника маневров вышла на позицию у Тарутина, где и был возведен укрепленный лагерь.
Князь Александр Борисович Голицын, неотлучно находившийся при Кутузове, вспоминал: «В день осмотра позиции, которая вполне удовлетворяла плану кампании Кутузова, старик был очень весел и в первый раз расчел важность предстоящей зимней кампании: он позвал Толя и Коновницына и тут же отдал приказ, чтобы губернаторам велеть снабдить полушубками всю армию».
Но принятая им стратегия ожидания — ожидания, пока французская армия не ослабнет от пребывания в разрушенной и сожженной Москве, — никак не устраивала большинство генералитета. Повторялась история Барклая.
В воспоминаниях Алексея Петровича, касающихся тарутинского периода, есть красноречивое примечание: «В главную квартиру при селении Красной Пахре прислан от государя генерал-адъютант князь Волконский собрать подробные сведения о состоянии армий. От него узнал я, что, отправляя из Петербурга Кутузова к армиям, государь отдал ему подлинные письма мои к нему, дабы он мог составить некоторое представление о делах и обстоятельствах до прибытия его на место. Это растолковало мне совсем не прежнее расположение ко мне Кутузова, сколько впрочем ни было оно прикрыто благовидною с его стороны наружностию. Перед отъездом своим князь Волконский объявил мне, что государь, желая узнать, отчего Москва оставлена без выстрела, сказал: „Спроси у Ермолова, он должен это знать“. По просьбе его я обещал ему записку, но с намерением уехал из главной квартиры».
Он понимал теперь, чего можно ждать от императора, и вторично попадаться в ту же ловушку не желал.
Тем более что замысел Кутузова был ему ясен. Он — по своему темпераменту и воинским установкам — мог его не одобрять. Но не мог не отдать должное трезвости и психологической проницательности старого фельдмаршала.
Подробно описав в воспоминаниях достоинства и недостатки позиции у Тарутина, он отдал предпочтение плану Беннигсена: «По совершении армиею флангового движения, когда прибыла она в город Подольск, генерал барон Беннигсен предполагал расположиться у г. Боровска или в укрепленном при Малоярославце лагере. Нет сомнения, что сие беспокоило бы неприятеля и нам доставало выгоды, особенно когда его кавалерия истощалась от недостатка фуража, когда умножившиеся партизаны наши наносили ей вред и истребление».
План Беннигсена был хорош, если — как и желал тогда Ермолов — речь шла об активных действиях: «искать, напасть, драться со всею жестокостию». Но к тому времени, когда писались воспоминания, Алексей Петрович не просто знал результат кампании 1812 года, но и осознавал мудрую сдержанность Кутузова. «Не взирая на это, — пишет далее Ермолов, — кажется не совсем бесполезно было уклониться от сего предложения, ибо неприятель пребывание наше у Тарутина сносил терпеливее, чем нежели у Малоярославца. Он дал <…> нам время для отдохновения, возможность укомплектовать армии, поправить изнуренную конницу, учредить порядочное доставление всякого рода припасов. Словом, возродил в нас надежды, силы на противоборство и даже на преодоление потребные. Если бы с теми силами, которые имели мы под Москвою, не соединясь впоследствии с пришедшими подкреплениями, с двадцатью шестью полками прибывших с Дона казаков, в расстроенном состоянии конницы, с войсками, продолжительным отступлением утомленными, остановились мы в Боровске, тем скорее атаковал бы нас неприятель».
Но это были благоразумные рассуждения через много лет…
Александр между тем, подогреваемый письмами из армии от своих конфидентов, все более раздражался на Кутузова.
2 октября он отправил ему собственноручно написанное письмо: «Князь Михаил Ларионович! С 2-го сентября Москва в руках неприятельских. Последние ваши рапорты от 20-го, и в течение всего сего времени не только ничего не предпринято для действия противу неприятеля и освобождения сей первопрестольной столицы, но даже, по последним рапортам вашим, вы еще отступили назад. Серпухов уже занят отрядом неприятельским, и Тула с знаменитым и столь для армии необходимым своим заводом в опасности.
По рапортам же от генерала Винценгероде вижу Я, что неприятельский десятитысячный корпус продвигается по Петербургской дороге. Другой, в нескольких тысячах, также подается к Дмитрову. Третий подвинулся вперед по Владимирской дороге. Четвертый, довольно значительный, стоит между Рузою и Можайском. Наполеон же сам по 24-е число находится в Москве.
По всем сим сведениям, когда неприятель сильными отрядами раздробил свои силы, когда Наполеон еще в Москве сам со своею гвардиею, возможно ли, чтобы силы неприятельские, находящиеся перед вами, были значительны и не позволяли вам действовать наступательно?
С вероятностию, напротив того, должно полагать, что он вас преследует отрядами, или, по крайней мере, корпусом, гораздо слабее армии, вам вверенной. Казалось, что пользуясь сими обстоятельствами, могли бы вы с выгодою атаковать неприятеля слабее вас и истребить оного, или, по крайней мере, заставя его отступить, сохранить в наших руках знатную часть губерний, ныне неприятелем занимаемых, и тем самым отвратить опасность от Тулы и прочих внутренних наших городов.
На вашей ответственности останется, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург для угрожения сей столице, в которой не могло собраться много войска, ибо, с вверенною вам армиею, действуя с решимостию и деятельностию, вы и имеете все средства отвратить сие новое несчастие. Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному отечеству в потере Москвы.
Вы имели опыты моей готовности вас награждать. Сия готовность не ослабнет во мне, но Я и Россия вправе ожидать с вашей стороны всего усердия, твердости и успехов, которых ум ваш, воинские таланты ваши и храбрость войск, вами предводительствуемых, Нам предвещают.
Пребываю навсегда к вам благосклонный
Фраза о неминуемом ответе «оскорбленному отечеству» звучала угрожающе.
Судя по тем мерам, которые Александр принимал в Петербурге, готовя эвакуацию столицы с вывозом всех ценностей — вплоть до Медного всадника (которого Наполеон, по слухам, намерен был увезти в Париж), он всерьез ждал появления французов на петербургских заставах.
Утвердившись в укрепленном Тарутинском лагере и собирая силы для продолжения войны, Кутузов не мог игнорировать неудовольствие императора и настроение армии — генералитета в первую очередь. И он скрепя сердце решил провести наступательную операцию против войск Мюрата, выдвинутых Наполеоном в район Тарутинского лагеря.
С этой операцией связан был инцидент, для Алексея Петровича весьма неприятный.
5 октября, после личного объяснения, Кутузов направил Ермолову письмо — чтобы закрепить документально свое неудовольствие: «Ваше Превосходительство известны были о намерении нашем атаковать сегодня на рассвете неприятеля. На сей конец я сам приехал в Тарутино в 8-м часу ввечеру, но, к удивлению моему, узнал от корпусных там собравшихся господ начальников, что никто из них приказа даже и в 8 часов вечера не получал, кроме тех войск, с коими сам г. генерал от кавалерии барон Беннигсен прибыл и оным объявил, как то ко второму и четвертому корпусам; к тому же начальствующие кавалерией гг. генерал-лейтенанты Уваров и князь Голицын объявили, что, не получив заранее приказания, много кавалерии послали за фуражом, что и с артиллериею было, и я, ехав в Тарутино, повстречал артиллерийских лошадей, веденных на водопой.
Сии причины, к прискорбию моему, понудили отложить намерение наше атаковать сего числа неприятеля, что должно было быть произведено на рассвете, и все сие произошло оттого, что приказ весьма поздно доставлен был к войскам. Ваше Превосходительство разделяете со мною всю важность такового случая, и я не могу оставить без разыскания причины сего, каковое упущение Вам исследовать предписывая, ожидать буду немедленно Вашего о том донесения».
Письмо Кутузова содержит важную информацию, все ставящую на свои места, ибо версий этой истории было немало — вплоть до того, что Кутузов намерен был подвергнуть Ермолова военному суду.
Сам Алексей Петрович в воспоминаниях обходит этот инцидент молчанием.
Однако, опустив эпизод с опозданием приказа о выступлении в воспоминаниях, он изложил свою версию Давыдову, который ее и зафиксировал.
«В описаниях знаменитого Тарутинского сражения многие обстоятельства, предшествовавшие сражению и во время самого боя, выпущены из виду военными и писателями. Главная квартира Кутузова находилась, как известно, в Леташевке, а Ермолов с Платовым квартировали в расстоянии одной версты от этого села. Генерал Шепелев дал 4-го числа большой обед, все присутствовавшие были очень веселы, и Николай Иванович Депрерадович пустился даже плясать. Возвращаясь в девятом часу вечера в свою деревушку, Ермолов получил через ординарца князя Кутузова, офицера Кавалергардского полка, письменное приказание собрать к следующему утру всю армию для наступления против неприятеля. Ермолов спросил ординарца, почему это приказание доставлено ему так поздно, на что он отозвался незнанием, где находился начальник главного штаба. Ермолов, прибыв тотчас в Леташевку, доложил князю, что по случаю позднего доставления приказания его светлости армию невозможно собрать в столь короткое время. Князь очень рассердился и приказал собрать все войска к 6-му числу вечером; вопреки уверениям генерала Михайловского-Данилевского, князь до того времени не выезжал из Леташевки. В назначенный вечер, когда уже стало смеркаться, князь прибыл в Тарутино. Беннигсену, предложившему весь план атаки, была поручена вся колонна, которая была направлена в обход; в этой колонне находился 2-й корпус. Кутузов со свитой, в числе которой находились Раевский и Ермолов, оставался близ гвардии; князь говорил при этом: „Вот просят наступления, предлагают разные проекты, а, чуть приступишь к делу, ничего не готово, и предупрежденный неприятель, приняв свои меры, заблаговременно отступает“. Ермолов, понимая, что эти слова относятся к нему, толкнул коленом Раевского, которому сказал: „Он на мой счет забавляется“. Когда стали раздаваться пушечные выстрелы, Ермолов сказал князю: „Время не упущено, неприятель не ушел, теперь, ваша светлость, нам надлежит со своей стороны дружно наступать, потому что гвардия отсюда и дыма не увидит“. Кутузов скомандовал наступление, но через каждые сто шагов войска останавливались почти на три четверти часа; князь, видимо, избегал участия в сражении. <…> Если бы князь Кутузов сделал со своей стороны решительное наступление, отряд Мюрата был бы весь истреблен».
В воспоминаниях Ермолов живописует неразбериху, которая царила во время боя между «частными начальниками», и явное нежелание Кутузова проводить операцию большого масштаба. Фельдмаршал, и в самом деле, считал подобные операции излишними и только уступал время от времени требованиям Александра и настояниям рвущихся в бой генералов.
Говорит Ермолов и о несправедливости фельдмаршала к заслугам Беннигсена: «Вероятно, не отдано ему должной справедливости и об нас, его подчиненных, не упоминается». Речь идет о донесении, отправленном Кутузовым Александру на следующий день после сражения без консультаций с Беннигсеном.
Алексей Петрович прав. В донесении, естественно, упоминается о том, что Беннигсен командовал наступающими войсками, но главная заслуга отнесена на счет генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова, командовавшего казачьими полками, и генерал-адъютанта барона Меллера-Закомельского, командовавшего полками регулярной конницы.
Кавалерия и казаки опрокинули передовые порядки французов и вынудили их к поспешному отступлению. Кутузов, однако, не стал развивать успех, опасаясь подхода крупных сил противника и не желая ввязываться в большое сражение.
Левенштерн вспоминал: «Кутузов с главными силами армии оставался безучастным зрителем этих блестящих подвигов. <…> Генерал Милорадович прискакал к Кутузову, прося у него разрешения перейти в наступление и совершить движение для поддержки нашего правого фланга. Фельдмаршал с неудовольствием отверг это предложение. Генерал Ермолов также настаивал на этом движении, но безуспешно. Я находился возле фельдмаршала в тот момент, когда генерал Ермолов пытался доказать ему необходимость провести фронтальную атаку. Кутузов приблизился к нему и сказал самым грубым образом, махая пальцем перед его глазами:
— Вы то и дело повторяете: пойдем в атаку, вы думаете этим заслужить популярность, а сами не понимаете, что мы еще не созрели для сложных движений, так как мы еще не умеем маневрировать. Сегодняшний день доказал это, и я сожалею, что послушался генерала Беннигсена.
Ермолов отошел, ничего не ответив…
Когда было наконец получено известие о поспешном отступлении короля Неаполитанского, то Кутузов решил двинуть кавалерию барона Корфа и генерала Васильчикова, но благоприятный момент был уже упущен».
Кутузова до крайности раздражали и главный проповедник наступательной стратегии Беннигсен, и поддерживающий его Ермолов. Он, разумеется, как и вся армия, знал о связи Ермолова с Беннигсеном. Беннигсен публично подчеркивал их единомыслие.
Князь Александр Голицын совершенно точно объясняет суть этой сравнительно запутанной ситуации: «Такому упорству Кутузова можно предположить одну только причину. Он боялся возбудить деятельность Наполеона и придерживался своей мысли выиграть время, чтобы не тревожить его из Москвы. Решившись дать сражение сие, он как бы проявил согласие свое вопреки внутреннего убеждения своего: что время поражать Наполеона еще не настало».
Это основной вывод из этого странного конфликта, документальным последствием которого было непривычно жесткое письмо фельдмаршала начальнику Главного штаба.
Нам, однако, во всей этой истории, характеризующей некоторую расслабленность, воцарившуюся в русской армии, важен прежде всего Ермолов. А потому приведем еще одно свидетельство. Это записки Александра Андреевича Щербинина, молодого офицера, состоявшего в тот момент в секретной квартирмейстерской канцелярии Главного штаба Кутузова:
«3 октября был приглашен в Главную квартиру Ермолов, начальник штаба главной армии. (Беннигсен числился начальником штаба всех трех армий — главной, стоящей под Тарутином, 3-й армии и Дунайской, равно как и отдельных корпусов. —
Здесь надо иметь в виду сложность отношений в Главной квартире.
Получив от Александра в качестве начальника штаба нелюбимого Беннигсена, Кутузов, со свойственным ему хитроумием, нашел способ барона нейтрализовать. Он назначил популярного генерала Коновницына своим дежурным генералом и поставил дело так, что именно Коновницын ведал всеми штабными делами. Для Беннигсена его должность оказалась чистой синекурой, что, разумеется, его бесило.
У Ермолова с Коновницыным тоже сложились весьма непростые отношения. Будучи оба боевыми генералами, они тем не менее принципиально отличались друг от друга по служебному стилю. Кроме того, Коновницын, по убеждению Ермолова, старался встать между Кутузовым и всеми остальными.
«До сего доклады фельдмаршалу делал я, и приказания его мною отдаваемы были, но при новом порядке вещей одни только чрезвычайные случаи объяснял я ему лично. <…> С Коновницыным видался нередко, но чаще переписывался, отталкивая поручения его, которые я не имел обязанности выполнять, и в переписке со мною он, конечно, не выигрывал. Без ошибки могу предположить, что он вредил мне втайне и прочнее!»
Если Ермолов не терпел бумажной работы, то Коновницын плодил бумаги без счета.
Генерал Маевский, назначенный помощником дежурного генерала, весьма иронически высказался и о том, и о другом: «В дежурстве светлейшего, которое называлось дежурством всех действующих армий, не застал я ни клочка бумаги! Все это делалось на полевую руку, а главные распоряжения шли через Ермолова, который, не имея главнокомандующего (Барклай тогда уехал, а Тормасов еще не приехал), действовал именем начальника штаба, как главнокомандующий. Этим средством дежурство Кутузова не знало письменного труда. <…> Коновницын, заложив гать неистощимой письменной реки, наводнил меня запущенными бумагами, и я вдруг получил их до 10 тысяч!»
Появление Коновницына как дежурного генерала не только лишило всякого смысла должность Беннигсена, но и сделало достаточно бессмысленной должность Ермолова. Алексей Петрович, ссылаясь на это, подал рапорт о переводе его на строевую должность. Но рапорт остался без ответа.
Отношения его с Коновницыным обострились. В ответ на отказ Ермолова визировать вышедшие от Коновницына бумаги тот написал ему резкое письмо. Ермолов ответил: «Вы напрасно домогаетесь сделать из меня вашего секретаря».
Скорее всего, недоразумение с приказом Кутузова о завтрашнем наступлении в значительной степени объясняется этим конфликтом.
Алексей Петрович счел ниже своего достоинства ожидать, пока Коновницын разберется с диспозицией, и уехал.
Щербинин пишет: «Ермолов не захотел ждать, извиняясь приглашением, полученным им в тот день к обеду от Кикина, дежурного генерала своего. По отъезде Ермолова диспозиция была к нему послана с ординарцем Екатеринославского кирасирского полка поручиком Павловым. Но ни Ермолова, ни Кикина Павлов отыскать не мог, хотя изъездил весь лагерь. К вечеру узнали, что Кикин забрался с гостями своими версты затри вне левого фланга лагеря в помещичье имение, где находился обширный каменный дом. Туда была привезена диспозиция».
Если Щербинин прав, то можно сделать вывод, что к Ермолову вернулось в полной мере его форсированное самолюбие, доходящее до дерзости, которым он славился в молодости и которое не раз доставляло ему неприятности. Вдумаемся: зная о предстоящей на следующий день наступательной операции, которой он и его единомышленники упорно добивались, Алексей Петрович, чтобы продемонстрировать Коновницыну свою независимость, уезжает за пределы лагеря, издевательски отговорившись приглашением на обед.
Неудивительно, что Кутузов пришел в ярость.
Щербинин утверждает: «Что касается до Ермолова, то Кутузов без всякой вспышки приказал Коновницыну объявить Ермолову волю его светлости, чтобы оставил армию. И поделом бы! Но Коновницын упросил Кутузова простить Ермолова». Коновницын вовсе не хотел вызвать возмущение армии, став причиной отставки Ермолова.
Надо иметь в виду, что Щербинин не любил Ермолова и его информация может быть субъективной. Кутузов был достаточно осторожен и, зная о расположении к Ермолову императора, вряд ли решился бы на такой резкий шаг. Но цитированное нами письмо выдает крайнее негодование. Зная об интригах Ермолова против его предшественника, Кутузов, быть может, и не прочь был бы от него избавиться. Но эта крайняя версия подтверждения не находит.
Очевидно, что Ермолов, измученный медлительностью и демонстративной нерешительностью Кутузова, так напоминавшими ему стиль Барклая, оскорбленный тем, что игнорируются его предложения и предложения его единомышленников, существенно растерял былой энтузиазм.
Когда же вице-король Итальянский Богарне стал отступать под натиском русских, Кутузов, к возмущению генералов, запретил его преследовать.
Голицын вспоминал: «Беннигсен, Милорадович, Толь, Коновницын, Ермолов, все явились к нему с одною просьбою, чтобы дозволил преследовать. Вот его слова: „Коль скоро не успели мы его вчера схватить живым и сегодня придти вовремя на те места, где было назначено, преследование сие пользы не принесет и потому не нужно…“».
Но когда появлялась возможность решительного действия, «подвига», к Алексею Петровичу возвращалась вся его яростная энергия.
И такой случай вскоре представился.
Не будем вдаваться в подробности второстепенных операций, последовавших за Тарутинским сражением.
Решающим событием было выступление Наполеона из Москвы 7 октября. Наполеон рассчитывал, пользуясь инертностью русской армии, захватить Калугу с большими запасами продовольствия и двинуться к Смоленску по плодородной и неразоренной местности. Если бы это удалось, у французской армии были бы все шансы покинуть пределы России с минимальными потерями.
Предвидя подобную возможность, не зная точно, по какой из дорог двинутся основные силы Наполеона, Кутузов разослал в разных направлениях летучие отряды.
Получив от командующего самым крупным отрядом генерала Дорохова известие, что он столкнулся около села Фоминское с кавалерией генерала Орнано и пехотной дивизией и намерен вступить с ними в бой, Кутузов направил ему на помощь корпус Дохтурова. Ермолову фельдмаршал велел сопровождать Дохтурова и посылать ему регулярные известия.
Корпус, совершив дневной переход, остановился на ночевку в селе Аристово, неподалеку от Фоминского.
В это время, минуя и Фоминское, и Аристово, прошли основные силы «Великой армии». Кавалерия Орнано и пехота генерала Брусье, встреченные Дороховым, были французским авангардом. Дорохов этого не понял. Не знали об этом и Дохтуров с Ермоловым.
Наиболее полную картину событий, переломивших ход кампании, дает Давыдов:
«…Дохтуров с Ермоловым, не подозревая выступления Наполеона из Москвы, следовали на Аристово и Фоминское. Продолжительный осенний дождь совершенно испортил дорогу; большое количество батарейной артиллерии, следовавшей с корпусом, замедляло его движение. Ермолов предложил Дохтурову оставить здесь эту артиллерию, не доходя верст пятнадцати до Аристова; отсюда, находясь в близком расстоянии от Тарутина и от Малоярославца, она могла быстро поспеть к пункту, где в ее действии могла встретиться надобность, а между тем утомленные лошади успели бы отдохнуть. Дохтуров не замедлил изъявить на то свое согласие, корпус его к вечеру прибыл в Аристово; сам Дохтуров расположился на ночлег в деревне, а Ермолов с прочими генералами остался на биваках. Уже наступила полночь, и через несколько часов весь отряд, исполняя предписание Кутузова, должен был выступить к Фоминскому. Вдруг послышался конский топот и раздались слова Сеславина: „Где Алексей Петрович?“ Явившись к Ермолову, Сеславин в сопровождении своего пленника рассказал все им виденное; пленный подтвердил, что Наполеон, выступив со всею армиею из Москвы, должен находиться в довольно близком расстоянии от нашего отряда».
Сеславину удалось вплотную приблизиться к колоннам французской армии и наблюдать самого Наполеона, окруженного свитой. Он сумел похитить гвардейского унтер-офицера и, соответственно, получить источник информации.
«Это известие было столь важно, что Ермолов, приказав отряду тотчас подыматься и становиться в ружье, лично отправился на квартиру Дохтурова. Этот бесстрашный, но далеко не проницательный генерал, известясь обо всем этом, пришел в крайнее замешательство. Он не решался продолжать движение к Фоминскому из опасения наткнуться на всю неприятельскую армию и вместе с тем боялся отступлением из Аристова навлечь на себя гнев Кутузова за неисполнение его предписания».
Путь на Калугу и дальше, в нетронутые войной губернии, лежал через Малоярославец. Ермолов понимал, что именно этот городок, стоявший на большой дороге, и является целью Наполеона.
Чтобы преградить дорогу противнику, необходимо было радикально изменить направление, в котором по приказу фельдмаршала должен был двигаться корпус Дохтурова.
И тут сыграло решающую роль уникальное для военного свойство Ермолова — способность пренебрегать приказом вышестоящих, если он не соответствовал ситуации, и при этом брать всю ответственность на себя.
Простим Давыдову, преклонявшемуся перед братом, излишнюю патетику, ибо по сути он был прав. «В этот решительный момент Ермолов, как и во многих других случаях, является ангелом-хранителем русских войск. Орлиный взгляд его превосходно оценил все обстоятельства, и он, именем главнокомандующего и в качестве начальника Главного штаба армии, приказал Дохтурову спешить к Малоярославцу. Приняв на себя всю ответственность за неисполнение предписаний Кутузова, он послал к нему дежурного штаб-офицера корпуса Волховского, которому было поручено лично объяснить фельдмаршалу причины, побудившие изменить направление войск, и убедительно просить его поспешить прибытием с армией к Малоярославцу».
Сам Волховский — или, правильнее, Бологовский — выразительно живописал сцену разговора с Кутузовым: «Прискакав прямо к квартире генерала Коновницына, я нашел его работающим. Он, пораженный моим рассказом, тотчас пригласил графа Толя. Оба вместе, приняв от меня записку (Ермолова. —
Но корпус Дохтурова уже давно бежал к Малоярославцу по воле Ермолова.
Роль Алексея Петровича не ограничилась этим решением, предопределившим дальнейший ход кампании. Хотя этого одного было достаточно, чтобы навсегда закрепить его имя в истории войны 1812 года.
В записке, которую Алексей Петрович подал Кутузову 21 декабря, когда кампания фактически завершилась, он, в частности, писал: «Октября 11-го послан я был при генерале Дохтурове, коему назначено было атаковать неприятеля при селе Фоминском. Полученное известие о движении неприятельских сил на Малоярославец отклонило направление генерала Дохтурова на сей город.
12-го числа октября при знаменитом сражении у города Малоярославца генерал Дохтуров поручил мне командование правого фланга войск его. Семь полков пехоты было под моим начальством. Овладение городом возложил он на меня. Превосходный неприятель 4 раза имел город в руках своих; 4 раза был он во власти нашей, и до самого с армиею соединения был удержан. В два часа по полудни генерал-лейтенанту Раевскому, прибывшему первому с корпусом из армии, сдал я командование правого фланга».
Алексей Петрович умалчивает о своей роли в принятии необходимого решения, но подчеркивает — и это чистая правда — собственно боевые заслуги.
Французы успели к Малоярославцу раньше Дохтурова с Ермоловым. Их пришлось выбивать оттуда. Эту задачу, как и удержание ключевого пункта, оседлавшего дорогу на Калугу, Дохтуров уступил Ермолову. Надо полагать, что инициатива исходила именно от Алексея Петровича. Как начальник Главного штаба он, по положению, не обязан был возглавлять сражающиеся соединения.
12 октября поклонник Оссиана смог полностью удовлетворить впервые после Бородина свою тягу к подвигу.
Здесь имеет смысл привести фрагмент рассказа самого Ермолова о бое под Малоярославцем: «Генерал Дохтуров войска, находящиеся в городе, поручил в мое распоряжение. Неустрашимо защищались они, но, преодолеваемые превосходством, должны были отступить, и, теснимые, с трудом вывезли мы артиллерию, и наших уже не было в городе… По приказанию генерала Дохтурова с неимоверной быстротою явились ко мне пехотные полки Либавский и Софийский. Каждый полк приказал я построить в колонны, лично подтвердил нижним чинам не заряжать ружей и без крику ура ударить в штыки… Вместе с ними пошли все егерские полки. Атаке их предшествовала весьма сильная канонада с нашей стороны. С большим уроном сбитый неприятель оставил нам довольное пространство города, в середине которого храбрый полковник Никитин занял возвышенность, где было кладбище, и на ней поставил батарейные орудия».
Это был тот самый Никитин, который в день Бородина сопровождал Ермолова с конными ротами на левый фланг и стал участником знаменитого штурма «батареи Раевского». Координировал огонь русской артиллерии поручик Поздеев, тот самый адъютант Кутайсова, который вместе с двумя генералами вел уфимцев и егерей в атаку, а затем командовал артиллерией на отбитой батарее. Ермолов оставил при себе адъютанта своего погибшего товарища.
И Никитин, и Поздеев сыграли немалую роль в сражении за Малоярославец, где Ермолов старался повторить свой бородинский подвиг.
Обратим внимание на приказ не заряжать ружья — то есть не тратить время на стрельбу и крики, а рваться молча в рукопашный бой.
Ермолов, по обыкновению, даже о самых жестоких схватках пишет лапидарно и сдержанно. Поэтому надо представить себе, как на самом деле выглядел этот бой.
Декабрист Василий Сергеевич Норов, в то время молодой офицер, вспоминал впоследствии: «Закипел кровопролитный бой в самом городе; объятый пламенем, он представлял одни развалины. Шесть раз французы были вытеснены из оного, прогнаны штыками за речку Лужу, но италианская гвардия и далматы, укрепившись в одной церкви, за городом находящейся, сохранили сей пост во время дела, и пехота наша часто должна была возвращаться под сильным огнем италианцев.
Наступил вечер; с обеих сторон густые колонны пехоты, освещенные пламенем Ярославца, двинулись вперед и, встречаясь на улицах, поражали друг друга штыками. Иногда среди грома артиллерии и ружейного огня слышны были барабаны, бившие к атаке. Повсюду раздавались крики французов, италианцев, далматов, поляков и русских. Артиллерия мчалась рысью по грудам тел; раненые, умирающие раздавлены были колесами или, не имея силы отползти, сгорали среди развалин!»
Норов рассказывает обо всем дне сражения, но Ермолову достались первые его, наиболее тяжкие часы, когда у французов было заметное численное превосходство. Любопытно, что Норов даже не упоминает Ермолова, по сути дела — главного героя дня. Ермолов до конца Наполеоновских войн будет страдать от такого несправедливого постоянного умолчания.
В 1812 году это можно объяснить тем, что он выполнял обязанности, ему как начальнику Главного штаба несвойственные. Командуя боевыми соединениями, он воспринимался фигурой временной. Притом что солдаты в полной мере ценили его отвагу, находчивость, решительность и грозное спокойствие под огнем.
Под Малоярославцем в очередной раз проявилась категорическая разница взглядов Кутузова и Ермолова на характер действий.
«Прошло уже за половину дня. Большие массы войск французской армии приблизились к городу и расположились за речкою Лужею; умножилась артиллерия, и атаки сделались упорнее. Я приказал войти в город Вильманстрандскому и 2-му егерскому полкам, составляющим резерв. Они способствовали нам удержаться, но уже не в прежнем выгодном расположении, и часть артиллерии я приказал вывести из города».
Положение было критическое. Противостоять всей французской армии ермоловские семь полков, даже подкрепленные остатками корпуса Дохтурова, не могли. Опрокинув русских и открыв себе путь в богатые губернии, опередив на несколько переходов главные силы Кутузова, Наполеон принципиально изменил бы стратегическую ситуацию.
«Испросивши позволение генерала Дохтурова, я поручил генерал-адъютанту графу Орлову-Денисову от имени моего донести фельдмаршалу во всей подробности о положении дел наших и о необходимости ускорить движение армии, или город впадет во власть неприятеля… Неприятным могло казаться объяснение мое фельдмаршалу, когда свидетелями были многие из генералов. Он отправил обратно графа Орлова-Денисова без всякого приказания.
Не с большею благосклонностию принят был вторично посланный от меня (также многие из генералов находились при фельдмаршале), и с настойчивостью объясненная потребность в скорейшем присутствии армии могла иметь вид некоторого замечания или упрека. Он с негодованием плюнул так близко к стоявшему против него посланнику, что тот достал из кармана платок, и замечено, что лицо его имело более в том надобности».
Тем не менее корпус Раевского, а затем и вся армия двинулись к Малоярославцу.
Кутузов ни за что не хотел втягиваться в крупные столкновения, которые могли перерасти в большое сражение. Но в данном случае он вынужден был действовать, чтобы преградить Наполеону путь на Калугу и в богатые губернии.
Но при этом настойчивость и решительная инициатива Ермолова его раздражали…
После многочасового кровопролитного боя, в котором участвовало с обеих сторон по 20 тысяч человек, несмотря на тактический успех — овладение Малоярославцем, Наполеон не решился на прорыв. Русская армия отошла от Малоярославца и стала, закрыв направление на Калугу.
«Так впервые в жизни Наполеон сам отказался от генерального сражения, — писал Троицкий. — Впервые в жизни он добровольно повернулся спиной к противнику, перешел из позиции преследователя на позицию преследуемого»[47].
Теперь французская армия вынуждена была отступать по разоренной Смоленской дороге.
Алексею Петровичу было чем гордиться. Как писал Давыдов: «Ермолову выпал завидный жребий оказать своему отечеству величайшую услугу; к несчастью, этот высокий подвиг, искаженный историками, почти вовсе неизвестен».
И здесь мы должны согласиться с Денисом Васильевичем.
Тут надо оговориться: не следует думать, что Кутузов ограничивался — по словам Пушкина — «мудрым деятельным бездействием». Стараясь как можно дольше задержать Наполеона в Москве, он тщательно продумывал план контрнаступления, рассчитывая разгромить Наполеона концентрическим ударом трех русских армий при подходе к Смоленску. Изменение плана объясняется тем, что французская армия при отступлении оказалась в еще худшем положении, чем в сентябре полагал Кутузов. Подтачиваемая набегами партизан, изнуряемая холодом и голодом, психологически подавленная нависающей над ней русской армией, наполеоновская армада погибала без кровавых усилий со стороны противника.
Генералы — такие как Раевский, Остерман, Милорадович и конечно же Ермолов — будучи искренне преданными интересам своего Отечества, мечтали не просто об изгнании Наполеона, но о победе со славой. А слава давалась только кровью солдат и их собственной. Они были готовы рисковать своими головами и жизнями своих солдат. Кутузов, отнюдь не будучи гуманистом, выбрал иной путь. Он не хотел заставлять Наполеона драться насмерть, зная, что именно в такие моменты корсиканец испытывает наивысшее вдохновение…
Следующим крупным столкновением после Малоярославца был бой за город Вязьму.
Ермолов сообщал в записке, поданной Кутузову 21 декабря: «Октября 14-го дня неприятель начал свое отступление. Ваша Светлость направили меня в авангард генерала Милорадовича; по сообщении точных о неприятеле сведений изволили мне приказать дать направление авангарду, с коим по обстоятельствам сообразовывалась и армия в своем движении.
С сего времени я находился при авангарде.
21 числа октября, по воле Вашей Светлости, я был в преследовании при войсках г. графа Платова.
22-го, в деле при Вязьме, командовал я под распоряжением генерала графа Платова правым флангом, состоящим из 26-й дивизии генерал-майора Паскевича, 3 полков кавалерии и нескольких полков Донских войск. Отряд мой на штыках ворвался в город».
В воспоминаниях Алексей Петрович подробно описывает бой: «Атаман Платов поручил в распоряжение мое регулярные войска, придав им несколько казачьих полков. Неприятель упорно защищал выгодную возвышенность, умножил на ней свои силы. Я подвинул пришедшие с полковником Вадбольским кавалерийские полки, и началась канонада. Курляндский драгунский полк ударил на приближавшуюся пехоту и невзирая на картечный огонь рассеял с большим ее уроном, но полки наши не только оттеснены были, но и самой батарее было угрожаемо. В это самое время прибежали полки 26-й пехотной дивизии, восстановили порядок и неприятеля весьма успешно отразили».
Командовал всем этим Ермолов, но называет он только своих подчиненных: «В то же самое время и в ближайшую улицу из войск, порученных атаманом в мое распоряжение, генерал-майор Паскевич с 26-ю дивизиею штыками открыл себе путь по телам противоставшего неприятеля и, минуты не остановясь, перешел реку, преследуя бегущих до крайней черты города».
Бой под Вязьмой в очередной раз обострил противоречия между Кутузовым и его генералитетом.
Норов вспоминает: «Неприятель, по соединении четырех своих корпусов, начал отступление. Ней прикрывал оное, упорно обороняясь в Вязьме; но наша пехота под начальством Чоголкова и Паскевича ворвалась в город, поражая неприятеля штыками, и сквозь пламя, пожирающее дома, кидалась за бегущим неприятелем, который потерял множество пушек, несколько орлов и одного генерала. Улицы Вязьмы были покрыты его трупами. Сей день бесспорно увенчал новою славою наши войска, но распоряжения ошибочны».
Последняя фраза относится к Кутузову.
«В то время, когда три неприятельских корпуса, утомленные походом и изнурением, выстраивались перед Вязьмою <…> когда один из неприятельских корпусов мог быть совершенно истреблен, ибо был уже отрезан от прочих, — Кутузов с главною армиею подвигался медленно от села Силенки, останавливаясь на каждом шагу… Кто поверит, что в тот час, когда жаркий бой кипел в Вязьме, когда Даву и весь его корпус должны были погибнуть, главная наша армия в двенадцати верстах от города стояла на бивуаках!»
И снова тот же парадокс: «Еммануель, Платов, Васильчиков, Чоголков и Паскевич действовали отлично». И ни слова о Ермолове. (Как, впрочем, не упоминается он и в Журнале военных действий.)
Дело не в какой-либо неприязни Норова к Алексею Петровичу — он относился к нему с глубоким почтением. Но опять-таки начальник Главного штаба, командовавший войсками в бою, казался фигурой случайной и временной и потому выпадал из памяти.
Левенштерн, офицер штаба, писал: «Кутузов упорно держался своей системы действий и шел параллельно с неприятелем. Он не хотел рисковать и предпочел подвергнуться порицанию всей армии».
Ермолов был раздражен не менее остальных, а может быть, и более. Метода фельдмаршала обрекала его пускай даже и на героические, но случайные действия. Он оказывался в нелепом положении — он уже не нужен был как начальник штаба, ибо его место, как и место Беннигсена, фактически занял Коновницын, и в то же время не имел возможности систематически участвовать в боевых действиях.
Его служба зависела от прихоти не доверявшего ему фельдмаршала.
Ситуация с Вязьмой была особенно характерна.
Денис Давыдов свидетельствовал: «Ермолов просил не раз Кутузова спешить с главною армиею к Вязьме и вступить в город не позже 22-го ноября (22 октября. —
Сейчас нам трудно представить себе весь драматизм этой коллизии — этого столкновения представлений о долге и чести.
Героический патриотизм генерал-лейтенанта Ермолова и прагматический патриотизм фельдмаршала Кутузова были принципиально несовместимы. И если Кутузов, скорее всего, был равнодушен к мнению о нем оппонентов и только раздражался, когда его донимали возбужденными требованиями и непрошеными советами, то Ермолов должен был переживать это полное взаимонепонимание достаточно мучительно.
Ермолов описал эту сцену довольно подробно: «Фельдмаршалу докладывал я, что из собранных от окрестных поселян показаний, подтвержденных из Смоленска выходящими жителями, граф Остерман доносит, что тому более уже суток, как Наполеон выступил со своею гвардией на Красный. Не могло быть более приятного известия фельдмаршалу, который полагал гвардию гораздо сильнейшую, составленную из приверженцев, готовых на всякое отчаянное пожертвование».
Кутузов ни за что не хотел ввязываться в бой с самим Наполеоном и его гвардией, от которой ожидал яростного сопротивления. То, что Наполеон ушел с гвардией от основной части своих войск, его, соответственно, обрадовало…
Последним значительным сражением кампании были бои под городом Красным.
В энциклопедическом издании «Большая Европейская война 1812–1815» сказано: «5 ноября 1812 года российская армия генерал-фельдмаршала кн. М. И. Голенищева-Кутузова под г. Красным преградила дорогу корпусу маршала Даву, но встречная атака наполеоновской гвардии из г. Красного помогла французам пробиться. Была отрезана только дивизия генерала Л. Ф. Фридерихса и обозы, в плен взят смертельно раненный бригадный генерал Л. Ф. Ланшантен, 58 офицеров, 6170 нижних чинов…»[48]
Рассказывая о боях под Красным, Алексей Петрович со свойственной ему сдержанностью — оборотная сторона его гордыни! — совершенно не упоминает о собственной в них роли. Он пишет: «Генерал Милорадович, отделив часть войск для собрания в одно место разбросанного по лесам неприятеля, возвратился в Красный, и я сопровождал его».
Но сам Милорадович считал, что Алексей Петрович отнюдь не только его «сопровождал»:
«Его Светлости
господину генерал-фельдмаршалу, главнокомандующему всеми армиями и разных орденов кавалеру, князю Голенищеву-Кутузову Смоленскому
генерала от инфантерии Милорадовича РАПОРТ
Начальник Генерального Штаба, генерал-лейтенант Ермолов, участвовавший в одержанных над неприятелем победах 3, 4, 5 и 6 ноября, при совершенном поражении корпуса маршала Нея находился прежде в отряде генерал-адъютанта барона Корфа, где благоразумными распоряжениями своими ощутительно способствовал успехам. Потом, прибыв ко мне, доставил мне случай быть очевидным свидетелем усердия его к службе, личной неустрашимости и военных способностей, которыми он, исполняя в полной мере должность начальника Генерального Штаба, много способствовал к совершенному поражению неприятеля. Я вменяю себе в приятный долг представить о сем благоусмотрению Вашей Светлости, прося всепокорнейше удостоить особенным вниманием Вашей Светлости службу генерал-лейтенанта Ермолова.
Надо сказать, что простодушный Милорадович лучше относился к Ермолову, чем Ермолов к нему. По воспоминаниям Алексея Петровича разбросаны иронически-ядовитые пассажи, касающиеся графа Михаила Андреевича, высмеивающие его вполне простительные слабости.
К сожалению, ни сам Ермолов, ни Милорадович не сообщили нам о его реальной роли в операции под Красным.
Как бы то ни было, Алексею Петровичу удалось добиться согласия фельдмаршала на командование отдельным отрядом. «Ноября 7-го числа сделал я представление фельдмаршалу: усилив отряд генерала Розена, приказать ему идти вперед и просил поручить его мне.
С особенною благосклонностию выслушав меня, изъявил соизволение, и немедленно сделана перемена в составе отряда. По собственному назначению его поступили лейб-гвардии Егерский и Финляндский полки, кирасирские полки Его и Ее величеств, гвардейская пешая артиллерия и батарейная рота конной артиллерии. Присоединенные баталионы пехоты в числе 12-ти имели при себе полевые орудия… Отправляясь к порученному мне отряду, получил я наставление фельдмаршала в следующих выражениях: „Голубчик, будь осторожен, избегай случаев, где ты можешь понести потерю в людях!“ — „Видевши состояние неприятельских войск, — отвечал я ему, — которые гонит кто хочет, не входит в мой расчет отличиться подобно графу Ожаровскому“. Светлейший воспретил переходить Днепр, но переслать часть пехоты, если атаман Платов найдет то необходимым. Ручаясь за точность исполнения, я перекрестился, но должен признаться, что тогда же решил поступать иначе».
Судя по всему, Ермолов с его постоянными требованиями активности уже надоел фельдмаршалу. А Ермолову было невмоготу оставаться штабным наблюдателем происходящего с редкими возможностями участвовать в боях.
Наконец он получил значительный и в высшей степени боеспособный воинский контингент, но при этом инициатива его оказалась весьма ограниченной. Однако он, как видим, не собирался следовать инструкциям фельдмаршала. Причем в кратком, но выразительном отчете Кутузову от 21 декабря он как ни в чем не бывало констатирует это пренебрежение его наставлениями. Ему было запрещено переходить Днепр, а он пишет, что «7-го числа, получа по воле Вашей Светлости командование отрядом, с коим, переправясь при Дубровне через Днепр, соединился я с бывшим впереди г. графом Платовым; быстрота войск его, а потому и моего отряда, известна Вашей Светлости».
Кампания 1812 года подходила к победоносному концу, но она не оправдала ожиданий Алексея Петровича. Он считал, что ему не дали проявить в полной мере своих полководческих дарований и личной доблести. Процитированный отчет его выглядит вызывающе.
Вслед ему летели директивы Коновницына, которые раздражали его и своим содержанием, и тем, что их автором был Коновницын, которого он невысоко ставил.
Анализируя в своих записках дело под Красным, Алексей Петрович писал: «Генерал-квартирмейстер Толь с настойчивостию доказывал необходимость наблюдения к стороне Днепра и селения Сырокоренья, но дежурный генерал Коновницын, далеко не равных способностей для соображений дальновидных и сложных, отверг его предложение, и, конечно, ему обязан маршал Ней своим спасением».
Директивы и в самом деле были таковы, что Ермолов мог легко без них обойтись, так что дело не только в известном нам высокомерии Ермолова по отношению к вышестоящим, которым он отличался с юности. Коновницын, генерал абсолютной храбрости и самоотверженности в бою, по мнению уважавших его современников, не отличался широтой стратегического мышления.
10 ноября Коновницын писал Ермолову: «Его Светлости угодно, чтоб ваше превосходительство соображали таким образом свои движения, дабы всегда быть в готовности служить подкреплением отряду генерала графа Платова».
13 ноября Коновницын наставляет Ермолова: «По приказанию г. генерал-фельдмаршала честь имею известить ваше превосходительство, что Его Светлость весьма желает, чтобы вы с отрядом своим поспешили соединиться с авангардом генерала Милорадовича в Толочине, сего числа туда прибывшего».
Алексей Петрович в раздражении написал прямо на отношении Коновницына — явно для потомства: «Можно думать, что я отстал от генерала Милорадовича, а я вчера только узнал, что он продвигается вперед, тогда как я гораздо ближе к графу Платову, идущему по пятам неприятеля. И впереди Платова никого нет».
Французы уже форсировали Днепр у селения Дубровны. Корпус Платова следовал за ними по пятам. Ермолов вел свой отряд с максимальной скоростью, надеясь вступить в соприкосновение с неприятелем.
«С возможною скоростию прибыл мой отряд в Дубровну…» Мост через Днепр оказался разрушенным, его пришлось восстанавливать. В примечании к дальнейшему рассказу Ермолов писал: «Некоторые подробности о переправе допустил я потому единственно, что она совершена необыкновенным способом, и в доказательство, что возможно с необыкновенным русским солдатом».
Переправа и в самом деле была «необыкновенная», делающая честь и солдатам, и самому Ермолову, непрестанно контролировавшему и процесс восстановления моста, и переход через него войск.
«Пехота переведена без остановки, также артиллерия, подвигаемая людьми по толстым доскам, постланным вдоль моста. Большие затруднения представляли ее лошади, несмотря на принятые меры осторожности, ибо мост был потрясаем и грозил разрушением. Лошадей двух кирасирских полков не иначе переправили, как спутывая ноги каждой из них и положивши на бок, перетаскивали за хвост по доскам. Лошади казачьих полков перегнаны вплавь. Я поспешил соединиться с атаманом Платовым, который находился на том берегу и требовал пехоты».
Платов прислал Ермолову записку: «Вот Вам, милостивый государь мой, Алексей Петрович, полученная мною от главного начальства бумага. Из оной Вы увидите, что мне можно требовать пехоту, и я надеюсь, что Вы поспешите соединиться со мною; теперь пехота крайне мне нужна, ибо неприятель сильно упорствует… Скорейшее соединение Ваше со мною крайне нужно, а потому и надеюсь, что вы поспешите».
На этом документе есть приписка рукой Ермолова: «Ему донесено, что присоединюсь немедленно, хотя имею предписание ожидать в Толочине генерала Милорадовича, которого я уже прошел».
Предписание это было получено Ермоловым 11 ноября, а записка Платова, стало быть, должна относиться к 12–13-му числу. 18-го числа и Платов, и Ермолов уже присоединились к армии адмирала Чичагова в районе реки Березины.
Сколько-нибудь крупных столкновений с противником у отряда Ермолова, судя по его воспоминаниям, не было. Главной функцией корпуса Платова, отрядов Милорадовича и Ермолова было постоянное давление на французов, с тем чтобы, не давая им организовать снабжение армии, отсекая и уничтожая отдельные формирования, отслеживая совместно с партизанами движение основных сил Наполеона, прижать его армию к Березине и обеспечить ее окружение и уничтожение армиями Кутузова, Чичагова и корпусом Витгенштейна.
Левенштерн, рассказывая со свойственной ему бравадой, чтобы не сказать хвастовством, о том, как он, увлекшись преследованием неприятеля, оказался далеко впереди всей русской армии, попутно набросал живую сцену встречи с Ермоловым. «Показалась голова нашего авангарда, впереди ехал генерал Ермолов; он полагал, что один следует за французами, и был поражен, увидев меня, спокойно покуривавшего трубку в некотором расстоянии от него.
— Храбрый товарищ, лихой Левенштерн! — воскликнул он.
Эти слова сопровождались объятиями и стаканом рома.
Наскучив уловками, какие фельдмаршал употреблял для того, чтобы устранить его от всех дел, генерал Ермолов просил назначить его под начальство графа Милорадовича, и так как близилась развязка великой драмы, то Кутузов нашел возможным отпустить его.
Большая дорога, по которой прошла французская армия, была устлана убитыми, ранеными и умирающими, истомленными голодом и усталостью, и трупами лошадей…
Так как Ермолов шел пешком впереди авангарда, то я сошел с лошади и мы пошли по большой дороге до Дорогобужа…»
Здесь, безусловно, присутствует некоторая путаница во времени, но сама по себе картина — Ермолов, едущий верхом (или идущий пешком?) впереди своего отряда по заснеженной дороге среди человеческих и конских трупов, — помогает воссоздать атмосферу этого последнего этапа «великой драмы».
Норов, прапорщик лейб-гвардии Егерского полка, находившегося в отряде Ермолова, оставил еще более выразительные и развернутые, драгоценные для нас свидетельства этих дней, последних для Алексея Петровича дней кампании.
«От местечка Бараны французы продолжали отступление по Борисовской дороге через Коханова, Толочин и Бобр, столь быстро, что Ермолов и сам Платов едва за ними поспевали. На сем пути мы шли среди пожаров, по обрушенным мостам, где часто перебирались по тлеющим бревнам или вброд. Вьюги и метели застилали след бегущего неприятеля; но взрывы зарядных ящиков и фургонов, груды мертвых тел и издохших лошадей указывали его путь, пушки, обозы стояли брошенными и в некоторых местах в таком множестве, что даже заграждали дорогу. Все местечки, деревни, мызы и корчмы превращены были в дымящиеся груды пепла; видны были только голые закоптелые трубы, разбросанное оружие, ранцы, кирасы, кивера, каски и толпы усталых вокруг угасающих огней.
Казаки везде находят себе продовольствие и редко терпят голод; но пехота Ермолова претерпевала крайний недостаток. Солдаты, офицеры и генералы, все были в одинаковом положении. В ранцах не было ни одного сухаря, ни капли вина в манерках; вьюки отстали на переправах, где обыкновенно их отгоняли, чтоб дать дорогу артиллерии. Мы не имели известия ни о людях (дворовых, сопровождавших некоторых офицеров в походе. —
Алексей Петрович, которому уже приходилось переносить тяготы тяжелых отступлений, обладавший незаурядной физической выносливостью и не менее незаурядным душевным упорством, в подобных ситуациях обладал и гипнотическим воздействием на своих солдат. В заботе о солдатах ему было мало равных. Насколько саркастически, а часто и презрительно относился он ко многим вышестоящим и своим сослуживцам равного с ним уровня, настолько он был искренен в своей любви к солдату и в покровительственной доброте по отношению к младшим офицерам. И подчиненные отвечали ему взаимностью. Эта теплота отношений была одной из причин, по которым он так рвался из штабного холода к строевому командованию.
Отряд Ермолова шел вперед, оторвавшись от баз снабжения и испытывая те невзгоды, о которых столь выразительно рассказал Норов.
Суровый, а часто безжалостный, Ермолов тем не менее не мог оставаться равнодушным к тому, что его окружало. «Потеря в людях (у французов. —
Главная русская армия за время преследования неприятеля быстро сокращалась в численности. Еще 14 ноября Кутузов вынужден был приказать оставить 144 орудия — их некому было обслуживать. Из 120 тысяч штыков и сабель, которые выступили из Тарутинского лагеря, к Березине пришло около 40 тысяч…
Лейб-медик Я. Виллие, руководивший всей медицинской частью армии, доносил Аракчееву еще когда только начались холода: «Причины же умножения в армии больных должно искать в недостатке хорошей пищи и теплой одежды. До сих пор большая часть солдат носят летние панталоны, и у многих шинели сделались столь ветхи, что не могут защитить от сырой и холодной погоды».
Чем дальше, тем тяжелее становилось положение русской армии. Катастрофически не хватало продовольствия.
28 ноября поручик лейб-гвардии Семеновского полка Чичерин записал в дневнике: «Гвардия уже 12 дней, вся армия целый месяц не получает хлеба». Стало быть, хлеба армия не получала с конца октября — то есть самый тяжелый период преследования солдаты проделали впроголодь.
Полушубки и валенки, которые еще в Тарутине Кутузов потребовал от губернаторов, начали появляться в недостаточном числе и очень поздно. Так, Семеновский полк, шефом которого был сам Александр I, проделал всю кампанию в шинелях и башмаках.
Были массовые обморожения. Уже известный нам Радожицкий вспоминал: «Наши так же были почернелы и укутаны в тряпки… Почти у каждого было что-нибудь тронуто морозом». Даже в гвардии были случаи смерти от мороза.
Действия отряда Ермолова были согласованы с планами Милорадовича, притом что Ермолов сам определял свой маршрут.
Они с Милорадовичем действовали как загонщики, своим давлением направляющие Наполеона в намеченную ловушку к Борисову, городу, стоявшему на Березине.
Ермолов должен был ориентироваться и на Милорадовича, и на Платова и делать вид, что следует инструкциям Кутузова, настойчиво внушаемым ему Коновницыным. И тем не менее — это была долгожданная свобода действий.
Во время флангового марша, маневра, выбранного Алексеем Петровичем и открывающего для атак все пространство неприятельского фланга, а не только готовый к бою арьергард, происходили бои частного характера.
Трагедия французской армии на Березине и действия русских отрядов — этот сложнейший клубок кровавых схваток, хитроумных маневров и тактических ошибок — многократно описаны историками. Мы не будем подробно останавливаться на собственно военной стороне сюжета, поскольку Ермолов со своим отрядом оказался на Березине в роли наблюдателя.
Впоследствии, анализируя действия русских генералов в этой операции, он писал: «Свидетель происшествий при Березине, без малейшего в них участия, беспристрастно излагаю я мои замечания».
Но на одно обстоятельство в сюжете — Ермолов на Березине — надо обратить внимание, ибо оно много говорит о многогранности характера Алексея Петровича.
Автор фундаментальной монографии о сражении при Березине, известный историк Отечественной войны В. Харкевич писал: «Известие о переправе Наполеона через Березину было принято общественным мнением России как неудача. Благоприятный оборот войны и все возраставшие успехи возродили надежду, что французская армия не избегнет окончательной гибели. Этим ожиданиям не суждено было осуществиться. Общественное мнение искало виновника неудачи, и таким в глазах современников мог быть только адмирал Чичагов. <…> Неблагоприятное мнение Кутузова дало еще более почвы подобному суждению, и голос всего русского народа вину в том, что Наполеон успел избегнуть грозившей ему участи, сложил на одного человека — Чичагова»[49].
Судьба адмирала Чичагова оказалась еще драматичнее судьбы Барклая де Толли. Барклай, подвергшийся поношениям и обвинению в измене, имел возможность при Бородине и во время Заграничных походов полностью восстановить свою репутацию. У Чичагова подобной возможности не оказалось.
Харкевич пишет: «Лишь немногие из современников Чичагова возвысили голос в его защиту. Ермолов со свойственной ему решительностью высказал Кутузову, что ответственность в благополучном отступлении французской армии должна пасть не на одного Чичагова, а и на Витгенштейна, действия которого были далеко не безукоризненны. Он даже представил фельдмаршалу особую записку о действиях Чичагова на Березине»[50].
Желаемого результата ермоловская записка не принесла.
В этом деле была одна тонкость. Кутузов прекрасно понимал, что и его распоряжения как главнокомандующего способствовали неудаче операции.
10 ноября, когда армия Чичагова подошла к городу Борисову на Березине, адмирал получил письмо от Кутузова, в котором, в частности, говорилось: «Генерал от кавалерии Платов, подкрепленный авангардом генерал-майора Ермолова из 14 баталионов пехоты, двух полков кирасир и двух рот артиллерии состоящим, идет по пятам неприятеля, а главная армия сего 12 числа переправится через Днепр… Легко быть может, что Наполеон, видя невозможность очистить себе путь через Борисов к Минску, повернет от Толочина или Бобра на Погост и Игумен…»
Мысль, что Наполеон, чтобы избежать встречи с русскими отрядами и особенно армией Чичагова, не доходя Борисова, резко повернет на юг и окажется у села Ново-Березово — между селением Погост и городком Игумен, где есть благоприятные для переправы условия, — прочно владела Кутузовым. Об этом же он писал и Александру. Поскольку Борисов был уже занят русскими войсками, то подобное предположение выглядело вполне правдоподобно. И Чичагов пошел к Игумену, что было ошибкой, но ошибкой не только Чичагова.
А Наполеон, искусно маневрируя своими немногочисленными боеспособными частями, сумел ввести русское командование в заблуждение относительно места предполагаемой переправы.
13 ноября Чичагов, чтобы перехватить, как он считал, Наполеона, двинул основные силы своей армии вниз по течению Березины, в то время как французские саперы по грудь в ледяной воде строили переправу в шести верстах выше Борисова. 14-го числа Наполеон с гвардией начал переправу. Когда Чичагов вернулся, значительная часть французов уже была на том берегу. Остатки французской армии дрались отчаянно, прикрывая отступление. Они спасали своего императора…
Чичагов писал впоследствии: «В тот самый день, когда французы силились овладеть переправой через Березину, Кутузов наконец решился перейти Днепр у Копыса, в 25 милях от переправы.
Наступило 15 ноября. Семь дней как мы стояли на Березине; в продолжение пяти дней сражались мы с авангардом, потом с разными корпусами большой французской армии. Ни Витгенштейн, ни Кутузов не появлялись. Они оставляли меня одного с ничтожными силами против Наполеона, его маршалов и армии втрое меня сильнейшей, тогда как сзади у меня был Шварценберг и восставшее польское население. Условленное наше соединение с тем, чтобы нанести решительный удар неприятелю, видимо, не удалось».
Адмирал не совсем справедлив. Силы его не были столь уж ничтожны. У него было порядка тридцати тысяч штыков и сабель при сильной артиллерии.
Силы Наполеона едва ли превосходили его силы. Но Наполеон заставил русское командование свои силы раздробить, а его войска дрались с мужеством отчаяния.
Ермолов, наблюдавший со своей позиции происходящее, понимал всю сложность положения Чичагова. Он снова недоумевал по поводу медленности движения главной армии. 11 ноября он отправил Кутузову письмо, которое иначе как дерзким назвать нельзя: «Я узнал, что армия наша дневала в Ланенке; знаю, что Ваша светлость без особенных причин того бы не позволили. Я по приказанию Вашей Светлости осмеливаюсь сказать мое мнение — ускорить движение армии нужно». И далее: «Нужно армии нашей ускорить движение и не дать неприятелю остановиться».
Насколько Кутузова раздражали понукания Ермолова, настолько же Ермолова бесил темп, которым двигалась главная армия.
В конце концов Ермолов, прекрасно понимая, насколько это может повредить его карьере, ибо судьба Чичагова определена — он выбран жертвой, которую бросят на растерзание общественного мнения, несмотря на это он решился выступить в его защиту.
«Проходя с отрядом моим по большой дороге на Вильну, на ночлег неожиданно приехал князь Кутузов и расположился отдохнуть. Немедленно явился я к нему, и продолжительны были расспросы его о сражении при Березине. Я успел объяснить ему, что адмирал Чичагов не столько виноват, как многие представить его желают. Не извинил я сделанной ошибки движением к Игумену; не скрыл равномерно и графу Витгенштейну принадлежащих. Легко мог я заметить, до какой степени простиралось нерасположение его к адмиралу. Не понравилось ему, что я смел оправдывать его. Но в звании моем неловко было решительно пренебречь моими показаниями, и князь Кутузов не предпринял склонить меня понимать иначе то, что я видел собственными глазами. Он принял на себя вид чрезвычайно довольного тем, что узнал истину, и уверял (хотя не уверил), что совсем другими глазами будет смотреть на адмирала, но что доселе готов был встретиться с ним неприятным образом. Он приказал мне представить после записку о действиях при Березине, но чтоб никто не знал о том».
И Ермолов, и Кутузов здесь равны себе.
Ермолов, с его упрямым стремлением встать на сторону несправедливо обиженного, — он знал, что это такое. И Кутузов, с его добродушно-циничной дипломатией, когда дело касалось отношений с высшей властью.
Наполеон вырвался из смертельной ловушки, и кому-то надо было отвечать перед императором.
Поступок Ермолова был вызывающе благороден, но бесполезен.
В феврале 1813 года Чичагова отстранили от командования, и, оскорбленный, он вскоре навсегда уехал за границу.
21 ноября Кутузов отправил Ермолову «повеление»: «Находя за нужное переменить на короткое время свое местопребывание, я поручил команду между тем над 1-ю Западною армиею генералу Тормасову, почему, Ваше Превосходительство, поспешите прибыть в Главную его квартиру для исправления должности по званию Вашему».
Свободная боевая жизнь закончилась. Он возвращался в положение начальника Главного штаба 1-й армии. Продолжалось это, однако, недолго.
Денис Давыдов утверждал: «Хотя Ермолов был представлен за сраженье при Заболотье в генерал-лейтенанты, но, видя себя всеми обойденным, потому что в приказах не было объявлено о его производстве, он вошел о том с рапортом к князю Кутузову, который оставил это без всякого внимания. Во время вступления наших войск в прусские владения государь был так милостив к Ермолову, что приказал графу Аракчееву узнать, не почитает ли себя Алексей Петрович чем-нибудь оскорбленным; когда был найден его рапорт князю Кутузову, последовал высочайший приказ о его производстве со старшинством со дня сражения при Заболотье».
Как это часто бывает у Давыдова, достаточно точно выстраивая общий сюжет, он смещает существенные детали.
17 декабря, через месяц без малого, император Александр, адресуясь к Кутузову, уже называет Алексея Петровича генерал-лейтенантом. Восстановление справедливости произошло вскоре по прибытии императора в Вильно.
1-я армия под командованием Тормасова заняла Вильно 5 декабря, а 10-го туда прибыл Александр.
Современник оставил нам живое и небезынтересное для нас описание атмосферы первых дней в Вильно.
«Все тщеславятся торжеством над неприятелем и не могут никак по сию пору разрешить загадку сего чудного переворота. Впрочем, только одна бодрость победы и национальный дух оживляют физиономии спавших с лица и весьма похудевших офицеров и солдат. Светлейший превыше всех превозносим ими. За ним Милорадович, коему графиня Орлова-Чесменская прислала меч, богато осыпанный бриллиантами, который подарен был ее отцу от Императрицы Екатерины II. Милорадович общую имеет к себе привязанность. Ему сверх 2-го Георгия дан 1-й Владимира. Генералы, которых за ним хвалят, суть: Раевский, Коновницын, граф Орлов-Денисов, Саблуков, Потемкин и еще несколько. Сказать должно, однако ж, что интриг пропасть, иному переложили награды, а другому недомерили».
Это письмо было отправлено в Петербург 16 декабря.
Ермолов, как видим, среди прославляемых генералов не упоминается. Этому были свои причины. Любимец армии — младшего офицерства и солдат, «кумир прапорщиков» — Алексей Петрович отнюдь не пользовался той же любовью в среде генералитета и был вполне чужд придворным и околопридворным кругам, в значительной мере и создававшим общественные репутации.
Ермолов не занимался искательством у сильных персон. Он делал ставку на свои военные таланты и самоотверженность, которые, как он был уверен, у беспристрастного начальства должны были вызвать соответствующую реакцию.
Он не был интриганом по натуре, хотя и понял значение интриги еще в доме Самойлова. Ведя антибарклаевскую интригу летом 1812 года, он оправдывал себя убежденностью в своей правоте и преданностью интересам Отечества. Убедившись в опасности подобного стиля (злосчастные письма висели зловещим грузом на его репутации в глазах высших — кроме императора), он больше никогда к нему не прибегал.
И враждебность большинства генералитета к нему объяснялась отнюдь не этим инцидентом.
Просто он был другой. Они чувствовали в нем устремления, не подобающие, по их представлениям, царскому слуге. Даже в тяжелые периоды своей военной карьеры он не в состоянии был скрыть «необъятное честолюбие».
В этом рослом красавце, воспитавшемся на Плутархе, Цезаре и Таците, читавшем со своим младшим другом в канун Бородинской битвы как некую клятву настоянные на кровавом героизме песни Оссиана, было что-то опасное.
Конечно, ему и завидовали, когда он стремительно и неожиданно оказался в постоянном поле зрения императора и стал командиром гвардейской дивизии. Но скорее всего, завидовали его популярности среди молодого офицерства и его воздействию на армейскую молодежь. Через много лет генерал Граббе вспоминал: «Действие подобного человека на все, его окружающее, представляя столько прекрасного к подражанию, имеет, однако, свою вредную сторону. Он не любил графа Алексея Андреевича Аракчеева и князя Яшвиля. Мы все возненавидели их, как ненавидят юноши, с исступлением, и я, как ближайший к нему, более других».
Он быстро потерял вкус к интриге, но научился тонко лицемерить. Не любя Аракчеева и не скрывая этого от преданных ему подчиненных, он до конца своей службы демонстрировал лояльность и преданность «Змею».
В генеральской среде того периода существовали спаянные группировки, члены которых поддерживали и выдвигали друг друга. Ермолов ни к одной из них не принадлежал. К концу кампании 1812 года он уже сошелся с несколькими полковниками — Закревским, Кикиным, которые впоследствии станут его друзьями. Дружба с Михаилом Семеновичем Воронцовым, героем Бородина, возникла, очевидно, во время Заграничных походов. Но это была не та корпоративная общность, на которую можно было опереться.
У него не было замыслов полковника Риеги, вождя испанской военной революции, и потому любовь подчиненных — и офицеров, и солдат — не была фактором карьерным. Его забота о них была вполне бескорыстна.
В его рапорте Кутузову от 21 декабря после перечисления своих заслуг он почти такое же место уделяет заслугам своих соратников.
Особо он выделил поручика Михаила Фонвизина, в будущем генерала-декабриста, и штабс-капитана Поздеева, бывшего адъютанта Кутайсова, вместе с которым Алексей Петрович брал, а затем отстаивал «батарею Раевского».
С чем же пришел он к декабрю 1812 года после тяжелейшей кампании?
Насколько справедливы слова Давыдова о врагах Ермолова, которые в продолжение кампании, особенно второй ее — кутузовской — половины, старались «не допускать Ермолова <…> действовать самостоятельно и умалчивать по возможности о нем в реляциях»? Как мы видели — вполне справедливы.
Он пришел к финалу кампании с генерал-лейтенантским чином, но без высших орденов, на которые рассчитывал. Его отличал император, но не любил Кутузов. Он чувствовал неприязнь слишком многих старших и равных, и это постоянно держало его в напряжении.
Прорыва, на который он надеялся и который мог произойти, если бы ему дали по-настоящему проявить себя, не произошло. Он был разочарован. Героический патриотизм требовал адекватного воздаяния.
И было еще одно: сформировавшееся восхищение смертельным врагом — Наполеоном. Теперь, победив его, можно было не просто отдавать ему должное, но и обдумывать причины его недавнего величия.
Радожицкий писал: «Каков был Наполеон, о том все знают <…> полководцы, министры и законодатели перенимали от него систему войны и даже форму государственного правления. Он был врагом всех наций Европы, стремясь поработить их своему самодержавию, но он был гений войны и политики: гению подражали, а врага ненавидели». Это писал человек, проделавший кампанию 1812 года, как итог своих представлений о противнике.
Для Ермолова, который никогда не расставался с мечтами о карьере за пределами обычного, дело не ограничивалось констатацией…
И еще одно окончательно понял он: империя, где в верхах армии во время тяжелейших испытаний, когда на кону судьба государства, идет своя междоусобная война; где путь к «подвигу» как стилю боевого существования преграждают капризы вышестоящих; где судьба военного человека зависит от того, попадет он на глаза императору или не попадет, а это, в свою очередь, определяется симпатиями или антипатиями начальства; где великая энергия войны — этой величественной и благородной формы существования — снедается мелкой суетой и нечистыми страстями; такая империя — не лучший плацдарм для реализации «необъятного честолюбия» и великих планов.
И тем не менее это были его империя, его армия, его Отечество. Он не собирался идти на службу в армию иностранную. Других опор, другого плацдарма у него не было. Используя эти опоры, этот плацдарм, надо было искать новые пути для достижения смутно вырисовывающейся великой цели.
Он понял уже давно, что такие пути есть.
Оказавшись в бурно веселящемся Вильно, где плоды мучительных усилий армии пожинали далеко не всегда те, кто был к этим усилиям прикосновенен, он испытывал чувство горечи, которое донес через года до страниц своих воспоминаний. «Приехал Государь, и в ознаменование признательности своей за великие заслуги светлейшего князя Кутузова возложил на него орден Святого Георгия 1-го класса. Во множестве рассыпаны награды по его (Кутузова. —
Желчь не успокоилась в нем и через добрый десяток лет, а то и больше.
Он снова чувствовал себя, как некогда в приемной графа Самойлова, высокомерным наблюдателем «ярмарки тщеславия», борения честолюбий, сведения счетов — реальных и вымышленных.
Александр и на этот раз — как и при назначении Ермолова начальником Главного штаба 1-й армии — сыграл с ним злую шутку. Алексей Петрович мечтал получить наконец в командование боевое соединение, хотя бы ту же гвардейскую дивизию, которой он уже начальствовал, и доказать окончательно, что он — боевой генерал. Фраза в повелении императора Кутузову относительно того, что «артиллерия <…> имеет надобность в большем устройстве по хозяйственной части», снова делала Ермолова администратором, — начальником артиллерии всех действующих русских армий.
Он хотел сражаться. И сражаться так, как он считал достойным человека военного по определению, солдата, знающего, что такое упоение боем как высшей формой действия. «О благородство рыцарства былого!»
Этот скрытный, суровый, недоверчивый к окружающему миру человек, быть может, сам того не подозревая, исповедовал романтическую идеологию в ее простейшем варианте: ему важен был не тот сомнительный мир, что его окружал, а тот, который подобал «шевалье», поклоннику Оссиана.
В «Наставлении господам пехотным офицерам в день сражения», написанном по поручению военного министра Барклая де Толли, скорее всего, именно Ермоловым как начальником Главного штаба, есть выразительный пассаж: «К духу смелости и отваги надобно непременно стараться присоединить ту твердость в продолжительных опасностях и непоколебимость, которая есть печать человека, рожденного для войны. Сия-то твердость, сие-то упорство всюду заслужат и приобретут победу. Упорство и неустрашимость больше выиграли сражений, нежели все таланты и искусство».
Человек, рожденный для войны…
Как и в первый раз, Алексей Петрович попытался избежать своей участи.
«Я обратился к фельдмаршалу, прося исходатайствовать отмену назначения моего, но он сказал, чтобы я сам объяснил о том Государю. Намерение его было, как тогда сделалось известным, место это доставить артиллерии генерал-майору Резвому».
Александр благосклонно выслушал Ермолова и оставил свое решение в силе.
Все это довольно странно. С одной стороны, Александр явно благоволил генералу. С другой — раз за разом он назначал его на должности вопреки желанию назначаемого, не допуская его до командования боевыми частями.
При этом Александр устроил новому начальнику над артиллерией режим наибольшего благоприятствования: «В облегчение возложенных мною затруднений и ускоряя распоряжения Артиллерийского департамента, Государь приказал мне, составя ведомости о всех необходимо надобных предметах, доставлять их графу Аракчееву, который для немедленного удовлетворения требований будет объявлять волю его инспектору всей артиллерии барону Меллеру-Закомельскому».
Армия должна была выступить в Заграничный поход 1 января 1813 года. Для того чтобы подготовить находившиеся в строю артиллерийские роты, у Ермолова оставалось две недели.
Мы не будем углубляться в подробности первого периода военных действий 1813 года — множество локальных столкновений, в которых, как правило, русские и прусские войска отбрасывали немногочисленные французские части, были прологом основных, ключевых событий этого решающего года.
Ермолов начал новую кампанию, как мы знаем, в новом качестве, отнюдь его не радовавшем. Командование всей артиллерией русских армий было, разумеется, почетным постом, но он мечтал о другом. В этой новой должности на него навалилась масса разнообразных проблем небоевого характера.
Причем решение многих из этих проблем зависело не от него. Формирование батарей из тех орудий, что остались под Вильно, и обучение рекрутов, назначенных в артиллерию, происходили без его участия. Он был в наступающей армии.
Одной из главных задач было снабжение артиллерии зарядами. Но он далеко не всегда мог контролировать движение парков, застревавших на зимних дорогах и не поспевавших за армией. Доставка снарядов и пороха из России тоже была фактически вне его контроля.
Зная Ермолова, мы можем смело утверждать, что он делал все, что было в его силах…
16 апреля в Бунцлау умер Кутузов. Главнокомандующим Александр назначил графа Витгенштейна.
В это же время активизировались французы и нанесли союзникам ряд частных поражений. На театр военных действий прибыл Наполеон.
20 апреля произошло первое большое сражение у города Лютцена. Поскольку непосредственного участия в сражении Ермолов не принимал и только его печальный финал резко отразился на его положении, подробно описывать ход битвы мы не станем.
Союзники потеряли около двадцати тысяч человек.
Эйфория, которая владела русской армией после триумфа 1812 года, кончилась. Было ясно, что Наполеон остался Наполеоном.
Очевидно, кое-кто вспоминал мрачное предсказание Кутузова, сделанное в частном разговоре: «Как воротимся? С мордой в крови!»
Старый фельдмаршал лучше, чем кто бы то ни было, понимал, что победа над Наполеоном отнюдь не обеспечена. Он считал: «Отдаление наше от границ наших, а с тем вместе и способов, может показаться нерасчетливым…» В марте Кутузов писал рвущемуся вперед Витгенштейну: «Я не спорю, сколь полезно было бы захватить более Германии и тем ободрить и поднять народы, но польза сия равна ли будет той опасности, которая нам предстает от последственного ослабления нашего самым тем отдалением и усиливанием неприятеля по той же самой пропорции».
Но теперь уже не он определял стратегию.
Поражение при Лютцене отрезвило Витгенштейна, но провал этот надо было как-то оправдывать. Репутация самого удачливого из генералов была поставлена на карту.
Муравьев передает немедленно возникшие слухи: «Говорили, что Государь хотел на следующий день возобновить сражение, но не сделал сего по причине недостатка в артиллерийских снарядах оттого, что парки наши отстали».
Михайловский-Данилевский в своих «Записках о походе 1813 года» представляет ситуацию несколько по-иному: «Граф Витгенштейн, доложив Императору, что еще на некоторое время останется на поле для распоряжений к завтрашнему наступлению, приказал из парков Главной квартиры армии, только что в этот день поступившей под предводительство его, снабдить снарядами орудия, бывшие в деле. Генерал, в ведении которого сии парки находились, донес, что они далеко отстали, и что снарядов нет. „Так извольте же о сем лично доложить Государю“, — отвечал ему граф, который единственно по причине недостатка в снарядах принужден был отменить намерение свое дать вторичное сражение и на следующий день отступил».
Михайловский-Данилевский не любил Ермолова, которому фактически не нашлось места в его истории Наполеоновских войн, и потому в своей официальной версии событий охотно принял личную версию Витгенштейна.
Вполне возможно, что снарядов и в самом деле не хватало. Но причина отступления союзников была куда серьезнее.
Участник этого боя Норов свидетельствует об отсутствии сколь-нибудь единой системы управления армией: «После сего можно ли удивляться, что, при одинаковой храбрости, победа склонилась на ту сторону, которая была сильнее и где все в мгновение ока приходило в исполнение по повелению одного, опытного и великого полководца».
Предлагает Норов и более правдоподобную причину отступления после тяжких потерь, понесенных русской и прусской армиями. «Впрочем, ничто еще не было потеряно; мы были отражены, но ночевали на месте сражения. К тому же гвардия, исключая стрелков некоторых полков, не была в деле. Тридцатитысячный корпус Милорадовича не сделал еще ни одного выстрела, и с рассветом должен был присоединиться к армии. Он имел довольно сильную артиллерию, следовательно, мог на другой день возобновить сражение; между тем подоспели бы наши парки. Но союзные государи, быв свидетелями сильного урона и узнав, что Лористон занял уже Лейпциг, приказали отступление».
Главная причина отступления союзных армий заключалась в тяжелых потерях и опасении проиграть Наполеону маневренную войну — оказаться атакованными во фланги и в тыл.
Александр хорошо помнил Аустерлиц, а Фридрих Прусский — Йену. Немаловажным фактором, заставившим их принять решение об отступлении, был страх перед Наполеоном. Они не хотели рисковать. Продолжение битвы могло закончиться катастрофой. И они проявили благоразумие.
Версию самого Ермолова, как это часто бывало, закрепил Денис Давыдов: «Граф Витгенштейн, не отличавшийся большими умственными способностями, потерпел здесь поражение; он приписал, как известно, свою неудачу недостатку снарядов к артиллерии, это несправедливое обвинение, повторяемое позднее нашими военными историками, опровергается следующим: во-первых, положительно известно из достоверных источников, кои некоторые наши военные историки не хотели принять во внимание, что Ермоловым, бывшим начальником артиллерии всех армий, было приготовлено снарядов более, чем было их выпущено в Бородинском сражении; а во-вторых, парки, наполненные зарядами, оставались нетронутыми в течение боя, во все время лишь в шести верстах от поля сражения».
К последней фразе Давыдов сделал примечание: «Все мною здесь сказанное основано на документах, хранящихся в артиллерийских архивах».
И далее: «Ермолов, лишившийся поста вследствие этого вполне недобросовестного обвинения, был заменен мужественным, деятельным и остроумным князем Яшвилем <…> который, будучи старее его в чине, находился, однако, под его начальством в этом сражении. Ермолову, кроме того, было приказано главнокомандующим доложить нашему Государю и королю Прусскому о неблагоприятном исходе этого сражения; таким образом, Витгенштейн, желая еще более повредить ему в глазах Его Величества, избрал его вестником неудачи».
По докладу Витгенштейна Александр снял Ермолова с должности начальника артиллерии армий.
Ермолов этой должности не хотел и рад был бы от нее избавиться, но — не таким образом и не при таких обстоятельствах. Это был тяжелейший удар по его самолюбию. Никогда еще за всю службу его не обвиняли в нерадивости и не объявляли виновником поражения.
17 мая он отправил письмо Аракчееву:
«Во время пребывания в Дрездене, ваше сиятельство, рассчитав средства к укомплектованию артиллерии людьми, лошадьми и снарядами, определить изволил пять дней срока на приведение того в исполнение. Прибывшие в Дрезден люди, лошади и парк № 1-го доставили мне возможность исполнить то прежде, а мая ко 2-му числу прибыли к армии и вообще все парки, которые имел я в моем распоряжении. К 7-му числу представил я подробнейший обо всем отчет начальнику артиллерии г. генерал-лейтенанту князю Яшвилю.
Представляя при сем записку и ведомости обо всем, что зависело от моего распоряжения, какие вообще имел я средства, просить всепокорнейше ваше сиятельство осмеливаюсь представить их по рассмотрению Вашем Государю Императору.
Долгое время имевши честь служить под начальством вашего сиятельства, не мог я укрыть от вас образа поведения моего по службе, и не сомневаюсь, что известно вашему сиятельству, что я никогда и ничего не достигал происками, не дозволял их себе и не терпел в подчиненных моих.
По справедливости, ваше сиятельство, никогда не останавливался я обращаться с полною моею к вам доверенностию и теперь, не изменяя правил моих, вас же всепокорнейше упрашиваю представить Государю Императору мои бумаги.
Общая молва обвиняет меня недостатком снарядов. Я все то имел при армии, что имел в распоряжении; более не мог иметь того, что мне дано. Записки мои объяснят вашему сиятельству точное состояние артиллерийской части. Если что упущено мною по нерадению о должности, по недостатку деятельности, я испрашиваю одной и последней милости — военного суда, которого имею все причины не страшиться и единственным к оправданию средством».
Судя по этому письму, дело было уже не только в потере должности, но и в страхе потерять с таким напряжением завоеванную репутацию в армии. «Общая молва обвиняет…» У недругов Алексея Петровича появилась сильная карта.
Очевидно, после Лютцена эта карта была умело и напористо разыграна, и Алексей Петрович почувствовал изменение атмосферы вокруг себя.
Возможно, началось это изменение несколько раньше.
2 апреля 1813 года, незадолго до поражения при Лютцене, поручик Александр Чичерин занес в дневник удивительную запись: «Ермолов был чрезмерно любезен; это его обычная манера, под этой маской он скрывает от тех, кто приближается к нему, свою лукавую прозорливость и незаметно, за шутливой беседой изучает людей.
В начале кампании все верили в чудо: Ермолов был героем дня, от него ждали необыкновенных подвигов. Эта репутация доставила ему все: он получил полк, стал начальником штаба, вмешивался во все, принимал участие во всех делах; это постоянное везение вызвало зависть, его военные неуспехи дали ей оружие в руки, герой исчез, и все твердят, что хоть он и не лишен достоинств, но далеко не осуществил то, чего от него ожидали.
Между тем, насколько я мог заметить, он по характеру свиреп и завистлив, в нем гораздо больше самолюбия, чем мужества, необходимого воину. <…> Ермолов хорошо образован и хорошо воспитан, он стремится хорошо действовать — это уже много».
Думается, что мужества Ермолову было не занимать. Но то, что оно подогревалось гипертрофированным самолюбием, — несомненно.
Вообще, в восприятии Ермолова была некоторая странность. Жуковский в знаменитом сочинении «Певец во стане русских воинов», написанном в сентябре 1812 года, вслед за славословием Кутузову провозглашает:
Хвала сподвижникам-вождям!
Ермолов, витязь юный,
Ты ратным брат, ты жизнь полкам,
И страх твои перуны.
Любопытно, что Ермолов стоит первым в славном ряду — за ним следуют и Раевский, и Милорадович, и Витгенштейн, и Платов, и другие. Самый младший по чину, он стоит первым. И характеристика его — это характеристика не штабиста, но артиллериста: «страх твои перуны».
Но главное — «витязь юный». Ему было в ту пору 35 лет, возраст уже немалый. Да и в армии были генералы куда моложе Алексея Петровича! Но он воспринимался обществом как новое лицо. Его слава только начиналась. И как внезапно она возникла, так же мгновенно могла она и погаснуть.
Ермолов эту опасность остро ощущал.
Отношение к Ермолову в военных кругах было отнюдь не единообразным: от восхищения и преклонения — до настороженного скептицизма и разочарованности. Потому так болезненно воспринял Алексей Петрович обвинение Витгенштейна и слухи о его вине в провале наступления.
Отсюда этот ход ва-банк — требование военного суда.
Военный суд не состоялся. Очевидно, оправдания Ермолова произвели впечатление и на Аракчеева, и на Александра. Высшее руководство осознало, что Ермолов стал жертвой обстоятельств, что он и в самом деле «не мог иметь более того», что было у него в наличии, а движение парков он не контролировал.
Ермолов получил в командование 2-ю гвардейскую дивизию — в конце Отечественной войны, когда количество гвардейских полков увеличилось, была сформирована 2-я гвардейская пехотная дивизия и образован Гвардейский корпус.
У Ермолова наконец появилась возможность воевать так, как он и мечтал.
Письмо Аракчееву было отправлено 17 мая. Ко 2 мая Алексей Петрович наладил снабжение артиллерии зарядами. 7 мая он представил полный отчет о положении в той сфере, за которую недавно отвечал, и передал дела новому командующему.
А 8 мая началось сражение при Бауцене, в котором союзники рассчитывали взять реванш за неудачу при Лютцене.
В отличие от Бородина — с фронтальным столкновением войсковых масс, под Бауценом происходила сложная маневренная игра.
Чтобы представить общую картину этого сражения, в котором Ермолов, оказавшийся наконец на строевой должности, сыграл одну из серьезнейших ролей и доказал, что именно руководство войсками в бою и есть его истинное призвание, стоит обратиться к знакомому нам Чандлеру. Английский историк восстанавливал боевые ситуации кропотливо и беспристрастно:
«Бауцен стал местом двухдневного, крайне ожесточенного сражения, где удача переходила то на одну, то на другую сторону. Если русских было намного меньше, чем французов, зато они хорошо укрепились, имели перед собой реку, тогда как у Наполеона большинство соединений состояло из плохих солдат — и измотанных, и неопытных. С самого начала Наполеон поставил перед собой две задачи, а именно — обойти правый фланг союзников и захватить деревню Хорхирх. Этого было бы довольно, чтобы отрезать противника от Силезии и тем самым отдать его полностью на милость французов. Его план был достаточно прост. <…> В то время как Мармон, Макдональд и Удино будут осуществлять фронтальную атаку противника, сковывая его и изматывая людской состав, Ней и его второстепенные силы обойдут правый фланг союзников, заставив этим Витгенштейна ввести в бой свои резервы и ослабить свой правый фланг. <…> Со своей стороны союзники рассчитывали сдерживать напор французов и изматывать их, а затем начать контратаку вокруг левого фланга французов. Царь был убежден, что Наполеон направит свои главные усилия против левого фланга союзников, с тем чтобы оттеснить их от австрийской границы. Поэтому войска были сосредоточены к югу, в силу чего их правый фланг удерживался довольно слабо»[51].
Александр, жаждавший одолеть Наполеона на поле боя, фактически взял командование на себя…
Первый день не принес решающего перевеса ни одной из сторон. На что, впрочем, противники и не рассчитывали.
События второго, решающего дня имеет смысл увидеть глазами непосредственного участника сражения Василия Норова:
«9 мая погода была прекрасная. Лишь только солнце показалось на горизонте, раздался пушечный выстрел в неприятельской линии, тучи стрелков рассыпались по полям, и началась перестрелка. Под прикрытием своих стрелков и под гром артиллерии подвигались медленно неприятельские колонны, стремившиеся на наш центр и на левое крыло. Но это было ложное нападение, скрывавшее маневр Наполеона противу нашего правого крыла. <…>
Тогда открылась сильная канонада с большой центральной нашей батареи (гвардейской артиллерии), которой командовал капитан Жиркевич; пехота французская наступала скорым шагом, держа ружья под курок; целые ряды падали, осыпанные картечью, другие следовали за ними, как волна за волной, стремились на приступ, восклицая „en avant! Vive l’Empereur!“. Вольтижеры не раз перескакивали ров и влезали на бруствер, но взятые во фланг нашею пехотой, прогоняемы были штыками, устилая поле мертвыми телами.
Маршалы Мармон и Удино, после неоднократных неудачных нападений, прикрыли расстроенную свою пехоту резервною своею артиллерией; но наша, поставленная на выгоднейшем местоположении, господствующем над неприятельскою позициею, и, может быть, действовавшая искуснее, — ибо в неприятельской находилось множество молодых неопытных канониров, — не раз сбивала неприятельские батареи; наконец, удачные нападения нашей конницы заставили неприятельское правое крыло не только оставаться в оборонительном положении, но и отступить к самому Бауцену.
Но когда все шло хорошо в центре и на левом крыле, когда внимание наших генералов обращено было на правое крыло неприятельское, вдруг, около трех часов по полудни, загорелся жаркий бой близ Вюртена: там Сульт и Ней разили наше правое крыло с тыла. Сей превосходный маневр был плод великих соображений Наполеона. С самого утра занимая нас беспрерывными и жаркими нападениями на центр и левое крыло, он приготовил сей, верно разочтенный удар. Колонны Сульта и Нея, маскированные лощинами и курганами, неприметно стянулись к селению Вюртену, обошли наше правое крыло и, по данному знаку, поднялись из лощин и атаковали Барклая и Блюхера в превосходных силах. Французы заняли Креквицкие высоты и деревню Буртвиц, но минутный наш беспорядок был вскоре поправлен».
То, что далее рассказывает Норов, для нас принципиально важно. Во-первых, Норов подтверждает тот печальный факт, что командование взял на себя Александр. Если Витгенштейн, не блиставший полководческими талантами, был по крайней мере опытным профессионалом, то Александр блистал лишь самоуверенным дилетантизмом, сыгравшим роковую роль под Аустерлицем. Во-вторых, мы уже не первый раз сталкиваемся с ситуацией, когда в самый драматический момент в огонь направляли именно Ермолова.
«Император Александр велел генералам Ермолову и Толю вести на подкрепление правого крыла гренадерские полки, Перновский, Кексгольмский, гвардейский Егерский и гвардейский Морской экипаж, что составляло 8 отборных баталионов. Тогда было около четырех часов по полудни; в сие время не только наш правый фланг сбит был с своей позиции, но и корпус Йорка, стоявший в центре, близ деревни Литен, пораженный перекрестным огнем неприятельской артиллерии, действовавшей с отлогой высоты за сею деревнею и с высокого кургана на хребте Креквицких гор, начинал отступать уступами, упираясь левым крылом к батарее и деревне Литен, для избежания продольных выстрелов, поражавших пруссаков с Креквицких гор. Неприятель поминутно усиливал свою артиллерию и приметно направлял ее на упомянутую батарею, дабы, сбив орудия наши и завладев деревнею Литен, прорвать в сем месте наш боевой порядок.
От прежней нашей позиции до деревни Литен оставалось около двух верст ходу; уже поле на сем пространстве начинало покрываться ранеными и рассеянными толпами; в сию минуту генерал Толь, подъехав к голове нашей колонны, где находился генерал Ермолов (стало быть, он возглавлял движение отряда. —
Толь был квартирмейстерским офицером и, скорее всего, содействовал Ермолову в выборе позиции, а командные функции выполнял Алексей Петрович.
Реакция Ермолова чрезвычайно характерна для его боевого стиля — игнорируя превосходство противника, «драться со всею отчаянностью».
Норов, лейб-егерский офицер, находился рядом с Ермоловым и мог с точностью воспроизвести дальнейшие события:
«„Вперед, ребята! — закричал Ермолов вместо ответа. — Государь смотрит на вас“. Мы подошли уже под пушечные выстрелы, в сие время гранаты нас осыпали и с треском лопались среди колонн; потом, обратись к генералу Бистрому: „Когда первый ваш баталион придет к той деревне, что горит, вы его остановите и в ту же минуту вышлите застрельщиков вперед и рассыпьте их между Нилусовой батареей и пруссаками: между тем, я выдвину головы колонн вперед на линию и мы будем деплонировать[52] влево по первому взводу вашего баталиона; — вперед, ребята, ружья наперевес, бегом!“ В несколько минут мы были на назначенном месте и выстроились в развернутый боевой порядок за батареей полковника Нилуса, упираясь правым флангом к деревне Литен, а левым к прусской 6-пушечной батарее. Все это было выполнено с быстротою и в порядке под сильнейшим огнем неприятельских батарей.
Генерал Ермолов послал тот же час уведомить Блюхера о своем прибытии и ожидал от него приказания. Йорк остановил отступное свое движение и построился позади нас в колонны, а прусская гвардия сделала сильное нападение на деревню Буртвиц, вытеснила из нее неприятеля и принудила один Виртембергский баталион положить ружье.
Неприятель отступил на хребет Креквицких гор и продолжал бой одной артиллерией, действуя на выходящий угол, образованный нашею линиею и загнутым правым крылом. Обе армии не двигались с места и продолжали истреблять себя артиллериею. Уже до 30 000 убитых и раненых с обеих сторон свидетельствовали о чрезвычайных усилиях сражающихся, но бой не переставал».
Несмотря на героическое равенство усилий, сражение под Бауценом союзники проиграли.
Взявший на себя командование Александр счел за благо отступить.
Реванша за Лютцен не получилось.
Но миссия Ермолова в Бауценском сражении еще не закончилась.
Он, как мы видели, предотвратил прорыв центра союзной позиции, бросив вперед свои восемь батальонов с лейб-егерями на острие атаки. Это предотвратило разгром, но не предотвратило поражения. Но для того чтобы дать возможность армии отступить в порядке и с минимальными потерями, необходимо было сдержать преследующего неприятеля.
И эту чисто самоубийственную задачу поручили решать Ермолову.
Николай Николаевич Муравьев вспоминал: «В Бауценском сражении мы конечно сделали ошибки; но должно преимущественно приписать сие превосходству сил неприятеля. Витгенштейн также именовался главнокомандующим. Говорят, что распоряжения были такие же смешанные, как во время Лютценского сражения.
Наполеон направил все силы на Барклая де Толли и отрезал его от главной армии. Он не мог удержаться с 8000 против всей неприятельской армии (против правого фланга союзников действовали корпуса Нея и Лористона. —
Десятки орудий спаслись не просто по «особенному счастию», но по «особенному счастию» Алексея Петровича.
Денис Давыдов: «После сражения под Бауценом 9 мая 1813 года А. П. Ермолов, находясь в ариергарде, блистательно выдержал главные натиски французов, коими близ Рейхенбаха предводительствовал сам Наполеон. Дойдя до знаменитой позиции, некогда занятой великим Фридрихом после Гохирхенского сражения, Ермолов отразил здесь все натиски неприятеля. Граф Витгенштейн, отдавая ему здесь полную справедливость, доложил по этому случаю Государю: „Я оставил на поле сражения на 11/2 часа Ермолова, но он, удерживаясь на нем со свойственным ему упрямством гораздо долее, сохранил тем Вашему Величеству около 50 орудий“».
Дело было, таким образом, не просто в упрямстве Ермолова, он удерживал противника, давая возможность артиллерии оторваться от преследования.
Давыдов здесь, будучи по существу прав, смешал, однако, два события.
Бой у Рейхенбаха произошел на следующий день, когда арьергард Ермолова, по-прежнему прикрывавший отход армии, был атакован кавалерийским корпусом генерала Латур-Мабура и пехотой генерала Ренье.
Чандлер пишет: «За это двухдневное сражение каждая сторона потеряла около 20 000 человек. Поражение отразилось на состоянии морального духа союзников; их счастье, что французское преследование было относительно медленным и малоэффективным. Оно началось только 10 мая, и его непосредственным результатом была жестокая схватка с союзниками у Рейхенбаха»[53].
Арьергард Ермолова принял на себя первый, самый ожесточенный натиск преследователей, а затем был сменен войсками Милорадовича.
Но дело 10 мая было эпизодом второстепенным. Главное произошло 9-го числа.
Денис Давыдов недаром писал: «граф Витгенштейн, отдавая ему здесь полную справедливость…» Под Бауценом заслуги Ермолова были столь очевидны, что Витгенштейн, не питавший к Алексею Петровичу особых симпатий, не мог покривить душой.
Витгенштейн доносил Александру о заслугах Ермолова: «В начале сражения при Бауцене 9-го мая, командуя гренадерскими полками Кексгольмским и Перновским и гв<ардейским> экипажем, к которым присоединены были два баталиона л-гв. Егерского полка, по приказанию моему сменил прусские войска корпуса генерала Йорка, шедшего на подкрепление генералу Блюхеру, и, получив еще один баталион прусской пехоты и часть артиллерии, защищал деревню Литен, владеющую дорогами, по обеим сторонам идущими, и препятствовал атакам неприятеля с таким мужеством и упорною храбростию, что и тогда даже, когда прусские войска оставили высоты в центре нашей позиции и неприятельские колонны на них явились, а сильная батарея вступилась против правого крыла его отряда и устроилась на продолжении всех его батарей, не отступал до тех пор, пока не получил на то моего повеления; когда же неприятель, преследуя прусские войска, занял деревню Башуц, находящуюся в тылу его, и я поручил ему ариергард, отступавший через Виршен, и неприятельские колонны, двинувшиеся на Башуц, были уже ближе к большой дороге, дабы отразить его от оной, то, соединяя примерную храбрость свою с решительностию, он обратил конную артиллерию свою на сии колонны и, не взирая на жесточайший огонь с продвигавшихся неприятельских батарей, удержал стремление колонн и, прикрыв отступление свое кирасирами, вышел на большую дорогу и отступил в Виршен, где присоединился к прусскому корпусу генерала Клейста и, составив левое крыло его, дал сильнейший отпор неприятелю и, защищаясь в дефилеях и садах, отступил к ночи на позицию при деревне Кетиц в совершенном порядке, оказав во время сражения отличное искусство в распоряжении и примерную храбрость и мужество, одушевлявшие подчиненных среди самых опасностей».
Такого подробного дифирамба Ермолов, пожалуй, не удостаивался никогда. Восторженные рапорты Милорадовича в ноябре 1812 года носили довольно общий характер.
Помимо того что Ермолов и в самом деле сыграл выдающуюся роль 9 мая, Витгенштейн, возможно, испытывал некоторые угрызения совести по поводу лютценской истории и старался загладить несправедливость. Недаром в воспоминаниях встречаются указания на его рыцарский характер.
Со стороны Витгенштейна это было тем более благородно, что на посту главнокомандующего он был заменен Барклаем де Толли.
В своем коротком рапорте граф очертил все стороны участия Ермолова в сражении: и спасение им центра позиции, и отчаянное сопротивление наседавшим французам при командовании арьергардом… Спасение десятков орудий было лишь одной из составляющих этого многосложного подвига.
Как писал много позже Ермолов в составленном им формулярном списке: «Мая 9-го при Бауцене, где командуемый мною отряд обращен в ариергард, прикрывший отступление значительной части артиллерии и большей части войск, за что получил алмазные знаки Св. Александра Невского».
Если Александру и Витгенштейну не удалось взять реванш за Лютцен, то Ермолов без всякого сомнения взял таковой под Бауценом.
Казалось бы, он мог быть удовлетворен — он получил строевую должность, он с блеском распоряжался своими солдатами в тяжелейших обстоятельствах, ему доверяли ответственнейшие задания, от успеха выполнения которых зависела судьба армии. Это было так, если мерить обычными мерками, которыми пользовались даже самые честолюбивые генералы.
К Ермолову это, однако, не относится.
Сопоставляя реальность и требования своего «необъятного честолюбия», он был, мало сказать, неудовлетворен.
Недели после Бауцена, как это ни парадоксально, были едва ли не самыми мрачными в его военной жизни…
18 мая между воюющими сторонами начались переговоры о перемирии.
Обе стороны в значительной степени истощили свои ресурсы. И той и другой стороне нужно было время, чтобы привести в порядок армии и подтянуть пополнения.
Наполеон снова побеждал, но это были уже не те победы, что под Аустерлицем или Йеной. Он вынуждал противника отступить, но разгромить его не мог. Одной из главных причин была слабость французской кавалерии, лучшие люди и лошади которой остались в России.
Россия и Пруссия, несмотря на безусловную деморализацию, — после ужасающего поражения в России Наполеон возродился как Феникс! — рассчитывали на свои резервы, далеко превосходящие возможности Франции, и на вступление в войну Австрии.
24 мая было заключено перемирие до 8 июля. Во время этого перемирия Австрия, выступившая в роли посредника, должна была предъявить Наполеону согласованные всеми союзниками условия, на которых они готовы были заключить мир и признать право Наполеона на французский престол.
Вскоре после объявления перемирия Алексей Петрович написал и отправил с оказией обширное письмо лучшему своему другу Казадаеву. Письмо это — поразительный документ, куда выразительнее, чем все ермоловские мемуары, рисующий мировосприятие Ермолова, его мрачный и тревожный внутренний мир, столь сильно контрастирующий с внешним рисунком поведения Алексея Петровича — энергичного, изысканно вежливого, саркастически остроумного.
Не забудем, что письмо это было написано после Бауцена, в очередной раз прославившего имя Ермолова, после признания его заслуг Витгенштейном и высокой награды, полученной от императора.
В верхнем правом углу первого листа была начертана красноречивая фраза, свидетельствующая о степени откровенности автора: «Прошу изодрать письмо!»
«Почтеннейший и любезный друг Александр Васильевич! Напрасно стал бы я писать извинения в том, что не писал к тебе. Скажу правду! Пустого писать не хотел, а о деле писать не смел… Представился верный случай, и я душевно рад поговорить с другом, от которого никогда не укрывал чувств моих.
Мы отдыхаем! Не после побед, не на лаврах! Отдыхаем после горячего начала кампании. Перемирие наложило на нас узы бездействия. Скоро оно окончится, и нет сумнения, что действия начнутся с жестокостию. Многие думали, что перемирие сие приведет к миру. Обольщенные надеждою на содействие австрийцев, мнили, что они дадут мир Европе. Дипломаты наши как неким очарованием опоевали нас. Но кажется, что нельзя уже обманываться, а остается только благодарить ловкость дипломатов за продолжительный обман. Австрийцы, кажется, уже не союзники нам. Наполеон господствует над ними страхом, над Францем II родством и законом, к которому привязан он с возможным малодушием.
Перемирие дало нам время усилить нашу и прусскую армии значительно, но я думаю, что Наполеон еще с большею пользою употребил время.
Недавно еще верили мы, что когорты его не согласятся перейти Рейн, набраны будучи для внутренней обороны отечества, что не посмеют предстать пред лицо наше, что страх и ужас в сердце их. В Лютцене встретили мы силы превосходные, сражению дан был вид победы, но по истине она не склонилась ни на ту, ни на другую сторону. Мы остались на поле сражения и на другой день отступили. Армия прусская, потеряв много, имела нужду устроиться и граф Витгенштейн не видал возможности противустоять на другой день. Далее и далее, мы перешли Эльбу и принесли с собою неудачи. Под Бауценом решились дать сражение, многие полагали выгоднее отступить в ожидании, что австрийцы начнут действовать и неприятель, следуя за нами, удобнее даст им тыл свой. Многие из самого преследования неприятеля уразумевали, что Наполеон без уверенности в австрийцах не шел бы с такой дерзостию и так далеко. Бауценское сражение было плодом дерзости людей, счастием избалованных. Граф Витгенштейн желал его, Дибич, достойнейший и знающий офицер, поддерживал его мнение. Говорят, что Яшвиль уверял в необходимости сражения. Могущество Витгенштейна облекло Яшвиля в великую силу. Государь приписывает ему сверхъестественные дарования и с удивлением говорит о нем. Сказывают, что он был причиною сего сражения. Оно было не весьма кровопролитно. Артиллерия играла главную роль. Атак было весьма мало или почти не было, и потому и потеря умеренная. Неприятель искусным движением своих войск, может быть и превосходством сил, а более, думаю, Наполеона искусства и головы растянул нас чрезвычайно и ударил на правое крыло, где Барклай де Толли с известной храбростию и хладнокровием не мог противиться. На центр явились ужасные силы, и генерал Блюхер, опрокинутый, отступить должен был первым. Левое крыло наше по слабости против него неприятеля имело в продолжении всего дня успех, но только отражало неприятеля, а никому не пришло в голову атаковать его и тем отвлечь от прочих пунктов, где мы были преодолеваемы. Я с небольшим отрядом стоял в центре, сменивши корпус генерала Йорка, который послан был в подкрепление Блюхеру. Сей последний, отступая, завел за собою неприятеля в тыл мне. Я с одной стороны был уже окружен и вышел потому только, что счастие не устало сопровождать меня. За три часа до захода солнца определено отступление армии. В 6 часов не было уже никого на поле сражения. Остались три ариергарда, из которых находящийся по центру, самый слабейший дан мне в команду. Я имел на руках шестьдесят орудий артиллерии, должен был отпустить их и дать время удалиться. С особенным счастием исполнил сие. Главнокомандующий с удивлением кричал о сем, конечно говорил Государю, который и сам видел, где я находился, ибо сам дал мне команду и послал туда. Но мне не сказано даже спасибо, не хотят видеть, что я сделал и невзирая, что граф Витгенштейн говорил, что я подарил 60 орудий. Государь относит искусному распоряжению князя Яшвиля, что артиллерия не досталась в руки неприятеля. В лютценском деле также многое приписывают ему, хотя он бомбардировал только двумя артиллерийскими ротами. Ему тотчас дана Александровская лента. Я был в должности начальника всей артиллерии, но и доложить не хотели, что я был в деле, хотя сверх того особенно употреблен был Витгенштейном.
Помню одно письмо твое, чувствительно меня тронувшее, в котором ты с сожалением говорил, что ни в одной реляции не было упомянуто обо мне. Письмо это разодрало сердце мое, ибо я полагал, что ты заключил обо мне как о человеке, уклонявшемся от опасностей. Нет, любезнейший, я не избегал их, но я боролся и с самим неприятелем и с злодеями моими Главной квартиры, и сии последние самые опаснейшие. Они поставили против меня слабой и низкой души покойного Фельдмаршала. Он уважал меня до смерти, но делал мне много вреда. Я в оправдание мое кратко скажу тебе, что в последнюю войну я сделал. Ты, как друг мой, оцени труды мои и никому не говори ни слова.
Против воли Барклая, дан я ему в начальники Главного Штаба, а он не любил меня и делывал мне неприятности. Доволен был трудами моими, уважал службу мою. За сражение 7 августа при Смоленске представил меня в генерал-лейтенанты, относя ко мне успех сего дела. За Бородино, где в глазах армии отбил я взятую у нас на центре батарею и 18 орудий, Барклай представил меня ко 2-му Георгию, весьма справедливо, что его не дали, ибо не должно уменьшать важность оного, но странно, что отказали Александра, которого просил для меня Светлейший, дали анненскую наравне с чиновниками, бывшими у построения моста. В деле против Мюрата я находился. В Малоярославце я был в городе с 7 полками и удержал его до прибытия армии. Награжден одинако с теми, кто не был там. В реляциях обо всех делах нет имени моего. В Вязьме командовал я правым флангом. Нет имени моего, и что странно, что все по представлениям моим награждены, обо мне нет слова. В деле при Красном также ничего не сказано и слышу, что даже и награжден шпагою за несколько дел, когда были обо мне истиннейшие представления. Словом, от Малого Ярославца и до Вильны я был в авангарде и никогда в Главной квартире и никто об этом не знает. Успел придти на Березине к делу Чичагова. К несчастию моему увидел, что Витгенштейн не то делал, что должно, и не содействовал Чичагову. Светлейший велел дать себе о происшедшем записку. Витгенштейн сделался мне злодеем и могущественным. Получа командование армиями, первое, что он сделал, истребил меня и самым несправедливейшим образом. Обратил на меня недостаток снарядов, тогда как их было довольно. Никто не хотел слушать моих оправданий, никто не хотел принять моих бумаг, ясно показывающих недостаток данных мне средств, о которых всегда прежде известно было начальству. У меня взяли командование самым подлейшим образом. Наделали тысячу оскорблений. Вскоре увидел я падение Витгенштейна, от которого он не восстанет. Командовавши 20 т. иметь дело с маршалом Удино, которого и французы удивляются невежеству, и с Наполеоном, разница (имеется в виду прославившая Витгенштейна победа над Удино на Петербургском направлении. —
Место его заступил Барклай, человек мне уже хорошо известный. Он далеко превосходит его способностию, и если в наших обстоятельствах нужен выбор, то кажется мне наилучший. Несчастлив он, по-моему, что кампания 1812 года не в пользу его по наружности, ибо он отступал беспрестанно, но последствия его совершенно оправдали. Какое было другое средство против сил всей Европы. Рассуждающие на стороне его, но множество или нет, кои заключат по наружностям против сего. Сих последних гораздо более и к нему нет доверия. Я защищаю его не по приверженности к нему, но точно по сущей справедливости. Он весьма худо ко мне расположен. Успели расстроить меня с ним. Узнал он, что бывши начальником Главного Штаба я писал Государю, может быть и открыли, что писано было. Беспрестанное отступление, потерянный Смоленск и некоторые прежде сделанные ошибки и наконец приближение к Москве, конечно, не давали мне случая утешать Государя, а сие и сделало мне его неприятелем. Теперь представь, любезный друг, мое положение. Был Витгенштейн главнокомандующим, меня истребил; теперь Барклай истребляет. Что же наконец из меня выйдет? Отняты у меня все средства служить, ибо я сделан начальником 2-й гвардейской дивизии, из четырех полков состоящей, когда прежде командовал я всею гвардиею. Случаи отличиться или сделать себя полезным в гвардии весьма редки, а между тем Барклай, делая расписание армии, дал корпуса младшим, и без всякого самолюбия сказав истину, гораздо менее способным. Мне преграждены все пути. Я хотел просить увольнения в Россию, никто не отпускает.
Итак, с охлаждением к службе и погасшим усердием и отвращением к ремеслу моему должен я служить. Тяну до окончания войны с сожалением о теряемых трудах моих. Война кончена, и я не служу ни минуты! Я умел постигнуть ничтожность достигаемой людьми ремесла нашего цели. Исчезло предубеждение, что одно только состояние военное насыщать может честолюбие человека. Военное состояние терпит каждого человека, но надобно быть или верховных дарований, чтобы насладиться преимуществами оного, или быв обыкновенным человеком в степени моей бежать неразлучных с ним неприятностей. Я себя чувствую, знаю и клянуся всем, что свято, не служить более. Хочу жить, не быть игралищем происков, подлости и самопроизвольства. Не зависеть от случайностей. Мне близко уже к 40 годам. Ничем не должен, исполнил обязанности. Излишне балован не был, не испортился. Служить не хочу и заставить меня нет власти.
Рекомендую тебе подателя сего адъютанта моего капитана Поздеева, бывшего прежде адъютантом покойного Александра Ивановича. Он его любил и он его вспоминает с особенным чувством. Офицер предобрый, получивший орден из первых трех в армии. Он служил при мне и тебе все обо мне сказать может.
Дай Бог мира по многим причинам. Я и для того хочу, чтобы обнять тебя, любезный друг. Прощай! Не скучай, что я намучил тебя бесконечным письмом моим. Прости резкость его. Мое почтение Надежде Петровне и благодарность за благосклонное ее расположение ко мне, которое я душевно уважаю, как доброй родной моей. Поцелуй сыновей и агличанина, который будет необыкновенным человеком. Научи их мерзить военной службой для их счастия. Люби меня как прежде. Я тебя и знать и почитать умею. Прощай!
Мы целиком привели этот обширный текст, потому что в нем значима каждая деталь. Полагая Витгенштейна не без оснований своим недоброжелателем, Алексей Петрович считает необходимым напомнить, что «как человек имеет он прекрасные свойства». Весьма любопытно и то, что говорит Ермолов о Барклае и его безусловной правоте и о несправедливости отношения к нему многих.
Создается впечатление, что он и в самом деле готов оставить военную службу и отдает долги.
При этом он, как всегда, скромен, он ни слова не говорит о том, что при Бауцене спас от прорыва русский центр.
Загадочное дело — почему Александр, получив восторженный рапорт Витгенштейна, как утверждает Ермолов, даже не поблагодарил его? Все еще гневался за лютценское дело? Но если бы гневался всерьез, то вряд ли доверил гвардейскую дивизию.
Странно. И таких странностей в карьере Алексея Петровича немало.
В его сетованиях на равнодушие и коварство начальников и сослуживцев слышится какая-то детская обида. Он забывает об особенностях своего характера. Он объясняет враждебность к себе исключительно своей прямотой и неумением скрывать свое мнение — и в случае с Барклаем, и в случае с Витгенштейном и Чичаговым.
О его неуживчивости говорят многие из мемуаристов, но крайне редко приводятся конкретные примеры. Собственно, кроме писем Александру лета 1812 года, записки Кутузову в защиту Чичагова и нескольких злых сарказмов против «немцев» нам ничего не известно.
Скорее всего, дело было отнюдь не только в этом.
Дело было в его грандиозной самооценке (что бы он ни писал Казадаеву о своей заурядности), в стиле его поведения — под изысканной вежливостью и настойчивой приветливостью к низшим и твердостью по отношению к высшим чувствовалось нечто более глубокое: от него исходила эманация гордой значительности, которую ясно ощущали окружающие — от прапорщика до императора. Одних это восхищало, других настораживало.
Его внутренняя надменность, которую он старался скрыть под личиной фрондера, остроумца и мастера обаяния, исконное высокомерие, которое — он это знал — было неприемлемо для вышестоящих и могло отпугнуть стоящих ниже, требовали постоянного самоконтроля.
Его часто подозревали в двуличии. Он не был двуличен. Просто ему приходилось постоянно и мучительно играть с самим собой. И эти усилия не удавалось скрыть. Вспомним сколь недружелюбную, столь и проницательную характеристику Щербинина.
Тоньше всех это понял Пушкин, написавший после длительной беседы, что Ермолов становится органичен, только когда задумывается, то есть перестает контролировать себя — играть.
Можно было по-разному относиться к Раевскому, Воронцову, Милорадовичу, Коновницыну, но они были понятны. Ермолов был непонятен. Его нужно было разгадывать.
Великий князь Константин Павлович, ему искренне симпатизировавший, упрекал его в скрытности. А он не мог стать открытым. Было бы еще хуже…
С обычной точки зрения, несмотря на все несправедливости, которые он испытывал, дела его были вовсе не дурны. За несколько лет он, «завалявшийся в подполковниках», стал генерал-лейтенантом, возглавлял Главный штаб армии, получил несколько орденов и шпагу за храбрость, теперь начальствовал над гвардейской дивизией, что было весьма почетно.
Но разрыв между реальностью и «необъятным честолюбием», тем, кем он был по своему положению, и тем, кем он хотел бы себя видеть, был мучителен. В этом состоянии любая, даже мелкая несправедливость казалась смертельным оскорблением.
Приведенное нами письмо — образец такой горько напряженной рефлексии, на которую вряд ли был способен кто-либо из его друзей.
Если бы он ушел в отставку, это было бы для него катастрофой. Он был беден. Он был неспособен к статской службе. Только на военной службе, только на полях сражений мог он хотя бы в какой-то степени воплотить мечты о будущем величии, возникшие некогда под влиянием чтения Плутарха и Цезаря.
И последнее. Для передачи этого письма он выбрал капитана Поздеева, адъютанта погибшего Кутайсова, того Поздеева, который рядом с ним отбивал у французов батарею Раевского и защищал ее. Он оставил Поздеева при себе. Он не хотел расставаться с ним в память о Кутайсове. Заметим, он не пишет о привязанности Поздеева к нему, Ермолову, он пишет о его верности погибшему Кутайсову. И это он, Ермолов, в нем ценит.
Случай — «могучее орудие Провидения», как сказал Пушкин.
Если бы Ермолов, обуреваемый обидой, добился отпуска в Россию, то и его жизнь принципиально изменилась бы, да и на отечественной истории это ощутимо сказалось бы.
Уехав на время в Россию, Алексей Петрович мог пропустить битву при Кульме, свой звездный час в Наполеоновских войнах, когда его упрямое мужество спасло русскую армию и предотвратило провал всей кампании.
Наполеон мог удержаться на троне, заключив выгодный мир, а Ермолову не бывать проконсулом Кавказа…
Когда Алексей Петрович писал свое письмо Казадаеву, он еще не знал, что император решил наградить его по представлению Витгенштейна алмазными знаками ордена Святого Александра Невского.
Это в известной степени сгладило ситуацию.
После многочисленных локальных столкновений, которые приносили успех то одной, то другой стороне, армия Наполеона и русско-прусско-австрийские войска сошлись в Саксонии у Дрездена.
Из переговоров во время перемирия, как и следовало ожидать, ничего не получилось. Россия, Пруссия и Австрия твердо решили уничтожить империю Наполеона. Австрия, выступая в качестве посредника, предложила Наполеону заведомо неприемлемые условия — он должен был отказаться от созданного им герцогства Варшавского, то есть предать поляков, самоотверженно за него сражавшихся, вернуть Австрии основную часть отторгнутых у нее земель, восстановить Пруссию в границах до разгрома 1805 года, распустить Рейнский союз — то есть вернуть Францию в границы донаполеоновских побед.
Наполеон, разумеется, отказался.
Австрия объявила войну Франции.
Гигантскими усилиями и та, и другая стороны сосредоточили на будущем театре военных действий огромные армии. Общая численность войск союзников, к которым присоединилась шведская армия во главе с французским маршалом Бернадоттом, ставшим наследником шведского престола, достигала 800 тысяч штыков и сабель. Наполеон мог рассчитывать на 700 тысяч.
И у той, и у другой армии были свои сильные и слабые стороны. Но во главе одной из них стоял Наполеон…
14 августа союзная армия безуспешно штурмовала Дрезден. Во время штурма к Дрездену прибыл Наполеон с гвардией. Союзники отступили.
Решающее сражение началось на следующий день.
В работе А. А. Подмазо «Большая Европейская война» дана лапидарная и четкая картина битвы. Мы ограничимся этими сведениями, так как гвардейская дивизия Ермолова в сражении не участвовала. Она была отправлена к Богемским горам на помощь корпусу принца Евгения Вюртембергского, ослабленного большими потерями.
Но представлять себе ход сражения под Дрезденом нам полезно, ибо его исход определил дальнейшие события и участие в них Ермолова.
«Под Дрезденом неприятель предпринял атаку на оба крыла союзной армии и занял Корбиц и Зейдниц. Австрийский генерал-майор Д. Андрасси убит. Смертельно ранен ехавший возле императора Александра I дивизионный генерал Моро. Австрийская дивизия фельдмаршал а-лейтенанта Л. Меско у д. Плауэн была отрезана неприятелем <…> и сдалась в плен в полном составе. В плен взяты фельдмаршал-лейтенант Меско и генерал-майор Ф. Сечен. Вечером маршал Ней с молодой гвардией предпринял нападение на правый фланг союзников и захватил Лейбниц. Фельдмаршал князь К. Ф. Шварценберг (главнокомандующий союзной армией. —
Это было третье поражение союзников, причем чреватое самыми тяжкими последствиями.
Отброшенная от Дрездена союзная армия должна была отступать по гористой местности, по узким долинам. Если бы Наполеону удалось заблокировать выход армии на свободное пространство близ города Кульм, то русские, австрийцы и пруссаки оказывались в ловушке. Обеспечить возможность выхода армии из горных дефиле должны были 2-й корпус принца Евгения Вюртембергского и 1-я гвардейская дивизия Ермолова[57]. Начальство над этим сводным отрядом поручено было генерал-лейтенанту графу Остерману-Толстому.
Барклаю де Толли, отправившему Остермана и Ермолова на подкрепление 2-го корпуса, было понятно, сколь сложную задачу ставит он перед этими двумя генералами, известными своей неустрашимостью и готовностью стоять до конца в любых обстоятельствах. Есть свидетельство, что, напутствуя Остермана, он сказал ему: «Вы найдете там перед Кенигштейном принца Евгения с семью баталионами. Идите на смерть. Вы не получите подкреплений».
Путь к Теплицу, куда надо было успеть раньше французов, состоял из боев разного масштаба. Причем заранее было ясно, что войскам, на которые возложена задача такой важности, будут противостоять силы превосходящие. И 2-й корпус — вернее то, что от него осталось, — и 1-я гвардейская дивизия находились к Теплицу гораздо ближе основных союзных сил, и, как трезво заявил Барклай, скорых подкреплений ждать не приходилось. Отправляя в этот роковой пункт именно Ермолова и подчиняя весь отряд Остерману, Барклай знал, что делал.
Флегматичная отвага Остермана была известна. В бою, когда французская артиллерия крушила его корпус, к нему обратились с вопросом: «Что делать?» — он невозмутимо ответил: «Стоять и умирать».
В этом случае они составили с Ермоловым идеальную пару. Смысл этого сочетания заключался еще и в том, что Остерман отнюдь не был болезненно честолюбив и, зная цену Ермолову, не ревновал к его репутации.
Муравьев вспоминал: «Я отыскал Остермана. Он сидел на барабане среди чистого поля; войска его стояли в колоннах… <…> Пожав мне руку, он приказал сказать Алексею Петровичу, что ожидает его с нетерпением, ибо советы Ермолова будут служить ему приказанием, хотя Ермолов в чине был и моложе его. Я выехал к Ермолову навстречу, и он соединился с Остерманом».
С командиром 2-го корпуса генерал-лейтенантом принцем Евгением Вюртембергским дело обстояло значительно сложнее. Корпус его после тяжелых боев находился в состоянии весьма плачевном. Норов писал: «В полдень 14 числа первая гвардейская дивизия, составленная из трех гренадерских полков, одного Егерского и 24 орудий, из коих 12 конной артиллерии, пришла на высоты над Пирною, возвышающиеся со стороны Дрезденской дороги. Мы были в первой линии в баталионных колоннах к атаке; второй корпус, в прошедшую кампанию претерпевший сильный урон, и в коем оставалось не более 1800 человек, выстроился во второй линии. Полки сего корпуса были так слабы, что состояли из одних разодранных знамен, окруженных небольшими кучами от 80 до 100 человек; но все были храбрые солдаты, покрывшие себя бессмертной славой, особенно при Валутине и Эйсдорфе; ими начальствовал неустрашимый принц Евгений».
Если попытаться суммировать все свидетельства, то можно предположить, что численность отряда составляла от 13 до 15 тысяч штыков и сабель.
Силы маршала Вандама, закрывавшие дорогу союзникам к Теплицу, превосходили его как минимум в два раза.
Принц Евгений оставил подробные воспоминания о кульмском деле. Они в очередной раз дают представление о характере взаимоотношений в генеральской среде, а главное — выявляют истинную роль Ермолова.
«Рано утром, 27-го августа (по «новому», то есть европейскому стилю. —
Если учесть бытующие тогда нравы, ситуация сложилась щекотливая.
Из трех генерал-лейтенантов Остерман был старшим в смысле получения чина, но принц Евгений был кузеном императора. Все же Барклай де Толли счел нужным прислать в качестве главного начальника графа Остермана, которому полностью доверял.
Принц Евгений недаром говорит о формальных отношениях между Остерманом и Ермоловым. Он не без оснований подозревал, что главную роль предстоит играть именно Ермолову.
«Хотя я уважал генерала Ермолова, но мне не приходилось, однако, ему подчиняться, так как я был старше его в чине; я не получил никакого приказания, которое бы предлагало мне передать начальство Остерману. Старшинство в чине при настоящем положении графа не было достаточно, а Ермолов без Высочайшего разрешения, даже и по званию начальника штаба (ошибка мемуариста. —
Судьба армии висела на волоске, а между тремя генерал-лейтенантами не было согласия относительно полномочий.
Принц Евгений пишет: «В моем штабе было какое-то неудовольствие против генерала Ермолова, которого обвиняли в том, что он, прикрываясь личностью Остермана, хотел быть сам главным распорядителем».
Скорее всего, так оно и было. У Ермолова был этот опыт со времен 1812 года, когда он отдавал приказания именем сперва Барклая, а потом и Кутузова, не ставя их в известность.
В данном случае было еще проще. Мы помним заявление Остермана, что «советы Ермолова будут служить ему приказанием».
Принц Евгений с каждым часом укреплялся в правоте своих подозрений: «Из донесения адъютанта я узнал, что он нашел Остермана сидевшим на барабане и пристально смотревшим в землю. Вахтен обратился к Ермолову, который в ту же минуту дал приказ на выступление».
И еще одна выразительная фраза: «Граф Остерман, сколько мне известно, почти во все время битвы находился вблизи генерала Ермолова».
Не Ермолов вблизи своего командующего, но — наоборот.
Подробный рассказ Николая Николаевича Муравьева, помимо всего прочего, подтверждает впечатление принца Евгения.
«Оставив квартирьеров в Теплице, мы поскакали к селению Кульм, где происходило сражение, и явились к Ермолову, который тут начальствовал вместе с Остерманом. Ермолов расспрашивал нас, скоро ли к нему придет подкрепление, где находятся войска наши, государи и проч. Австрийцы, собрав части разбитой армии своей, вместо того, чтобы подкрепить Ермолова, ушли, полагая все пропавшим. Остерман и Ермолов были отрезаны от главных сил, когда они дрались под Приной. Узнав о поражении и отступлении союзников, они общим советом положили отступать к Теплицу. <…> Отряд их состоял из 1-й гвардейской дивизии (8000), двух эскадронов лейб-гусар и нескольких слабых баталионов, оставшихся от сильно пострадавшего корпуса Остермана (речь идет о 2-м корпусе Евгения Вюртембергского. —
Сражение было уже в полном разгаре, когда я и Даненберг (квартирмейстерские офицеры. —
Мы держались у подошвы гор, а французские резервы стояли частью на полугоре, частью же на спуске у подножия гор. Орудия их действовали по нашим колоннам. На правом фланге нашем вовсе не было войск, кроме вышеупомянутого австрийского эскадрона. С этой стороны расстилалась обширная равнина и прикрывавшая нас незначительная речка; у французов показывалось с этой стороны несколько конницы. Непонятно зачем они не послали ее к нам во фланг. И пехота их легко могла бы предупредить нас сим путем в Теплице, отрезать или истребить; но кажется, что Вандам презрел малым числом нашим, ибо он постоянно оставался в горах и посылал войско в бой только малыми частями. <…>
Спустя час после приезда моего к Ермолову он послал какое-то приказание на левый фланг. Мы с Даненбергом бросились, чтобы передать оное, но как Даненберг опередил меня, то я возвратился, не отскакав более 20 или 30 сажен. Возвратившись к Ермолову, я застал гр. Остермана только что раненного. Он не свалился с лошади, но отбитая ядром выше локтя рука его болталась. Он был бледен, как смерть. Двое из окружавших поддерживали его на седле под мышками. Его отвезли назад, где отрезали ему руку. <…>
После гр. Остермана Ермолов оказался главным начальником в сем сражении, где, в сущности, участвовала только его гвардейская дивизия, потому что 2-й корпус, изнуренный от трудов и много потерпевший в прежних делах, совершенно исчез. У рассыпавшихся по кустам сзади людей (2-го корпуса. —
Но это был еще отнюдь не перелом ситуации.
«Наконец Вандам предпринял атаку, которой надеялся решить победу на свою сторону. Он собрал густые колонны и послал их на штыки взять батареи подполковника Бистрома (младший брат генерала Бистрома. —
Ермолов приказал 2-му баталиону л. — гв. Семеновского полка идти на защиту орудий. Никогда не видел я что-либо подобное тому, как баталион этот пошел на неприятеля. Небольшая колонна эта хладнокровно двинулась скорым шагом и в ногу. На лицах каждого выражалось желание скорее столкнуться с французами. Они отбили орудия, перекололи французов, но лишились всех своих офицеров, кроме одного прапорщика Якушкина, который остался баталионным командиром (известный в будущем декабрист. —
Норов писал: «Около двух часов по полудни мы были атакованы с фронта шестью колоннами и множеством стрелков; между тем до 7000 пехоты обошли нас справа и овладели деревнею Пристеном и неустрашимо шли дальше по Теплицкой дороге густою колонною с барабанным боем. Полки Измайловский, Егерский и Семеновский уже много претерпели; многие полковники, большая часть офицеров были ранены или убиты; вся первая линия, вытесненная из садов и деревни, отступала, отстреливаясь, устилая поле телами. Должно признаться, что тут одна удачная кавалерийская атака могла бы нанести сильный удар. <…>
Около четырех часов усмотрели пыльные тучи, несущиеся по Теплицкой дороге; наконец показались гвардейские уланы и драгуны под предводительством Дибича. Тогда вся наша пехота, сомкнутая в колонны Ермоловым, двинулась вперед, чтобы одновременным нападением положить конец утомительной битве. Настала решительная минута! Увидели второе Моренго».
Любопытно и симптоматично, что Норов в качестве сравнения выбрал одно из самых драматичных наполеоновских сражений, в котором Бонапарт, казалось, уже проигравший австрийцам, получил неожиданное подкрепление и разгромил противника.
Наполеон был не только врагом, но и высоким образцом…
Кризисных эпизодов под Кульмом было немало. И каждый раз Ермолов решительно восстанавливал положение.
Норов: «Французы стояли в колоннах, в двух линиях с артиллерией и совершенно перерезали дорогу. Здесь-то Преображенский полк покрыл себя безмерною славой: под предводительством генералов Ермолова и Розена, он атаковал неприятеля холодным ружьем, истинно суворовским ударом опрокинул и загнал его в лес. Таким образом дорога, устланная неприятельскими трупами, была для нас открыта, движение продолжалось».
Следующий пассаж в воспоминаниях Муравьева принципиально важен для нас — он свидетельствует, что в сознании молодых офицеров Ермолов, «русский Роланд», был противопоставлен армейским верхам, группировавшимся вокруг императора. «Между тем, как Ермолов держался с 6000 против 40 т., государи (Александр I и прусский король. —
Император Александр, очевидно, только теперь понял степень грозившей опасности. То, что изначально осознал Ермолов, решившийся умереть со своими солдатами, но не отступить.
По окончании боя Вандам, скованный батальонами Ермолова, был окружен подошедшими силами главной армии и попал в плен. Ермолов, наученный горьким опытом, понял, что теперь начнется дележ успеха, и постарался по возможности защитить от несправедливости своих офицеров и солдат. «В 9 часов вечера пришел гренадерский корпус Раевского, у которого было не более 8000 под ружьем. Хотя Ермолов и был дружен с Раевским, но он не позволил ему занять в ту ночь передовые цепи для того, чтобы в этот знаменательный день не торжествовали другие войска, кроме одних гвардейцев 1-й дивизии, коим исключительно принадлежал успех. Сам он ездил по цепи, уговаривая людей своих терпеливо провести еще сию ночь в караулах».
В своих опасениях Алексей Петрович не ошибся.
Муравьев: «Слава битвы 17 августа под Кульмом должна была принадлежать одному Ермолову; но многие воспользовались сим случаем. Милорадович действовал под советами состоявшего при нем какого-то капитана Аракчеева, Измайловского полка. Генералы Главной квартиры тоже хлопотали, когда все кончилось. Они хвастались своими подвигами и получали награды. Удивительно, что и генерал-интендант Канкрин не получил тоже 1-го Георгия за сие сражение, ибо он, помнится мне, был в то время в Теплице. <…> Пребывая в Теплице, многие из членов нашей Главной квартиры заботились о приписании себе чести победы, тогда как настоящий победитель, Ермолов, оставался с войсками на поле сражения и мало беспокоился о том, что говорили».
Тут Муравьев неправ — Ермолова очень заботила реакция императора. Но реакция армии, офицеров и солдат заботила его ничуть не меньше. Он сознавал шаткость своего положения перед лицом враждебного генералитета и в той игре, которую он полуосознанно вел, ему необходим был противовес этой враждебности.
Герой выигранной спасительной для армии битвы, ночующий со своими солдатами на поле боя, вместо того чтобы праздновать победу в уютном Теплице в кругу высших, — это был персонаж складывающегося мифа.
Принц Евгений Вюртембергский утверждал, что в конце сражения дивизия Ермолова была заменена гренадерами Раевского. Но Муравьев предлагает иную версию — она подтверждается воспоминаниями адъютанта Ермолова Матвея Муромцева: «Приезжает генерал Раевский, ушедший с корпусом прежде всех, с тем, чтобы наш корпус сменить для отдыха, а свой поставить на наши места. Но Ермолов отклонил это распоряжение тем, что ночью может произойти беспорядок; настоящая же причина была та, что после в реляции сказали бы, что Раевский, а не Ермолов окончил сражение. Так, по крайней мере, думал Ермолов».
Воспоминания Муромцева благодаря своей бесхитростности выглядят особенно убедительно. В отличие от напряженной патетики Норова и сосредоточенности Муравьева на собственно боевых эпизодах Муромцев естественным образом перемежает рассказ о жестоком кровопролитии неизбежными бытовыми сценами: «Накануне Кульмского дела мы, дравшись целый день, поздно вечером остановились в Пирне в королевском замке. Затопили камин, и Ермолов, сняв сапоги, поставил их сушить. Мы все дремали, как вдруг начинается канонада. Все вскочили, чтобы ехать. Алексей Петрович хочет надеть сапоги; оказалось, что один сгорел. Денщики, Бог знает, куда девались. К счастью, на рассвете отыскал я камердинера его Ксенафонта, и генерал надел сапог. Алексей Петрович бывал всегда в неприятном нраве, когда намочит ноги, и тогда адъютанты избегали входить к нему в комнату. Он зовет, никто не идет. Наконец адъютанты меня просят войти к нему. Я предварительно взял стакан чая, до которого Алексей Петрович был охотник. Вот, сказал генерал, ты меня любишь и не забываешь меня. Дурное расположение духа прошло, и адъютанты вошли к нему смело». И следом за этим анекдотическим случаем: «В это ужасно жаркое дело у меня были изранены пулями две лошади, но одну я тут же купил у раненого Обрезкова. Под Фон-Визином убито пять лошадей. Позицию отстояли. Дороги, по которым ретировалась вся армия от Дрездена, были нами защищены; в противном случае Бог знает что произошло бы. Подписали бы постыдный мир!»
Разумеется, недруги Ермолова прекрасно понимали, что признание его ведущей роли в кульмской победе и, стало быть, признание его спасителем армии поднимает военный авторитет Ермолова на высоту, труднодостижимую для интриг. Единственным средством хотя бы отчасти нейтрализовать последствия этого признания было выдвижение вперед еще рада претендентов на героическую роль. Что и было сделано.
Однако в данном случае интрига удалась только в малой степени.
По свидетельству Давыдова, узнав обстоятельства сражения, император Александр сказал: «Ермолов укрепил за собою гвардию».
Погодин сделал к тексту Давыдова любопытное примечание: «У меня слова эти приписаны великому князю Константину Павловичу. Сражение Кульмское решило судьбу кампании и погибель Наполеона. Государь был в восторге. На месте битвы он надел на победителя орден Св. Александра Невского, а великий князь Константин Павлович сказал: „Ермолов укрепил за собою гвардию“. До Кульмского сражения Ермолов имел гвардии только ad interim[58]».
На Алексея Петровича обратили благосклонное внимание как австрийская императорская чета, так и прусский король.
С этого момента карьера Алексея Петровича, которую еще несколько недель назад он считал конченной, получила новый сильнейший импульс, равно как и его мечты о необыкновенном будущем…
У Давыдова приводится эпизод, свидетельствующий, что успехи Алексея Петровича — и прежде всего победа под Кульмом — базировались не только на его абсолютном мужестве, умении стремительно ориентироваться на поле боя и готовности «драться со всей жестокостию», но и на фундаментальном профессионализме, чего так не хватало большинству русских генералов-храбрецов: «Съехавшись с Остерманом среди дороги между Доной и Пирной и объявив ему об истинном движении союзников, поспешно отступающих в Богемию, Ермолов настоятельно требовал немедленного движения всего отряда на Петерсвальде. Как бы предчувствуя, что гвардии придется отступать в Богемии, Ермолов послал заблаговременно адъютанта своего Фон-Визина и состоявшего при нем лейб-гусара Мамонова для осмотра дорог. <…> Ермолов, основательно изучивший классические страны: Саксонию и Богемию, и имевши при себе всегда карту Бакенбергера, объяснил по ней Остерману всю необходимость движения на Петерсвальде. „Прибыв лишь накануне из Гигсгобеля, где я обедал у Цесаревича (вряд ли случайное упоминание. —
В отличие от принца Евгения граф Остерман на всю жизнь сохранил благодарность Ермолову за Кульм.
Погодин рассказывает: «В одно из моих путешествий, кажется в 1846 году, мне случилось встретиться в Париже с женевским священником Каченовским, который передал мне, что старик Остерман, живший тогда в Женеве, велел ему непременно достать портрет Ермолова. Я тогда же передал это желание Алексею Петровичу и оно доставило ему большое удовольствие».
Через пять дней по завершении Кульмского сражения Ермолов отправил несколько оправившемуся от раны Остерману рапорт, излагающий обстоятельства боя. Остерман ответил ему запиской, написанной неразборчивым почерком уцелевшей правой рукой: «Довольно возблагодарить не могу ваше превосходительство, находя лишь только, что вы мало упомянули о генерале Ермолове, которому я всю истинную справедливость отдавать привычен».
Этот подробный рапорт необходимо здесь привести, поскольку он систематизирует события, а главное, в очередной раз демонстрирует особость характера Алексея Петровича — удивительное сочетание высочайшей самооценки с некой демонстративной скромностью.
«г. Теплиц в Богемии 22 августа 1813 г.
Г. Генерал-лейтенанту и кавалеру
графу Остерману-Толстому
Командующего 5-м корпусом[59]
Генерал-Лейтенанта Ермолова
РАПОРТ
Имевши честь находиться в команде Вашего Сиятельства Лейб-Гвардии с 1-ю дивизиею, о действиях оной покорнейше представляю донесение.
По воле Вашего Сиятельства заняв 15 числа позицию против Пирны, по направлению на местечко Дона, вместе с 2 корпусом генерал-лейтенанта принца Евгения Виртембергского, отрядил я генерал-майора Бистрома с Лейб-гвардии Егерским полком в деревню Цегист для восстановления соединения с генерал-майором Гельфрейхом, коего отрезанный неприятелем отряд к ней приближался. Генерал-майор Бистром преодолел усилия неприятеля, отряд генерал-майора Гельфрейха соединился беспрепятственно.
16 числа Ваше Сиятельство объявить изволили о движении подчиненных Вам войск на Петерсвальде по дороге в Теплиц. Когда по приказанию Вашему отряд генерал-майора Гельфрейха пошел занять селение Гросс-Котта и 2-й корпус двинулся заслонить дорогу от Цехлота до оной лежащую, неприятель, усмотря отделение значущей части войск, устремился прервать с ними связь. Надобно было отдалить неприятеля. Необходимо было атаковать высоту Кольберг, чрезвычайно крутую и по причине распустившейся от дождя земли почти неприступную. Едва получил генерал-майор Бистром повеление атаковать, как на вершине горы появился лейб-гвардии Егерский полк, исчезли препятствия. Исчез неприятель! Свободно прошла Лейб-Гвардии дивизия трудное дефиле Цегист. Посланный в подкрепление егерям Лейб-Гвардии Измайловский полк отклонен был появившимся на другом пункте неприятелем; 3-й баталион Лейб-Гвардии Семеновского полка пришел им на помощь, и гора Кольберх удержана во власти нашей. В третий раз взята она была 2-м Лейб-Гвардии Егерского полка баталионом.
Лейб-Гвардии дивизия прошла Гросс-Котту и войска спустились в ужасное дефиле при Гизгебеле. В голове колонны был Преображенский полк. За ним 24 орудия артиллерии; едва показался он из дефиле, встретил неприятеля в довольном количестве на дороге стоящего. Генерал-майор барон Розен приказал стрелкам идти вперед, первому баталиону принять вправо, а второму баталиону ударить в штыки. Ваше Сиятельство были свидетелем успеха в распоряжении. Ничто не сравнится с стремительностью 2-го Преображенского баталиона и неприятель бегством открыл путь следующим войскам; спасена артиллерия и Лейб-Гвардии Егерский полк сменил 2-й баталион Преображенского полка. Егерей сменили войска 2-го корпуса.
Еще раз предупредил нас неприятель, заняв при селении Еллендорф дефиле и высоты окрест лежащие. Еще раз надо было открыть путь оружием! Генерал-майору Потемкину поручено было Лейб-Гвардии с Семеновским полком ударить на неприятеля, дорогу занимающего, ничего не противустало. Первый и второй батальоны не допустили неприятеля остановиться. Самая крутизна гор не защитила. Артиллерия прошла безопасно.
Ваше Сиятельство приказали принцу Евгению Виртембергскому удерживать неприятеля, утомленной гвардейской дивизии приказали дать отдохновение. С темнотой ночи кончилось дело. Ночлег был при Петерсвальде».
Эта первая часть рапорта уже достаточно показательна. Ермолов представляет себя исключительно как исполнителя указаний Остермана, хотя, как мы знаем, дело обстояло как раз наоборот.
Так, маршрут на Петерсвальде выбрал именно Ермолов и убедил в своей правоте Остермана. В рапорте же об этом ни слова — выбор решения отнесен к Остерману.
Рапорт, как военный документ, дает четкое и последовательное представление о двух днях, предшествующих сражению при Кульме. Из рапорта ясно, что это были дни постоянных и тяжелых боев с противником, пытавшимся не допустить отряд Остермана к ключевой позиции. Как правило, гвардейцам Ермолова приходилось прокладывать себе путь штыками.
Не менее показательна и основная часть рапорта, повествующая о самом сражении.
«17 числа перед рассветом Ваше Сиятельство приказали мне с Гвардейскою дивизией отойти и неподалеку расположиться в позиции. Я стал на высотах при Ноллендорфе, за коим тотчас начинается крутой спуск через хребет гор. Вскоре прибыл 2-й корпус. За ним идущий неприятель встречен был сильным с батареи огнем и стрелками, полков Лейб-Гвардии. 2-й корпус устроился.
Ваше Сиятельство приказали мне сойти с гор и занять первую удобную позицию для удержания неприятеля, сами остались при 2-м корпусе, дабы усмотреть намерения неприятеля.
Пройдя местечко Кульм, расположил я гвардейскую дивизию, левое ее крыло простиралось к горам, впереди лежащая деревня занята была баталионом Егерского полка, на правом фланге стала кавалерия.
В сем месте дожидались мы до прибытия сил неприятельских и они появились в большом превосходстве. Загорелся сильный огонь и батареи одна за другой противустали. Колоннами атаковал неприятель деревню и всю линию. По распоряжению Вашего Сиятельства подкрепил я сразившихся и в короткое время большая часть дивизии была в действии. Лейб-Гвардии Измайловский полк ударил в штыки, — ни силы неприятельские, несоразмерные, ни жестокий огонь его не остановили. Впереди полка находившийся генерал-майор Храповицкий проложил путь последующим за ним, тяжелая рана вывела его из боя, но полк покрыл долину телами неприятеля. Командовавший артиллериею полковник Байков и подполковник Бистром искусным действием батарей облегчили войск атаки. Сильные и большого калибра батареи умолкли.
Не скрыл я от полков Лейб-Гвардии, что армия наша в горах и скоро выйти не может, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР находится при ней и еще не возвратился. Не был я в положении поощрять солдат, столько неустрашимыми служащие им примером их начальники, столько каждый горел усердием, но нашелся в необходимости укрощать и тех, и других пылкость. Каждый себя превосходил. По долгом сопротивлении неприятель сильными колоннами прорвался в одном пункте и, пройдя лес, вышел на равнину. Лейб-Гвардии Уланский и Драгунский полки под командою генерал-майора Шевича с невероятным стремлением ударили на колонны. Одна скрылась в лес, другая огонь дерзости погасила в крови своей, охваченная со всех сторон легла мертвыми рядами на равнине.
Лейб-Гвардии Семеновского полка 2-ой баталион опрокинул колонну и очистил лес. Преображенский полк прошел по трупам дерзнущих противустать ему. Измайловского полка 1-й баталион прошел во фланг неприятелю чрез пылающую огнем деревню. Лейб-Гвардии Егерский полк и 3-й баталион Семеновского полка оттеснили неприятеля на оконечности левого крыла в больших силах бывшего».
Все это писалось не для Остермана, который до этого момента и сам видел ход битвы. Бравурный тон, форсированная интонация, вообще-то для «римского стиля» Алексея Петровича нехарактерные, предназначались для высшего начальства, которому следовало проникнуться драматизмом происходящего.
Достаточно лаконичный текст тем не менее дает яркое представление о смертельном напряжении боя, о стремительном маневрировании своими силами, втрое уступающими противнику, которое производил Ермолов, сочетая отчаянную оборону с не менее отчаянными штыковыми контратаками.
Он только не пишет, что некоторые из этих атак возглавлял он сам.
«Умолкли объятые ужасом неприятельские батареи! Две только роты остались у меня в резерве. Наступление было небезопасно, превосходство сил неприятеля очевидно! Я дал приказание отступить в лес.
Ваше Сиятельство, получа рану, принуждены были отъехать, мне поручить изволили начальство».
Заметим, не принцу Евгению, как полагалось бы по субординации, а Ермолову…
С этого момента Алексей Петрович, сообразуясь не только с фактической, но и с формальной стороной дела, перестает ссылаться на приказания Остермана.
«Оставя некоторую часть войск в лесу, поручил я генерал-майору Потемкину командование левым флангом и составить резервы. Все было в совершенном устройстве, в ожидании новых неприятеля нападений. Возобновились атаки его с жестокостию, но не в одно время и не во многих местах. Полки гвардии противустояли с неустрашимостью и Бог благословил совершеннейшим успехом.
Дело кончилось в 8 часу вечера».
Если Остерман был ранен в четвертом часу пополудни, а самая напряженная фаза сражения завершилась в восьмом часу вечера, то Ермолов руководил тяжелейшим боем около четырех часов без перерыва, причем в самой его критической фазе.
«Прибывшая с генерал-лейтенантом Раевским 1-ая гренадерская дивизия сменила резервы, но передовые посты и стрелки от полков Лейб-Гвардии оставались до самой ночи».
Он счел необходимым подтвердить то, о чем писали едва ли не все участники сражения, оставившие мемуары: Ермолов задержал своих измученных солдат на поле боя, не разрешив гренадерам Раевского их сменить, чтобы его гвардейцам — и, естественно, ему самому — осталась вся полнота так тяжко доставшейся славы.
Он-то прекрасно понимал, что совершил он со своей дивизией.
Недаром позже кульмское противостояние стали приравнивать к подвигу трехсот спартанцев у Фермопил.
Но опять-таки Ермолов не был бы Ермоловым, если бы он, не акцентируя собственные заслуги, не вывел на первый план своих боевых товарищей, своих подчиненных:
«Быв свидетелем усердия, неустрашимости и твердости г. г. генералов: дивизионного командира барона Розена, Потемкина, Бистрома и Храповицкого, с особенным уважением к заслугам ими в сей день оказанными, представить имею честь на благосклонное начальства внимание.
Не представляю особенно о подвигах отличившихся господ штаб и обер-офицеров. Из числа их надобно представить списки всех вообще. Не представляю о нижних чинах, надобно исчислить ряды храбрых полков, имеющих счастие носить звание Лейб-Гвардии ГОСУДАРЯ, ими боготворимого.
Списки от господ частных начальников мною получены; в подлинниках имею честь представить при сем. О прочих командирах первую Лейб-Гвардии дивизию не составляющих, но бывших в команде моей, равно о чиновниках, особенно мною употребленных, не промедлю представить».
Кульмский бой с особой ясностью дает возможность понять, каков был бы полководческий стиль Ермолова, если бы ему довелось командовать в европейской войне большими массами войск.
Судьба распорядилась иначе: ему предстояло раскрыть свои таланты в войне совершенно иного типа…
Под Кульмом фундаментальные черты личности Ермолова проявились в концентрированном виде — роковые обстоятельства не оставили ему выбора.
С самого начала он взял на себя фактическое лидерство и всю полноту ответственности. В один из критических моментов, когда Остерман усомнился в точности решения Ермолова, Алексей Петрович сказал ему, что готов отвечать перед государем за судьбу его гвардии. В подобной ситуации неудача наверняка стоила бы ему карьеры и репутации.
Он пошел на смертельный риск, веря в свое «особенное счастие». И выиграл. Он пошел на смертельный риск, потому что пора было пойти на него. Он чувствовал роковую необходимость прорыва, «подвига».
Он мог остаться на своем уровне, в тени Остермана и принца, и тогда, даже в случае поражения, в ответе были бы они.
Он вышел вперед.
Вторым его точным ходом был рапорт — образец скромности.
Эта ермоловская черта: стремление остаться в тени, рапортуя об успехах своих подчиненных, выделяла его среди многих и обращала на него внимание высших.
Великий князь Константин Павлович не без удивления говорил: «Ермолов в битве дерется как лев, а чуть сабля в ножны, никто от него не узнает, что он участвовал в бою. Он очень умен, всегда весел, очень остер и весьма часто до дерзости».
«Он очень умен…» Это демонстративное сочетание — скромности, касающейся боевых заслуг, и дерзости во внебоевом обиходе — скорее всего было и органичным, но точно рассчитанным и очень действенным.
Особенно после Кульма.
Все в армии знали о его реальной роли, как знали и содержание рапорта. И это многократно усилило эффект подвига.
Остерман, когда ему вручили Святого Георгия 2-й степени, сказал, что орден этот по праву принадлежит Ермолову.
Отсылая 26 августа свой рапорт главнокомандующему Барклаю де Толли, рапорт, скопированный почти дословно, — включая красоты стиля, — с рапорта Ермолова, Остерман счел нужным сказать: «Потеряв левую руку, принужден был удалиться, генерал-лейтенанту Ермолову поручил команду». И объяснил, почему он обошел принца Евгения Вюртембергского: «Я вверил войска генералу, которого во все время видел я усердие и деятельность».
Сомнения, которые еще недавно выразил Щербинин, оказались перечеркнуты. Скептики посрамлены. Лютценский инцидент отступил в туман забвения. Легенда была подтверждена.
Ермолов совершил чудо, которого от него ждали…
Он «укрепил за собою гвардию». У Алексея Петровича были все шансы войти в петербургскую генеральскую элиту. Командование гвардией означало близость к императору и двору, блестящую жизнь в столице, а в перспективе — командование одной из армий и фельдмаршальский жезл.
Но об этом ли мечтал Ермолов?
Значение Кульма было понято всеми. Прусский король учредил для всех участников сражения специальный орден — Кульмский крест.
После Кульма началась изнурительная маневренная война, в которой Наполеон со всем своим искусством и стремительностью пытался переломить ситуацию в свою пользу. Ему несколько раз удавалось нанести союзникам поражения частного характера.
Но соотношение сил неуклонно менялось. Сателлиты Наполеона один за другим переходили на сторону союзной армии.
1 октября Наполеону изменил его давний и сильный соратник король Баварии. Бывший маршал Франции Бернадотт, ставший наследным принцем Шведским, с сорокатысячной шведской армией примкнул к союзникам. Владетели созданного Наполеоном Рейнского союза один за другим переходили к его противникам. Война Наполеона с Россией превращалась в войну с Европой…
Русская и прусская гвардии, которыми командовал теперь Ермолов, не принимали активного участия в военных действиях на этом этапе. Вместе с Гренадерским и Кирасирским корпусами они входили в резервный отряд великого князя Константина Павловича.
Ермолов и цесаревич снова стали боевыми товарищами.
Отряд был дислоцирован в районе Теплица.
Излюбленный прием Наполеона — бить противника по частям, пользуясь быстротой и точностью своих передвижений: они отступали перед самим Наполеоном, активно действуя против его военачальников.
Наполеон тщетно пытался настичь и разгромить основные силы противника. Противник каждый раз ускользал.
Наконец в начале октября, когда численный перевес союзных армий на театре военных действий стал подавляющим, колеблющиеся государи, сильно опасавшиеся встречи лицом к лицу с «корсиканским чудовищем», решились на генеральное сражение.
Считается, что главную роль в принятии этого решения сыграл прусский генерал Блюхер, не раз Наполеоном битый и горевший патриотической жаждой мести.
Союзные армии и основные силы Наполеона начали стягиваться к Лейпцигу.
Войска Ермолова не играли большой роли в сражении под Лейпцигом, где армии союзников почти вдвое превосходили французов по численности. Поэтому мы не станем подробно рисовать сложнейшую картину этой битвы, чей результат в значительной степени был подготовлен победой у Кульма, сохранившей русско-прусскую армию.
Сражение проходило на большом пространстве, распадаясь на отдельные ожесточенные бои. И Наполеон, в отличие от Бородина, не мог контролировать действия своих маршалов, совершавших роковые ошибки.
Муромцев в своих воспоминаниях рассказывает о единственном, очевидно, активном действии Ермолова при Лейпциге:
«Все армии двинулись к одному пункту, к Лейпцигу. Наполеон, не дав нам соединиться, атаковал русскую, австрийскую и часть прусской, 4-го октября, атака была самая стремительная, и сражение завязалось жаркое на всех пунктах. В центре позиции была деревня Росса, которую мы все называли тогда „красная крышка“. Весь день посылали ее атаковать прусские войска, отбитые с уроном, потому что они действовали стрелками. После обеда Ермолов получает приказание непременно деревню взять штурмом. За каменными стенами засели французы и выбить их было трудно. Ермолов тогда командовал русскою и прусскою гвардиями. Он построил полки в колонны с флангов и в центре пошел с барабанным боем вперед, пустив гвардейских егерей врассыпную вперед. Французы, увидав наши колонны на флангах, должны были отступить, преследуемые егерями».
То есть Ермолов применил весьма эффективное сочетание атакующих густых колонн с рассыпанным строем. Он не стал атаковать сильную позицию в лоб, но создал угрозу окружения, что и заставило противника позицию оставить.
Подобными приемами часто пользовался Наполеон.
«Врага ненавидели, гению подражали».
Поражение Наполеона под Лейпцигом стало моментом переломным.
Потери союзников были тяжелыми — более пятидесяти тысяч убитыми и ранеными. Боевые потери французов приближались к сорока тысячам, но десятки тысяч оказались в плену.
Наполеон стремительно уводил уцелевшие дивизии к границам Франции. Правда, иногда жестоко огрызаясь. Так он разгромил сорокатысячный корпус баварцев, перешедший на сторону коалиции и пытавшийся преградить дорогу отступающим французам…
Для союзных армий и, в частности, для Гвардейского корпуса Ермолова ситуация изменилась неузнаваемо — поход по германским землям напоминал военную прогулку.
После небольшой паузы военные действия возобновились.
1 января 1814 года русская гвардия вступила на территорию Франции.
Положение Наполеона было отчаянное. Несмотря на нечеловеческую энергию, им продемонстрированную, создать за два месяца новую армию взамен погибшей в кампании 1813 года ему не удавалось. Ресурсы Франции были истощены.
Но Наполеон в очередной раз доказал, чего стоит его шляпа на поле сражения. Он великолепно маневрировал своими минимальными силами. В решающие моменты бросал в атаку офицеров своего штаба и личный конвой.
В феврале в ходе блестящей «шестидневной кампании 1814 года» он разгромил Силезскую армию союзников, состоящую из русского корпуса генерала Остен-Сакена, прусских корпусов Блюхера и Йорка. Блюхеру чудом удалось избежать гибели или плена.
Как пишет Чандлер: «Многие военные историки сравнивали этот период неотразимого тактического блеска с великими днями первой Итальянской кампании»[60].
Параллельно союзники вели переговоры с Наполеоном о возможных условиях мира. Предложение союзников было: Франция в границах 1792 года, то есть до революционных войн, существенно расширивших французскую территорию.
Наполеон настаивал на Франции «в естественных границах»: Рейн, Альпы, Пиренеи.
Ситуация была непростая. Среди союзников не было полного единства.
Австрия опасалась чрезмерного усиления Пруссии и России в случае низвержения Наполеона. Англии, при всей ненависти к Наполеону, также было не по душе резкое нарушение европейского равновесия.
Но решала воля русского императора.
Никакой блеск тактических комбинаций Наполеона, никакие частные успехи уже не могли принципиально изменить ситуацию.
Силы были слишком неравны.
Гвардейский корпус Ермолова в военных действиях фактически не участвовал, оставаясь стратегическим резервом.
О финале кампании 1814 года лаконично и живо рассказал в своем дневнике командир батальона лейб-гвардии Семеновского полка Павел Сергеевич Пущин[61] — впоследствии генерал-майор и декабрист:
«13 марта. Пятница.
Вся французская армия была много малочисленнее всей нашей армии, наводнившей территорию императора Наполеона, который для того, чтобы задержать поход на Париж, вздумал направить свои главные силы на места наших действий, оставив между своей столицей и нами только два корпуса под командой маршала Мармона. Император Наполеон, без сомнения, надеялся, что, испугавшись его рискованного маневра, мы, не теряя времени, направимся к Рейну, но произошло все обратно. Наполеона преследовал только корпус кавалерии под командой генерала Винценгероде, а союзные монархи почти со всеми силами своими наступали, чтобы уничтожить Мармона. Он был разбит…»
Когда Наполеон понял свою ошибку, было уже поздно. Союзные армии подошли к Парижу.
Подробно о сражении под Парижем и при этом с упоминанием роли Ермолова рассказал в «Записках русского офицера» Николай Иванович Jlopep, в ту пору — прапорщик лейб-гвардии Литовского полка, впоследствии — декабрист:
«Второю дивизией, в которой находился мой полк, командовал незабвенный герой Отечественной войны А. П. Ермолов…
Вот мы уже и недалеко от Парижа. Вдруг раздался страшный гул от множества пушечных выстрелов и высоко взвился дым. Эти громовые выстрелы орудий возвестили нам, что приблизилось наконец огненное, кровавое разрешение той трудной задачи, которая так живо занимала каждого на пути к Парижу. Мы и солдаты как бы очнулись и невольно перекрестились. Шум и грохот стали увеличиваться и распространяться по всей линии; потрясающие удары орудий доходили до такой силы, что деревья, окружавшие предместья, трескались и падали.
Гвардия наша подвигалась все ближе и ближе; наконец открылся нам и Париж, но в облаках дыма… Мы сомкнулись в густую колонну и двинулись вперед. Против нас стояли два Французских корпуса — Мармонта и Бертье. В защите города принимали деятельное участие воспитанники политехнической школы, много парижских жителей и мещан. День уже склонялся к вечеру; генерал Ермолов был неотлучно с нами. Потребовали Лейб-гренадерский и Павловский полки. Храбрый генерал Желтухин с простреленною фуражкою бодро повел их в дело, и скоро мы увидели несколько раненых офицеров этих полков. Завязалась страшная резня. Прусская гвардия вступила в дело; мы двинулись за ней в подкрепление. Не прошло и четверти часа, как пруссаки без лошадей, на себе везли отнятые неприятельские орудия, и на одном из лафетов лежал раненый полковник.
Пришла очередь подраться и нашему Литовскому полку: против наших колонн устроена была батарея: студенты и ученики политехнической школы свезли туда орудия и начали метко стрелять по нашим колоннам.
Никогда не забуду, как Ермолов приказал выдвинуть вперед два орудия. При них шел, прекрасный собою, молоденький офицер, почти дитя, весь в новом, — эполеты, шарф, кивер, как будто с иголочки, ну точно женишок в белых перчатках; он представлял собою страшный контраст с нашими оборванными шинелями, Ермолов, завидя его, спросил: „Откуда, товарищ, таким щеголем?“ — и сравнил с ним нас, закопченных дымом и черных от грязи.
Офицер объявил генералу детским голосом, что он недавно выпущен из артиллерийского училища и, прибыв только вчера в армию к своей батарее, поспешил тотчас в дело.
— Хорошо, товарищ! — сказал Ермолов. — Вон видишь там, впереди, башню? Там твои юные товарищи по искусству пробуют уже над нами свое умение. Заставь их замолчать, докажи, что ты лучше знаешь свое дело, приветствуй их нашими ядрами!
— Слушаю! — был ответ юноши.
Он поставил свои два орудия, навел их, приложил фитиль: первое ядро свистнуло, за ним другое, третье, десятое… и пошли летать каленые орехи в гостинец французским юношам, разбили башню и французские пушки умолкли. Генерал записал фамилию молодого артиллериста».
Ермолову, таким образом, пришлось принять участие в боях за Париж. Под его командой были пешая прусская гвардия и гвардия великого герцога Баденского, которые пошли в бой. Есть свидетельства, что сам он был на линии огня. Во главе прусской гвардии он захватил господствующие над Парижем высоты и установил там мощные батареи.
Прусская гвардия понесла большие потери. Алексей Петрович, чуждый сантиментов, говорил потом, что он пруссаков «вывел в расход».
Очевидно, шутка эта показалась не очень смешной прусскому королю, и Ермолов, вопреки ожиданиям, не получил орден Черного орла, который ему сулили прусские офицеры. Зато получил от русского императора Святого Георгия 2-й степени.
Кроме того, именно ему поручено было написать текст манифеста о взятии Парижа.
Обычно такого рода документы писал сопровождавший императора адмирал Шишков. Но Шишков в это время был в Праге.
Выбор Александра свидетельствовал не только о доверии к литературным дарованиям Алексея Петровича, но и об особом к нему благоволении.
Шишков в своих воспоминаниях этот факт подтвердил, а Погодин видел текст манифеста, написанный рукой Ермолова.
Эта торжественная и торжествующая речь от лица императора Александра много говорит и об ее авторе.
Для того чтобы создать такой текст, нужно живо и органично представлять себя на вершине власти и торжества, ощутить в себе победное величие и гордую уверенность в своей правоте и, главное, — в своем призвании.
Алексей Петрович создавал не формально-торжественный текст для своего государя. Это он сам говорил, глядя на поверженного великана, которым он не мог не восхищаться.
Этот монументальный текст, уникальный среди многочисленных текстов, вышедших из-под пера Ермолова, стоит привести почти целиком:
«Буря брани, врагом общего спокойствия, врагом России непримиримым подъятая, недавно свирепствовавшая в сердце отечества нашего, ныне в страну неприятелей наших принесенная, на ней отяготилась. Исполнилась мера терпения Бога — защитника правых! Всемогущий ополчил Россию, да возвратит свободу народам и царствам, да воздвигнет падшия! 1812 год тяжкими ранами принятым в грудь отечества нашего, для низложения коварных замыслов властолюбивого врага, вознес Россию на верх славы, явил пред лицом вселенныя ея величие, положил основание свободы народов. С прискорбием души, и истощив все средства к отвращению беззаконной войны, прибегли мы к средствам силы. Горестная необходимость извлекла меч наш; достоинство народа, попечению нашему вверенного, воспретило опустить его во влагалище доколе неприятель оставался на земле Нашей. Торжественно дали мы сие обещание! Не обольщенные блеском славы, не упоенные властолюбием, не во времена счастия дали обещание! С сердцем чистым, излияв у Олтаря Предвечного моления наши, в твердом уповании на правосудие Его, исполненные чувства правоты нашей, призвали его на помощь! Мы предприняли дело великое, во благости Божией снискали конец его! Единодушие любезных нам верноподданных, известная любовь их к отечеству, утвердила надежды наши. Российское дворянство, твердая подпора престолу, на коей лежало величие его; служители олтарей всесильного Бога, их же благочестием утверждаемая на пути веры, знаменитое заслугами купечество и граждане не щадили никаких пожертвований! Кроткий поселянин, незнакомый дотоле со звуком оружия, оружием защищал веру, отечество и Государя. Жизнь казалась ему малою жертвою. Чувство рабства незнаемо сердцу Россиянина. Никогда не преклонял он главы пред властию чужой! Дерзал ли кто налагать его — не коснело наказание! Вносил ли кто оружие в отечество его, указует он на гробы их! Тако возносит Бог уповающего на него! Враги побегли от лица нашего. Не многие остались, да возвестят о гибели! Тако гордого наказует Бог!»
…Когда мы познакомимся с кавказским эпистолярным комплексом Алексея Петровича, то, помня текст манифеста, мы оценим широту стилистических возможностей Ермолова, свидетельствующую — помимо всего прочего — о многообразии его натуры.
Очевидно, роль Ермолова в сражении под Парижем была столь значительна, а его авторитет после Кульма настолько утвердился, что эту роль уже невозможно было замалчивать в официальных документах.
В дневнике одной из петербургских дам есть такая запись: «1814 год 8 апреля. Вечером мы поехали в театр… подали печатанный бюллетень сражения 18 марта, выигранного на высотах Бельвиля и Монмартра, после которого Париж сдался. Этот бюллетень рассказывал великие подвиги Барклая, Ермолова, Раевского, славные имена, блестящие как маки, после бурь 1812 года и осветившиеся новым блеском в день триумфа».
Теперь уже Алексей Петрович оказался в первом ряду национальных героев не только в «народной молве», но и в официальных агитационных документах.
Хотя, как совершенно точно писал знакомый нам Дубровин: «…устная молва сделала для Ермолова гораздо более, чем для очень многих сделали реляции и донесения главнокомандующего».
Дружеское расположение к нему цесаревича Константина достигло апогея.
Денис Давыдов рассказывает: «После Кульмского сражения великий князь Константин Павлович, услыхав, что повозка Ермолова пропала, и зная его скудное состояние, предложил ему свой новый шитый золотом генеральский мундир: „Я тебя хорошо знаю, — сказал ему его высочество, — ты не станешь просить вспомоществования, хотя ты на то имеешь полное право, тем более, что многие лица, ничего не потерявшие, выхлопотали себе денежное вознаграждение; я теперь без денег и не могу предложить тебе их, но возьми в знак дружбы мой мундир“».
Ермолов отказался.
Он чувствовал, что карьера его, как когда-то в далекой молодости, может получить совершенно нежелательное ему развитие и обдумывал способы, чтобы этого не допустить.
Одним из вариантов была именно форсированная дерзость. Это был опасный путь. Тут важно было почувствовать границу, за которой могла произойти катастрофа. Но Алексей Петрович исподволь испытывал этот метод.
Так, уже во Франции, на переправе через Сену, он отказался пропустить впереди своей гвардии обоз австрийского фельдмаршала князя Шварценберга, а когда его адъютант стал резко настаивать, посулил сбросить весь обоз в воду.
Дальнейшие карьерные обстоятельства Алексея Петровича могут показаться странными. С одной стороны, он «укрепил за собой гвардию». С другой — утверждать его на этой должности не спешили.
В формулярном списке, судя по всему, им самим составленном, сказано: «1814 года в сражении при городе Париже имел под начальством Гвардию пешую Его Величества Короля Прусского и Великого Герцога Баденского. Получил орден Св. Георгия 2-го класса».
И сразу после этого: «1815 года в походе во Франции и до Парижа».
Но куда делись месяцы между маем 1814 года и апрелем 1815 года?
В «Материалах для биографии Ермолова» Погодина есть записи рассказов самого Алексея Петровича (традиционно — в третьем лице), сделанные сотрудником Погодина Степановым.
В частности, Ермолов рассказал: «В Париже государь говорил Алексею Петровичу, что в скором времени пошлет его в Прагу, но до времени приказал молчать об этом.
Наконец, накануне своего отъезда в Англию, в ночь, он призвал его к себе и дал формальное словесное приказание. Оно было весьма поспешное, потому что дела были такого рода. За дальнейшими соображениями государь велел ему явиться к графу Аракчееву. На другой день Алексей Петрович является к графу. Инструкция получена. Алексей Петрович спросил насчет прогонных денег. Но граф Аракчеев не получал от государя распоряжений насчет дорожных расходов». У самого Ермолова денег на дорогу не было, пришлось Аракчееву занимать деньги у парижского банкира, услугами которого пользовался Александр.
Сама по себе деталь — финансовое недоразумение, свидетельствующее о бедности Ермолова, — конечно, любопытна, но не в ней суть.
Император решил использовать Ермолова не только как боевого генерала — ему поручалась некая деликатная миссия, связанная с русско-австрийскими отношениями.
Нигде больше не удалось обнаружить следов этой миссии. Ясно только, что она была кратковременна.
Парижский мирный договор был подписан 18 мая 1814 года, а уже в конце мая Ермолов получил назначение командующим обсервационной — наблюдательной — армией, ориентированной на Австрию. Быть может, с этим назначением и была связана таинственная миссия.
В формуляре это назначение значится так: «начальник сильного авангарда на границе австрийской».
О командовании гвардией речи уже не было.
Штаб-квартира Ермолова поместилась в Кракове, и Константин Павлович полуиронически говорил, что «у нас в Кракове свой фельдмаршал».
Что же происходило?
Скорее всего, тактика Ермолова, всячески демонстрировавшего независимость, доходящую до дерзости, давала свои плоды. Но Ермолов, безусловно, рисковал. Он еще не раз вел себя по отношению к вспыльчивому великому князю более чем независимо, испытывая его лояльность…
17 февраля 1815 года Наполеон, сосланный на остров Эльбу, высадился во Франции. 8 марта он вступил в Париж при ликовании публики, еще недавно приветствовавшей императора Александра.
Ермолов, готовивший свою армию к новой войне, еще не знал о новом падении Парижа, но уже предвидел возможность новых «подвигов».
16 марта он писал из Кракова Воронцову: «Радость умножают мою и храбрые мои легионы.
Что говорить я могу о двенадцатой дивизии, когда она под начальством вашим? У нас 9-я дивизия, которой довольно вспомянуть, что некогда была она Суворова. У нас 2-я гусарская храбрая дивизия, которая, по привычке к успехам, пойдет путем славы. Прибавим к тому, что если мы составим авангард армии, не слишком ли достойна зависти участь моя? Не найдутся ли люди, могущие лишить меня счастия командовать им? Боюсь!»
Под знамена Ермолова собрались не только полки Обсервационной армии, изначально ему подчиненной, но и дивизии, шедшие в Россию и теперь остановленные в связи с появлением Наполеона. Постепенно в районе Кракова сосредоточилось около восьмидесяти тысяч штыков и сабель. Воинскими массами в таком масштабе Ермолову еще не приходилось командовать.
Понятны и его радость, и его опасения.
Однако переписка Ермолова и Воронцова этого периода интересна главным образом не военными сюжетами.
Эти письма приоткрывают ту сторону жизни, о которой можно было бы только гадать, если бы не эти эпистолярные исповеди.
Во время паузы между двумя кампаниями, находясь еще далеко от России, молодые генералы, обремененные бездной служебных забот, ухитрились завести пылкие, хотя и платонические романы.
Маловероятно, что нам удастся расшифровать подлинные имена женщин, о которых идет речь, да это и не важно.
Обсудив ситуацию во Франции и расклад сил в Европе, Алексей Петрович переходит к тому, что их интересовало в данный момент не меньше возможной войны:
«Теперь о делах собственных.
Я говорил с ведьмою. Ничего нет толку.
Говорит, что она уверена в том, что Черные Глаза имеют начало к вам привязанности и начало доброе, что она чрезвычайно осторожна и все сохраняет наружности, почему не слишком явна ее к вам наклонность. Потом вдруг говорит, что она весьма строгих правил и конечно не отклонится от пути чести и своих обязанностей, что боготворима своим мужем и сколько возможно сберегает его. Тогда же говорит, что она никаких наслаждений в жизни не имеет, кроме привязанности к детям своим. Мне кажется из сего последнего заключить должно, что в муже она ничего для блага и счастия своего не находит, следовательно чувств любви не может быть чуждою. Я согласен верить, что она имеет даже силу бороться с ними, но бороться и покорить совсем другое… Если можно допустить то, что она к вам не равнодушна, то, согласитесь, что не так легко обратится она к совершенному спокойствию, когда растравляет его жизнь уединенная, единообразная, неразлучная с человеком, которого она любить не может и с которым знает она, что жить должна вечно. <…> Через три недели ведьма уверяет, что она на несколько дней приедет в город со своими детьми. Знаю, почтеннейший граф, друг мне любезный, что не легко покорить сердца чувство. Нельзя сказать ему: перестань любить, или, по крайней мере, невозможно скорое назначить ему время. Но думаю, надо тем кончить. Вы согласитесь со мною, что Черные Глаза кажутся пообстоятельнее и прочнее Злодейки; но положим, что она имеет не более постоянства в характере и не более верна своим обязанностям, то и тогда надобно все кончить и, буде можно, стараться навсегда забыть. Я вам говорю из опытов, происшедших между мною и Злодейкою. Она видела сколько я люблю ее и как далеко уже шла моя привязанность; но кажется, она еще больше хотела заставить почитать себя, нежели любить.
Я точно удивился ей, не мог не уважать ее правила, жалел, что ей стоило некоторой борьбы с чувствами, но должен был кончить дружбою: конец, не удовлетворяющий моим ожиданиям, тяжкий для моего сердца… завтра или послезавтра она уедет. Я даю ей честное слово никогда ее не видать и не искать того… Я узнал, как жестоко я любил ее».
Эти люди, прошедшие огонь и кровь нескольких войн, чудом избежавшие смерти, влюбляются безнадежно и наивно, как персонажи Гете и Карамзина. Приведенный текст мог быть фрагментом сентименталистского романа в письмах. Военные интеллектуалы, они вне боевой обстановки готовы были следовать литературным образцам. Их мир был отнюдь не прост.
Дамы, о которых идет речь, судя по всему, польские дворянки, имевшие имения поблизости от Кракова. Воронцов и Ермолов могли познакомиться с ними, проходя через Польшу, еще в начале 1813 года.
Но эта любовная литература отходила на второй план, как только обозначалась перспектива войны.
Цитированное письмо Ермолов дописывал 21-го числа: «Почтенный граф, друг любезнейший, душа моя в ужаснейшем волнении… повеление о походе дало всему другой оборот. Идем, друг любезнейший, слава призывает нас! Исполнение обязанностей наших есть чувство сердцу приятнейшее».
Их ожидало настоящее дело — дело их жизни. Война.
Любовные дела не то чтобы совсем забылись. 27 марта, готовясь к выступлению в поход, Алексей Петрович писал Воронцову: «Вчера получил письмо ваше и тотчас отправил посланного, но мне хотелось поговорить с ведьмою, дабы узнать, точно ли будут сюда Черные Глаза. Она уверена, что приедет на некоторое время и спрашивала меня: не близко ли ее переходите вы с дивизиею границу? Моя колонна переходит в одной только миле от Глаз».
Как и подобает рыцарям, выступая в поход, они увозили с собой любовные страдания: «Увидишь, любезный Михаил Семенович, как больно будет расставаться. Я испытывал это ужаснейшим образом. Вчера уехала Злодейка и увезла все, что могло быть в жизни для меня приятного. Благодаря походу, одно и единственное средство утешиться».
Воронцов в последний момент все же приехал в Краков, очевидно, чтобы повидаться с предметом своих страданий.
Ермолов записал в дневнике, фрагменты которого сохранились у Погодина: «1815 г. апреля 4. Покинул Краков вместе с графом Воронцовым. Краков для него бесценен воспоминаниями и для некоторых других, адъютанта Граббе, генерал-майора Полторацкого.
5. Перешел границу».
Однако вскоре Ермолову стало не до любовных страданий. Сбывались его опасения. Уже на походе командование авангардом поручено было не ему, а графу Ламберту. Ермолову поручен был резерв.
Он был в бешенстве. Настроения, которые обуревали его, когда он писал свое горькое письмо Казадаеву, вернулись. После кульмского триумфа и признания императором его заслуг, после Парижа происшедшее было тем более оскорбительно.
Он подозревал Барклая. Но в глубине души не мог не сознавать, что такие назначения не проходят мимо Александра, хотя и не хотел себе в этом признаться.
29 мая, уже в Германии, он писал Воронцову: «Итак, брат любезный, нас разделили. Наконец успели в том. По несчастию я не мог видеть Государя, и он не имеет понятия о бывшем корпусе нашем. Сие принадлежит к тем неприятностям, которые со служением моим неразлучны и к которым придает еще нерасположение ко мне начальства. Истину сего докажет вам новая диспозиция. Можно ли было в рассуждении меня сделать что-нибудь наглее! Я не хочу обижаться, что Ламберту дали авангард: он, может быть, более имеет на то права по опытности, которою пренебрегать не должно; но ему дали право требовать от меня по обстоятельствам подкреплений. По составу нелепому авангарда, подкрепления сии ему необходимы, и конечно лишь только к Рейну, он их потребует, а паче имея поручение открыть в обе стороны сообщение с прусскою и Австрийскою армиями, из пяти полков пехоты и двух гусарских, сколько ни возьмут у меня, я останусь с гораздо меньшим числом нежели дивизия!»
После восьмидесяти тысяч солдат — «у нас свой фельдмаршал в Кракове!» — это было и в самом деле оскорбительно.
«Следовательно лучше отправить меня к корпусу гренадер, о командовании которым мне уже объявлено, и от коего одна дивизия находится уже при армии».
О гвардии речи нет. Возможно, стараясь избавиться от столичной службы в перспективе, он перегнул палку. Его демонстративная независимость раздражала слишком многих и, скорее всего, насторожила Александра.
Вручить дислоцированную в столице гвардию генералу, который при всех его ярких достоинствах вызывает опасения неожиданностью своих поступков, император не решался.
Высший генералитет знал непостоянство Александра. Очевидно, в верхах в какой-то момент почувствовали охлаждение императора к Ермолову. И это немедленно сказалось на его положении.
«Я весьма понимаю, — продолжает Алексей Петрович, — что ищут делать мне обиды и самым глупым образом. Я писал уже, чтобы фельдмаршал (Барклай де Толли. —
В ярости он декларирует совершенно невозможные планы: «Если продолжат пребывание мое здесь под командою Ланжерона, я, пришедши к Рейну, далее не пойду, изберу себе место и буду жить. Года 812 редки! Не всегда одинаковы обязанности служащего, не всегда должно забыть о себе самом. Если я служить не буду, я не виноват».
То есть речь идет об отставке в разгар военных действий. Никто бы ему этой отставки не дал, и он прекрасно понимал это.
Как всегда в подобные моменты, он начинает искать виновных в привычной сфере: «Не столько еще бестолочи будет от немцев. От нашествия иноплеменников мало будет добра».
Вскоре он пишет Воронцову: «Я в Франкфурте. К неудовольствию начальствовать теперешним моим корпусом прибавляется и то, что главная квартира идет за мною во след и я на вечном параде. Кроме того на дороге моей шатаются все цари».
Для того чтобы позволить себе столь высокомерно пренебрежительный тон по отношению к «царям» — русскому императору и прусскому королю, нужно было пребывать в чрезвычайно взвинченном состоянии. Если бы письмо это попало не в те руки, карьера Ермолова могла закончиться раз и навсегда. В такие моменты никакой опыт не делал его осмотрительным.
Считая Барклая виновником своих обид, он вел себя по отношению к фельдмаршалу вполне вызывающе.
Денис Давыдов рассказывает: «…фельдмаршал Барклай, находившийся с Ермоловым в весьма холодных отношениях, инспектировал близ Гейдельберга заведываемый им 6-й корпус; во время смотра Мариупольского гусарского полка, в коем числился раненым в 1812 году ротмистр Горич, не получивший несмотря на оказанные им отличия никакой награды, Ермолов, не предупредив Барклая, вызвал его из фронта и сказал ему: „Благодарите фельдмаршала за жалуемый вам следующий чин“. Барклай <…> нашелся вынужденным подтвердить это в приказе».
Разумеется, фельдмаршал был поставлен в нелепое положение, и это не сделало его отношение к Ермолову более теплым.
3 июня Ермолов пишет Воронцову: «Я иду с фрагментами бывшего моего корпуса. Больно быть так разбиту немцами, а паче Барклаем. Что делать, брат любезнейший, терплю, потому что русский душою; но мне кажется есть черта, которую терпение переходя делается подлостию. Я почти уже стою на ней <…>».
Неизвестно, на что решился бы он в состоянии своей горькой обиды, если бы в это время не получил наконец Гренадерский корпус, с которым и дошел до Парижа без единого выстрела.
Разбив в очередной раз армию Блюхера, Наполеон атаковал армию герцога Веллингтона при Ватерлоо. Англичане были на грани разгрома, когда на поле боя вернулся Блюхер, ускользнувший от преследовавшего его корпуса Груши.
Это была последняя битва Наполеона.
Он вернулся в Париж, где подписал отречение в пользу своего сына.
Союзники не признали этот документ, и 8 июля 1815 года на престоле был восстановлен Людовик XVIII Бурбон.
Ермолов записал в дневнике: «Торжества о возвращении Людовика XVIII в Париж. Не приметно ни малейшей радости».
27 марта Ермолов писал Воронцову, ожидая сражений во Франции: «…Первые наши шаги на гнусной земле подлейшего народа омыты будут нашею кровью, которой капли они не стоят. Можно было избежать! Дать ответ пред Богом! Неужели великодушнее положить тысячи невинных, нежели отнять жизнь у одного злодея? Вот наше обстоятельство! Какой ужасный дал Наполеон урок презирать народы тому, у кого в руках войско. Неужели мы в 19-м живем веке?»
То есть он считал, что надо было казнить Наполеона во избежание будущих кровопролитий.
Это все тот же принцип разумной жестокости, которому учился он под Варшавой у Суворова.
Но звучит здесь и еще одна, не свойственная Алексею Петровичу интонация — усталости от войны, сражаясь на которой с максимальным напряжением сил, он не достиг целей — ни внешней, ни внутренней, — к которым стремился.
Положение его по-прежнему оставалось странным, чтобы не сказать двусмысленным. Командование Гренадерским корпусом было вполне почетным назначением, но если он не хотел командовать гвардией в столице, то еще менее намерен был похоронить себя в провинции во главе Гренадерского корпуса — с ежедневной фрунтовой и хозяйственной рутиной.
К нему между тем относились как к фавориту.
Самый влиятельный после императора человек, граф Аракчеев, так начал письмо к нему от 23 июня 1815 года, вскоре после Ватерлоо, когда ясно было, что война кончается: «Милостивый государь мой,
Алексей Петрович!
Вы некогда позволили мне адресоваться к вашему превосходительству с моими препоручениями: ныне я оным хочу воспользоваться».
В Париже, по вполне правдоподобному сообщению Давыдова, Аракчеев бился с Ермоловым об заклад, что он будет военным министром. Маловероятно, чтобы Алексея Петровича прельщала подобная перспектива. У него созревали совершенно иные замыслы. Но Аракчеев, знавший свою влиятельность, попытался этот замысел реализовать. Он говорил Александру в Варшаве, на обратном пути в Россию: «Армия наша, изнуренная продолжительными войнами, нуждается в хорошем военном министре; я могу указать вашему величеству на двух генералов, кои могли бы в особенности занять это место с большою пользою: графа Воронцова и Ермолова. Назначению первого, имеющего большие связи и богатства, всегда любезного и приятного в обществе и не лишенного деятельности и тонкого ума, возрадовались бы все; но ваше величество вскоре усмотрели бы в нем недостаток энергии и бережливости, какие нам в настоящее время необходимы. Назначение Ермолова было бы для многих весьма неприятно, потому что он начнет с того, что перегрызется со всеми; но его деятельность, ум, твердость характера, бескорыстие и бережливость его бы вполне впоследствии оправдали». При этой сцене присутствовал Платов, рассказавший о ней Давыдову.
В разговорах с Ермоловым Аракчеев снисходительно шутил, прося его, когда станет фельдмаршалом, взять его, Аракчеева, начальником штаба армии.
Тут есть своя странность: имеется немало свидетельств о постоянной и рассчитанной вежливости Ермолова, а в то же время Аракчеев толкует о конфликтности Алексея Петровича.
Надо полагать, в разных ситуациях Ермолов вел себя очень по-разному.
Вокруг Ермолова, вокруг его будущего, явно закручивалась некая сложная интрига, в которой он и сам принимал не последнее участие.
Назначение военным министром — на хозяйственно-административную должность — должно было пугать его.
Все было не слава богу: командование гвардией в мирное время, унылое командование Гренадерским корпусом. В ноябре, вернувшись в Россию и проезжая Смоленск, он запишет в дневнике: «Судьба на сих развалинах назначила мне пребывание. Здесь квартира гренадерского корпуса». И через несколько дней: «Я <…> уже начинал скучать службою, которая не представляла впереди никаких приятных занятий, особенно в гренадерском корпусе».
В Париже произошло событие, вполне укладывающееся в общий стиль ермоловской тактики и, скорее всего, решившее вопрос о назначении его военным министром.
2 июня Ермолов пишет в дневнике: «Назначен парад, и дивизия проходила город. Состояние войск превосходно! Три взвода сбились с ноги от неправильности музыки, государь приказал арестовать 3 полковых командира и они посажены под иностранный караул. Я просил о прощении отличных офицеров, мне ответствовано с гневом. Я вспомнил об иностранном карауле. Подтверждено о исполнении повеления».
История эта, кратко зафиксированная Алексеем Петровичем, дошла до нас из разных источников и в более развернутом виде.
Михайловский-Данилевский сохранил рассказ Н. Н. Муравьева об этом эпизоде, а Муравьев ссылается на беседу с самим Ермоловым в 1818 году на Кавказе: «Когда мы в 1815 году вступили в Париж парадом, — рассказывал Ермолов, — я командовал корпусом, и государь приказал мне арестовать на английской гауптвахте двух полковых командиров, за то, что несчастный какой-то взвод с ноги сбился. — „Государь, — сказал я, — полковники сии отличнейшие офицеры, уважьте службу их, а особливо не посылайте их на иностранную гауптвахту: у нас есть Сибирь, крепость“. — „Исполняйте долг свой!“ — закричал государь, и я замолчал, но не арестовал полковников, думая, что это также пройдет. В случае если б государь меня спросил об них, у меня заготовлен был ответ, что они повели полки свои на квартиры в селения. Ввечеру государь спросил об них князя Волконского, арестованы ли полковники, и, как их на гауптвахте не было, то он раскричался на Волконского и стращал его самого арестом. Волконский, испугавшись, послал адъютантов своих разыскивать меня по всему Парижу; меня нашли в театре. Адъютант Христом Богом умаливал меня, чтобы я расписался в получении записки Волконского; я принужден был выйти в фойе и там расписался. На другой день я пробовал просить государя, не помогло; я получил отказ и понужден был арестовать полковников на английской гауптвахте».
Рассказ этот Муравьев прокомментировал весьма характерно: «Как не обожать великого Алексея Петровича!»
Денис Давыдов предлагает свой вариант: «Ермолов, называемый в Петербурге проконсулом Грузии, никогда не пользовался благоволением государя императора Николая Павловича, почитавшего его человеком опасным по своему либеральному образу мыслей. Он возымел о нем это мнение с самого 1815 года. При вступлении в Париж одной дивизии гренадерского корпуса, которым командовал Ермолов, император Александр остался недоволен фронтовым образованием одного из полков этой дивизии, вследствие чего последовало высочайшее повеление посадить трех штаб-офицеров на гауптвахты, занятые в тот день английскими войсками. Ермолов горячо заступился за них, говоря, что если они заслуживают наказания, то их приличнее арестовать в собственных казармах, но не следует срамить трех храбрых штаб-офицеров в глазах чужеземцев; „таким образом, сказал он, нельзя приобрести любовь и расположение войска“».
Сама по себе эта фраза, коль скоро она была произнесена, должна была возмутить Александра. Ему дали понять, что он может потерять «любовь и расположение» армии своим самодурством.
«Государь остался непреклонен. Ермолов, не исполнив высочайшего повеления, отправился в театр, куда прибыл адъютант князя П. М. Волконского — Чебышев с приказанием тотчас арестовать виновных».
И далее идет эпизод, который Ермолов не счел нужным занести в дневник и сообщить Муравьеву:
«Встретив там великого князя Николая Павловича, Ермолов сказал ему: „Я имел несчастие подвергнуться гневу его величества. Государь властен посадить нас в крепость, сослать в Сибирь, но он не должен ронять армию в глазах чужеземцев. Гренадеры прибыли сюда не для парадов, но для спасения отечества и Европы“. Слова эти, неблагоприятно отозвавшиеся для Ермолова через десять лет, были вероятно переданы государю, потому что он приказал приготовить в занимаемом им дворце Elisée Bourbon три кровати для арестованных. Великий князь Николай Павлович сказал однажды покойному императору, что этот самостоятельный и энергичный начальник на границе государства весьма неблагонадежен. Но государь возразил на это: „Я хорошо знаю Ермолова, он слишком полезен и бескорыстен, чтобы я мог чего-либо опасаться“».
Александр хорошо знал Ермолова, хотя и не понимал его.
Ермолов хорошо знал Александра и понимал его вполне. Он последовательно создавал себе репутацию генерала прямого до дерзости, поступки которого трудно было предугадать. И понимая, к каким последствиям это может привести, он при каждом удобном случае противоречил императору.
16 августа состоялись показательные учения английской кавалерии, а после учений — торжественный обед.
Ермолов записал в дневнике: «За обедом Государь превознося ученье, обратился ко мне. Я представил, что превосходство конницы не определяется кампанией, продолжавшейся две недели, одним сражением и переходом границ Бельгии».
Несмотря на хлопоты Аракчеева, желавшего видеть его военным министром, шансов занять этот пост у Алексея Петровича не было. Ни на должности командующего гвардией в мирное время, ни на месте министра Александру не нужен был строптивец, способный демонстративно не выполнить высочайшего приказания и поучающий императора, как завоевывать любовь армии.
Пост военного министра занял исполнительный Коновницын.
Для восемнадцатилетнего великого князя Николая, куда более ограниченного в своих представлениях, чем его венценосный брат, поведение Ермолова было равнозначно бунту. Но власти приструнить популярного генерала у него не было.
История эта стала широко известна и еще более укрепила репутацию Ермолова в глазах высших и низших — но по-разному.
Война закончилась, и ему надо было решать свою дальнейшую судьбу.
Его честолюбие выходило далеко за пределы тех реальных перспектив, которые у него в тот момент были. И внутреннее напряжение, владевшее им, обостряло обычный стиль его поведения.
В 1815 году в Париже завязались те конфликты, которые привели к катастрофе 1827 года.
Кроме Николая Павловича, который ничего не забывал, Ермолов поссорился и с генералом Иваном Федоровичем Паскевичем, командовавшим дивизией в его корпусе.
Давыдов: «Первые неудовольствия между Ермоловым и Паскевичем начались в этом же 1815 году: Ермолов, находя дивизию Рота лучше обученною, чем дивизия Паскевича, призвал первую в Париж для содержания караулов, присоединив к ней прусский полк из дивизии Паскевича; так как он самого Паскевича не вызвал, то это глубоко оскорбило сего последнего».
Вскоре Паскевич станет любимцем великого князя Николая Павловича…
Положение Ермолова, повторим, было странным. С одной стороны, вызывающие поступки, раздражавшие императора, с другой — явное покровительство Аракчеева и нетипичная для Александра снисходительность.
Давыдов: «Однажды, в 1815 году, государь, оставшись недовольным Ермоловым за то, что он не прибыл к обеденному столу его величества по причине большого количества бумаг, оказывал ему в продолжение нескольких дней холодность; генерал-адъютант барон Федор Карлович Корф говорил по этому случаю: „Хотя государь недоволен Ермоловым, но он ему скоро простит, быть ему нашим фельдмаршалом и пить нам от него горькую чашу“».
У Александра явно была человеческая слабость к Ермолову, но это не снимало настороженности и не гарантировало выдвижения в столичную элиту.
Тактика Ермолова в конечном счете оказалась точной — при всей рискованности.
Жизнь в Париже, однако, не исчерпывалась подспудной борьбой за свое будущее.
Из дневника Ермолова: «Я осматривал все любопытное в Париже, посещал театры, почти неразлучно был с Вельяминовым, начальником штаба моего корпуса, офицером редких достоинств, которого я называю тескою. Подражая ему, я обходил по вечерам Италиянский бульвар, но не избежал искушений в Variétés. Встретилась красавица в тесноте. Забыты осторожности, и ты, любезный теска, долго будешь ждать меня из улицы Св. Амвросия. Может быть, завтра новый случай Пикулину оказать искусство врачевания».
Горькая страсть к Злодейке не помешала рискованному приключению, после которого могла понадобиться медицинская помощь…
20 августа корпус Ермолова выступил в обратный путь — в Россию.
Ермолов задержался на несколько дней, так как Александр приказал ему ознакомиться с устройством английских орудий.
Шли не торопясь. Во Франкфурте Ермолов был зван к обеду великой княгиней Екатериной Павловной. В Веймаре — великой княгиней Марией Павловной. Обе, судя по дневнику, произвели на Алексея Петровича наилучшее впечатление. Кроме дружбы великого князя Константина Павловича, он приобрел симпатии великих княгинь. Надо полагать, что неменьшее впечатление произвел на августейших дам и он — своим умом, остроумием, благородной и мужественной повадкой и далеко не заурядной внешностью.
Он возвращался в Россию личностью легендарной.
Через много лет, вспоминая годы после Наполеоновских войн и своего любимого начальника, генерал Граббе писал: «При этом имени я невольно остановился. И теперь, по истечении сорокалетнего периода, в продолжение которого Россия сперва должна была отстоять свою целость, потом двинулась на избавление Европы от ига Наполеона, периода, в котором столько людей необходимо должны были возникнуть, обратить на себя внимание, несмотря на то, что некоторые из них по званию и значению роли в событиях займут в истории место гораздо высшее, но в памяти народной, кроме, быть может Кутузова, ни один не займет такого важного места. Это тем замечательнее, что главнокомандующим, кроме Грузии и Кавказа, в Европейских войнах он не был, хотя народная молва всякий раз в трудных обстоятельствах перед всеми его назначала. Народность его принадлежит очарованию, от него лично исходившему на все его окружавшее, потом передавалось неодолимо далее и незнавшим его, напоследок распространилась на всю Россию…»
Оказавшись на Кавказе, Алексей Петрович более десяти лет, с небольшим перерывом, в России отсутствовал. Стало быть, то «очарование», о котором пишет Граббе, возникло и укрепилось именно в этот период — с 1812 по 1815 год.
Он возвращался в Россию, получив длительный отпуск. Впереди летела молва…
Он возвращался в Россию в сумрачном настроении — «сокрушает меня гренадерский корпус». После желанной ему стихии войны, после любовного угара Кракова, после дружеского круга — Воронцов, «брат Михаила, редкий из человеков», честный и верный Закревский, тонкий вольтерьянец Вельяминов и еще несколько боевых товарищей, с которыми он сошелся, — после всего этого оказаться в российской разоренной глуши, командиром корпуса.
Еще несколько месяцев назад он писал Воронцову: «Против меня и власти, и многие сильные».
Теперь, если с высшими властями все обстояло по внешности недурно, то «многие сильные» были им непоправимо раздражены.
Оставалось — поклонение молодых офицеров и — молва…
Дневник Ермолова: «21 ноября. Познань. Здесь командование корпусом сдал я генерал-лейтенанту Паскевичу и отправился в Россию».
Он не мог знать тогда страшного смысла этой фразы. Через 12 лет он тоже сдавал корпус — Кавказский — тому же Паскевичу и отправлялся в Россию, в опалу, в смертельное прозябание.
На зимней русской дороге его обуревали воспоминания…
«14 <декабря> Смоленск. Я въехал со стороны города, наиболее потерпевшей от неприятеля. Так свежи опустошения, как будто неприятель только что оставил город. На прекраснейшей некогда площади поправляемы только два дома. Сердце сжалось от горести, увидя ужасы разорения. Повсеместная бедность отъемлет надежду, чтобы город когда-нибудь возвратился в первобытное состояние. Судьба в сих развалинах назначила мне пребывание. Здесь квартира гренадерского корпуса».
«20 <декабря>. По несносной дороге, испытывая ужасные морозы, доехал я до Орла к моим родителям.
Здесь, по долговременном отсутствии, после войны продолжительной и трудной, предался я совершенному бездействию, которое у военных людей нередко заменяет спокойствие».
Спокоен он не был, хотя и пытался скрыть тяжелое беспокойство эпистолярной иронией.
3 января 1816 года он писал Закревскому, только что назначенному на важный пост дежурного генерала Главного штаба:
«Милостивый государь, Арсений Андреевич!
Приехав в Орел, нашел я письмо ваше, потом вскоре получил и второе, когда доставили вы мне алмазные знаки (награда за Бауцен. —
Прошу заметить, как пишут к особам значащим, как например дежурному генералу государя. Но я лучше стану попросту писать к старому приятелю и скажу от души, любезный и почтенный Арсений, благодарю тебя за исполнение моего поручения. Я заслепил здесь глаза алмазами; что за прекраснейший народ живет в провинциях! Я, как приехавши, налепил три свои звезды, так и думают, что я бог знает, что за человек. Насилу в 10 дней мог уверить, что я ничего не значу, и то божиться надо было, и святых подымать. Я подорву кредит нашей братии, которая здесь пыль в глаза пускает.
Я живу покойно, но уже в 10 дней праздность мне наскучила. Много впереди времени, не отчаиваюсь привыкнуть к новому роду жизни моей. Долго, любезный друг, тебя не увижу, что крайне мне жаль. В Петербург не поеду — боюсь дороговизны.
Ожидаю нетерпеливо весны. Поеду на Кавказ. Болезнь гонит меня в дальний сей путь…»
И многозначительная фраза: «Не забудь, любезный Арсений, о сем путешествии».
Почему дежурный генерал Главного штаба, ведавший, помимо всего прочего, кадровыми назначениями, должен был специально помнить о поездке своего друга на кавказские воды, когда тот и так был в отпуске и мог спокойно ехать куда хотел?
Дело в том, что уже не первый, скорее всего, месяц Алексей Петрович вел настойчивую интригу, которая должна была доставить ему место главноуправляющего Грузией и командира Грузинским корпусом.
У Дениса Давыдова среди отрывочных заметок о Ермолове в «Военных записках» есть такой текст: «Граф Аракчеев и князь Волконский, видя, что расположение государя к Ермолову возрастает со дня на день, воспользовались отъездом его в Орловскую губернию, чтобы убедить его величество, что Ермолов желает получить назначение на Кавказ. Ермолов, вызванный фельдъегерем в Петербург, узнал о своем назначении; государь, объявив ему лично об этом, сказал: „Я никак не думал, чтобы тебе такое назначение было приятно, но я должен был поверить свидетельству графа Алексея Андреевича и князя Волконского. Я не назначил тебе ни начальника штаба, ни квартирмейстера, потому что ты, вероятно, возьмешь в собой Вельяминова и Иванова“».
Не совсем понятно, то ли Ермолов в разговоре со своим кузеном сделал вид, что отправлен на Кавказ против своего желания, то ли Давыдов запамятовал реальные обстоятельства, то ли решил усилить традиционный сюжет зависти к Ермолову «сильных персон» и ревности к нему.
На самом деле все было наоборот.
Фраза в письме Закревскому, на которую мы обратили особое внимание, свидетельствует о том, что Закревский был участником интриги.
Здесь нет логики: тот же Давыдов сохранил для нас свидетельство Платова о том, как Аракчеев «сватал» императору Ермолова в качестве военного министра. Маловероятно, чтобы он опасался Ермолова как соперника. Князь Петр Михайлович Волконский, начальник Главного штаба всей русской армии с декабря 1812 года, тоже не имел ни малейших оснований ревновать Александра, личным другом которого он был, к Ермолову. Очевидно, что Ермолов убедил этих двух самых близких в тот момент к императору людей ходатайствовать за него.
А «кадровик» Закревский должен был следить за формальным прохождением назначения.
Служба на Кавказе была давней мечтой Алексея Петровича. Как мы помним, он просился еще из Вильно на Кавказ в качестве командира бригады.
В апреле 1816 года он действительно был вызван Александром в Петербург до окончания его отпуска.
Указ о назначении на Кавказ был подписан 6 апреля.
В дневнике он лаконично и бесстрастно записал: «1816. Апреля 22. В Смоленске прочел в газетах назначение мое в Грузию».
Некоторые исследователи делают из этой записи вывод, что назначение было для Ермолова по меньшей мере неожиданным.
Ничего подобного, он знал, зачем едет в Петербург.
В «Записках» он говорит: «Из частных известий знал уже, что я назначаюсь начальником в Грузию. Исчезла мысль о спокойной жизни, ибо всегда желал я чрезвычайно сего назначения, и тогда даже как по чину не мог иметь на то права». (Выделено мной. —
Обратим внимание на слово «всегда». Мечта о начальствовании на Кавказе, стало быть, появилась очень давно. Можем предположить, что зародилась она еще в 1796 году, в Персидском походе, ибо тогда уже молодой капитан артиллерии мог оценить гигантские возможности, которые предоставляют решительному полководцу с сильной армией рыхлые азиатские пространства…
Мы много раз вспоминали о «неограниченном честолюбии» Ермолова, которое не могло быть удовлетворено даже самой успешной карьерой в пределах законной имперской иерархии. Нужны были обстоятельства, далеко выходящие за обычные рамки.
28 февраля Алексей Петрович писал Закревскому: «Одну вещь очень приятную сказал ты мне, что Ртищев подал в отставку. Это весьма хорошо, но для меня ли судьба сберегает сие счастие».
Генерал Ртищев командовал Грузинским корпусом.
И далее в том же письме с полной откровенностью, которую он не часто себе позволял: «По истине скажу тебе, что во сне грезится та сторона и все прочие желания умерли. Не хочу скрывать от тебя, что гренадерский корпус меня сокрушает и я боюсь его… Не упускай, любезный Арсений, случая помочь мне и отправить на восток…»
Это слишком напоминает по отчаянной интонации письма его из Вильно Казадаеву. Его пугала не просто армейская рутина мирного времени. Нет, дело было куда серьезнее. Его ужасала необходимость впасть в обычную заурядную колею, где нет места «подвигу», где нет возможности совершить нечто необыкновенное, то великое деяние, которое грезилось ему с юности, со времен Плутарха, Цезаря и Тацита, уподобиться рыцарям Ариосто, оказаться после смерти в сонме великих героев Оссиана…
Вскоре после приезда в Тифлис в письме Казадаеву он сформулировал суть своего восприятия собственной судьбы: «Если доселе я иду путем не совсем обыкновенным, то перед тем же счастием моим должен встать на колени, на которое теперь полагаю мою надежду».
«Обыкновенный путь» был для него убийствен. Сидя в Орле в ожидании решения императора, он был в столь тяжком настроении, что собирался просить о бесконечном продлении отпуска, только бы не отправляться в Смоленск к своему Гренадерскому корпусу.
И дело было не только в его индивидуальной судьбе.
Резкая особость положения Ермолова в истории заключалась в том, что в нем, положении этом, концентрировалась драма поколения, драма того военно-дворянского типа, который он ярчайшим образом представлял.
Победив Наполеона, эти люди лишили себя достойного их будущего.
Узнав о взятии Парижа, князь Петр Андреевич Вяземский, участник Бородинской битвы и человек проникающего ума, написал Александру Ивановичу Тургеневу: «От сего времени жизнь наша будет цепью вялых и холодных дней. Счастливы те, которые жили теперь!»
Но если мыслитель, либерал, потенциальный реформатор Вяземский мог попытаться найти себе достойное место и в этой новой реальности — что, впрочем, ему не удалось, то для Ермолова «цепь вялых и холодных дней» означала внутреннее крушение.
Кавказ был спасением.
15 мая 1816 года Ермолов писал Воронцову в Париж, где находилась штаб-квартира русского экспедиционного корпуса, которым Воронцов командовал: «Я уже две недели в Петербурге, готовлюсь ехать в Грузию, где сделан я командующим. Вот, друг любезнейший, исполнившееся давнее желание мое.
Боялся я остаться в Гренадерском корпусе, где б наскучила мне единообразная и недеятельная служба моя. Теперь вступаю я в обширный круг деятельности. Были бы лишь способности, делать есть что!.. Вступаю в управление земли мне не знакомой; займусь рядом дел мне не известных, следовательно без надежды угодить правительству. Мысль горестная! Одна надежда на труды!»
Здесь мы имеем дело со знакомой нам ермоловской скромностью, часто бывавшей паче гордости. Не для того мечтал он получить фактически бесконтрольное начальствование над обширным краем, вплотную прилегающим к азиатским просторам, чтобы потерпеть неудачу и погрязнуть в нелюбимых им хозяйственно-административных трудах.
Замысел был иной.
Вспомним горькую фразу Вяземского. После крушения любимого врага — Наполеона русский дворянский авангард оказался в ситуации глубокого психологического кризиса. Кризис этот, спровоцированный ущербностью жизни послепетровской России, был временно разрешен противоборством с Наполеоном, потребовавшим высочайшей концентрации духовной и физической энергии.
Но героическая эпоха ликующе завершилась. И оказалось, что ликовать особенно нечего.
Дворянский авангард оказался во власти кризисного сознания.
Кризисное сознание означало неистребимый внутренний дискомфорт, ощущение недостижимости высоких целей, несоответствия устремлений и возможности их реализации, то есть напряженное состояние постоянной неудовлетворенности при убежденности в своем призвании.
Кризисное сознание дворянского авангарда — совершенно необязательно ярко либерально настроенных молодых дворян, но той группы, которая ощущала глубокое неблагополучие общегосударственной ситуации и мечтала направить развитие страны по рациональному пути, об руку с властью или без нее. Как правило, это были неплохо образованные молодые люди, воспитанные на античных образцах гражданской доблести, на гражданской героике русского классицизма.
Дворянский авангард как социально-политическое явление зародился при Елизавете с ее попыткой расширить плацдарм власти и сформировался в эпоху Екатерины, не в последнюю очередь стимулированный обманутыми ожиданиями. Отсюда возникновение аморфной, но широко разветвленной пропавловской оппозиции — мало изученной, но безусловно существовавшей.
Появление и укоренение кризисного сознания определялись неистребимым системным кризисом военно-бюрократического монстра, созданного могучей волей гениального Петра. Формация, при всей своей видимой мощи, двигалась от кризиса к кризису — кризисы политические, экономические, финансовые. С 1725 года — возведение гвардией на престол Екатерины I — в России произошло пять дворцовых переворотов, были убиты три законных императора, подавлены две попытки конституционно ограничить самодержавие и начать постепенное ослабление крепостного права, вспыхнула гражданская война между сословиями — грандиозный пугачевский мятеж, шло постоянное отставание системы хозяйствования от Европы; после фактического финансового разорения страны на момент смерти Петра I финансовая система так и не пришла в благополучное состояние, что спровоцировало при Екатерине II массовый выпуск необеспеченных ассигнаций и начало инфляционного процесса.
До поры острота кризисного сознания снималась безостановочной конкистой — расширением пространства империи и связанным с этим ощущением своей значимости.
Войны разоряли страну, но в то же время были бальзамом для дворянского авангарда. Ни одна европейская страна не воевала столько во второй половине XVIII — начале XIX века, сколько Россия. С 1805 по 1815 год Россия участвовала в восьми войнах — Персия, Турция, Швеция, Франция…
Погибший в 1812 году друг Ермолова генерал Кульнев точно очертил ситуацию: «Матушка Россия тем хороша, что все-таки в каком-нибудь углу ее да дерутся».
Это была некая анестезия.
Но с окончательным падением Наполеона — все кончилось. Наступала «цепь вялых и холодных дней», нестерпимых для людей дворянского авангарда, не получивших взамен приложения боевой энергии возможности приложить к делу энергию общественную.
Одни шли в разгул, другие в мистику, третьи в тайные общества. Немногие обратили свой взгляд в сторону Кавказа…
Через много лет Погодин, описывая жизнь Ермолова в опале, после отставки, дает пищу для размышлений и в еще одном важном для нас направлении. Ермолов «читал книги о военном искусстве, и в особенности о любимом своем полководце Наполеоне… А между тем Паскевич прошел вперед, взял Эрзерум, Таврис, Ахалцих, проникнул далеко в Персию. А между тем Дибич вскоре перешел Балканы, занял Адрианополь. Что происходило в это время в душе Ермолова, то знает только он, то знал Суворов, в Кобрине читая итальянские газеты о победах молодого Бонапарта, то знал, разумеется, больше всех этот новый Прометей, прикованный к скале Святой Елены».
Погодин, немало с Ермоловым видевшийся и разговаривавший, знал, о чем говорил. Недаром в этом коротком тексте трижды возникает роковое имя — Наполеон, Бонапарт, Прометей со Святой Елены.
Погодину можно верить, когда он называет Наполеона любимым полководцем. Казалось бы, совсем недавно Ермолов настаивал на расстреле Наполеона.
Но здесь нет противоречия — как говорил Радожицкий: «врага ненавидели, гению подражали».
Фигура Наполеона стала особенно значима для Алексея Петровича именно в тот момент, когда он получил назначение на Кавказ. И мы скоро поймем почему.
Можно вообще сказать, что отношение к Наполеону русского офицерства изменилось после победы над ним. К поверженному врагу следует относиться объективно. Русское просвещенное дворянство чем дальше, тем пристальнее искало в деятельности Наполеона черты масштабно-положительные.
Но восхищение Наполеоном началось гораздо раньше.
Историк Семен Экштут, автор небесспорной, но весьма содержательной книги «В поисках исторической альтернативы», писал: «Феномен Наполеона сильно интересовал Ермолова — одного из самых ярких людей эпохи, „Сфинкса новейших времен“. В 1807 году он, наконец, впервые увидел этого человека, давно уже занимавшего его воображение. Тридцатилетний полковник артиллерии, достаточно хорошо известный всей русской армии своей блистательной храбростью и неистощимым остроумием, пристально вглядывался в лицо Наполеона, который тоже начал свою военную карьеру бедным артиллерийским офицером, но в тридцать лет был уже первым консулом, совершив государственный переворот 18 брюмера, передавший в его руки всю полноту власти, а затем стал императором французов. Ермолов желал найти объяснение его исключительной и необыкновенной судьбы и не мог избежать напрашивающихся аллюзий».
Историк опирается на весьма выразительное свидетельство декабриста Басаргина: «Во время переговоров о мире в Тильзите Ермолов часто ходил смотреть на Наполеона. Он останавливался в доме против императорской квартиры. Там по целым дням наблюдал он через растворенное окошко все движения своего героя, который пред его глазами раздавал приказания, выслушивал донесения, говорил… Ермолов жадным слухом ловил всякое слово, которое однако же не долетало»[62].
Вообще-то маловероятно, что Ермолов в 1807 году мог впрямую соотносить феерическую карьеру лейтенанта Бонапарта со своей судьбой.
Он прекрасно понимал, что такие карьеры возможны только в ситуации революции. Ни о какой революции в России тогда речи не было.
Ермолова мог завораживать не конкретный наполеоновский сюжет, но сам принцип превращения самой смелой мечты в реальность.
Собственная карьера представлялась ему весьма туманно. Он знал только, что ни один из заурядных — даже самых благополучных — вариантов его не устроит и не даст ему душевного спокойствия. В Российской империи 1807 года не было условий для карьер наполеоновского типа. Нужно было думать о чем-то другом…
Есть все основания предполагать — собственно, Ермолов в своих письмах это подтверждает, — что его грандиозные карьерные мечты, желание пойти «путем необыкновенным», были связаны с Кавказом и Персидским походом 1796 года, когда перед молодыми героями открывались дороги Александра Македонского.
Отсюда его настойчивое стремление попасть именно на Кавказ, заняв пост, назначение на который отнюдь не считалось соблазнительным и напоминало ссылку. Но он-то считал совершенно иначе.
Те, кто направлял его на Кавказ, думали о замирении и прочном включении Кавказа в состав империи. Смысл этой задачи был вполне определенным: надо было обеспечить безопасные коммуникации с недавно присоединенной Грузией, обеспечить тыл и фланги армии в случае войны с Турцией и Персией и исключить возможность «хищничества» набегов на собственно российские территории.
Кроме того, перед главноуправляющим Грузией стояла задача адаптации населения нового края — от аристократии до крестьян — к стилю жизни остальной империи. Эта адаптация подразумевала унификацию законодательства, административного устройства, экономического сближения Грузии и империи.
Проконсульство Ермолова, решительного, удачливого, сурового, представлялось Александру окончательным этапом в решении кавказской проблемы.
Это был удачный момент, момент, когда внутренняя энергия русского дворянства с его кризисным сознанием требовала немедленного и масштабного выхода и, соответственно, снятия дискомфорта. Этот период Кавказской войны был отмечен духовным напряжением с российской стороны, которое в ермоловский период передалось и солдатам, напряжением, превосходившим таковое же со стороны горцев. (Однако духовная энергия их сопротивления росла пропорционально давлению империи и достигла своего апогея в мюридизме.)
Вождь российской конкисты должен был концентрировать в себе эту энергию. Ни Александр, ни Аракчеев, ни Волконский, разумеется, не оценивали ситуацию в подобных измерениях, но принятое ими решение оказалось удивительно точным. Именно Ермолов с его бедностью, неудачами молодости, арестом и ссылкой, тяжким возобновлением послессылочной военной карьеры, грозившим превратить его в неудачника, что для него было равносильно гибели, при этом с «необъятным честолюбием» и мощным комплексом обиды, именно такая личность, наделенная незаурядными дарованиями, могла олицетворять собой попытку мятущегося дворянского авангарда удержаться на гребне исторического процесса.
И был еще один, быть может, решающий момент, учесть который ни император, ни его советники не могли. Сделавший карьеру в александровское царствование Ермолов оставался человеком другой эпохи. По своим глубинным потенциям он сформировался в эпоху геополитического гигантизма Екатерины — Потемкина, во времена великого Греческого проекта, во времена. Персидского похода, продолжившего инерцию петровского рывка в «золотые страны Востока».
Неудача похода 1796 года ничего не значила. Она не отменяла идеи и не уменьшала заманчивости ее.
В 1813 году, когда Ермолов воевал в Германии, на Каспии завершилась очередная русско-персидская война. Мир был заключен, персы разбиты.
Но спорных вопросов оставалось множество — в частности, судьба захваченных в ходе войны персидских областей.
Алексей Петрович догадывался о сложности задачи, которую предстояло решать. Прежде чем отбыть в Грузию, он совершил еще один поступок, на который способен был только он.
В записке, врученной лично императору, главноуправляющий Грузией и командир Отдельного Грузинского корпуса (Кавказским он станет называться с 1820 года) потребовал для себя полной и фактически бесконтрольной власти над вверяемым ему краем. Никто, кроме государя, не должен был вмешиваться в его действия.
Записка была обсуждена в Комитете министров и претензии Ермолова решительно отвергнуты. Его обвинили в диктаторских замашках.
Император решение своих министров одобрил.
Для Ермолова это был тяжелый удар и некое предзнаменование, которому он не придал должного значения. Он надеялся отстоять свои особые права уже на месте.
И в это же время появился еще один документ принципиального значения — «мнение адмирала Н. С. Мордвинова о способах, коими России удобнее привязать к себе постепенно кавказских жителей, чем покорить их силою оружия».
Стратегия, разработанная мудрым Мордвиновым, предполагающая терпеливое сближение с горскими народами экономическими и культурными методами, в этот момент отнюдь не вдохновляла Ермолова, несмотря на все его почтение к адмиралу. Смысл его идей он осознал значительно позднее.
Хотя один пассаж из записки Мордвинова был ему не просто близок, но буквально совпадал с его неукротимыми устремлениями: «Но Россия должна иметь иные виды; не единую временную токмо безопасность и ограждение соседних своих нив и пастбищ. Перед нею лежит Персия и Индия. К оным проложить должно дороги и сделать их отверстыми и безопасными во внутренность России <…> Азия юная, необразованная, теснее соединиться может с Россиею <…>».
Перед Ермоловым лежали Персия и Индия. Но его способ проложить к ним дороги мыслился ему никак не культурно-экономическим.
Он ехал воевать.
15 мая 1816 года Алексей Петрович писал Воронцову: «Скажу тебе вещь страннейшую, которая и удивит тебя, и смешить будет. Я еду послом в Персию. Сие еще мне самому в голову не вмещается, но однако же я точно посол, и сие объявлено послу персидскому нотою, и двор его уведомлен. Ты можешь легко себе представить, что конечно никаких негоциаций нет, а что это настоящая фарса, или бы послали человека к сему роду дел приобвыкшего. Не менее однако же и самое путешествие любопытно, а паче в моем звании. Не худо получше узнать соседей».
Он хитрит — ни о какой «фарсе» речи не было. Перед ним была поставлена абсолютно конкретная и трудновыполнимая задача: окончательно договориться о прочной границе между странами, в крайнем случае, ценой небольших уступок. Персы же требовали назад захваченные в последней войне области.
Такова была задача официальная. Но у Алексея Петровича были свои замыслы, которые он старался держать при себе, изредка только проговариваясь.
Его друзья и почитатели считали, что Кавказ и Грузия должны быть лишь трамплином в карьере Алексея Петровича.
17 октября 1820 года, когда Ермолов уже три года воюет с горцами и устраивает государственный быт Грузии, Денис Давыдов писал Закревскому: «Будет ли нынешнюю зиму Ермолов в Петербурге? Уведомь, я боюсь, чтобы его навсегда не зарыли в Грузии. Это место конечно хорошо и блистательно, но не так, чтобы в нем зарыть такие достоинства, каковы Ермолова. Для такого человека, как он, оно должно быть подножием к высшим степеням, то есть, к месту главнокомандующего главною нашею армиею. Право, я боюсь, чтобы добрые люди не заковали на нем Ермолова, как в баснословные времена боги заковали Прометея на вершинах Кавказа».
Это была еще одна грань рождающегося мифа: титан, коварством высших прикованный к Кавказу.
Но был и другой взгляд на это назначение. Филипп Филиппович Вигель, мемуарист отнюдь не льстивый, писал: «В эти годы удачному выбору, сделанному государем, с радостию рукоплескали обе столицы, дворяне и войска. Нужно было в примиренную с нами Персию отправить посла, поручив ему вместе с тем главное управление в Грузии. Избранный по сему случаю представитель России одним орлиным взглядом своим мог уже дать высокое о ней понятие, а простым обращением вместе со страхом, между персиянами посеять к ней доверенность. Ум и храбрость, добродушие и твердость, высокие дарования правителя и полководца, а паче всего неистощимая любовь к отечественному и соотечественникам, все это встретилось в одном Ермолове. Говоря о сем истинно русском человеке, нельзя не употребить простого русского выражения: он на все был горазд. При штурме Праги мальчиком схватил он Георгиевский крест, при Павле не служил, а потом везде, где только русские сражались с Наполеоном, везде войска его громил он своими пушками. Его появлением вдруг озарился весь Закавказский край и десять лет сряду его одно только имя гремело и горело на целом Востоке».
Ермолов вернулся в Россию, овеянный вихрем героической легенды.
Прозябание в Смоленске во главе Гренадерского корпуса очень быстро свело бы на нет напряжение этой легенды. Но произошло нечто поразительное. Он был назначен на Кавказ в тот момент, когда начала формироваться кавказская утопия — представление о Кавказе как о некоем пространстве, противостоящем по законам романтизма низкой обыденности.
Кавказ в сознании просвещенной дворянской молодежи — край Прометея и золотого руна, роднивший наши дни с мечтой об Античности, мир гордых людей, больше жизни дороживших своей дикой свободой, мир первобытной жестокости и руссоистского благородства. Мир бесконечных возможностей самореализации…
То, что происходило на Кавказе до Ермолова, представлялось туманным и сказочно неопределенным. (Из ермоловского окружения один лишь Воронцов, в юности воевавший на Кавказе и чудом не погибший, мог рассказать, что такое Кавказ на самом деле.)
Герой сокрушения французского исполина становился теперь и персонажем величественной утопии.
Граббе, пристально следивший за судьбой своего кумира, вспоминал именно этот момент: «Он отправился тогда главнокомандующим на Кавказ и послом в Персию. Взоры целой России обратились туда. Все, что излетало из уст его, стекало с быстрого и резкого пера его, повторялось и списывалось во всех концах России. Никто в России в то время не обращал на себя такого сильного и общего внимания. Редкому из людей достался от Неба в удел такой дар поражать как массы, так и отдельно всякого, наружным видом и силою слова. Преданность, которую он внушал, была беспредельна».
Вернемся вновь к цитированному письму Воронцову.
Ермолов остро осознавал перелом своей судьбы и прощался не просто с боевым товарищем — он прощался с сорока годами прожитой уже жизни: «Прощай, любезный друг, легко быть может и навсегда. Со мною будут воспоминания приятнейшего времени, которое некогда провели мы, служа вместе, времени продолжительного.
Прощай, Польша и то, что украшало ее, Злодейка, прощай навсегда! Правду ты говоришь, что я не умею любить, как ты! Мадатов едет со мною в Грузию. С ним будем мы говорить о жизни нашей в Кракове. Где Черные Глаза? Говорят, что они несравненно прекраснее стали и что их видеть небезопасно. Но ты их увидишь, и я за тебя не боюсь; разве какая красота во Франции заставит тебя пренебречь счастием обладать ими. Прощай, продолжи мне бесценную дружбу твою…»
Эти взволнованные, сентиментальные строки, написанные рукой, еще недавно сеявшей смерть, говорят о глубине волнения. Прошлое уходило навсегда. Воронцов, вернувшись со своим корпусом из Франции, мог зажить прежней российской жизнью. Для Ермолова это было невозможно. Он понимал, что после владычества над обширным краем — астраханские степи, Грузия, Кавказ, Каспий, Черное море — ему не будет места не просто достойного, но — органичного.
Думается, что в этот момент предположение Давыдова о командовании главной русской армией — как венце желаний Ермолова — было наивно.
Вряд ли кто-нибудь понимал, что происходило в душе Алексея Петровича.
Он ехал не просто устраивать Грузию и усмирять горцев.
Это было важное, но побочное занятие.
Главная идея была другая…
В письме Воронцову от 1 июня 1816 года есть ключевой пассаж: «Грузия, о которой любишь ты всегда говорить, много представляет мне занятий. Со времени кончины славного князя Цицианова, который всем может быть образцом и которому не было там не только равных, ниже подобных, предместники мои оставили мне много труда». И далее странная на первый взгляд фраза: «Мне запрещено помышлять о войне, и я чувствую того справедливость; позволена одна война с мошенниками, которые грабят там без памяти и в отчаяние приводят народы. Вот чего я более всего боюсь».
Проводя много времени вместе в Германии и Польше, они много говорили о кавказских делах. «Грузия» — понятие в данном случае общее. И Воронцову был понятен скрытый смысл письма.
Принципиальным здесь является восторженное упоминание князя Павла Дмитриевича Цицианова, которого Ермолов помнил еще по Персидскому походу. Командовавший войсками на Кавказе с 1802-го до своей гибели в 1806 году князь Цицианов был образцом воинственности и натиска на Персию. И нам еще придется о нем говорить как о прямом предшественнике и кумире Алексея Петровича.
О какой войне и почему Ермолову запрещено помышлять? О войне с Персией, о которой он мечтал, добиваясь назначения на Кавказ.
«Мошенники, которые грабят там без памяти и в отчаяние приводят народы» — это не горцы с их набегами. Это ханы, ориентированные на Персию.
Ермолов боится, разумеется, не войны с ханствами, а бессмысленной половинчатости подобных действий. Можно подавить ханства, но нетронутым останется корень зла — Персия, коварная и всегда готовая к агрессии и подстрекательству.
Через полтора месяца после письма Воронцову, находясь еще в Петербурге, Ермолов получил письмо от великого князя Константина Павловича:
«Почтеннейший, любезнейший и храбрейший сотоварищ, Алексей Петрович!
Имел я удовольствие читать начертание ваше к единственному нашему Куруте (дежурный генерал при великом князе. —
Варшава.
25 июня 1816 года».
Это — программное письмо, хотя и написано в шутливом тоне.
Это послание можно расшифровывать по-разному. Один из новейших биографов Ермолова считает, что упоминание «Талейрана со товарищи» — намек на возможную обеспокоенность Франции активизацией русской политики на Востоке. Франция и Англия и в самом деле соперничали в Азии. Но «во время о́но». Теперь этот аспект ситуации был уже не актуален.
Актуально для России было иное. И Константин, и Ермолов хорошо знали болезненную подозрительность Александра, сына отца, убитого в собственном дворце собственными генералами. И тот и другой не могли не понимать, что решение отдать обширный приграничный край и боевой корпус, находящийся лишь под условным контролем Петербурга, честолюбцу и строптивцу с неукротимым характером и малопонятными мотивациями, было знаком редкого доверия.
С этой точки зрения упоминание «Талейрана со товарищи» могло иметь иное значение. И Константин, и тем более Ермолов прекрасно помнили два исторических прецедента, когда популярные военачальники, упрочив свою славу в Заграничных походах, по возвращении оказывались центром притяжения радикальной оппозиции: Цезарь после Галлии и Бонапарт после Египта.
Талейран был одним из организаторов переворота 18 брюмера. И ретроспективно ситуация напоминала Египетский поход Бонапарта и его политические последствия.
Но то было — «во время о́но».
Гораздо значимее то, что Константин пишет дальше.
Он был достаточно близок с Ермоловым, чтобы догадываться о накале его честолюбия и тяготения к «пути не совсем обыкновенному». Он, который по замыслу его бабки, должен был возглавить возрожденную Греческую империю со столицей в отвоеванном у османов Константинополе, выросший, как и Ермолов, в атмосфере неукротимого устремления на Восток — и на Черное, и на Каспийское море, он прекрасно понимал, какие соблазны встают перед его «храбрейшим сотоварищем».
Он отнюдь не отрицал возможности «не сворачивая нимало, прогуляться в места расположения всех богатств Англии сухим путем». Но позже.
На этом сухом пути лежала Персия. И Константин всерьез опасался, что его воинственный друг станет опережать события.
В 1816 году международный порядок в Европе еще не устоялся. Совсем недавно в Париже был подписан акт об образовании Священного союза, но мировые сферы влияния еще предстояло определять.
Англия еще вчера была неоценимым союзником в борьбе с Наполеоном и субсидировала военные действия. Вторжение в Персию могло вызвать серьезнейшие осложнения.
Константин, не очень представлявший себе ситуацию на Каспии и боевые возможности Персии, предостерегал своего друга от испанского варианта — «шпанская муха», которая перевела много народу во Франции; это — испанская герилья.
Ермолов с 1796 года помнил партизанскую войну местных владетелей на территориях, где оперировал корпус Зубова, но понимал при этом, что ничего подобного испанскому сопротивлению, да еще и поддержанному Англией, ждать не приходится.
Очень многосмысленна фраза Константина относительно «всеобщей прогулки по землям чужим» русских войск. Вторжение в Персию может повлечь за собой события куда большего масштаба.
«Крайности сходятся» — победительнице Наполеона не пристало идти его путем.
Но при всем том так заманчиво двинуться сухим путем к границам Индии — любимая идея Петра Великого, родоначальника всех циклопических внешнеполитических построений.
11 февраля 1817 года Константин снова пишет Ермолову и снова не без серьезного подтекста: «От всего сердца благодарю вас за те же ваши чувства ко мне, которыми имел удовольствие и прежде пользоваться; с моей же стороны, ежели бы вы были на краю света, а не только в Грузии, то всегда был и буду одинаково с моею к вам искренностию, оттого-то между нами есть та разница, что я всегда к вам как в душе, так и на языке, а вы, любезнейший и почтеннейший друг и товарищ, иногда и с обманцем бывало. Впрочем, скажу вам, что у нас здесь, хоть мы и не в Персии и не на носу у нас Индия, но, однако ж, все, благодаря Бога, хорошо своим порядком, как водится, идет».
У Ермолова «на носу» была Индия, и великий князь не упустил случая об этом напомнить…
Вообще все письма Константина Ермолову этого периода, несмотря на их шутливый тон, полны многозначительных намеков.
3 августа 1818 года: «Вы, вспоминая древние римские времена, теперь проконсулом в Грузии, а я здесь (в Польше. —
Римские времена, когда на границах империи стояли легионы, знаменовались постоянным расширением имперского пространства и его устройством по римскому образцу.
Константин всячески демонстрирует свою близость к Алексею Петровичу и доверительность их отношений и старается пролить бальзам на старые обиды, претерпленные Ермоловым.
Великий князь явно любил и уважал Ермолова.
Два едва ли не самых опасных человека в русской армии постоянно демонстрировали ему свое благоволение — Константин и Аракчеев.
Как на самом деле относился Ермолов к Аракчееву, мы знаем.
Константину он тоже, бесспорно, цену знал и далеко не всегда мог удержаться, чтобы это свое знание не приоткрыть. Отсюда и упрек Константина относительно «обманца» и прозвище — «патер Грубер».
Константин долго прощал Ермолову этот «обманец», пока Алексей Петрович, уже будучи проконсулом Кавказа, не продемонстрировал ему свое явное пренебрежение. И этого, как мы увидим, великий князь ему не простил.
Высокомерно-саркастическая натура Ермолова приходила в опасное противоречие с простым инстинктом самосохранения…
Константин не стал бы писать в некотором роде провокационных писем, если бы не знал настроений своего друга, патера Грубера, умевшего скрывать свои замыслы.
И еще одна важная особенность этого послания — впервые сходятся две роковые для России проблемы: Константину предстоит заново устраивать Польшу, которую он ассоциирует с польской армией, а Ермолову устраивать Грузию и Кавказ…
1 июня 1816 года, незадолго до письма Константина, Алексей Петрович пишет Воронцову, почти буквально повторяя пассаж из письма предыдущего: «Признаюсь тебе, что путешествие в Персию уступил бы я охотно другому. Одна польза, которой от того ожидать смею, что, будучи назначен начальником в Грузию, не мешает познакомиться с соседственным народом и узнать землю их и, буде возможно, способы их».
«Способы их» — в данном случае — их военные возможности.
И через несколько строк фраза о запрете начать войну…
О войне он постоянно упоминает в письмах Закревскому из Тифлиса:
«С моей стороны, будь уверен, почтенный Арсений, я войны не затею, если возможно пристойным образом, то уклонюсь от нее. Я замышляю дома большие дела, к которым нельзя будет приступить, если извне будут меня беспокоить».
И дальше многозначительная фраза: «Не бойся, Арсений, не посрамим земли русской!» Это знаменитые слова неукротимого завоевателя Святослава перед боем с византийцами. Эти слова Ермолов выделил…
«Здесь нашел я войска, похожие на персидских сарбазов (имеется в виду неуставной внешний вид кавказских солдат. —
Тут характерно — «несколько лет мира». На длительный мир он не рассчитывает. И далее программное положение: «Но если успею, то ручаюсь, что после не по-прежнему будем оканчивать войну в здешнем краю».
То есть дайте мне несколько лет мира для устройства края и армии, а дальше воевать будем непременно, но не так как раньше — сокрушительно.
И еще: «Мне надобно три года мира».
Война неизбежна.
Мы недаром говорили об увлечении молодого еще Ермолова Наполеоном и переоценкой личности гениального завоевателя и администратора русскими офицерами после победы над ним.
Идеи молодого Бонапарта давали перспективу, открывали возможности, противоположные «обычному пути», как бы успешен он ни был.
«Европа — это кротовая нора. Мы должны идти на восток: великую славу завоевывали всегда там».
Эта формула Бонапарта, декларированная перед Египетским походом, по смыслу своему совершенно совпадает с формулой, отчеканенной Ермоловым: «В Европе не дадут нам ни шагу без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам».
Он произнес это уже в отставке, но с полной уверенностью можем предположить, что именно с этой мыслью рвался он на Кавказ, к воротам Азии.
На острове Святой Елены Наполеон сформулировал истинную цель Египетского похода: «Если бы Сен-Жан д’Акр была взята французской армией, то это повлекло бы за собой великую революцию на Востоке, командующий армией создал бы там свое государство, и судьбы Франции сложились бы совсем иначе».
Что имел в виду Алексей Петрович, когда говорил, что в Азии «целые царства к нашим услугам»?
Вряд ли он намеревался основать собственное государство. Хотя позднее о нем говорили, что он «хотел стать царем», что он собирался отделить от России Грузию с Кавказом и править там…
Это крайне маловероятно. Его истинных стратегических планов мы никогда не узнаем. Да скорее всего в тот момент они не были до конца ясны и ему самому.
Но перед отъездом на Кавказ и в Персию он внимательно присматривался к египетскому опыту Бонапарта.
В апреле 1817 года он писал Закревскому: «Теперь прилагаю копию с одного манифеста к кабардинскому народу. Я сам смеюсь, писавши такие вздоры, но я раз сказал шутя истину, что здесь такие писать должно и что сим способом скорее успеешь. Ты в сем манифесте узнаешь слог Бонапарте, когда в Египте, будучи болен горячкою, говаривал он речи. Я брежу и без горячки!»
Они, стало быть, хорошо знали подробности истории Египетского похода.
Еще не побывав в этот раз в Персии, он собирал о ней сведения и анализировал возможный вариант отношений.
Незадолго до отбытия в Персию он писал Закревскому, понимая, естественно, что это верный неофициальный канал для доставления своих соображений высшим властям, тех соображений, которые он не считал возможным до поры излагать в официальных документах: «Кто может более проникнуть в состояние Персии, как я, которому судьба на долгое время назначила здесь пребывание? Кому полезнее знать соседей, как мне, имея всегда с ними необходимые сношения? Словом, я, конечно, с большим старанием буду искать познакомиться с их способами и средствами. Мне нужно узнать непременно два обстоятельства, имеющие влияние впоследствии на мое в здешнем крае управление. Первое, можно ли полагаться на продолжение дружественных отношений с Персиею и постигает ли она, что в том есть существенная ее выгода? Или Персия, посторонним влиянием управляемая, может надеяться оружием приобрести выгоды? Второе, если нельзя положиться на прочность связи с Персиею, то нужно знать, до какой степени могут быть велики беспорядки и междуусобия после смерти шаха, дабы мне, придав их лютости внутренних раздоров и растравляя ловким образом, иметь время управиться с разными народами, населяющими горы в тылу нашем, которые хотя и не весьма опасны, но весьма беспокойны. Между ними беспрестанно посеваем мы вражду и раздор, разве более преступление разжечь войну между персиян? А мне надобен покой со стороны сих последних, чтобы ловчее приняться за своих, надобно пожать и пустую, неблагодарную и мятежную каналью грузин, еще не внемлющих необходимости устройства для собственного блага».
Он еще не был в Персии, но уже выстраивает тактику разрушения Персидской державы, в основе которой использование соперничества группировок вокруг шахского престола. Уже будучи в Персии, он эту тактику конкретизирует.
Здесь есть симптоматичная оговорка — горские народы могли оказаться в тылу русской армии в том случае, если бы она, как в 1796 году, вторглась в персидские пределы.
Фраза о необходимости покоя для устройства Грузии выглядит пустой отговоркой после предыдущего пассажа.
Получив строгий наказ императора во что бы то ни стало установить прочный мир, он собирался в Персию, обдумывая совершенно иные планы.
И тут опять встает вопрос о патриотизме Ермолова, о соотношении его личных интересов с интересами империи.
Ермолов не был фанатиком служения государству, но его «необъятное честолюбие» органично сочеталось с ведущей имперской идеей — расширением пространства.
Идея эта пугала уже русских государей, видевших неимоверную сложность управления этим конгломератом многообразных территорий и народов.
Но она не смущала значительную часть русской элиты — и не только военно-бюрократической.
Когда в 1801 году «молодые друзья» Александра, либералы-государственники, возражали против присоединения Грузии, то они были опьянены возможностями, которые, как им казалось, открывались внутри страны.
Эти иллюзии довольно быстро рассеялись, группа распалась, и ведущая идея российской имперскости снова приобрела былую силу.
Ее носителями были отнюдь не только вельможи екатерининского закваса, которые настояли на включении Грузии в состав государства. В тех кругах, которые интеллектуально были ближе Ермолову, эта идея находила отнюдь не примитивно экспансионистское обоснование.
Один из самых сильных государственных умов ермоловского времени, идеолог умеренного декабризма Николай Иванович Тургенев в своем основополагающем сочинении «Россия и русские» писал: «Истинные интересы русской политики находятся не на Западе, а на Востоке. <…> Восток открывает для русской политики поле столь обширное, сколь и легкое для возделывания. Рассеянные там христианские народы более всего желают быть обязанным своим будущим России. <…> Роль, которую Россия могла бы сыграть на Востоке, оказывая покровительство христианам, попавшим под власть мусульман, защищая их права и самобытность, вводя и распространяя среди них цивилизацию, и наконец помогая их борьбе за независимость, столь прекрасна, что, полагаю, ею вполне можно удовлетвориться»[65].
Тургенев мыслил широко, и геополитические представления Ермолова вполне встраивались в его концепцию.
Тургенев в главе «О расширении границ России» писал: «Потребность в расширении движет цивилизацию вперед, побуждая ее вторгаться в пределы варварства, всеми средствами подрывать его, прибегая даже к такой ужасной мере, как война»[66].
Нет сомнения, что Алексей Петрович подписался бы под этими словами.
До нас дошла речь Ермолова перед представителями Персии в 1820 году: «Царствованию варварства приходит конец по всему азиатскому горизонту, который проясняется, начиная от Кавказа, и провидение предназначило Россию принести всем народам вплоть до самых границ Армении мир, процветание и просвещение».
Ермолов прибыл на Кавказ не только ведомый своим «необъятным честолюбием» и жаждой грандиозного «подвига», но и вполне определенным комплексом идей.
Он приехал в Тифлис 10 октября 1816 года.
В Персию Алексей Петрович отправился не сразу. Сперва нужно было оглядеться в своих владениях, оценить людей, его окружающих, и понять масштаб будущей деятельности вне зависимости от «персидского проекта». Ибо устраивать Грузию и замирять Кавказ ему приходилось в любом случае.
Для этого он отводил себе, как мы знаем, три-четыре года.
Однако же первое, что он сделал, — отправился объезжать ханства, которые по преимуществу расположены были вблизи персидской границы.
Он объяснил это в воспоминаниях вполне рационально: «Вскоре по прибытии в Тифлис должен я был осмотреть важнейшую часть границы, ибо готовясь к отъезду в Персию, нужны мне были сведения о состоянии оных, особенно зная, какие употреблял усилия шах Персидский, дабы возвращено ему было ханство Карабахское, или часть оного, в чем и предместник мой обязался ему способствовать».
В этом был несомненный резон. Но Ермолов готовился не только к переговорам с Персией, но и к ликвидации ханств как квазигосударственных образований.
Перед поездкой в ханства он писал Закревскому 18 ноября: «Здесь мои предместники слабостию своею избаловали всех ханов и подобную им каналью до такой степени, что они себя ставят не менее султанов турецких, и жестокости, которые и турки уже стыдятся делать, они думают по правам им позволительными. Предместники мои вели с ними переписку как с любовницами, такие нежности, сладости, и точно как будто мы у них во власти. Я начал вразумлять их, что беспорядков я терпеть не умею, а порядок требует обязанности послушания и что таковое советую им иметь к воле моего и их государя, и что я берусь научить их сообразовываться с тою волею. Всю прочую мелкую каналью, делающую нам пакости и наглые измены, начинаю прибирать к рукам. Первоначально стравливаю между собою, чтобы не вздумалось им быть вместе против нас и некоторым уже обещал истребление, а другим казнь аманатов. Надобно некоторых по необходимости удостоить отличного возвышения, то есть виселицы».
Инспекционная поездка укрепила его в этих настроениях. Он чувствовал себя вершителем судеб, паладином, призванным истребить варварство.
Когда-то он, сидя в маленьком Несвиже, с упоением читал «Неистового Роланда». Теперь, когда его самого называли «русским Роландом», он должен был продолжить ту, давнюю борьбу, воспетую Ариосто, — очищать мир от современного варварства. Коварные персы, жестокие ханы, буйные горцы — все это были те же мавры, во время бно бросавшие вызов христианской цивилизации.
На эти романтические импульсы, идущие из его юности, теперь мощно накладывались интересы государства — «расширение границ России» как императив и построение собственной — от всего отделенной судьбы.
В его возбужденном сознании сложился многообразный конгломерат идей и мотиваций, которые довольно быстро и сформировались в высокомерно суровый стиль строительства всеобщей жизни по Ермолову.
17 апреля 1817 года, за два месяца до отъезда в Персию и вскоре по возвращении из поездки по ханствам, Ермолов писал в Париж Воронцову: «Терзают меня ханства, стыдящие нас своим бытием. Управление ханами есть изображение первоначального образования обществ. Вот образец всего нелепого, злодейского самовластия и всех распутств, унижающих человечество».
Ермоловым руководили не только цивилизаторские побуждения и отвращение к азиатским формам самовластия. Ханства были прочно связаны с Персией — как религиозными, так и родственными узами. В случае войны с Персией это была мощная пятая колонна. Они были частью ненавистной Персии, с которой ему запретили воевать…
Насколько воспоминания свои Алексей Петрович писал сдержанным «римским стилем», настолько выразительно живописал он те же события в письмах. Поэтому мы чаще будем пользоваться его обширным эпистолярным наследием, чем мемуарами.
Вернувшись из поездки по ханствам, оценив степень их опасности и нежелательности их существования, он отчитался перед Закревским:
«У нас есть некий род собственных царьков. Это ханы, утвержденные грамотами государя и которым трактатами предоставлены права, совсем для нас невыгодные и умедливающие устройство земли. Лучший из них ширванский генерал-лейтенант, Мустафа. Это сильнейший также, а потому я с ним приятель и он начинает иметь ко мне великую доверенность: дал слово приехать ко мне в Тифлис с детьми. Он сам сказал мне, что ни для кого из начальников того не делал. Я его надул важным письмом и потом с пятью офицерами, не имея ни одного казака в конвое, приехал к нему для свидания. Вот чем я его зарезал. Прочие ханы трепещут. Одного жду смерти нетерпеливо, как бездетного, другого хочется истребить, ибо молод, ждать долго, наделает, скотина, детей, которые по трактату должны быть наследники. Если в обоих сих ханствах удастся учредить наше правление, народы будут счастливы и государь по крайней мере получит 100 000 червонцев доходу. Ртищев мне и это испортил. Он именем государя хану карабагскому бездетному назначил изменника наследником, который, имевши наш полковничий чин, бежал в Персию, подвел неприятеля и у нас истребили баталион. Он посылал за ним в Персию, склонил возвратиться и простил. Я узнал от самого изменника, что это сделано не без греха. Паулуччи (командующий на Кавказе перед Ртищевым. —
В другом ханстве, по милости графа Гудовича, мы имеем хана. Та глупейшая скотина принял из Персии беглеца, доставил ему чин генерал-майора, Анненскую ленту и ханство, которое должно было иметь наш образ управления».
Проблема ханств, особо волновавшая Ермолова в свете его персидского проекта, вообще-то была проблемой фундаментальной. И дело было не в гуманизме и экономической выгоде. Дело было в принципах управления Кавказом.
Ермолов во все свое время пребывания здесь имел дело с Кавказом Восточным. На Западный Кавказ, населенный многочисленными и воинственными адыгскими народами — черкесами, активные военные действия пришли значительно позже, после победы России в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов. До этого черкесы считались подданными турецкого султана. Чего, впрочем, они не признавали.
Восточный Кавказ был структурирован вполне определенным образом — ханства и вольные горские общества.
Ханства представляли собой подобия государств-деспотий с запуганным и покорным населением, что и дало основание Алексею Петровичу для его высокомерной формулы: «Они знают свое невежество, не в претензии быть людьми».
Предшественники Ермолова, кроме Цицианова, исходили из чисто прагматических и отчасти легитимистских соображений. Им было удобно иметь дело с традиционной властью, напоминающей в некотором роде российское самодержавие. Это была понятная модель. Иметь дело с деспотом было проще, чем с народом.
Вольные горские общества можно с известной долей условности охарактеризовать как военные демократии. Идеальным вариантом была Чечня — общество равных, общество воинов, не признававших чье-либо превосходство и выбиравших предводителя только для набегов.
Ханства были понятны. Вольные горские общества представляли собой для русских властей загадку, которую предстояло разгадать.
Князя Цицианова Ермолов знал по Персидскому походу. Скорее всего, немало слышал о нем и от Воронцова, воевавшего два года под началом Павла Дмитриевича.
Мечтавший о кавказском наместничестве Алексей Петрович, сознавая свою неосведомленность в кавказских делах, искал образец, на который он мог бы ориентироваться. И выбрал Цицианова.
Это имя с самыми лестными эпитетами постоянно встречается в письмах Ермолова Закревскому и Воронцову в первые годы его кавказской службы.
18 ноября 1816 года он писал Закревскому из Тифлиса: «Не уподоблюсь слабостию моим предшественникам, но если хотя бы немного похож буду на князя Цицианова, то ни здешний край, ни верные подданные Государя нашего ничего не потеряют».
А 20 ноября 1818 года, уже по возвращении из Персии и освоившись в обстановке, Алексей Петрович, благодаря Воронцова за присланные книги, добавил: «Мне приятно было прочесть и другие книжки, в которых справедливо говорится о славном Цицианове. Поистине после смерти его не было ему подобного. Не знаю, долго ли еще не найдем такого, но за теперешнее время, то есть, за себя, скажу перед алтарем чести, что я далеко с ним не сравняюся. Каждое действие его в здешней земле удивительно; а если взглянуть на малые средства, которыми он распоряжал, многое казаться должно непонятным. Ты лучше других судить можешь, бывши свидетелем дел его».
Ермолову импонировала не только высокомерная твердость князя Павла Дмитриевича по отношению к возможным противникам, но и его персидские замыслы, с которыми мог он познакомиться еще в Петербурге, получив доступ к кавказским материалам.
Он мог иметь возможность прочитать донесения Цицианова Александру.
Цицианов рассчитывал стимулировать междоусобицу в прикаспийских ханствах и, воспользовавшись этим, захватить Дербент и Баку. А когда Александр выразил сомнение в реальности подобного плана и предложил попытаться вовлечь ханов в русское подданство мирными способами, то князь Павел Дмитриевич ответил ему решительным донесением: «Поелику ни один народ не превосходит персиян в хитрости и в свойственном им коварстве, то смею утвердительно сказать, что никакие предосторожности в поступках не могут удостоверить их в благовидности наших предприятий, когда заметить можно даже в нравах грузинского народа, почерпнувшего в Персии вкупе с владечеством неверных некоторую часть их обычаев, что самые благотворные учреждения правительства нередко приводят оный в сомнения и колеблют умы недоверчивое — тию… Страх и корысть суть две господствующие пружины, коими управляются дела в Персии, где права народные вкупе с правилами человечества и правосудия не восприняли еще своего начала, и потому я заключаю, что страх, наносимый ханам персидским победоносным оружием В. И. В., яко уже существующий, не может вредить нашим намерениям».
Как мы убедимся, документы, в которых Ермолов излагает свои соображения относительно отношений с Персией и ханствами, непосредственно восходят к соображениям Цицианова.
Оба они считали войну с Персией желательной, если не необходимой. Оба были уверены в том, что ханства — форпосты Персии на российских границах, оба, как увидим, делали ставку на разжигание междоусобиц в стане противника.
Но если планы Цицианова были сравнительно скромны: он рассчитывал присоединить к Российской империи обширные, но ограниченные территории, то знаток походов Александра Македонского, выученик Цезаря, изучавший опыт Египетского похода Бонапарта, знавший об азиатских планах Петра Великого, Екатерины с Потемкиным, помнивший собственный опыт 1796 года, осведомленный о совместных азиатских планах Бонапарта и Павла I, а затем Наполеона и Александра, Ермолов мыслил в других масштабах и категориях. «В Азии целые царства к нашим услугам…»
Князь Павел Дмитриевич был хорошим, исправно, ревностно служившим русским генералом. Он был честолюбив, как и подобает настоящему военному человеку, но его честолюбие не выходило за пределы воинского долга, определенного присягой, и этим долгом поглощалось.
Ермоловское честолюбие с определенного времени было ограничено только силой его воображения.
Он рвался на Кавказ, потому что не видел в России достаточного пространства для своего честолюбия. Максимум русской военной карьеры — чин фельдмаршала и командование одной из армий, вряд ли его устраивал — это был тот же Гренадерский корпус с теми же хозяйственными, административными и фрунтовыми заботами, только в несколько раз больше… Другое дело — командование армией в большой войне. Но большой войны не предвиделось…
Он рвался на Кавказ и потому, что это была сфера деятельности с максимально возможной степенью самостоятельности и независимости от Петербурга, и потому, быть может, прежде всего, что Грузия и Кавказ были преддверием Персии, а разгромленная Персия открывала дорогу в Большую Азию — до северных границ Индии. Необъятные пространства, таящие в себе огромные богатства и ждущие мощной руки покорителя…
Причем пространства эти находились по обе стороны Каспия. На восток от Каспия лежали бескрайние земли, лишь отчасти контролируемые хивинским и бухарским ханами. Эти земли никак не попадали в сферу его ответственности и юрисдикции, но он хорошо знал, сколько усилий — и человеческих жизней — положил Петр Великий, чтобы взять эти земли под свою руку.
Он рвался на Кавказ и в Азию, потому что для него это был наиболее радикальный вариант выхода из сумрака кризисного сознания.
И сознание дворянского авангарда оценило этот максимализм — хотя, быть может, и не совсем понимая смысл этого броска в Азию. Как утверждал Граббе: «Взоры всей России обратились туда».
Именно с появлением на Кавказе Ермолова ясно обозначилась устремленность в этот край дворянской молодежи, взыскующей избавления от внутреннего дискомфорта.
С этого времени и началась эпоха коренных кавказцев, офицеров, добровольно связывавших с Кавказом свою судьбу и воспринимавших его как особое, родное для них пространство. Родился тип «русского кавказца», любившего Кавказ и посвящавшего ему многие годы самоотверженной службы. И заслуга Ермолова, его обаяния, в формировании этого явления была велика.
Определив окончательно свое отношение к ханам и ханствам как институту, еще до инспекционной поездки Алексей Петрович обратился к Грузии и грузинам.
Начинать надо было с Грузии, превратив ее в надежную оперативную базу для реализации будущих проектов.
9 января 1817 года Ермолов пишет Закревскому: «Теперь обратимся к единоверцам нашим к народу, Грузию населяющему. Начнем с знатнейших: князья не что иное есть, как в уменьшенном размере копия с царей Грузинских. Та же алчность к самовластию, та же жестокость в обращении с подданными. То же „благоразумие“, одних в законодательстве, других в совершенном убеждении, что нет законов совершеннейших. Гордость ужасная от древности происхождения. Доказательства о том почти нет, и требование оного приемлют за оскорбление. Духовенство необразованное… те же меры жестокости, употребляемые в изучении истин закона, жителям своим подающее пример разврата и вскоре обещающее надежду, что магометанская вера распространится. Многие из горских народов и земель, принадлежащих Порте Оттоманской, бывшие христиане, перестали быть ими и сделались магометанами, без всякой почти о том заботы. Если наши не так скоро ими сделаются, то разве потому, что по мнению их весьма покойно быть без всякой религии. Народ простой, кроме состояния ремесленников, более глуп, нежели одарен способностию рассудка; свойств более кротких, но чувствует тягость зависимости от своих владельцев. Ленив и празден, а потому чрезвычайно беден. Легковерен, а потому и удобопреклонен ко всякого рода внушениям. Если бы князья менее были невежды, народ был бы предан нашему правительству, но не понимают первые, еще менее могут разуметь последние, что они счастливы принадлежать России; и те, и другие чрезвычайно неблагодарны и непризнательны. Словом, народ не заслуживает того попечения, тех забот, которые имеет о них правительство, и дарованные им преимущества есть бисер, брошенный перед свиньями».
Через полтора месяца, 24 февраля, Алексей Петрович в письме Воронцову подводит психологическую базу под будущие свои отнюдь не филантропические действия: «Я в стране дикой, непросвещенной, которой бытие, кажется, основано на всех родах беспутств и беспорядков. Образование народов принадлежит векам, не жизни человека. Если на месте моем был гений, и тот ничего не мог бы успеть, разве что начертать путь и дать законы движению его наследников; и тогда между здешним народом, закоренелом в грубом невежестве, имеющем все гнуснейшие свойства, разве бы поздние потомки увидали плоды. Но где гении и где наследники, объемлющие виды своих предместников? Редки подобные примеры и между царей, которые дают отчет народам в своих деяниях. Итак людям обыкновенным, каков между прочим и я, предстоит один труд — быть ненамного лучше предместника или так поступать, чтобы не быть чрезвычайно хуже наследника, но если последний не гений, то всеконечно немного превосходнее быть может. Итак, все подвиги мои состоят в том, чтобы какому-нибудь князю грузинской крови помешать делать злодейства, которые в понятии его о чести, о правах человека (! —
Письма Закревскому и Воронцову часто различаются по своим функциям.
Если письма Закревскому — влиятельному военному бюрократу, близкому к высшей власти, являются, как правило, так сказать, эпистолярными рапортами, рассчитанными на определенный практический результат, то письма Воронцову — это послания тем военным кругам, да и не только военным, в поддержке которых Ермолов заинтересован.
По свидетельству Граббе, многие письма Ермолова с Кавказа расходились в списках и читались широко.
Но в данном случае смысловое назначение двух процитированных выше писем совпадает: во-первых, Алексей Петрович превентивно компрометирует грузинское дворянство в первую очередь, ожидая сопротивления с его стороны; во-вторых, готовит своих адресатов и их окружение к тому, что игра не стоит свеч. Стараться европеизировать грузинское общество — метать бисер перед свиньями.
То есть надо ориентироваться на иные задачи.
Нет надобности убеждать читателя в неправоте проконсула.
Когда он пишет, например, что для грузин удобнее находиться вообще без религии, то он странным образом забывает о героической многовековой борьбе и мученичестве Грузии ради своего христианства. Если под жесточайшим давлением двух мусульманских гигантов — Турции и Персии — маленькая Грузия сохранила свою религию, то это говорит прежде всего о крепости веры.
Стоило грузинам принять ислам, и им была бы обеспечена куда более благополучная жизнь. Они выбрали христианство и страдания.
Совершенно так же Алексей Петрович не мог и не хотел понять, какую роль в самосознании грузинского аристократа, жившего в опасном и ненадежном мире, играет опора на древность своего рода — гордость, дающая силы противостоять давлению враждебной реальности.
Нет смысла идеализировать грузинскую аристократию и вообще государственную и политическую жизнь Грузии XVIII века.
Надо только напомнить, что царь Ираклий И, который и обратился к России за помощью, отнюдь не был ничтожеством. Это был крупный политик, изощренный дипломат и талантливый военачальник. Потому и удалось ему выстоять много лет под напором мусульманских держав, горских набегов и эгоизма собственной знати.
Но нет смысла и надобности полемизировать с Алексеем Петровичем.
Мир, в который он попал, был ему чужд, и понимать его он не видел надобности.
Его любимой идеей стало перевоспитание грузин в русских. Он хорошо помнил, как родовитый грузинский аристократ князь Петр Иванович Багратион клялся в роковые моменты своей русскостью.
Он писал Закревскому 22 февраля 1817 года: «Я помышляю теперь о заведении на сто человек кадетского корпуса. О сем было предложено Тормасовым (главнокомандующий на Кавказской линии в 1808–1812 годах. —
Алексей Петрович не подозревал, сколько прекрасных офицеров и генералов вскоре даст русской армии грузинское дворянство и как ревностно будут они покорять для России Кавказ…
Даже те уже отличившиеся офицеры из грузин, которые служили в Кавказском корпусе, вызывали у него сомнения.
19 февраля 1817 года Закревскому: «Вы требуете, чтобы я непременно одного из своих избрал в гренадерскую резервную бригаду. Я повинуюсь; но слезы на глазах у меня, что прекраснейшую сию бригаду должен отдать князю Эристову. Он храбрый весьма солдат, но чрезвычайный грузин. А кровь грузинская немного лучше армянской».
Вообще, в этот первый период, оглушенный чуждостью доставшегося ему в управление мира, он маниакально жаждет «русскости», даже там, где, по его собственному разумению, нужды в ней нет.
Что-то сильно беспокоило Ермолова в эти месяцы. Возможно, он сам еще не понимал — что именно. Отсюда и это брюзгливое раздражение.
Скорее всего, это был подсознательный страх, что он совершил роковую ошибку, сделав ставку на Кавказ и Грузию.
Скорее всего, это были появившиеся сомнения в реальности задуманного «персидского проекта» и боязнь того, что российскую рутину он сменил на рутину грузинскую.
Он еще не был в Персии. Он еще не сталкивался с проблемой горцев.
Он был на перепутье. Мучительная рефлексия была свойственна его суровой и чувствительной натуре.
Своими инвективами против грузин, этим максимальным сгущением красок, он не только выплескивал свои сомнения и страхи, но и готовил Петербург — через Закревского к жесткости мер, которыми собирался наводить порядок.
Он писал о грузинах Воронцову 10 января 1817 года: «Этот народ не создан для кроткого правления Александра: для него надобен скиптр железный».
Но уже 17 апреля того же года, присмотревшись к окружающему миру и успокоившись, он заверял Закревского: «Грузия, чем более вникаю я, тем нахожу более возможности привести ее в лучшее состояние. <…> В Грузии начинают, по счастию моему, появляться иностранцы для заведения некоторых фабрик. Приехал немец для стеклянного завода… Приехал кожевник и будет завод великолепный».
Давно ли он сетовал, что князь Эристов хоть и храбрый офицер, но, увы, грузин? А вернувшись из Персии, в ноябре, пишет Закревскому: «Представляю одного молодца подполковника князя Севарсемидзева. Этот со временем заступит Котляревского, а на Лисаневича и теперь не променяю».
Котляревский был легендой последней персидской войны, образец кавказского военачальника, об отставке которого за ранами Ермолов очень горевал. Дмитрий Тихонович Лисаневич был кавказский ветеран, соратник Цицианова. В конце Наполеоновских войн он был отозван с Кавказа и с 1815 года командовал дивизией в экспедиционном корпусе Воронцова.
И вот теперь появляется грузинский князь, который выдерживает сравнение с ними обоими…
Ермолов конечно же был человеком настроений. И это надо учитывать, оценивая его эскапады по национальному вопросу.
17 апреля 1817 года Ермолов во главе посольства отбыл в Персию.
В результате войны 1802–1813 годов, войны для русских нелегкой, поскольку огромный численный перевес был постоянно на стороне персов, войны, в которой прославились Цицианов и Котляревский, к России отошли обширные ханства, расположенные на территории Азербайджана и Армении.
Персия не теряла надежды вернуть потерянные земли и исподволь готовилась к новой войне.
Задачей посольства Ермолова было четкое определение границы между государствами и закрепление условий Гюлистанского трактата 1813 года. В случае надобности, чтобы не спровоцировать новой войны, Ермолову рекомендовалось пойти на некоторые территориальные уступки.
Ермолов, верный последователь Цицианова, уполномоченный разрешить все противоречия между Россией и Персией и установить прочный мир и задушевную дружбу между ними, ехал в страну, которую он презирал и ненавидел.
Характеристика, которую мы сейчас почерпнем из его письма Воронцову от 5 ноября 1817 года, вскоре после возвращения из Персии сложилась в его представлении задолго до этих посольских месяцев: «Образа правления определенного нет: власть шаха беспредельна, по свойствам их более или менее тягостна для народа. Нынешний шах скуп до чрезмерное — ти и любит собирать деньги. Грабительство сделалось необходимостию. Надобно иметь деньги, чтоб делать ему подарки; без них нет милости шахской, нет покровительства вельмож, нет уважения равных. Деньгами приобретаются места, почести и преимущества; ими заглаждаются преступления, и получается право делать новые. Законов нет, понятия о чести нет, обязанности различных состояний государства не известны, права им приличествующие не определены. Вера злодейская, послабляющая страсти, гонящая просвещение. Невежество народа стоит на коленях пред исступленным духовенством, и сие дает закону истолкование по произволу или каковое полезно правительству, всегда с ним единодушному и взаимными преступлениями соединенному».
Дальше Алексей Петрович довольно вяло выражает надежду, что при помощи европейцев наследнику Аббас-мирзе удастся привести государство в более приемлемое состояние. Но его отношения к Аббас-мирзе это отнюдь не улучшает.
Сильная Персия России не нужна. А с помощью англичан персидская регулярная армия становится вполне боеспособной.
Для Ермолова вывод ясен: чем раньше начнется война, тем проще будет России отторгнуть от Персии те территории, которые лежат вдоль общей границы, — территории наиболее плодородные и населенные.
Положение Алексея Петровича было не из легких, потому что, как уже говорилось, его намерения никак не совпадали с полученными им инструкциями.
Уже вернувшись, он разъяснял Закревскому эту муку раздвоенности: «Вообрази ты положение мое! Совсем не зная дела, никогда не входит в голову военного человека приуготовлять себя на подобное препоручение. Отправляюсь в такую землю, о которой ни малейшего понятия не имею; получаю инструкцию, против которой должен поступать с самого первого шагу, ибо она основана на том же самом незнании о земле. В ней поручено мне поступать по общепринятой ныне
С самого начала Ермолов решил следовать наперекор и духу, и букве данных ему инструкций. Если в грамоте, которая, по мысли Александра, должна была быть основополагающим документом и убедить персов в миролюбии России, речь шла об укреплении уже существующей дружбы и высказывалось глубочайшее уважение к могущественному восточному государю, то Алексей Петрович немедленно дал понять, что все это он в грош не ставит.
Он непреклонно демонстрировал свое неуважение к персидским вельможам всех рангов, включая наследника и любимца шаха Аббас-мирзу.
«В Тавризе, — пишет он Закревскому, — где живет наследник и скопище наших неприятелей, я не был доволен приемом, уехал не простясь и ругал как каналью первого его министра, с которым поссорился я с намерением, чтобы он не мог при переговорах о делах употреблен быть непосредственно. <…> Шах узнал, что я неприятно расстался с наследником любимым его сыном и был в отчаянии, особливо, когда взял я на себя труд довольно ясно истолковать, что на персидский престол всходить не легко без главнокомандующего в Грузии». То есть пригрозил без обиняков вмешательством в династические дела Персии. И сделал это вполне обдуманно, ибо подобные мысли у него и в самом деле были.
«Понеслись известия к шаху, что я человек чрезвычайно гордый, характера зверского и стараюсь искать все причины к вражде».
В грамоте, которой должен был руководствоваться Ермолов, было сказано, что он будет вести переговоры с теми лицами, которых назначит для этого шах.
Ермолов своею волею этот вариант категорически отмел.
Он без колебаний присвоил себе права, которыми официально не обладал.
За месяцы, проведенные в Грузии и ханствах, в опьяняющем воздухе Кавказа, те черты его личности, что пугали окружающих его в России, стремительно гипертрофировались. Он ощутил ту степень свободы действия, о которой всегда втайне мечтал и ради которой готов был рискнуть открывшейся карьерой. Ибо обычная карьера — даже в тех масштабах, которые предоставил ему Кавказ, — его уже не устраивала.
Он решил сыграть собственную игру, заменив своей волей волю императора и тем более Министерства иностранных дел.
В дневниковой записке о ходе переговоров он писал 9 июля о встрече с одним из главных министров шаха Мирзой-Абдул-Вахабом: «Мирза-Абдул-Вахаб прислал ко мне чрез г. Мазаровича (русский дипломат из сопровождавших Ермолова. —
То есть Алексей Петрович прямо и просто объяснил персидскому министру, что шах должен быть благодарен русскому императору за то, что тот ограничивается уже завоеванным, хотя мог бы забрать и больше.
И далее он сделал заявление, подобающее главе государства, но никак не послу: «Я отвечал… что также со стороны своей знаю мои обязанности соблюдать достоинство моего государя и России, и что, если в приеме шаха увижу холодность, а в переговорах с тем, кому поручено будет рассуждать со мною о делах, замечу намерение нарушить мир, я не допущу до того, и сам объявлю войну и потребую по Араке; притом истолковал я, какой должно употребить способ для завладения по Араке, который заключается в том, что надобно взять Тавриз, и потом из великодушия уступив Адербиджанскую провинцию, удержать области по Араке, и что вы должны будете признать за примерную умеренность. Жаль мне, сказал я ему, что вы почтете это за хвастовство, которое между нами не должно иметь места, а я бы назначил вам день, когда русские войска возьмут Тавриз. Я желал бы только, чтобы вы дали мне слово дождаться меня там для свидания».
Ермолов заявил о своем праве объявлять войну, какового он, естественно, не имел. Но убедительность его тона и весь стиль поведения были таковы, что персы ему верили…
Но главное последовало дальше. Алексей Петрович приоткрыл суть своей переговорной стратегии: «Я присоединил также, что для Персии война несчастливая должна иметь пагубные последствия, ибо, конечно, есть люди, могущие воспользоваться междуусобием, которое произведут неудачи и даже могут желать престола (которому проложил дорогу нынешний шах, соблазнительную для каждого предприимчивого человека), и что многочисленное семейство шаха тем менее будет в состоянии удержать за собою престол, ибо истребление оного есть средство единственное избежать отмщения. Итак, первая несчастливая война должна разрушить нынешнюю династию. Вот что ожидает Персию…»
Надо полагать, что Мирза-Абдул-Вахаб, довереннейший министр шаха, был потрясен и разъярен этой откровенностью.
Тем более что все вышесказанное имело ясный подспудный смысл.
Говоря о взятии Тавриза, Ермолов давал понять, как он относится к любимому сыну шаха, наследнику и главнокомандующему персидской армией Аббас-мирзе, чьей столицей и был Тавриз.
А говоря о неизбежных междоусобиях в случае проигранной именно Аббас-мирзой войны, Ермолов демонстрировал свое понимание расклада сил в августейшем семействе. Более того, он, как мы помним, будучи в Тавризе, уже дал понять Аббас-мирзе, как он к нему относится, и напомнил, что главнокомандующий в Грузии имеет возможность встать на сторону одного из претендентов на престол.
Демонстрация взаимной ритуальной лояльности при расставании ничего по сути не меняла.
И для Ермолова, и для его собеседника эти намеки были наполнены реальным политическим смыслом.
По возвращении из Персии Алексей Петрович сетовал на коварство англичан: «Нам приписали намерения завоеваний и уничтожение Персии междоусобными войнами».
Английские дипломаты, как мы увидим, ошибались только отчасти, так как Алексей Петрович и не скрывал подобных намерений в разговорах с персидскими вельможами.
Он сообщал Закревскому 27 января 1818 года о встрече с Мирза-Абдул-Вахабом, игравшим главную роль на первом этапе переговоров — хотя и в качестве неофициального собеседника: «Не без шуму, не без угроз истолковал я им, что российский государь не в состоянии ничего пожелать, чего бы он не мог исполнить, что я один из начальников малейшей части, но что в руках моих способы не только произвести в Персии внутреннюю войну, но указать прямейший путь к престолу и наименовать шаха, которому не трудно достигнуть оного, ибо царствующий ныне не более имеет на это права».
Алексей Петрович, не называя имени, говорил о вполне конкретном кандидате, хорошо известном его собеседникам.
Денис Давыдов в воспоминаниях о своем почитаемом брате счел нужным сообщить следующее: «Ермолов, вполне убежденный, что мир между Россией и соседними восточными государствами не мог быть продолжителен (Алексей Петрович положил на мирное время три-четыре года. —
Из этого текста следуют несколько важных выводов.
Во-первых, Ермолов находился в тайных сношениях с опальным сыном шаха и дал ему некие авансы. Во-вторых, средством возведения на престол нужного ему кандидата Ермолов считал войну. В-третьих, что самое главное, обвинения английских дипломатов в стремлении Ермолова разжечь в Персии междоусобицу имели достаточные основания.
Как уже бывало, мы могли бы усомниться в точности сведений Давыдова, но в этом случае они подтверждаются.
Дневник во время путешествия в Персию вел не только Ермолов, но и сопровождавший его, хорошо нам известный Николай Николаевич Муравьев. В его записках есть, в частности, трогательный пассаж: «Сегодняшний день (4-го июля) назначен для похода; но вчера около полудня приехал фельдъегерь из Петербурга, привез много бумаг и писем. Я получил восемь писем, наполненных чувствами дружбы. Все меня зовут назад по окончании посольства; но я решился сказаться больным, если меня Алексей Петрович вздумает отправлять в Петербург, и перейти в какой-нибудь армейский полк, в Грузии находящийся».
Ермолов отвечал Муравьеву искренней симпатией. Перед самым отъездом на Кавказ он добился для Муравьева следующего чина и перевода в гвардию.
Муравьев, не подозревая о важности сообщаемых им сведений, рассказывает и о стиле поведения Ермолова-посла, и о его отношениях с Мухаммад-Али-мирзой:
«Когда мы приехали в диван-хану, сидящие там чиновники с намерением опоздали встать с мест своих. Генерал сел на первый стул, который случился, велел всем нам садиться и закричал: „Я в караульную пришел, но не в сенат, Абул-Гассан-хан, так ли вас в Петербурге принимали?“ Алаиар-хан испугался, и все стали просить посла, чтобы он на первое место сел. Он долго противился, все сидел и кричал, что в караульной все места равны; наконец он согласился, пересел на настоящее свое место, развалился в креслах и пристал к Абул-Гассан-хану: так ли его в Петербурге принимали? Абул жалок стал».
Ермолов третировал персидских сановников, пользуясь каждой их случайной или намеренной оплошностью.
«Посол не преставал кричать со всеми очень громко: он говорил, что не находит в чиновниках персидских той искренности, с которой его шах примет». Это были не просто скандальные сцены. Унижая персов, Алексей Петрович внушал им определенный комплекс представлений о своих возможностях и о ситуации».
«С Алаиар-ханом он говорил о ласковом его приеме; с Мерви (казначеем) о завоевании России татарами и об освобождении ее, и вывел свой род от племени Чингиз-хана; с Курдинстанским вали превозносил добродетели Шах-Заде-Махмед-Али-мирзы; наконец, обругав и осмеяв всех, он пошел с советниками и переводчиком к шаху».
Разумеется, персидские вельможи были ошеломлены и оскорблены. Никогда ни один посол иностранной державы не разговаривал с ними таким образом. Они привыкли к прагматичной сдержанности англичан и вкрадчивости французов, исподволь добивавшихся влияния на персидские дела, главным образом внешние, и предлагали за это свою помощь. Это были деловые и дипломатические партнеры.
Теперь же перед ними оказался человек, который выказывал им открытое пренебрежение, откровенно вмешивался в их внутренние дела, угрожал и за все это требовал почтения.
Перед ними был не дипломат-переговорщик, а Завоеватель, прямо намекавший на будущую агрессию.
Он знал главенствующее положение наследника Аббас-мирзы и тем не менее «превозносил добродетели» Мухаммад-Али-мирзы, старшего опального сына.
Муравьев не был посвящен в глубинные замыслы своего генерала, но он чувствовал ситуацию и потому постоянно возвращался к фигуре опального мирзы: «Фатей-Али-шах, ныне царствующий в Персии, назвал наследником своего сына Абаз-мирзу, отказав старшему сыну Мамед-Али-мирзе. Злоба поселилась между братьями; старший объявил при отце своем, что по смерти его оружие изберет царя. Мамед-Али-мирза воин храбрый, решительный, отчаянный, удаляющийся от всякой неги и от обычаев европейских. Зверство знаменует его. Абаз-мирза, напротив, нежный, женоподобный, ищет европейцев, дабы перенимать у них обычаи. Предвидя кровную войну по смерти отца своего, он приобретает любовь своих подданных справедливостью и кротостью и устраивает регулярное войско. Война междуусобная непременно возродится и, если брат его победит, то первый его поступок будет уничтожение сих войск».
Далее капитан Муравьев простодушно формулирует одну из задач, которую держит в уме его генерал: «Между тем, наше правительство не признает еще никого за наследника и не пропустит случая, чтобы занять Эриванскую область по Араке, в залог дружбы с тем из сыновей, который будет признан нами».
Муравьев определенно подтверждает прямые контакты Ермолова с опальным принцем: «4-го числа ездил посол к Шаху-Заде-Махмед-Али-мирзе. Князь сей управляет в Курдистане храбрым войском; он старее Абаз-мирзы, который назначен наследником по причине того, что его мать одного племени (Каджарского) с шахом.
Махмед-Али совершенный молодец, говорит хорошо. Посол сидел и говорил ему разные приветствия, выхваляя ему храбрость его и народа его. Среди разговора Аскел-хан сказал Шах-Заде, что послы не должны сидеть при князьях царской крови. Тогда Махмед-Али закричал ему, что он знает, с кем он говорит, знает, как с послом говорить должно, и не требует от него советов. Посол был весьма доволен приемом Махмед-Али-мирзы».
Когда при окончании посольства принимающая сторона дарила подарки, то «посол еще получил несколько прекрасных шалей от Махмед-Али-мирзы и славных лошадей».
Демонстративно оскорбив наследника и не признав его официально таковым, Ермолов всячески подчеркивал внимание к старшему брату. Если учесть его громогласное заявление, что мудрено занять персидский трон без содействия главнокомандующего Грузией и что именно он может указать дорогу к трону, то выглядело это весьма вызывающе. Мухаммад-Али-мирза столь же явно отвечал российскому послу взаимностью, рассчитывая на его помощь в династической борьбе.
Алексей Петрович трезво смотрел на ситуацию. 5 ноября сразу по возвращении в Тифлис он писал Воронцову: «После смерти Надир-шаха долгое время внутренние войны раздирали Персию, и нынешний шах, воспользовавшись утомлением народа, а паче во время Аги-Магомет-хана, удобно соединил под власть свою и 20 лет царствует спокойно. Смерть его вновь повергнет Персию в междуусобие. Старший сын, несправедливо удаленный наследства, питает к брату своему вражду неугасимую. В государстве известны разные партии и все готово к жестокому кровопролитию. Думать надобно, что успех будет со стороны наследника, ибо он не перестает усиливать свои войска, которые, будучи устроены по-европейски, имеют большие преимущества и всегда в готовности; а у брата войск постоянных нет, и прежде нежели собрать их может, повергнется такой опасности, которая охладит его сообщников и даже отвлечь может».
Дальше Ермолов с большим пиететом отзывается о персидских полках Аббас-мирзы, подготовленных англичанами: «Я видел регулярные войска Персии. Артиллерия в весьма хорошем порядке, мне показали практическое ее учение, и у нас не все так хорошо выучены. Мне представили учение баталиона пехоты. Я мало видел иностранных войск лучше выученных, а в Грузии все мои хуже их в учении. Появились крепости по образу европейских. Завелись литейные дворы, снабжаются арсеналы, разрабатываются рудники и прочее. Со временем будет работа моим наследникам…»
И далее — фраза, которая придает истинный смысл всему пассажу: «…разве внутренние беспорядки похоронят все успехи сих заведений, что весьма правдоподобно».
Главная причина возможных «внутренних беспорядков» была Ермолову известна лучше, чем кому бы то ни было. В противном случае все разговоры о прочности положения Аббас-мирзы и устроенности персидской армии перечеркивали декларации Алексея Петровича о его влиянии на династические дела Тегерана.
Но как человек основательный он подводит под свои прогнозы вполне здравую базу, не имеющую отношения к его собственным интригам:
«Персия, населенная народами воинственными, может поставить сильные ополчения против внешних неприятелей и положением своим сохраняет большие выгоды для обороны. Самые те же причины внутренние беспокойства делают опасными: природа почти каждую из больших областей оградила цепьми гор и положила твердые пределы, почти каждую населила народом, особенные свойства имеющим, которые правительство должно различать в правах и преимуществах и потому не обладает одинаковою их приверженностию и между ими посеяло зависть. В Персии примеры возмущений делают большой разврат, ибо свежи в памяти происшествия, утверждающие в возможности освободиться от власти и зависимости. Недовольные всегда выжидают, чтобы народ возмутившийся или приобрел успехи или усилился какими-либо внешними пособиями…»
«Какими-либо внешними пособиями…»
Очевидно, что владеющий Курдистаном Мухаммад-Али-мирза может иметь успех только при условии таковых.
Великий князь Константин был прав, утверждая, что «единственный Ермолов» годится на всё.
Алексей Петрович быстро подметил слабые стороны персов как переговорщиков и выработал простую, но действенную тактику.
Вопреки данным ему наставлениям, он всячески демонстрировал свою агрессивность.
«Я вершка не уступил, — ликующе рапортовал он Закревскому, зная, что от того эти сведения разойдутся среди окружения императора, — хотя предоставлено мне было сделать шаху угодное».
«Сделать шаху угодное», вернуть часть завоеванных территорий — означало обеспечить долговременный мир, что в планы Алексея Петровича не входило.
В письме Закревскому от 25 сентября, после процитированных слов, он повторил в несколько ином варианте то, что зафиксировал в дневниковой записке: «Приходило так, что я объявил министрам персидским, что если малейшую увижу я холодность или намерение прервать дружбу, то я для достоинства России не потерплю, чтобы они первые объявили войну, тотчас потребую по Араке и назначу день, когда приду в Тавриз». Он последовательно и сознательно провоцировал Аббас-мирзу, от которого в значительной степени зависели война или мир.
Выяснив, что в Тавризе находятся беглые русские солдаты, из которых состоял отряд телохранителей Аббас-мирзы, Ермолов заявил его представителю: «Предупредите вашего наследника, что если во дворце его я увижу в числе его телохранителей русского солдата, невзирая на его присутствие, возьму за грудь его и вырву от вас. Каймакан (министр и наставник Аббас-мирзы. —
Алексей Петрович живописно изображает свои дипломатические приемы, которые, как он не без оснований считал, оказались эффективнее обычных, применяемых русскими дипломатами:
«Угрюмая рожа моя всегда хорошо изображала чувства мои, и когда я говорил о войне, то она принимала на себя выражение чувств человека, готового хватить зубами за горло. К несчастию их заметил я, что они того не любят и тогда всякий раз, когда не доставало мне убедительных доказательств, то я действовал зверскою рожею, огромною моею фигурою, которая производила ужасное действие, и широким горлом, так что они убеждались, что не может человек так сильно кричать, не имея справедливых и основательных причин».
О своей грубой физической агрессивности Ермолов упоминает с удовольствием и в письмах, и в записке. И Муравьев это подтверждает.
Но в этой истории психологического воздействия на персидских вельмож есть один особый сюжет, на который если и обращали внимание, то как на некий курьез. Между тем это был не курьез, а фактор, имеющий особый смысл не только в контексте поведения Ермолова в Персии, но и в его самоощущении вообще.
Муравьев, записывая темы разговоров Ермолова с персидскими вельможами, в частности, упоминает и разговор «о завоевании России татарами и об освобождении ее», и что Ермолов «вывел свой род от племени Чингисхана».
Сам он посвящает этой теме куда больше внимания. В письме Закревскому от 22 октября, сразу по возвращении, Алексей Петрович пишет об этом как бы вскользь, прикрывая иронией серьезность информации: «Я выдавал себя за потомка славного Чингисхана, покорившего некогда Персию. Шах знает, что в то же самое время татары владели Россиею и что многие провинции сего народа принадлежат ныне России, сохраняя закон свой и обычаи. Мне поверили и с радостию смотрели на меня, как на человека, происходившего от знаменитой крови и мусульманина. Страшные усы мои, которые по обыкновению азиатскому подкрашиваю я черною краскою, утвердили их в вероятии, и теперь в Персии, если назовешь меня по фамилии, немногие знают; если скажешь потомок Чингисхана — все знают непременно.
Государь не подозревает, что между подданными своими имеет столько знаменитого человека, предупреди его, хотя для того только, чтобы не взыскано было с меня за усы, которые приобрели мне великое в Персии уважение». Усы офицерам полагалось носить только в легкой кавалерии, и таким образом Ермолов — пехотный генерал, отпустив усы, грубо нарушил устав.
Все это можно было бы и в самом деле принять за шутку, если бы не продолжение: «Легко весьма быть может, что персияне узнавать будут, точно ли я чингисхановой породы. Я писал и к Каподистрии».
Каподистрия, один из руководителей российской политики, особо курировал восточные дела. И Ермолов, полномочный посол в Персии, специально предупреждает его, чтобы он не опровергал его происхождение от Чингисхана. То есть Алексей Петрович придавал этому вполне серьезное значение.
Подробно и с далекоидущим смыслом рассказывает этот сюжет Ермолов в своей записке о посольстве:
«Всегда бестрепетно призывал я в свидетели великого пророка Магомета и снискивал доверенность к обещаниям моим, ибо уверял я, что предки мои были татары, что весьма еще недавно ближайшие родные мои переменили закон. Им приятно было думать, что во мне кровь мусульманская».
Алексей Петрович знал, что делает, и прекрасно понимал, в какой традиции он пытается реализовать свои замыслы. Он, разумеется, помнил, каким мощным средством для освоения азиатского пространства стал для Александра Македонского фактической отказ от греко-македонского религиозно-культурного кода и замена его на обычаи завоеванной Персии.
Он помнил, что Бонапарт в Египте принимал каирских имамов в восточном наряде и давал им понять, что готов со своими солдатами принять ислам.
Это свидетельствовало о глубине и долгосрочности замыслов по вживанию в сферу представлений покоренных народов, а не просто о владении ими по праву сильного.
Готовность Ермолова демонстрировать свое мусульманское происхождение, клясться не именем Христа, но именем пророка Мухаммада, вызвана была не его легкомыслием, но серьезнейшими представлениями о стратегической перспективе.
«Я выдал себя за потомка Чингисхана, и нередко, рассуждая с ними о превратностях судьбы, удивлял их замечаниями моими, что я нахожусь послом в той самой стране, где владычествовали мои предки, где все покорствовало страшному их оружию, и утверждаю мир, будучи послом народа, нас победившего. О сем доведено было и до шаха, и он с уважением смотрел на потомка столь ужасного завоевателя. Доказательством происхождения моего служил бывший в числе чиновников посольства двоюродный брат мой, полковник Ермолов, которому, по счастию для меня, природа создала черные подслеповатые глаза и, выдвинув вперед скуластые щеки, расширила лицо наподобие калмыцкого. Шаху донесено было о столь явных признаках моей природы, и он приказал его показать себе. Один из вельможей спросил меня, есть ли у меня родословная? Решительный ответ, что она сохраняется у старшего в нашей фамилии, утвердил навсегда принадлежность мою к Чингисхану. Однажды я даже намекнул, что могу отыскивать права на персидский престол, но заметил, что персияне подобными шутками не любят забавляться».
Однако со стороны Ермолова это была не совсем шутка. И он объяснил — почему: «В народе же, столь легковерном и частыми переменами привыкшем к непостоянству, шутка сия может иметь важные следствия. В случае войны потомок Чингисхана, начальствуя сам над непобедимыми российскими войсками, может иметь на народ великое влияние».
Собственно, в этом последнем пассаже — ключ ко всему сюжету.
Все сводится к ситуации будущей неизбежной войны, в которой противниками Персии будет предводительствовать воитель, имеющий историческое право на власть, а не просто на военную победу с последующими мирными условиями.
Причем за плечами этого воителя маячила бы грозная фигура «потрясателя вселенной» и борьба с ним из банального столкновения двух государств из-за территориальных споров переходила в иную сферу — ту, где на века решаются судьбы народов, а победитель становится фигурой сакральной.
Это был вариант ермоловского мифа, продуманный специально для Востока, для азиатских царств, которые «были к услугам» сильного и устремленного человека.
Был и еще один не менее важный аспект этого сюжета. Суровая и дальновидная игра с тенью великого завоевателя не могла не оказать сильного влияния на самопредставление Ермолова.
Оказавшись в глубине обширного Персидского царства, на азиатских просторах, окруженный воинственными народами, не признающими европейских установлений, призвав на помощь тень Чингисхана, Алексей Петрович с его живым и сильным воображением, с туманной грандиозностью представлений о своем предназначении не мог не ощутить своего родства с этим новым качеством исторической материи.
Сколь угодно высокая, но тривиальная карьера русского генерала, которая смущала его прежде, стала тем более неприемлема для него теперь.
Тут и сформировался фундамент его будущей трагедии…
Ермолов напрасно настаивал на том, что он солдат, а не дипломат.
«Патер Грубер» стремительно выработал модель поведения со своими контрагентами, которая обеспечивала ему достижение и тех целей, которые были перед ним поставлены Петербургом, и тех, которые он сам перед собой ставил.
Парадокс заключался в том, что цели эти были противоположны.
Изначально восстановив против себя влиятельнейшего наследника престола и сознательно оскорбив первых вельмож Персидского государства, Алексей Петрович стремительно создал себе именно ту репутацию, которую и хотел.
Он писал Казадаеву: «Вельможи рады были, что я еду, ибо трактовал их с такою гордостию и презрением, что если они не всегда тем оскорблялись, то конечно навсегда вселил я в них страх ужасный».
Взаимоотношения его с министрами шаха дошли до такого накала, что он всерьез опасался отравы: «На возвратном пути моем я даже некоторую взял осторожность в пище. В Персии нет преступлений, все в понятии возможном».
Он свято следовал завету Цицианова: «Азиятский народ требует, чтоб ему во всяком случае оказывать особливое пренебрежение».
Если письма Закревскому — письма полуофициальные, несмотря на интимность тона, и рассчитанные в определенной своей части на доведение до сведения высшего начальства, то письма старому товарищу Петру Андреевичу Кикину — исключительно частные. И сведения, содержащиеся в них, еще важнее информации, отправляемой дежурному генералу Главного штаба.
«Я <…> признаюсь, что к успеху способствовали и огромная фигура моя и приятное лицо, которое омрачил я ужасными усами, и очаровательный взгляд мой, и грудь высокая, в которую ударяя, производил я звук, подобный громовым ударам; когда говорил я, персияне думали, что с голосом моим соединяются голоса ста тысяч человек, согласных со мною в намерении, единодушных в действии… Я не преступил данных мне наставлений dans les resultants[67]. Не перешел пределов, но признаюсь, что был в крайней черте оных».
Да, он балансировал на грани провала своей миссии. Но, по видимости выполнив заданную ему задачу, он по сути дела оставил саму ситуацию балансировать на этой самой последней черте — между войной и миром.
Было ясно, что оскорбленный Аббас-мирза и «партия войны» не смирятся с потерей богатых территорий, тем более полуобещанных им Петербургом…
Удержаться на крайней черте Ермолову позволил совершенно неожиданный маневр.
Не готовый к разрыву с Россией шах не без ужаса ждал встречи с этим чудовищем, жаждущим войны.
Произошло, однако, нечто совершенно иное.
В письме Закревскому Ермолов, веселясь, раскрыл секрет своего дипломатического успеха: «Шах приехал и я имел въезд в Султанию. Он был приуготовлен видеть во мне ужаснейшего человека и самого злонамеренного. Как удивился шах, когда с первого шагу начал я ему отпускать такую лесть, что он не слыхивал в жизни и все придворные льстецы остались позади. Чем более я льстил и чем глупее, тем более нравилось и я снискивал его доверенность и до того достиг, что он даже о самих делах рассуждал со мною, чего по обычаям шах не делает, особливо с иностранцами…
Не говори, брат Арсений, а раз случилось, что я, выхваляя редкие и высокие души его качества, уверяя, сколько я ему предан и тронут его совершенством, призвал слезу на глаза и шах растаял от умиления. На другой день только и говорено обо мне, что не было такого человека под солнцем. После сего не смел никто говорить против меня и я с министрами поступал самовластно».
Есть основания предположить, что Алексей Петрович преувеличил свое хитроумие и доверчивость Фет-Али-шаха.
Очевидно, опытный, коварный, жестокий Фет-Али-шах понял цену лести и слезам российского посла. Но, будучи поставлен в соответствующие условия, не считая возможным начинать новую войну с Россией, только что проиграв предыдущую, он включился в игру, которую предложил ему Ермолов.
Оба с достоинством вышли из положения.
Не то было с Аббас-мирзой, умиротворять которого отнюдь не входило в планы Ермолова. В последнее утро, перед отбытием из Тавриза, уже после торжественного прощания, Ермолов отказался посетить наследника под предлогом, что он одет по-дорожному, а его багаж уже отправлен вперед.
Он уезжал из Персии, увозя несколько лет гарантированного мира, яростную ненависть «партии войны» во главе с Аббас-мирзой и новое самоощущение.
Самоощущение это было настолько интенсивным, что толкало Алексея Петровича на весьма рискованные поступки.
Алексей Петрович считал, что престарелый Фет-Али-шах не проживет долго. Исходя из этого, он предлагал императору беспроигрышный вариант фактического разрушения Персидского государства.
Судя по всему, он был уверен в успехе своего замысла, ибо дневниковая записка его о посольстве в Персию оканчивается следующим пассажем, напоминающим инвективы библейских пророков: «Тебе, Персия, не дерзающая расторгнуть оковы поноснейшего рабства, которые налагает ненасытная власть, никаких пределов не признающая; где подлые народа свойства уничижают достоинство человека и отъемлют познание прав его; где нет законов, преграждающих своевольство и насилие; где обязанности каждого истолковываются раболепным угождением властителю; где самая вера научает злодеяниям и дела добрые не получают возмездия; тебе посвящаю я ненависть мою и, отягочая проклятием, прорицаю падение твое!»
Если Ермолов с его пристрастием к «римскому стилю» взвинтил свой голос до таких высоких нот, значит, его и в самом деле обуревали ненависть, презрение и убежденность, что Персия не имеет права на существование.
Через месяц с небольшим после возвращения из Персии Ермолов, подготовив и отправив в Министерство иностранных дел официальный отчет и соответствующие документы, обратился к императору и Нессельроде с письмами секретного содержания.
Если короткое письмо императору очерчивало ермоловский замысел в общем виде, то послание Нессельроде, отправленное в тот же день, отличается от письма Александру решительностью тона и проработанностью деталей:
«Секретно.
Милостивый Государь Граф Карл Васильевич.
Я сообщаю Вашему Сиятельству такую тайну, от сохранения коей зависит жизнь и безопасность множества людей и потому знаю какой степени внимание обратить на оную изволите.
Из донесения моего Его Императорскому Величеству, которого прилагаю у сего копию, и из бумаг Вашему Сиятельству мною представленных изволите увидать, что естли Престол Персидской перейдет в руки названного Наследником Аббас-Мирзы, в какое не безопасное для нас состояние может придти Персия, какое могущественное и для нас вредное Англичане утвердят в оной влияние и каких разорительных издержек будет нам стоить охранение здешних стран, которые по неустройству своему дают нам мало средств и своих не употребляют на собственную защиту. — Ко всему тому Ваше Сиятельство принять изволите в соображение и дух завоеваний Аббас-Мирзы, о котором сообщил я Вам удостоверительное сведение. Объяснил я также, что, лишенный наследства, старший сын Мегмед-Али-Мирза имеет весьма сильную партию, состоящую из большей части знатнейших и древних фамилий Персии, которую привязывает он постоянным сохранением нравов и обычаев народа, что не терпит он европейских учреждений и к Англичанам имеет ненависть.
По свойству обоих братьев не трудно видеть, в руках которого из них власть Шахская будет для нас безопасною. Полис — танского трактата IV статья, нелепость коей по обстоятельствам не мог я уничтожить, обязывает однако же нас совершенно в пользу Аббас-Мирзы, то есть в очевидный вред, собственно нами себе приуготовляемый.
И так, не нарушая святости трактата, стараться должно избежать тягостной обязанности им возлагаемой, то есть не допустить в Персии междоусобной войны до смерти Шаха, ибо в IV статье сказано, что мы даем помощь наследнику тогда, как Шах призовет к тому.
Я предлагаю средство, которого не без труда достиг я и распоряжение коим совершенно зависит от нас. Я сделал знакомство с старшим сыном Мегмед-Али-Мирзою, обладаю полною его доверенностию и он открыл мне тайно, он брату наследства не уступит, что отец, видя что нет способа прекратить вражду, злоумышляет на жизнь его, чтобы любимого Аббас-Мирзу утвердить на престол, и что одна боязнь его — помощь российских войск против него. Я склонил его ничего не предпринимать при жизни отца, дабы не вызвать нас против и истолковал ему содержание IV статьи. — Он дал мне слово быть покорным отцу и много способствовал мне в скором окончании дел моих, употребляя сильные настояния на мир с нами, ибо я вразумил его, что в войне против нас брат его будет иметь причины умножить свои войска, получить в распоряжение большие деньги и что после невозможно будет с ним бороться. Я обещал ему дать известие, что обстоятельства позволят мне предпринять в его пользу, и между нами по условию принята печать, по которой познаваемы должны быть письма, ибо во оных никаких имен быть не должно, храня его и многих с ним жизнь и безопасность.
Естли бы после смерти Шаха возгоралась в Персии внутренняя война, можно: 1-е под благовидными наружностями уклониться от участия во оной и не защищать сторону неправую; в самих делах европейских можно сыскать многие тому примеры; 2-е можно сделать демонстрацию на границах, ограждая их от духа безначалия возникшего в соседственной земле, грозящего распространением, и 3-е можно ввести войска наши в Персию и занять Эриванскую область с тем, чтобы иметь ее залогом до восстановления в Персии порядка и быть обеспеченным, что мир между нами останется без нарушения. Во втором, а паче в сем последнем случае непременно часть знатная сил Аббас-Мирзы отвлечена будет для наблюдения за нашими войсками и дастся возможность брату его иметь легчайшие успехи. Наконец, из состояния дел в Персии удобно будет видеть в последствии, надобно ли возвратить область Эриванскую или с тем из Шахов, кто утвердит власть свою, сделать об уступке оной условие. Персия после междоусобной войны долгое время не придет и в теперешнее состояние спокойного беспорядка, а начинающееся рождаться во многих частях устройство по крайней мере на целое столетие отдалено будет и между тем пограничные области наши примут твердое образование и народы их населяющие прилепятся к нашему образу правления. Недавные времена Надир Шаха свидетельствуют, с каким трудом Персия возвратилась к единоначалию, паче же ныне господствующая династия не внушает привязанности ко власти.
Покорнейше прошу Ваше Сиятельство почтить меня ответом. С ним соображать я буду поведение мое в отношении к Мегмед-Али Мирзе. Естли же рассуждение мое найдется основательным, могу уверить вас, что делу дам такой ход, который сокроет намерение до надлежащего времени и естли нужно будет, то даже во многих обстоятельствах приму на свой счет то, что по наставлению делать буду, ибо, в понятии Персиан о власти, они почитают принадлежащую мне по званию главнокомандующего не имеющею пределов.
С совершенным почтением имею честь быть Вашего
Сиятельства покорнейший слуга
Алексей Ермолов.
Ноября 24-го дня 1817 г.
Г. Тифлис.
Его Сиятельству К. В. Графу Нессельроде».
Главный мотив письма Александру — коварство наследника престола Аббас-мирзы и неизбежность войны с Персией, которую Аббас-мирза замышляет начать. Отсюда вывод — необходима ревизия статьи Гюлистанского договора, по которому Россия обязалась поддержать в случае междоусобицы назначенного шахом наследника.
Об отношениях с Мухаммад-Али-мирзой говорится кратко и без практических выводов.
Послание Нессельроде по преимуществу посвящено разработанной Алексеем Петровичем интриге, в результате которой Персия должна прийти в состояние хаоса.
Исходя из всего, что мы знаем о Ермолове, есть основание предположить, что и с Нессельроде Алексей Петрович не был до конца откровенен. Для того чтобы завладеть Эриванской областью, не имело смысла затевать такую сложную, рискованную интригу, чреватую весьма негативным международным резонансом, озлоблением Англии, беспокойством Франции и нарушением равновесия вдоль всех южных границ России.
Говоря сегодняшним языком, Мухаммад-Али-мирза был исламским фундаменталистом в отличие от младшего брата с его европейской ориентацией. Не было гарантий, что получив власть, он, связанный с фанатичным духовенством, о котором писал сам Ермолов, останется союзником России.
Мы помним, как характеризовал его наблюдательный Муравьев: «Воин храбрый, решительный, отчаянный, удаляющийся от всякой неги и от обычаев европейских. Зверство знаменует его».
Ермолов понимал, что фундаментализм принца, его верность традициям и личная доблесть, импонирующая воинственным племенам Курдистана, и «знаменующее его зверство» гарантируют жестокость междоусобицы.
То, что было ему, европейцу, ненавистно в дагестанских владетелях, прагматически не смущало его в Мухаммад-Али-мирзе.
В хаосе гражданской войны, спровоцировать которую Алексей Петрович предлагал Петербургу, войны, в результате которой Персия «долгое время не придет и в теперешнее свое состояние спокойного беспорядка, а начинающее рождаться во многих частях устройство по крайней мере на целое столетие отдалено будет», — в этом хаосе победоносные русские войска во главе с «потомком Чингисхана» легко могут не только овладеть Эриванской областью — землями по Араке, но и стать хозяевами всей Персии. Далее открывалась дорога к северным границам Индии. То, о чем толковал великий князь Константин…
Под рукой легендарного вождя, наследника грозных завоевателей, воителей мусульманской крови, оказывались необъятные азиатские пространства. «В Азии целые царства к нашим услугам…»
Но даже если мечтания Алексея Петровича были скромнее, то несомненно одно — обещания, которые он дал Мухаммад-Али-мирзе, безусловно выходили за пределы, которые он обозначил в послании Нессельроде.
Отправив письма в Петербург, Ермолов стал планировать насущные дела.
Однако прежде всего Ермолов совершил некий дипломатический ход уже в сторону петербургской элиты.
При выезде его из Персии шах щедро одарил посла.
Муравьев писал: «Посол еще получил несколько прекрасных шалей от Махмет-Али-мурзы и славных лошадей».
Но главные подношения были, разумеется, от шаха.
Муравьев: «Другой на месте Алексея Петровича сделал бы себе состояние из подарков сих, но бескорыстный наш генерал назначил все сии вещи знакомым своим и родственникам и ничего себе не оставляет. Одну шаль посылает он вдовствующей императрице, а другую Елизавете Алексеевне (супруге Александра I. —
Муравьев был не совсем осведомлен. Римские добродетели — демонстративное, можно сказать, вызывающее бескорыстие — оставались при Ермолове. Но при этом он счел необходимым использовать доставшийся ему «персидский капитал» для того, чтобы заручиться симпатиями ряда влиятельных особ в самых верхах. Он понимал, что необходимо что-то противопоставить дружному недоброжелательству придворной элиты.
Он посылает роскошные шали не только императрицам и не только в Петербург.
Очень скоро ему стали поступать благодарственные письма.
Из Гааги от великой княгини Анны Павловны, супруги короля Голландии: «Алексей Петрович! В удовольствие поставляю изъявить вам мою признательность за письмо ваше и прекрасную шаль, вами мне присланную в подарок». И далее трогательные напоминания о прежнем знакомстве.
Из Москвы: «Милостивый государь мой, Алексей Петрович!
Я имел удовольствие вручить жене моей шаль, которую вы поручили мне ей доставить. Сим изъявляю вам чувствительную благодарность мою, за знак вашего воспоминания обо мне и прошу вас быть уверену, что с удовольствием помышляю о времени, которое с вами иногда проводил… Прошу вас быть уверену в искреннем моем благорасположении и дружбе, с коими пребываю к вам доброжелательным.
Николай».
К письму великого князя были приложены записка великой княгини Александры Федоровны и бриллиантовый перстень.
Это было в некотором роде состязанием в лицемерии. И Николай, и Ермолов друг друга не любили. Но Ермолов считал необходимым выразить почтение великому князю, а тот не мог соответствующим образом не отреагировать на этот жест едва ли не самого популярного человека в империи.
Вскоре Ермолов получил послание от Аракчеева:
«Милостивый государь Алексей Петрович!
Если я немного замедлил благодарить Ваше Превосходительство за подарок Ваш прекрасного персидского ковра, то причина оному мое об нем размышление, что с ним приличнее мне сделать было. Сперва я хотел его препроводить к почтенному Вашему родителю, которому приличнее он принадлежит, нежели мне, как память о Ваших отечественных трудах; но совестился опять оное сделать, дабы Вы, милостивый Государь, не сочли оное моею грубостию и пренебрежением к дружбе Вашей; после чего и решился я оный препроводить в соборную церковь села моего Грузина, от имени Вашего яко присланный; и просил духовное начальство внести оный в опись церковную, под именем вклада Военного Губернатора и бывшего послом в Персии Алексея Петровича Ермолова, что и останется на грядущие времена памятником Вашей дружбы ко мне».
Надо отдать должное графу Алексею Андреевичу — он нашел своеобразное применение подарку Ермолова, в то же время воспользовался случаем еще раз подтвердить свою неизменную дружбу явному фавориту императора.
Великий князь Константин, которого Ермолов, разумеется, не обошел персидскими дарами, реагировал просто и прямо: «За присланную от вас шаль премного и много благодарю, принимая сие знаком вашей ко мне памяти и дружбы, в чем я никогда не сомневался, и взаимно прошу быть и с моей стороны в полной мере в том уверенным, как равно и в особенном моем к вам уважении».
Получил свой ковер и начальник Главного штаба князь Волконский.
Мы уделили столько места истории шалей и ковров, поскольку этот жест Алексея Петровича, сделанный немедленно по возвращении из посольства, имеет принципиальный смысл. Ощущая себя в подвластном ему огромном крае то ли римским проконсулом, то ли восточным властелином, «потомком Чингисхана», Ермолов вместе с тем остро сознавал, что величие и открывающиеся перспективы зависят далеко не только от его талантов и успехов. Все могло кончиться одним росчерком августейшего пера.
При окружавшем его недоброжелательстве элиты он держался исключительно благоволением Александра. Его огромная популярность ни в малейшей мере не защитила бы его в случае царской немилости. Скорее — наоборот.
Он остро ощущал двойственность своего положения, парадоксальность своей судьбы и пытался обеспечить себе опоры во властных сферах.
Рассчитывал ли он купить благосклонность Николая персидской шалью, поднесенной великой княгине? Маловероятно, но он демонстрировал лояльность в тот момент, когда, казалось бы, вовсе не нуждался в поддержке великого князя, игравшего глубоко второстепенную роль в политическом раскладе.
Два перстня — полученные от вдовствующей императрицы Марии Федоровны, фигуры довольно влиятельной в августейшем семействе, и от супруги его явного недруга великого князя Николая, — были знаками некой сложной игры, которую он пытался вести из своего далека.
Потомок Чингисхана и двойник патера Грубера давали в сочетании парадоксальный стиль поведения…
Напомним, что, вернувшись в Тифлис, Алексей Петрович отправил Александру и Нессельроде комплект документов, включавших как отчет о посольстве, так и свои соображения о будущем русско-персидских отношений. В том числе и самые важные для него письма, от которых зависели все направление его дальнейшей деятельности и, прямо говоря, — его судьба. Это было известное нам предложение спровоцировать в Персии гражданскую войну, поддержав опального старшего сына шаха.
Можно представить, с каким волнением ждал Ермолов реакции императора.
Разумеется, еще до отъезда в Персию он наметил основную стратегическую линию поведения по отношению к кавказским горцам, но пока не решился персидский вопрос, проблема усмирения горцев существовала на втором плане.
Перед новым, 1818 годом он получил от Нессельроде письмо от 4 декабря, отправленное из Москвы, где пребывал в это время двор:
«Милостивый государь мой, Алексей Петрович!
Имев честь получив 28-го прошлого месяца депеши Вашего Превосходительства из Тифлиса от 31 — го октября, не преминул я все оные представить на усмотрение Его Императорского Величества.
Хотя Государь Император и не мог еще вникнуть во все обстоятельства их содержания, но повелел мне сообщить Вам, милостивый Государь мой, что общее обозрение сих депеш послужило Его Величеству поводом к изъявлению Вам ныне же Высочайшего своего благоволения.
Исполняя сим Монаршую волю, долгом считаю уведомить Ваше Превосходительство, что в непродолжительном времени буду иметь честь сообщить Вам с особым курьером положительное решение Государя Императора по всем предметам, удостоенным Высочайшего одобрения».
Совершенно очевидно, что речь шла об официальном отчете. Отсюда и общий благостный тон послания Нессельроде.
Затем последовала пауза, сильно встревожившая Алексея Петровича.
10 марта 1818 года он отправил Закревскому письмо, напоминающее скорбные послания не лучших для него времен: «Позволь, почтенный Арсений, поговорить с тобою о последнем письме твоем, то есть о деле, собственно до меня относящемся. Ты уведомил меня, что подстрекаешь наших дипломатиков, чтобы они хлопотали о награждении меня, и что стыдно им будет, если я без оного останусь. Я удивляюсь, что они до сих пор не получили за дела с Персиею награждения, а не тому, что мне не дают оного. По части дипломатической это весьма обыкновенно, что они берут все на свой счет и что тот, кто трудится, называется орудием или болваном, их волею движимым. Это правда, что я ничего не сделал чрезвычайного, но потому больно быть болваном их, что я если и успел что-нибудь сделать, то потому, что не следовал данным мне наставлениям. Они дали мне инструкции точно как бы послан я был ко двору европейскому, и если бы так я поступал, то до сих пор можно бы меня наказать за дела с Персиею. Когда-нибудь увижу я тебя и ты узнаешь такие вещи, которые мне теперь сказать тебе не ловко. Поблагодаришь меня как добрый русский и приятель. Это делал не по инструкции!»
Алексей Петрович был далеко не равнодушен к заслуженным наградам. Но в данном случае подоплека его раздраженного беспокойства скорее всего в ином — он не знал, как отнеслись в Петербурге, и Александр в первую очередь, к его проекту разрушения Персии. Он, собственно говоря, об этом и толкует достаточно прямо — неопределенность, вот что его мучает: «Но как бы то ни было, если не заслужил я награждения или по некоторым причинам дать мне его невозможно, по крайней мере в четыре месяца надлежало бы уже сказать, так ли я исполнил возложенное поручение или нет, и дать разрешение или на представления мои, которые не терпят отлагательства, или наставление как исправить ошибки, буде я сделал таковые. В четыре месяца ни слова!»
Времени для реакции было достаточно. Молчание высших сфер показалось Ермолову более чем многозначительным. Еще недавно он был грозным посланцем великой державы, фигурой в своем роде единственной и наводящей ужас.
Вернувшись в пределы империи, он ощутил себя одним из генералов, зависимых от непонятных движений в верхах.
Перепад состояния был слишком резок для его впечатлительной и уязвимой натуры, для его форсированного самолюбия.
«Я правду тебе говорил, — пишет он Закревскому, — что одно из моих преступлений то, что я не знатной фамилии и что начальство знает, что я кроме службы других средств никаких не имею».
Это уже не «потомок Чингисхана». Это Ермолов времен перемирия 1813 года с его обидами и комплексами.
В этом же письме впервые появляется глубоко значимая фраза: «Ты верно более имеешь сказать мне любопытного, нежели я, живущий в ссылке».
Если не осуществляются грандиозные планы, если Петербург будет обращаться с ним как с любым заурядным генералом, будь он хоть трижды проконсулом, то что же такое Кавказ, как не место ссылки?
Если сопоставить ликующий стиль его писем из Персии сразу после возвращения и этого письма, то становится ясна вся драматичность его положения — разрыв между иллюзиями и надеждами и российской реальностью…
Все было, однако, не так плохо, как казалось Алексею Петровичу.
За пять дней до написания этого послания великий князь Константин отправил ему из Варшавы бодрое письмо:
«Почтеннейший, любезнейший и храбрейший старинный друг и товарищ, Алексей Петрович!
Достойному достойное! Истинно от всего сердца я весьма обрадован был повышением вашим и от всей искренности спешу Ваше Высокопревосходительство поздравить с оным».
Константин узнал, что Ермолову присвоен чин генерала от инфантерии.
Об этом чине речь шла и в переписке его с Закревским.
«Ты пишешь мне, — отвечает он Закревскому, — что, по мнению твоему, для меня не лишнее и что ты о том хлопочешь и спрашиваешь, понравится ли мне то, или бы в противном случае я бы тебя уведомил. Смешно было бы, если бы я вздумал уверять тебя, что я весьма равнодушен к тому, дадут мне чин или нет. Конечно, чин есть самое в моем положении приятнейшее для меня награждение, особливо когда выеду я из сего края, он доставит мне те выгоды, что всегда надеяться буду я иметь команду или, по крайней мере, не каждому из генерал-лейтенантов дадут оную прежде меня и то, что не каждому полному генералу подчинят меня под начальство».
Он не без ужаса предвидит в случае отъезда с Кавказа — он уже думает и об этом! — включение в опостылевшую армейскую систему. Он опять, даже получив полного генерала, рискует угодить кому-то под нежелательное начальство…
И далее следует буквально вопль горечи и обиды, столь неподобающий, казалось бы, его надменной натуре: «Признаюсь тебе, добрый друг мой, Арсений, что крайне больно мне, что о вознаграждении меня нужны хлопоты и ходатайство, и что только в отношении ко мне одному начальство не имеет собственной к тому наклонности, тогда как многим весьма другим за меньшие гораздо заслуги успели бы сделать множество приятностей.
Скажи, если бы в моем положении нашелся брат Михайло, что бы ему до сего времени сделали? Если бы Чернышев? Если бы Ожаровский? Я умалчиваю о множестве немцев…»
Он с презрением говорит о возможности награждения его Владимиром 1-й степени «при каком-нибудь смотре войск», как князя Яшвиля.
Он с яростью думает о награждении его графским титулом: «Дать мне графское достоинство — я ручаюсь, что жизни не рады будут, ибо подам рапорт, в котором изъясню причины, почему не желаю иметь его. Довольно с нас Милорадовичей и Тормасовых, которые от подобных пустяков без памяти…»
Это крайне опасный пассаж. Он мог разом добавить ему весьма влиятельных недругов…
Несколько позже Давыдов писал Закревскому: «Кстати о Ермолове: кому ты давал читать на дом, или кто у тебя украдкой переписал последнее письмо его к тебе? (то, что я читал в кабинете у тебя). Знаешь ли, что копии его слово в слово ходят по Москве, пробеги оригинальное письмо и ты увидишь, что есть статьи о брате Михаиле, о Нессельроде, и пр. и пр., которые сделают ему неприятности».
Ермолову были прекрасно известны нравы его времени, до него доходили слухи о блуждающих в публике его письмах, но удержаться он не мог.
Напоследок он продемонстрировал свое высокомерие и особость, напомнив, что не нуждается в денежных наградах несмотря на свою бедность. «Если бы хотели дать мне денег? Я сам дал сто тысяч собственных…» Речь шла о представительских суммах, данных ему в Персию, которые он вернул до последнего рубля, хотя по закону они принадлежали ему.
Подчеркнутым бескорыстием он дразнил своих недоброжелателей и давал понять императору, ради чего он служит.
Нервозность его, надо полагать, объяснялась не только ожиданием привычной начальственной несправедливости: наградят, не наградят, если наградят, то достойно ли?
Он ведь многим рискнул, предлагая Александру свой проект развала Персии, категорически противоречивший высочайшим инструкциям. Теперь он ждал реакции, которая могла быть крайне для него неприятной. Длительное молчание Петербурга заставляло ожидать именно такого поворота событий.
Указ о производстве Ермолова в чин полного генерала был датирован 28 февраля 1818 года. Императору и в самом деле понадобилось около четырех месяцев, чтобы оценить достижения своего посла. Очевидно, решение было принято не без сомнений и не без сопротивления.
Любопытно и характерно, что в записках Алексей Петрович ни единым словом не упоминает обо всей этой истории, равно как и о присвоении чина.
Кроме переписки официальной между Ермоловым и Нессельроде велась и переписка, можно сказать, приватная. Велась она на французском языке, что, очевидно, было указанием именно на приватность текста.
19 февраля Нессельроде написал Ермолову частное письмо, которое, однако, носило вполне директивный характер и было согласовано с Александром:
«Генерал, содержание Вашей депеши от 21 января, адресованной Министерству, и Ваших частных писем от того же числа, окрашено далеко не в розовый цвет».
Ермолов, стало быть, не ограничился жалобами на несправедливость в письмах Закревскому как личному другу, но и предъявил некие претензии в частном письме лицу вполне официальному — Нессельроде. Явно, что претензии эти были высказаны достаточно резко, судя по формулировкам, которые употребляет Нессельроде в своем оправдательном ответе: «Мы не любим получать выговоры понапрасну. Дело в том, что Ваше Превосходительство жалуется совершенно напрасно. Как Вы могли подумать, генерал, что о Вас забыли, или что Ваши столь недавние доблестные свершения и те, что Вы еще совершите, будут бесславно пылиться в архивах? Быть может, мы и промедлили сколько-то дней, прежде чем сообщили, что Император полностью удовлетворен Вашим посольством и его результатами. Но будьте справедливы и поставьте себя на наше место.
Подумайте о наших вояжах и о всех Ваших коллегах посланниках, которые не оканчивают дела как Вы и которым необходимо отвечать как можно скорее, и о текущей корреспонденции.
Впрочем, сегодняшняя почта примирит Вас с дипломатией».
Одновременно с этим письмом Ермолов получил официальное известие о присвоении высокого чина. Но если это и «примиряло его с дипломатией», то содержание письма Нессельроде могло вызвать лишь горькое разочарование.
При всей изысканности стиля дальнейший текст послания управляющего Министерством иностранных дел не лишен был покровительственной иронии и даже некоторого яда. Очевидно, «выговор», сделанный Ермоловым, раздражил министра.
«Воспитанный, как и Вы, на чтении классиков и обученный в школе мыслить диалектически, — писал Нессельроде, — я вижу, что Вы препарируете наши депеши. Позвольте и мне, стало быть, поучаствовать в этом анатомировании. Перехожу к главному предмету».
«Главным предметом» был план Ермолова, следствием которого должен был стать развал Персии. И вот тут Алексей Петрович получил тяжелый удар: «Ваш план, касательно будущих отношений с Персией, поначалу меня покорил. Но позднее, сравнивая его с текстом Трактата (Гюлистанский договор. —
В делах, как и в любой вещи, мнения, независимые от всякого частного соображения, суть наилучшие».
Нессельроде давал понять Алексею Петровичу, что его личные отношения к Аббас-мирзе и Персии вообще никак не должны влиять на те общие установки, которым следует русская международная политика.
Явно транслируя мнение Александра, управляющий Министерством иностранных дел дает понять Ермолову, что провоцировать персиян ни в коем случае не следует: «Но не провоцирует ли их поддержание отношений с Мехмед-Али-мирзой? Предоставляя ему военную помощь, не вооружаем ли мы в свой черед темный народ, которому грозит гражданская война и самые пагубные катастрофы?
Можно ли надеяться на благоприятный исход этого плана? Опыт прошлого не достаточен ли, чтобы заставить от него отказаться?»
Далее Нессельроде многословно разъясняет Ермолову основы уже принятой Россией системы взаимоотношений с Персией, которая заключается в мягком противостоянии английскому влиянию в Тегеране, и представляет своему собеседнику всю опасность его замысла: «Поддерживая тайные сношения со старшим сыном Шаха, мы сделали бы законными сношения Аббас-мирзы с Британским Правительством; мы утратили бы всю выгоду нашей нынешней позиции по отношению к кабинету С-т Джеймса; и если бы мы к тому же намеревались поддержать его (Мухаммад-Али-мирзу. —
Если в соответствии с системой, основания которой закреплены нами в инструкциях, мы и начнем действовать, то не для того, чтобы сделать вероятной войну с Персией и еще менее, чтобы посягнуть на отношения между этой страной и Англией.
Мы желаем лишь направить Персидский Двор на истинную его дорогу».
Ермолова эти наставления приводили в уныние и бешенство не только потому, что не соответствовали реальной ситуации и не могли доставить России никаких выгод, но и потому, что были внутренне противоречивы и невозможны для исполнения.
«Желая вытеснить своим влиянием английское, мы отнюдь не хотим восстановить Персию против олигархических властителей Индии. Наши усилия имеют лишь цель охранительную; она будет достигнута в тот момент, когда Персия убедится в наших дружеских к ней отношениях. Таким образом, перед лицом беспристрастного правосудия система наша получит одобрение справедливости и морали».
Хорошо было петербургским деятелям рассуждать с точки зрения справедливости и морали. Ермолов, как и Цицианов, был уверен, что коварство и лицемерие персиян не дают возможности действовать в отношении них, исходя из высших нравственных ценностей. Тем более что Англия отнюдь не намерена была идти этим путем.
С одной стороны, Алексею Петровичу строго предписывалось не сердить Англию, с другой — противостоять тем преимуществам, которые она стремилась получить в Персии: «Вам предстоит их у нее оспаривать, генерал, оказывая ей на каждом шагу благородное и великодушное сопротивление. Оно будет благородным, поскольку имеет целью лишь счастие Персии и поддержание мира».
Ермолову, по замыслу Петербурга, предстояло способствовать возведению Персии «в ранг мировой державы».
«…Таков фундаментальный замысел. Вашему гению, генерал, остается его оплодотворить»[68].
Можно себе представить, с каким чувством читал Алексей Петрович всю эту, с его точки зрения, прекраснодушную чушь и каким туманным и бессмысленным становилось его будущее на Кавказе, если он станет следовать этому «фундаментальному замыслу».
Открыто спорить с императором и Нессельроде возможности не было. Это могло привести только к утрате доверия и отзыву из Грузии, что означало конец не только высоким мечтаниям, но и обычной карьере.
Он принял рискованное решение — начать сложную игру с Петербургом, по видимости, принимая его условия, но пытаясь на практике отстаивать свою линию.
Он понимал, что отстоять ее можно только хитростью и упорством, исподволь внушая Петербургу свое вйдение ситуации.
Еще перед отправлением в Персию Ермолов писал Нессельроде: «Со всех сторон приходят ко мне известия, что Персия ставит под ружье сильную армию, что крепости приведены в оборонную готовность и что приступают к строительству новых. Любимый сын шаха, мнящий себя великим человеком, скрытный, как все персы, притворяется, что настроен к нам дружелюбно. Каймакан Мирза Бисрюк, правящий с самого детства, надменнейший плут, верный друг англичан, возбуждает распрю».
Все это не произвело в столице никакого впечатления. Но после получения письма Нессельроде от 19 февраля он убедился, что персидские дела вменяются ему в непременную обязанность, как устройство Грузии и замирение Кавказа.
Это давало некоторую надежду. Важно было выбрать правильную тактику поведения и в отношении Петербурга и Тегерана. А вернее, Тавриза, где властвовали Аббас-мирза и мирза Бюзюрк, реально определявшие политику Персии…
12 апреля он ответил Нессельроде обширным и по сути своей дерзким посланием. Письмо было написано по-русски, что придавало ему значение официального документа, рассчитанного на доведение его до сведения императора.
Покаянное начало относилось к великому плану разрушения Персии, но и оно, если вчитаться, звучало саркастически и никак не соответствовало мягко увещевающему тону Нессельроде. Все дальнейшее содержание письма было не чем иным, как темпераментным втолковыванием наивному Петербургу совершенно очевидных, с точки зрения Ермолова, истин. Совершив вначале маневр, демонстрирующий его раскаяние и послушание, он, по сути дела, продолжал настаивать на своем.
Подробнейше объяснив императору и министру, что никакими «мягкими» способами противостоять англичанам в Персии невозможно, что Аббас-мирза неизбежно начнет войну, поскольку это необходимо династии Каджаров для самосохранения, и, стало быть, гуманная и возвышенная политика Петербурга, по меньшей мере, наивна, он энергично продолжил готовиться к решительным действиям на Кавказе.
Эпистолярный демарш, предпринятый Алексеем Петровичем, как он прекрасно понимал, имел немного шансов на успех именно в силу непонимания Петербургом реальной ситуации в Закавказье. Но он не мог не сделать эту отчаянную попытку. Тем более что он собирался продолжить это постепенное просвещение высшей власти.
Слишком много надежд связывал он со своим персидским планом. Слишком многое менялось в его представлениях о своем будущем, если мир с Персией будет навечно установлен уступками и лояльностью.
Под вопросом оказывалась его репутация грозного «потомка Чингисхана» в азиатских пределах, репутация, которая была столь важна для его внутреннего состояния.
Но если ему было категорически запрещено впрямую провоцировать Персию, то оставался обходной путь — оставались ханства, ханы с «персидскою душой», теснейшим образом связанные с Персией и подлежащие истреблению. От этого замысла он не собирался отказываться, и никто ему этого не запрещал. Ликвидируя институт ханства, он болезненно затрагивал персидские интересы, лишая Аббас-мирзу сильных союзников.
Что до будущей войны, то прогнозы Алексея Петровича сбылись. Война началась в ситуации, для России невыгодной, и в обстоятельствах, для Ермолова пагубных.
Он недаром так ненавидел Аббас-мирзу. Каким-то глубинным инстинктом он ощущал ту роковую роль, которую мог сыграть в его судьбе этот женоподобный воитель…
Еще в феврале 1817 года Ермолов направил императору Александру рапорт, который первый публикатор достаточно точно назвал «О необходимости уничтожения ханской власти в провинциях».
«Вникая в способы введения в здешнем краю устройства, хотя вижу я большие затруднения, надеюсь, однако же, со временем и терпением, в свойствах грузин ослабить закоренелую наклонность к беспорядкам, но области, ханами управляемые, долго противустанут всякому устройству, ибо данные им трактаты представляют прежнюю власть без малейшего ограничения…»
Описав с яростной экспрессией уже знакомые нам пороки ханской власти и в очередной раз сославшись на Цицианова, Алексей Петрович закончил рапорт поразительным пассажем: «И не испрашиваю Вашего Императорского Величества на сей предмет повеления: обязанности мои истолкуют попечение Вашего Величества о благе народов, покорствующих высокой Державе Вашей.
Правила мои: не призывать власти Государя моего там, где он благотворить не может. Необходимость наказания предоставлю я законам».
Попросту говоря, командир Грузинского корпуса и главноуправляющий Грузией брал на себя решение судьбы ханов и ханств.
Однако надежда на возрождение персидского проекта не покидала Ермолова, и он постоянно напоминал императору через Нессельроде об опасности, исходящей от Аббас-мирзы и его партии.
Но теперь персидские дела стали пунктиром на ином фоне.
Первой заботой Ермолова было привязать к себе солдат.
Через два дня после прибытия в Тифлис, 12 октября 1816 года, он издал свой первый приказ по корпусу:
«Приняв начальство над войсками, Высочайше мне вверенными, объявляю о том всем новым по службе моим товарищам от генерала и до солдата. Уважение Государя Императора к заслугам войск научает меня почитать храбрость их, верность и усердие, и я уверяю, что каждый подвиг их на пользу службы возложит на меня обязанность ходатайствовать у престола Государя, всегда справедливого и щедрого».
Он уже пытался во Франции, сочиняя приказ о взятии Парижа, обратиться к солдатам со словом «товарищи», но тогда Александр не позволил.
Употребив это небывалое в приказах обращение к подчиненным, он давал понять, что пришли новые времена и новые отношения между командиром и его солдатами.
Намерение надо было подкреплять делом.
17 апреля 1817 года, утром того дня, когда отправился он в Персию, Алексей Петрович подписал и отправил рапорт императору:
«Назначен будучи высочайшею волею Вашего Императорского Величества в здешний край, я знал ожидающие меня труды и готов был на оные, и хотя, прибывши сюда, нашел многих частей беспорядок, превышающий ожидания мои, вижу, однако же, что постоянным упражнением и временем могу восстановить уничтоженный и учредить доселе не введенный порядок; но устрашает меня необычайная смертность в войсках, которая среди мира истребляет более воинов, нежели самая жестокая война против здешних неприятелей. Я употреблю зависящие от усердия моего распоряжения и с строгостию моею достигну до точного их исполнения. Устрою казармы вместо убийственных землянок, гошпитали, лазареты и посты по военным дорогам. Учрежу свободные между войск сообщения; доселе на трудных и во многих местах почти непроходимых путях солдат истощает последние свои силы, а нужно иметь движения, которые бы не расстраивали полков. Уничтожу многие из постов, куда назначение офицеров и солдат есть смертный им приговор. <…> Но все сии меры недостаточны, и я, прибегая к милосердию Вашего Императорского Величества, всеподданнейше испрашиваю назначение мясной и винной порции, по два раза в неделю каждой, на войска Грузинского Корпуса, расположенные на Военно-Грузинской дороге и в областях по берегам Черного и Каспийского морей лежащих».
Стало быть, расположенные в самых гиблых местах войска вообще не имели в рационе ни мяса, ни водки…
Речь шла о 16 640 человеках и о сумме около 160 тысяч рублей ассигнациями.
С тем Алексей Петрович и отбыл в Персию.
24 мая император дал распоряжение министру финансов «отпускать ежегодно <…> по 159 744 руб. ассигнациями, для довольствования войск грузинского корпуса мясною и винною порцею».
Но еще до отъезда в Персию Ермолов продемонстрировал свою заботу о подчиненных столь необычным способом, что это не могло не произвести сильного впечатления. В феврале 1817 года он издал приказ, который более походит на некую новеллу:
«При обозрении моем границ высочайше порученных управлению моему областей, владетели ханств: Ширванского, Шекинского и Карабахского, по обычаю здешних стран, предложили мне в дар верховых лошадей, золотые уборы, оружие, шали и прочие вещи.
Не хотел я обидеть их, отказав принять подарки. Неприличным почитал и воспользоваться ими, и потому, вместо дорогих вещей, согласился принять овец (от разных ханств 7000). Сих дарю я полкам; хочу, чтобы солдаты, товарищи мои по службе, видели, сколько приятно мне стараться о пользе их. Обещаю им и всегда о том заботиться… Овцы сии принадлежат артелям, как собственность, в распоряжение коей никто не имеет права мешаться. Стада должны пастись вместе всего полка, не допуская ни малейших разделений, дабы караулами не отяготить людей и солдаты не сделались пастухами. Команды при табунах должны быть при офицерах и в строгом военном порядке. За сохранение табуна не менее ответствует офицер, как за военный пост. Полку вообще не сделает чести, если офицер его не будет уметь сберечь собственности солдатской. Овец в первый год в пищу не употреблять, но сколько можно стараться разводить их.
…В последствии времени будут и мясо, и полушубки, которые сберегут дорогое здоровье солдата, а полушубки сверх того сохранят и амуницию…
Приказ сей прочесть по ротам».
Это был тем более важный замысел, что с продовольствием войск дело обстояло из рук вон плохо. Еще в ноябре 1816 года, вскоре по приезде, Ермолов писал Закревскому: «Провиантская часть с ума сводит. В магазинах нет ничего. Денег не присылают вовремя, присылают мало, и до сих пор все почти ассигнациями, которых здесь не берут или чрезвычайно невыгодно для казны. <…> Теперь в таком беспорядке часть сия, здесь, что все войска в Грузии местными способами довольствуются, остаются без запасов и живут от одного дня до другого. Ручаюсь вам, что впредь сего не будет…»
Алексей Петрович и прежде был известен своей заботой о подчиненных, но теперь это стало особенно очевидно. С самых первых месяцев командования кавказскими полками зародилась эта связь командира и его солдат, которая стала легендой и в конце концов способствовала не только его военным успехам, но и крушению карьеры…
Тогда же по представлению Ермолова были резко увеличены земельные наделы линейным казакам.
Зато его категорически не устраивало качество генералитета и штаб-офицеров.
«Здесь военных нашел я совсем других, — сетовал он в письме Воронцову в декабре 1816 года. — Теперь нет здесь Котляревского, нет Лисаневича, ни Симановича, нет многих других известных офицеров. Половину оставшихся надобно удалить, ибо самое снисхождение терпеть их не в состоянии. Необходимы меры весьма строгие. Они не заставят любить меня».
Все это, однако, приходилось отложить до возвращения из Персии.
А по возвращении, пережив те неудачи, о которых шла у нас речь, и смирившись на время со своим положением, он принялся решать проблему горцев. Хотя всей сложности и драматичности этой проблемы он еще не сознавал.
Еще в январе 1817 года — 26-го числа, трех месяцев не прошло с момента его появления на Кавказе, — он пишет Закревскому: «Грузия, если Бог благословит нас необходимым миром, придет мало-помалу к устройству и спокойствию, но меня терзают мерзавцы чеченцы, которых по возвращении из Персии должен наказать непременно. От Моздока до Кизляра нет спокойствия на линии. Беспрерывные хищничества, увозят и убивают людей. Слабое на линии управление избаловало поселенных казаков, и они нерадиво охраняют порученные им посты… В рассуждении чеченцев я не намерен следовать примеру многих господ генералов, которые, нападая на них в местах неприступных и им знакомых, теряли множество людей, им не наносили вреда, напротив, каждый раз утверждали их в мнении, что их преодолеть невозможно, и по сочинению пышной реляции, уверив правительство в геройских своих подвигах, возвращались, озлобив их более прежнего. Я приду на реку Сунжу в места прекраснейшие и здоровые. В горы ни шагу! Построю редуты и хорошие землянки. Соберу посеянный ими хлеб и целую зиму не позволю им пасти свой скот на плоскости. Продовольствие сыщу у народов, называющихся приязненными нам, мирными. Эти злые мошенники под личиною друзей, участвующие во всех злодействах чеченцев, пропускающие их чрез свои земли и дающие им убежище. Останусь до тех пор на Сунже, пока выдадут мне всех наших пленных, заплатят деньги за убытки частных людей, или если достану денег довольно, то на Сунже заложу порядочную крепостицу, в которой расположу некоторую часть войск, теперь на большом расстоянии по линии рассыпанных. С будущею весною уже распоряжено у меня построение одного сильного редута на Сунже со стороны Владикавказа, о чем просили меня горские народы, враги чеченцев, желающие выселиться из гор на плоскость для удобного хлебопашества».
Надо отдать справедливость Алексею Петровичу: он чрезвычайно быстро сориентировался в ситуации и понял, что для достижения стратегического результата необходима точно рассчитанная последовательность действий — постоянное и грозное давление на противника с обязательным закреплением замиренных территорий и противопоставление одних горских народов другим.
Ему приписывают формулу, которую повторяли многие: «Кавказ — это огромная крепость, защищаемая многочисленным полумиллионным гарнизоном. Надо штурмовать ее или овладеть траншеями. Штурм будет стоить дорого, так поведем же осаду».
Но при всей своей проницательности Алексей Петрович не представлял себе реальной тяжести вставшей перед ним задачи.
В ноябре 1817 года, вернувшись из Персии и ожидая реакции Петербурга на свой великий проект, он составил и послал императору рапорт, который можно считать и принципиальной оценкой ситуации, касающейся отношений с горцами, и манифестом о стратегических намерениях.
За три дня до рапорта Александру он писал Закревскому: «Между тем наскучили чеченцы и дерзкое поведение их дает вредный пример другим народам, которые, смотря на их успехи, думают, что мы не в состоянии усмирить их. Это совершенная правда, что нельзя смирить их прежними способами, ходя к ним в горы и теряя напрасно людей, но как я взялся, то смирим и не в весьма продолжительное время».
Он не мог представить себе, что война на Восточном Кавказе продлится еще 40 лет. Но именно предложенный им способ воздействия на горцев, ставший определяющим, равно как и наращивание сил, о котором он также толковал, принесут хотя бы видимость желанного замирения.
Он равно же не мог себе представить, что в 1840–1850-е годы на Кавказ будут прибывать из России не отдельные полки, о которых он просил как о великой милости, а дивизии и корпуса и у главнокомандующего князя Барятинского соберется под рукой более 250 тысяч штыков и сабель — в десять раз больше, чем у него, Ермолова…
Пока же, не получая никаких известий от Нессельроде относительно его действий в Персии, осознавая все более и более колоссальный объем предстоящих ему трудов — не столько военных, сколько административных, он временами впадал в отчаяние.
Однако лейтмотивом всех его писем и рапортов в первые месяцы проконсульства было ужасающее положение солдат и офицеров:
«Обстоятельно вникал я в образ жизни войск на линии и в Грузии. Нимало не удивляюсь чрезмерной их убыли. Если нашел я кое-где казармы, то сырые, тесные и грозящие падением, в коих можно только содержать людей за преступления; но и таковых мало, большею частию землянки, истинное гнездо всех болезней, опустошающих прекрасные здешние войска. Какая тяжкая служба офицеров, какая жизнь несчастная! Предупредите государя, что я буду просить денег на постройку казарм и госпиталей, и ручаюсь, что кроме сохранения людей, сберегу я и деньги в других многих случаях…»
Он умоляет Закревского пресечь традицию, по которой на Кавказ отправляют офицеров служить в наказание, что засоряет офицерский корпус людьми неспособными и нерадивыми.
Далеко не в восторге он и от своих генералов и со свойственным ему безжалостным сарказмом рисует не только индивидуальные портреты, но и общую картину: «Мерлини у меня такая редкая скотина, что уж грех кого-нибудь снабдить им, и всеконечно надобно оставить у меня, ибо я почитаю в лице его волю Бога, меня карающего. Есть какие-нибудь тяжкие грехи мои! Представь жалостное мое положение, что я должен дать ему бригаду, ибо он сколько ни скотина, но по общему закону природы требующая пропитания, а в теперешнем состоянии заводного животного он скоро должен умереть от голода. Истолкуй мне, почтенный Арсений, какой злой дух принуждает вас производить подобных генералов? Не изобрел ли кто системы, доказующей, что генералы суть твари совсем для войск не надобные и что они могут быть болванами, для удобнейшей просушки с золотым шитьем мундиров? Это было бы преполезное открытие, которое бы многим простакам доказало, как грубо доселе они ошибались. Сообщи мне о сем для моего успокоения, если то не тайна государственная».
Он понял, что придется энергично и небезболезненно перетасовывать офицерский состав, чтобы быть уверенным в эффективности планируемых боевых действий.
Он сразу же отметил несколько дельных и опытных офицеров и выдвинул их в полковые командиры.
Он знал, что может положиться на братьев Вельяминовых, старший из которых генерал-лейтенант Иван Александрович командовал 20-й дивизией, разбросанной на большом пространстве, а младший Алексей Александрович, его соратник по Наполеоновским войнам, стал начальником штаба корпуса.
К нему прислали Мадатова, что было большой удачей.
Князь Валериан Григорьевич Мадатов (подлинное имя Ростон Глюкиевич Мехрабенц), «из армянских князей Карабахского ханства», был ценен не только абсолютной храбростью, которую он доказал в войнах с турками и французами, не только опытностью профессионального кавалерийского офицера, но и знанием горских обычаев и языков. Он родился и до пятнадцати лет жил в Карабахе. Этот армянский аристократ и русский генерал с его анекдотическим французским и далеко не совершенным русским языком был постоянной мишенью добродушных шуток Ермолова, который при этом чрезвычайно высоко ценил его. Он писал Закревскому, что Мадатов «отправлен в Карабахское ханство командовать расположенными там войсками и надзирать за управлением хана. Какое предоброе и бескорыстное создание. Там надобен такой, ибо Котляревский обворожил их своею честностию и бескорыстием. Этот человек не по одним способностям военным достоин почтения. Его надо уважать по строгим правилам его поведения. Простой народ лучший в сем случае свидетель. — Жаль, что у нас немного ему подобных! Я доволен, что имею Мадатова…».
О бедственном положении не только солдат, но и офицеров он вспоминает в письмах Закревскому непрестанно. В тот самый день, 17 апреля 1817 года, когда отбыл он в Персию, Алексей Петрович отправил своему влиятельному другу письмо, в котором говорил с горечью: «Теперь, вникнув в службу в здешнем краю офицеров и солдат, вижу я, что в России о ней понятия не имеют и не отдают должного ей уважения. Представь состояние офицера. Полки раздроблены мелкими частями. Редко по несколько офицеров живут вместе. Случается, что офицер живет один в несчастной землянке, если на границе, то непременно в степи, ибо по причине войн жители места близкие к границам оставляют. Но если бы даже и селения были близки, они так бедны, что нередко первейшей потребности не могли бы доставить нуждающемуся офицеру. Прибавь к тому незнание языка земли. Я не понимаю, как живут офицеры, что могут они доставать в пищу себе. Бога ради самого, выпросите у Государя деньги на казармы. У меня редко где менее баталиона будет вместе, будут и по два иметь непременные квартиры. Я буду всевозможно избегать раздроблений и кроме необходимейших постов не буду отделять войски или по крайней мере целою ротою вместе и сии посты будут служить школою офицеров, в которой будут усматривать расторопность их, сметливость, способность распорядиться и заботливостию о сбережении людей. На посты сии будут избираемы благонадежнейшие офицеры и посты сии будут крепкою заставою, чрез которую обер-офицер должен прийти к производству за отличие. Здесь в короткое время моего пребывания заметил я несколько отличнейших офицеров, которые впоследствии должны быть наилучшими помощниками начальникам в здешней земле».
То, что замыслил Алексей Петрович, было в некотором роде революцией в тяжелом быте Кавказского корпуса. Знаменитые в будущем базовые поселения кавказских полков со штабом и обширным хозяйством, куда солдаты с радостью возвращались из тяжелых экспедиций, — это результат деятельности Ермолова.
Он постоянно возвращается к этой проблеме: «Хочется мне для несчастных здешних войск выстроить хорошие жилища и улучшить образ жизни их. Сие есть единственное средство избежать смертности, опустошающей здешние войска…»
Тяжба Ермолова с петербургской бюрократией, начавшаяся с первых месяцев его командования, продолжалась все десятилетие и стоила ему немало сил, надобных на совершенно иное.
Каждое разумное решение Петербурга он встречает с восторгом: «Как благодарен я вам за исходатайствование повеления, чтоб за наказание офицеров и солдат не определять в Грузинский корпус. До сего времени мы беглецами своими комплектовали неприятельские войски. К стыду нашему, есть у них и офицеры наши, но надеюсь не будет того впредь».
Речь идет, разумеется, о персидской армии.
Готовясь к отбытию в Персию, обдумывая свою тактику и стратегию в отношениях с персиянами, он одновременно занимается буквально всем, стараясь успеть как можно больше.
В том же обширном письме, отправленном 17 апреля, явлены самые разнообразные планы: «Мучит меня страшное желание в 20-й дивизии полки линейной пехоты обратить в егеря, так чтобы кроме егерской бригады в обеих прочих было по одному егерскому полку, то есть в 6-ти полках дивизии будет 4 полка егерских. Сие необходимо по роду войны в здешнем крае, часто малыми частями, всегда в таких местах, где егеря с гораздо большею употребляются выгодою».
В лесной и горной войне, где неприменимы были обычные приемы европейских войск, егеря были тем самым родом войск, который мог эффективно противостоять сражавшимся россыпью горцам.
Еще не начиная боевых действий против горцев, Алексей Петрович обдумывал необходимые реформы: в том, что после возвращения из Персии ему придется столкнуться с горцами, он не сомневался. Более того — мечтал об этом.
В апреле 1818 года, готовясь выступить на Сунжу, он писал Закревскому: «Чеченцы, друзья наши, кажется уже надуты. По приуготовлениям думал я, что они оставят ближайшие селения и разбегутся, но они лучше сделали, они в совершеннейшей беспечности, что я по примеру прежних на линии начальников дождусь глубокой осени и когда лес обнажится от листьев, пойду пожигать их селения, из которых обыкновенно удаляют они своих жен и лучшее имущество, а наши рыцари придут и пожгут пустые дома, потеряют множество людей и все подвиги заключат лживыми и пышными реляциями.
Я, напротив, прикинулся не желающим другого как оградить себя от хищничеств и разбоев, уверяю их, что они люди честные, не мешаю в сельских работах и занятиях, а посеянный ими хлеб возьму на себя труд жать солдатами и сено их скошу в пользу войск. Теперь, чего никогда еще не бывало, открою подряды на перевозку к Сунже провианта и некоторое количество берутся ближайшие чеченские деревни перевозить за плату, которая не выше будет той, что даем мужикам нашим. В нынешнем году не успел я занять всей Сунжи, а в будущем некоторые из деревень, называющиеся мирными и кои делают нам ужаснейший вред, получат благосклонное приглашение удалиться в горы и оставить прекраснейшие земли свои в пользу стесненных казаков наших и верных нам и добрых ногайцев, около Кизляра живущих. Удалиться в горы значит на пищу святого Антония. Не надобно нам употреблять оружия, от стеснения они лучше нас друг друга истреблять станут. Вот вернейший план, которого если бы держались мои предместники, давно бы мы были покойнее на линии».
План, по которому вытесненные в горы чеченцы, лишенные пашенных земель и пастбищ, должны были драться друг с другом за пропитание, был вполне достоин патера Грубера. В выборе средств, если они обеспечивали должный результат, он не затруднялся.
Приготовления к напору на чеченцев, с чего, собственно, и началась активная фаза ермоловской войны, происходили на фоне драматической переписки с Нессельроде о персидских делах.
И готовясь к военным действиям, и приступив к ним, Алексей Петрович ни на минуту не забывал о главном своем замысле. Подавление чеченцев было занятием необходимым, но для него — второстепенным.
10 августа 1818 года Алексей Петрович в очередной раз напомнил Нессельроде о персидской опасности, явно рассчитывая, что министр доведет его опасения до сведения государя: «Адъютант мой доносит, что в столице Аббас-Мирзы явно в мечетях проповедуется возмущение, а именно против русских, о чем доводил он до сведения каймакама Мирзы-Бюзюрка, но сей, сколько же закоснелый, как и злобный, дервиш отвечал, что для того учатся ахунды и сейды, чтобы в состоянии быть о чем-нибудь говорить народу. Вот ответ второго чиновника в государстве, передавшего правила свои воспитаннику своему Аббас-Мирзе».
Адъютант, штабс-капитан князь Бебутов, был отправлен Алексеем Петровичем в Тегеран в качестве своего представителя и информатора…
…Переписка эта с Петербургом велась уже не из Тифлиса, а из лагеря на реке Сунже. Ермолов приступил к реализации своего «чеченского плана».
Еще в мае он сосредоточил на Тереке сильный отряд, состоящий из четырех егерских и двух линейных батальонов, шести тяжелых орудий, шести легких и четырех конных орудий. Кавалерию составляли 500 донских и линейных казаков.
Перед выступлением Ермолов направил императору обширный рапорт, в котором изложил подробную программу подавления и вытеснения горцев с плодородных земель, программу, которой он старался придерживаться во все десятилетие своего проконсульства:
«В нынешнем 1818 году, если чеченцы, час от часу наглеющие, не воспрепятствуют устроить одно укрепление на Сунже в месте, самом для нас опаснейшем, или если можно успеть будет учредить два укрепления, то в будущем 1819 году, приведя их к окончанию, тогда живущим между Тереком и Сунжею злодеям, мирными именующимся, предложу я правила для жизни и некоторые повинности, кои истолкуют им, что они подданные Вашего Императорского Величества, а не союзники, как они до сего времени о том мечтают. Если по надлежащему будут они повиноваться, назначу по числу их нужное земли количество, разделив остальную часть между стесненными казаками и караногайцами; если же нет, предложу им удалиться и присоединиться к прочим разбойникам, от которых различествуют они одним только именем, и в сем случае все земли останутся в распоряжении нашем. Я в таковых обстоятельствах прошу Вашего Императорского Величества соизволения, чтобы из полков Моздокского и Гребенского добровольно желающие могли переселиться вперед за Терек.
За сим распоряжением селения наши по Тереку от устья Сунжи и до Кизляра и самый сей город, единственный родом промышленности и знатный казне доход приносящий, останется тем же как и теперь подверженным опасностям, которые отвратить одно средство в том состоит, чтобы цепь укреплений, расположенных по Сунже, продолжить через Аксаевские, Андреевские и Костековские селения до р. Сулака, где для учреждения оных несравненно менее предстоит затруднений, нежели против чеченцев.
Таким образом, со стороны Кавказской приблизимся к Дагестану, и учредится сообщение с богатейшею Кубинскою провинцией и оттуда в Грузию, к которой доселе лежит один путь, чрез горы, каждый год несколько времени, а иногда и весьма долго пресекаемый.
Мимоходом в Дагестан чрез владения шамхала Тарковского овладеем мы соляными богатыми озерами, довольствующими все вообще горские народы и чеченцев не исключая. До сего времени шамхал не помышлял отдать их в пользу нашу и уклонялся принять войска наши в свою землю, теперь предлагает взять соль, а войска расположу я у него как особенную милость Вашего Императорского Величества за его верность, которые нужны нам для обеспечения нашей в Дагестан дороги. <…>
Обеспечив таким образом безопасность левого фланга линии, надобно обратить внимание на центр оной, лежащий против кабардинцев, народа некогда весьма сильного, храброго и вообще воинственного, нынче не требующего чрезвычайных мер к усмирению. Моровая язва народ сей истребила почти до четвертой оного части и среди его создала почти всегдашнее свое пребывание по связи его с закубанскими народами. Для прекращения или по крайней мере уменьшения сих бедствий, Кавказской линии грозящих, надобно, сближаясь к вершинам р. Кубани, при урочище, известном под именем Каменный Мост, сделать укрепление на один батальон пехоты и, вступая в сношение с некоторыми горскими народами, от кабардинцев утесненными, содержать сих последних в совершенной зависимости. <…>
Если благоугоден будет Вашему Императорскому Величеству план сей, то нужен на имя мое высочайший указ в руководство и непременную цель преемникам моим. В предложении моем нет собственной моей пользы; не могу я иметь в предмете составлять военную репутацию мою насчет разбойников… Не всякого однако же на моем месте могут быть одинаковые выгоды».
Здесь уже ясно видны и стратегические, и тактические принципы будущих действий Ермолова и его взгляд на противника.
«Мы не перестаем верить тем, у кого нет ничего священного в мире». Убежденность в том, что поскольку горцы не исповедуют мораль и этику европейского образца, то у них «нет ничего священного в мире», была роковым препятствием к компромиссу со стороны России. При этом убежденность горцев в своем праве нарушать любую клятву, данную неверным — то есть существам вне закона божеского и, соответственно, человеческого, являлась непреодолимым препятствием с их стороны.
Цельное сознание горца принимало компромисс лишь как тактический ход, как допустимую хитрость.
И с той, и с другой стороны мы видим отрицание за противником права на оправданную идеологию и признание силы в качестве реального аргумента.
Понадобились катастрофические для Кавказского корпуса события 1840-х годов, а для горцев более чем двадцатилетняя жестокая диктатура Шамиля, чтобы те и другие пришли к осознанию возможности иного варианта, который, однако, тоже оказался далеко не оптимальным. Но все это будет через десятилетия после того момента, в котором мы находимся сейчас.
В 1818 году проконсул Кавказа выдвинул более чем простой и определенный план: полное подчинение, безоговорочное включение в государственную структуру России или же вытеснение и истребление. За те полгода, что прошли между рапортом императору, принятым благосклонно, и письмом бывшему военному министру, Ермолов начал энергично свой план осуществлять — «отняв у них лучшую половину хлебородной земли» и приступив к устройству новой линии крепостей, оттеснявшей чеченцев к бесплодным горам. Естественной реакцией на эти действия было яростное вооруженное сопротивление.
Ермолов много и достаточно подробно писал своим корреспондентам об этом первом походе, считая его акцией фундаментальной, от успеха которой зависели последующие его действия.
31 мая 1818 года — Закревскому: «Переправясь чрез возвысившиеся воды Терека, я с 24-го числа нахожусь на Сунже. Предшествующий явлению ужасной рожи моей слух обо мне еще ужаснейший содержит чеченцев в страхе и трепете».
Но если чеченцы и в самом деле опасались его прибытия, то вряд ли только по причине его грозного вида. Ермолов умело пользовался тем, что слухи на Кавказе распространялись быстро и в гипертрофированном виде. Его угрозы, сопряженные с концентрацией войск, доходили до них и воспринимались всерьез.
Сообщив Закревскому о «трепете» чеченцев, Алексей Петрович продолжал: «Ближайшие из них, которых постигнуть может казнь, чрезвычайно покорны, возят мне в лагерь хворост и 500 повозок с Терека перевозят мне провиант безденежно. Живущие за Сунжею присылали уже старшин просить позволения жить безмятежно и в безопасности. Ответ мой: отдайте всех русских пленных и тогда стану говорить с вами и можете надеяться пощады и милости».
Истинные намерения его были совершенно иными, и чеченцы об этом догадывались. Ермолову нужны были плодородные земли на плоскости и совершенно не нужны были под боком воинственные чеченцы, отнюдь не считавшие священными свои договоренности с неверными. «Я успел уверить их, что не Сунжа есть главным моим предметом, но что в сердце земли их устрою я крепость. Между тем, бегут из-за Сунжи многие деревни, жен и детей увозят в горы, бросают хозяйства и в душе отчаяние. Я весьма готов на то, что мне пленных не отдадут, особливо таких, которые уже переменили закон, обженились и имеют детей и сему причиною будет надежда их на высокие в Сунже воды и на лес густым листом покрытый; спадут и воды, и листья, главнейшая их оборона и увижу я их покорнейшими. Между тем, уже обещают продать мне строевой лес для крепости или по крайней мере до того дойти надеюсь, что допустят мне вырубить оный без большой опасности. Как бы переменили они мнение свое, если бы узнали, что мне нет никакой пользы идти за Сунжу и что я даже того сделать не могу, ибо три четверти людей моих так молоды и недавно в службе, что не видывали неприятеля, и таковых не приуча несколько прежде не поведу я против зверей, каковы чеченцы и которых сама крайность призовет к обороне. Я избрал вернейшую систему. Позволю им храбриться и между тем буду строить крепости. Во все продолжение лета простоят они под ружьем и в робкой осторожности, ни жать хлеба, ни сена возить нельзя будет и семейства их, скитаясь в горах, удалены будут от хозяйства. Настигнет глубокая осень, у меня будут крепости, у них не будет хлеба, обнажится лес и не будет защиты — осторожность утомит их; река Сунжа будет глубиною по колено и от крепостей моих до самых злодейских селений не далее 20 или 25 верст. Тогда я буду господствовать и заплатим за слезы и кровь русскую, пролитые разбойниками».
Все это очень похоже на Алексея Петровича с его хитроумием, последовательностью и, если угодно, коварством. Чеченцы для него — звери. Они не имеют права на милосердие. Он совершенно бесстрастно пишет о голоде, который неизбежно настигнет их зимой. Он не собирается ни о чем с ними договариваться, но искусно делает вид, что договаривается. И если в письмах он не считает нужным сообщать об этих маневрах, демонстрируя свое высокомерие по отношению к чеченцам, то в написанных позже записках он достаточно подробно описывает свою суровую дипломатию:
«Старшины почти всех главнейших деревень чеченских были созваны ко мне, и я объяснил им, что прибытие войск наших не должно устрашать их и если они прекратят свои хищничества, то я не пришел наказывать их за злодеяния прошедшего времени, но требую, чтобы впредь оных делано не было, и в удостоверение должны они возобновить давнюю присягу на покорность, возвратить содержащихся у них пленных».
Однако мы помним, что Алексей Петрович декларировал в письме Закревскому свои истинные намерения — как только обмелеет Сунжа и облетит листва: «Тогда я буду господствовать и заплатим за слезы и кровь русскую, пролитые разбойниками».
Он пришел именно что жестоко наказать их и усмирить навсегда.
Между тем строительство крепости происходило отнюдь не так идиллично, как описывает это Ермолов в первых письмах Закревскому и Воронцову. Ему важно было внушить друзьям, что для усмирения чеченцев, во всяком случае для того, чтобы внушить им робость, достаточно его грозной личности.
Но имеются свидетельства и несколько иного характера.
Артиллерийский прапорщик Цылов, автор записок «Из боевой жизни А. П. Ермолова на Кавказе», вспоминал: «Построение крепости началось немедленно, но успеху работ много мешал неприятель, подскакивая со стороны хинкальского ущелья к нашим аванпостам и беспокоя их ружейными выстрелами. Для прекращения этих нападений Алексей Петрович приказал вырубить лес в ущелье на две версты, и неприятель лишен был возможности подходить к нам невидимкой. Солдаты работали весело, молодцами, постоянно с песнями и каждый день получали винные порции».
Цылов рассказывает о приемах, которыми Ермолов рассчитывал психологически подавить волю чеченцев к сопротивлению:
«Алексей Петрович приказал отряду удалых казаков, в числе 50-ти человек, одну из привезенных пушек, в сумерках, поставить в 200 саженях от крепости и, окружив ее, не двигаться с места до тех пор, пока из крепости не будет пущена ракета. Между тем 6 батарейных орудий бригады полковника Базилевича были поставлены на гласисе крепости, заряженные картечью и наведенные на то место, на котором приказано было отряду казаков оставаться со взятым ими орудием. Никто из нас не знал причины и цели распоряжения Алексея Петровича. На рассвете неприятель, завидя с гор малый отряд казаков, удаленных от крепости, с гиком бросился на него. В это мгновение взвилась ракета и казаки, обрубив постромки, поскакали с орудийными лошадьми к стоящему за крепостью баталиону Кабардинского пехотного полка, а орудие оставили на месте. Чеченцы, в числе 500 человек, не видя никакого преследования, спешились и начали тащить пушку. В это время 6 батарейных орудий произвели залп картечью, от которой неприятель потерял убитыми 40 человек, оставил тяжелую пушку на месте и, не успев убрать убитых, еле-еле ускакал в горы, преследуемый баталионом пехоты и отрядом казаков. Пехота на себе привезла орудие в крепость, и тем дело кончилось. <…> Проученные чеченцы долго не покушались более нападать на крепость, сделавшуюся действительно для них грозною».
В записках Ермолов достаточно выразительно очертил реальную картину происходившего вокруг строившейся крепости: «Пришли наконец в помощь лезгины, и между чеченцами примечена большая деятельность в приуготовлениях к сражению. Повсюду показывались они в больших уже силах… Между многих перестрелок с отрядами нашими была одна весьма сильная, когда квартирмейстерской части подполковник Верховский послан был занять лес, в котором надобно было произвести порубку для строений».
При всем своем презрении к чеченцам Алексей Петрович не может не отдать им должное: «В сей день чеченцы дрались необычайно смело, ибо, хотя недолго, могли, однако же, они стоять на открытом поле и под картечными выстрелами. Вскоре после сего произошли между чеченцами и лезгинами несогласия и ссоры, и сии последние, не в состоянии будучи переносить жаркого летнего времени, претерпели ужаснейшие болезни и, оставивши не менее половины людей до выздоровления, удалились в дома свои.
Сим кончились все подвиги лезгин, и чеченцы, знавшие их по молве за людей весьма храбрых, вразумились, что подобными трусами напрасно нас устрашали».
Алексей Петрович прекрасно знал, что лезгины не трусы. Он сам же и объяснил причины их ухода от строящейся крепости. Ему важно было в летописи, которую он намерен был оставить потомкам, дать ту картину реальности, которую ему хотелось бы видеть. Он предпочитал, чтобы горцы — что чеченцы, что лезгины — предстали в виде уничижительном. И это желание постоянно боролось в нем с внутренним побуждением написать правду. Однако признать горцев равным противником он не мог.
Но текст его воспоминаний и его письма уже лишились того презрительно-веселого колорита, которыми отличались весенние письма из Тифлиса и с Сунжи.
Алексей Петрович ясно осознавал, что усмирить чеченцев будет отнюдь не просто и что давление на чеченцев явно вызывает цепную реакцию превентивного сопротивления по всему Восточному Кавказу.
Надо оговориться — у нас нет возможности и надобности представить во всех подробностях боевую и административную деятельность Ермолова на Кавказе и в Грузии. Наша задача — постараться понять главные стратегические идеи Алексея Петровича и психологические мотивы, им двигавшие. Как отразилась на его деятельности этого периода особость его грандиозной личности и как особенности этой личности окрашивали его конкретные действия.
И здесь мы можем и должны прибегнуть к его письмам как к источнику, наиболее адекватному реальности.
Письма Ермолова Воронцову малочисленнее, чем письма Закревскому, в содействии которого у Алексея Петровича была повседневная нужда. Но с военно-профессиональной точки зрения в них содержится больше нужной нам информации. Важно и то, что многие письма Закревскому в известном смысле предназначались и высшему руководству государства, включая императора. Письма Воронцову были лишены этой функции и потому писались свободнее.
20 октября 1818 года, находясь еще на Сунже, когда крепость Грозная была уже построена и вооружена, Ермолов начал большое письмо Воронцову, которое окончил 30 ноября. Письмо это дает представление не только о конкретных боевых действиях, но и о принципиальных планах Ермолова, и о его настроениях, когда масштаб задачи хотя и несколько туманно, но уже вставал перед ним — мы приведем вторую его половину:
«Октября 25-го, Сунжа.
От Пестеля[69] не получаю ничего; но из Тарков есть известие, что жители города сего рассеялись, боясь собравшихся лезгин, и что все владение шамхала взбунтовало и соединилось с оными, что сообщение с Пестелем прервано и мои к нему предписания не достигают. Мятежники присылали возбудить против нас жителей деревень, принадлежащих владельцам андреевским. Я, дабы удержать сих последних, решился идти к ним и завтра выступаю. Со мною идет пять весьма неполных баталионов пехоты, в числе коих новосформированный 8-й егерской полк, прибывший ко мне из Крыма и не видавший неприятеля. Идут 350 едва движущихся казаков, но идут 15 орудий артиллерии, составляющей главнейшую мою силу. Дальнейшее движение мое зависеть будет от известий, которые получу от Пестеля.
Октября 30-го. Пришел я в Андреевскую деревню, и отовсюду есть слухи, что Пестель был атакован, дрался два дня сряду и вышел из Башлы, что в ближайшие здесь деревни привезены убитые лезгины. Недоброжелательствующие нам весьма увеличивают нашу потерю.
Октября 31-го дня. Давши отдых войскам, нынешний день я иду в Тарки, дабы движением сим отвлечь собравшихся мятежников и не допустить идти на Кубу, как они намереваются и где нет у меня войск, которыми удержать было их можно.
18 ноября. Шатаясь долгое время, наконец, в свободную минуту опишу я тебе все случившееся со мною. Не доходя трех часов пути до Тарки, остановился я у одного селения, откуда идет дорога довольно свободная во владения всех возмутившихся против нас мошенников. Начались дожди проливные, и я принужден был, оставя все выгоды моего направления, идти в Тарки, дабы войска расположить на квартирах и снабдить себя провиантом, которого мало уже у меня оставалось. В Тарки прожил я девять дней; ибо казалось, что самое небо далее меня не допускало, проливая на нас дожди ужаснейшие. Наконец выступил в горы прямо к столице аварского хана, генерал-майора и подлейшего изменника. В трудном весьма дефиле встречен я им был с довольным числом мятежников. Было уже поздно, люди устали от перехода, и обоз мой весьма растянулся. День сей кончился несколькими выстрелами из пушек и слабым ружейным огнем. Неприятель остался на вершине горы в торжестве, что не дал нам дороги. Расположась лагерем, в десять часов вечера послал я один баталион Кабардинского полка в обход на гору, и он так удачно подкрался, что нашел неприятеля в совершенной неосторожности у огней в разных забавах. Залп из ружей и ура рассеяли мошенников, и с того времени вселился между ими трепет; ибо по справедливости нигде уже удобнее остановить нас было невозможно. Более суток употребил я, чтобы подняться с артиллериею на гору и селение Параул, столицу и место рождения хана аварского, нашел совершенно оставленную жителями. На другой день пошел я в селение Джунгутай, принадлежащее брату его, молодому человеку, владеющему большим округом и которое более всех способствовало к возмущению против нас Дагестана. Здесь нашел я мятежников в большом собрании, в крепкой позиции, защищенной окопами. После некоторой перестрелки окопы взяты были штыками; но неприятель не мог иметь большого урона: ибо и артиллерия наша мало действовала, и во время сражения столько густой распространился туман, что неприятель мог спастись бегством, почти не преследуем по причине темноты. Селение Джунгутай и в 3-х верстах от него другое того же имени, оба прекраснейшие и лучшие нежели многие из уездных наших городов, приказал я разорить совершенно. После сего все возмутившиеся владения шамхала, все брата аварского хана и некоторые из селений ему самому принадлежащих покорились и прислали старшин просить помилования. Шамхал во все время остался верным и был с войсками нашими при Пестеле, в вознаграждение его из владений аварского хана, брата его и еще одного мошенника, дал я ему в управление четыре больших городка с селениями, составляющими более четырех тысяч семейств. Сверх того из остальных составляю особенный небольшой уезд, никому не принадлежащий кроме императора, намереваясь впоследствии иметь тут военную дорогу с линии в Дербент и кратчайшую, и несравненно удобнейшую. Таким образом кончив дела здешней страны, возвращаюсь я на линию, дабы успокоить войска, которые уже семь месяцев на бивуаках, и здесь поблизости к горам уже зима порядочная. В бытность мою в Тарки получил я от Пестеля рапорт, что лезгины в числе более 25 т[ысяч] человек атаковали его в Башлы и что 10 т[ысяч] сверх того, ожидая последствия дела, готовы были броситься на Кубинскую провинцию. Пестель занимал замок и часть домов, прилежащих к нему, которые приуготовил он к обороне; с ним было две тысячи пехоты и 6 орудий, конницы Аслан-хана кюринского и нашей Кубинской слишком 500 человек. Три дня лезгины дрались, и жители Башлы, изменив данной присяге, присоединились к ним и впустили их в дома свои. Тогда Пестель, не имея сообщения с Дербентом и опасаясь недостатка в провианте и снарядах и видя сверх того, что неприятель начал окружать замок окопами, выступил ночью из Башлы. На дороге два раза безуспешно нападал на него неприятель, но с большим прогнан уроном, и Пестель благополучно пришел на прежний при реке Бугаме лагерь, где атаковать его неприятель не решился. Потеря с нашей стороны по образу здешней войны необыкновенная, ибо с убитыми и ранеными простирается до 370 человек; неприятель, а паче изменники селения Башлы, потерпели ужасно. Теперь по предписанию моему Пестель выступил из Дербента для совершеннейшего разорения Башлы и прочих селений взбунтовавшего владения каракайдакского уцмия.
В будущем году поеду я наказать акушинской народ, сильнейший в Дагестане и наиболее нам враждебный, и после того вся сия страна будет совершенно спокойна и лучше многих других повиноваться. Здесь не так легко я кончу, как теперешний раз, но кончу непременно.
Вот, любезнейший брат, вернейшее тебе описание всего здесь происшедшего и даже частию моих вперед предприятий. Не думаю, чтобы мог ты упрекнуть, что не пишу к тебе обстоятельно и обо всем».
В первой части этого письма есть несколько важных пассажей.
Во-первых, впервые Алексей Петрович говорит об истреблении мирного населения в чеченских аулах, формально лояльных русским, но способствующим своим единоплеменникам во время набегов: «Удалось убить более несколько людей и жен (!) нежели в сражениях, ибо не столько всегда удобно бегство». За этой витиеватой фразой, сознательно туманной — Ермолов не знал, как отнесется его просвещенный друг к подобным методам, — стояла хорошо рассчитанная «гуманная» жестокость, урок которой юный артиллерист Ермолов получил от Суворова во время осады Варшавы.
В. А. Потто приводит принципиальное заявление Ермолова: «Хочу, чтобы имя мое стерегло страхом наши границы крепче цепей и укреплений, дабы слово мое было для азиатов законом, вернее неизбежной смерти. Снисхождение в глазах азиатов — знак слабости, и я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены».
И в письмах Закревскому, и в письмах Воронцову Алексей Петрович зондирует как общественное, так и начальственное мнение на предмет отношения к его методам замирения края.
Во-вторых, он в очередной раз ясно формулирует свой стратегический план — отсечь цепью укреплений территории немирных горцев от контролируемых территорий.
В-третьих, чрезвычайно характерен пассаж, посвященный уцмию Каракайдакскому.
Уцмий — традиционный титул владетеля Каракайдакской области — был одним из тех дагестанских феодалов, которые, по замыслу Ермолова, подлежали изгнанию или уничтожению. И Алексей Петрович, подозревая его в коварных замыслах, прямо объявлял своему другу о намерении захватить владения и уцмия, и аварского хана. Это было начало операции по разрушению системы ханств в Дагестане и на южных его границах. Мотивация вполне достойная: «Будущею весною, если чуть возможно мне будет, я приду разведаться с мошенниками в собственные их жилища, и тут будет конец и уцмеевскому достоинству, а жители богатой земли сей и нам необходимо нужной отдохнут под милосердным правлением императора от злодейской власти, их утесняющей».
Методы, которыми пользовался Ермолов при подавлении горцев, их соотношение с европейскими — христианскими — нравственными законами и представлениями о человеческой гуманности — особый и непростой сюжет.
В начале 1819 года, после похода в Дагестан, Грибоедов, человек пронзительного ума и к тому времени неплохо узнавший Алексея Петровича, написал о нем нечто, дающее ключ к проблеме: «Нет, не при нем здесь быть бунту. Надо видеть и слышать, когда он собирает здешних или по ту сторону Кавказа кабардинских и прочих князей; при помощи наметанных драгоманов, которые слова его не смеют проронить, как он пугает грубое воображение слушателей палками, виселицами, всякого рода казнями, пожарами; это на словах, а на деле тоже смиряет оружием ослушников, вешает, жжет их села — что же делать? — По законам я не оправдываю некоторых его самовольных поступков, но вспомни, что он в Азии — здесь ребенок хватается за нож. А, право, добр; сколько, мне кажется, премягких чувств…»
Это Грибоедов писал в Россию своему другу Бегичеву, понимая, что слухи о ермоловском терроре туда доходят.
Последняя фраза о доброте Ермолова и его «премягких чувствах» на первый взгляд категорически противоречит всему остальному. Это не так. Ермолов на Кавказе принадлежал двум мирам. «Вспомни, что он в Азии…» Он категорически отбросил все попытки своих предшественников Гудовича, Тормасова, Ртищева искать компромиссное решение конфликта. «Лучше от Терека до Сунжи оставлю пустынные степи, нежели в тылу укреплений наших потерплю разбои».
Дело не в отдельных набегах. Дело в принципе.
Отложив по необходимости реализацию своего персидского плана, Алексей Петрович, который не мог жить, не имея перед собой задачи, равной его самопредставлению, все больше проникался сознанием своей цивилизаторской миссии. Это было не просто усмирение и замирение горцев. Это было стремление фундаментально изменить сам характер их бытия.
Европеец, шевалье Ермолов, — латынь, итальянский и французский языки, глубокая начитанность, — не мог смириться с принципиально иным способом существования, который с таким неразумным упорством отстаивали горцы.
Мы знаем, как он умел привязывать к себе людей искренней заботой о них, доброжелательством и отсутствием заносчивости по отношению к низшим. Его боготворили его адъютанты. Но доброта и доброжелательность резко обрывались там, где начиналось сознание миссии.
Холодная и рассчитанная жестокость имела не только тактико-прагматический смысл. Но на первом плане был именно этот смысл.
Вот основополагающая формула: «В случае воровства (набега. —
Это была не просто свирепая риторика.
В письме Закревскому от 30 сентября 1819 года он сообщает о достойной службе своих подчиненных, для которых намерен просить награды: «Мадатов служит похвальнейшим образом и делает невероятные успехи. У него до сих пор только два раненых казака и вся потеря в одних татарах. О нем получите вы донесение. Посылаю также рапорт о Сысоеве. Он имел чрезвычайно горячее дело с чеченцами, штурмовал деревню, в которой жители защищались отчаянно до последнего. Их вырезано не менее 500 человек, исключая женщин и детей, взято в плен только 14 мужчин в совершенном обессилении, несколько женщин и детей. Сами женщины, закрыв одною рукою глаза, бросались с кинжалом на штыки в толпы солдат. Мужчины убивали жен и детей, чтобы нам не доставались. Здесь не было подобного происшествия, и я сделал с намерением сей пример с самыми храбрейшими из чеченцев, дабы устраша их, избежать впоследствии потери, ибо нигде уже впредь не найдем мы ни жен, ни детей, ни имущества, а без того никогда чеченцы не дерутся с отчаянием. Небольшой отряд наш дрался с невероятною храбростию и по справедливости заслуживает отличное награждение».
Судя по всему, несмотря на известную ему разницу в представлениях о дозволенном и недозволенном, Алексей Петрович не опасался вызвать своим рапортом неудовольствие государя.
Нет никаких оснований полагать, что Ермолова беспокоили окровавленные тени чеченских женщин и детей.
Он уже избрал себе иные образцы и не сомневался в своей правоте. Он снова возвращается к этому страшному сюжету в записках, через годы, и столь же бесстрастно констатирует:
«Желая наказать чеченцев, беспрерывно производящих разбой, в особенности деревни, называемые Качкалыковскими жителями, коими отгнаны у нас лошади, предположил выгнать всех их с земель Аксаевских, которые занимали они сначала по условию, сделанному с владельцами, а потом, усилившись, удержали против их воли.
При атаке сих деревень, лежащих в твердых лесистых местах, знал я, что потеря наша должна быть чувствительна, если жители оных не удалят прежде жен своих, детей и имущество, которых защищают они всегда отчаянно, и что понудить их к удалению жен может только один пример ужаса.
В сем намерении приказал я войска Донского генерал-майору Сысоеву с небольшим отрядом войск, присоединив всех казаков, которых по скорости собрать будет возможно, окружив селение Дадан-юрт, лежащее на Тереке, предложив жителям оставить оное, и, буде станут противиться, наказать оружием, никому не давая пощады. Чеченцы не послушали предложения, защищались с ожесточением. Двор каждый почти окружен был высоким забором, и надлежало каждый штурмовать. Многие из жителей, когда врывались солдаты в дома, умерщвляли жен своих в глазах их, дабы во власть их не доставались. Многие из женщин кидались на солдат с кинжалами.
Большую часть дня продолжалось сражение самое упорное, и ни в одном доселе случае не имели мы столь значительной потери: ибо кроме офицеров простиралась оная убитыми и ранеными до двух сот человек (Алексей Петрович запамятовал, что в сражении вокруг Башлы, по его собственному утверждению в письме Воронцову, русские потеряли 370 человек, а на самом деле до 500. —
Со стороны неприятеля все, бывшие с оружием, истреблены, и число оных не менее могло быть четырех сот человек. Женщин и детей взято в плен до ста сорока, которых солдаты из сожаления пощадили, как уже оставшиеся без всякой защиты и просивших помилования. (Но гораздо больше оных число вырезано было или в домах погибло от действия артиллерии и пожара.) Солдатам досталась добыча довольно богатая, ибо жители селения были главнейшие из разбойников, и без их участия, как ближайших к Линии, почти ни одно воровство и грабеж не происходили, большая же часть имущества погибла в пламени. Селение состояло из 200 домов; 14 сентября разорено до основания».
Алексей Петрович прекрасно понимал, какое впечатление эта картина, очерченная его «римским стилем» — без малейших эмоций! — будет производить на будущих читателей. Но для него это был камертон. Он давал понять, какими принципами он руководствовался, равно как и демонстрировал плодотворность и своеобразную гуманность этих принципов. Вспомним Суворова под Варшавой.
Дальше идет рассказ о захвате других аулов — без сколько-нибудь значительных потерь с той и с другой стороны.
Жизнями сотен женщин и детей, «вырезанных» в Дадан-юрте («гораздо больше», чем 140!), были спасены на будущее тысячи других жизней. В том числе горских женщин и детей, ибо теперь их загодя уводили в леса и горы до штурма аулов. И сами чеченцы предпочитали оставлять обезлюдевшие аулы и обстреливать атакующих из лесной чащи.
Несмотря на оскорбительные эпитеты, которыми Алексей Петрович награждал горцев вообще и чеченцев в частности, он предпочел бы, чтобы ему не приходилось «вырезывать» женщин и детей. Равно как не жаждал он убивать и самих горских воинов. Но это был, как он считал, первый и необходимый этап его цивилизаторской миссии, которой горцы противились по неразумию и непониманию реального положения вещей.
Ермолов настойчиво — и не в последнюю очередь в письмах — старается внедрить в сознание петербургской элиты основы своей системы усмирения Кавказа.
Главный способ давления на чеченцев — лишение их плодородных земель на плоскости, что обрекало их на неминуемый голод. Это был важный элемент военно-экономической блокады, которую Ермолов считал наиболее эффективным средством подавления горского сопротивления.
Еще недавно, как мы помним, он писал Закревскому, что в горы он «ни шагу». Однако вскоре понял, что при выбранной им жесткой линии поведения подобные экспедиции неизбежны. Стратегия планомерной осады с минимальными потерями оказалась нереальной.
Если отодвинуть ставший проблематичным персидский проект и сосредоточиться на проблеме Кавказа, то ясно, что главным внутренним побудительным мотивом действий Ермолова были не столько геополитические соображения, сколько психологическое неприятие самого миропорядка, который был для горских народов естественным и единственно возможным.
Перед нами неразрешимый конфликт, ибо компромисс был невозможен для обеих сторон.
«Право сильного» в отношениях с горцами было любимым мотивом в письмах Алексея Петровича. В официальных документах, чтобы не вызвать нареканий со стороны Петербурга, предпочитавшего более гуманные способы умиротворения, он выдвигает другие мотивы. Так, 12 февраля 1819 года, убеждая императора усилить Кавказский корпус, Ермолов писал: «Государь! Внешней войны опасаться не можно. Голова моя должна ответствовать, если война будет со стороны нашей. Если сама Персия будет причиною оной, и за то ответствую, что другой на месте моем не будет иметь равных со мною способов. Она обратится во вред ей!
Внутренние беспокойства гораздо для нас опаснее. Горские народы примером независимости своей в самых подданных Вашего Императорского Величества порождают дух мятежный и любовь независимости. Теперь средствами малыми можно отвратить худые следствия; несколько позднее и умноженных будет недостаточно.
В Дагестане возобновляются беспокойства и утесняемы хранящие Вам верность. Они просят справедливой защиты Государя Великого; и что произведут тщетные их ожидания?»
Для императора он мотивировал необходимость решительных действий, — для чего нужны дополнительные полки, — опасностью мятежной заразы и необходимостью защитить тех горцев, что хранят верность России.
Что до «мятежного духа и любви к независимости», то имелись в виду, разумеется, те, кто непосредственно соприкасался с горцами — солдаты и казаки. Проблема дезертирства и бегства в горы была проблемой нешуточной.
И все это действительно волновало Ермолова. Но, судя по его откровениям в письмах близким друзьям, куда более искренним и значимым по смыслу, чем рапорты императору, главным для него лично, для Алексея Ермолова, было доказать превосходство его самого и империи, которую он представлял, над современными варварами, не признающими право сильного. Сильного не только оружием, но и теми духовными ценностями, которые стояли за ним, той системой взаимоотношений с людьми и миром, которую он представлял.
Они противились ему, Ермолову, его мечте, его планам.
Хотя, разумеется, все это подкреплялось и превосходством чисто военным.
Ермолов писал 10 февраля 1819 года Денису Давыдову: «Ты не удивишься, когда я скажу тебе об употребляемых средствах. В тех местах, где я был в первый раз, слышан был звук пушек. Такое убедительное доказательство прав наших не могло не оставить выгод на моей стороне. Весьма любопытно видеть первое действие сего невинного средства над сердцем человека, и я уразумел, сколько полезно владеть первым, если не вдруг можешь приобрести последнее».
Алексею Петровичу в этот период был свойствен весьма жестокий, если не сказать — свирепый юмор.
Автор первого концептуального исследования Кавказской войны М. Н. Покровский утверждал: «Ермоловская политика загоняла горцев в тупик, из которого не было выхода»[70].
Это неверно — выход был. Но стороны видели его по-разному. Алексей Петрович представлял его себе достаточно ясно: «…Я только усмирю мошенников дагестанских, которых приязненная Персия возбуждает против нас деньгами, а там все будет покойно! Правда, что многочисленны народы, но быть не может у них единодушия и более сильны они в мнении. Здесь все думают, что они ужасны и привыкли видеть их таковыми, ибо в прежние времена в здешней стороне не происходило ни одной войны или набега, в которых бы они не участвовали всегда в силах. Многолюдство давало им сии выгоды! С того времени вселили они ужас. Я довольно хорошо познакомился со свойствами здешних народов и знаю, что не столько оружием усмирять их удобно (ибо они убегают), как пребыванием между ими войск, чем угрожается их собственность, состоящая в большей части в табунах и скотоводстве, которые требуют обширных и открытых мест. А в сих местах войска наши, хотя и в умеренном числе, но всегда непобедимы. В два года Дагестан повсюду, где есть путь войскам, будет порядочно научен покорности».
И далее снова программная декларация, дающая представление о внутренней задаче Ермолова на Кавказе: «Меня восхищает, что я власть государя могущественнейшего в мире заставлю почитать между народами, которые никакой власти не признавали, и гордость сих буйных чад независимости достойна пасть во времена Александра. Как ханы наши сделаются смиренны и благочестивы в ожидании обуздания их бесчеловечной власти и кажется отдохнут стенящие под их управлением».
Ермолов писал это в начале июня 1819 года, после первого удачного похода в Дагестан, похода, который, однако, стратегической ситуации не изменил. Но дело в том, что, вняв его требованиям, Петербург прислал на Кавказ несколько полков егерей и линейной пехоты.
Бросается в глаза, что в победительных планах Ермолова отсутствуют чеченцы, еще недавно постоянно проклинаемые.
Алексей Петрович был уверен, что он нашел радикальное средство к их усмирению.
6 февраля 1819 года полковник Николай Васильевич Греков доносил Ермолову: «Благодаря Бога Хан-Кала очищена. Не потеряв ни одного человека, я вырубил такое пространство леса, которое совершенно отворяет вход в землю чеченцев».
Это было начало принципиально новой стратегии. По широким просекам войска могли выйти в глубину чеченской плоскости, где произрастал хлеб и паслись стада. Захватив эти земли и вытеснив чеченцев в горы, посадив их «на пищу святого Антония», можно было, как считал Ермолов, диктовать свои условия.
У горцев был иной взгляд на возможность выхода из тупика. Собственно, сам Алексей Петрович его и обозначил, только не поверил в подобную возможность. Выходом этим было объединение горских народов, координация действий против завоевателей.
Ермолов был прав в том смысле, что это был чрезвычайно сложный для горцев процесс. Со времени восстания шейха Мансура в середине 1780-х годов ничего подобного не происходило. Но ермоловская политика военно-экономической блокады, удушения горцев голодом, вынуждала их стремиться именно к такому выходу.
Не прошло и десяти лет, как Кавказский корпус оказался лицом к лицу с консолидированными силами Чечни и Дагестана во главе с имамами — духовными и военными вождями…
В 1855 году подполковник князь Михаил Борисович Лобанов-Ростовский, воевавший на Кавказе, декларировал в специальной записке: «Во времена Ермолова Чечня не имела той важности, которую она приобрела после. Единовластия в ней не существовало, фанатизма религиозного в ней не было. То и другое было зажжено теснейшим сближением чеченцев с русским начальством. <…> Первое начало зла было положено оставлением естественных линий — Терека и Кубани — против горцев и вмешательством местной власти во внутренние дела народов. Эту политику начал Ермолов. Остальное было — неизбежная жатва первого кинутого семени. <…> Придвинувшись на Сунжу, в сердце тогда обитаемой Чечни, Ермолов обрек на враждебные столкновения, повторяемые ежедневно, военное начальство и чеченцев. Двадцать лет не прошло, как все положенное влияние было разбито и дела в Чечне дошли до самого худшего состояния!»[71]
Что двигало Алексеем Петровичем, когда он ставил перед собой столь жестокие задачи, исключавшие возможность любого компромисса?
Ермолов был не только человеком «необъятного честолюбия», но, воспитанный в опьяняющем имперском климате екатерининской эпохи, он был и человеком миссии, что неразрывно с имперским сознанием. Ермолов был человек империи, судьбу которой он, быть может подсознательно, подменял собственной судьбой…
Ермолов видел свою миссию в том, чтобы фундаментально изменить горский мир — доселе независимый, внедрить в него тот порядок, который он считал образцом высокой целесообразности, культурно-государственную систему Российской империи.
Ермолова «восхищает» именно то, что он первым смирит «гордость сих буйных чад независимости». Его воистину цезарианская решимость идти до конца, ломая сопротивление противника — физическое и психологическое, — налицо.
Дело в общем самоощущении Алексея Петровича. Он не просто один из русских генералов, выполняющих ответственное поручение императора. Он — деятель, погруженный в мощную историческую толщу, наследник великих завоевателей. И если путь Александра Македонского, разрушителя Персидской державы, был ему — во всяком случае на время — заказан, то в дебрях Чечни его сопровождала тень Цезаря.
Иногда он удивительным образом проговаривался, возможно, сам не сознавая до конца смысла этих проговорок. Так, он просит императора разрешить карабахскому хану выделить обширные поместья Мадатову, как наследнику карабахских аристократов и владетелей. И пишет Закревскому в июне 1819 года: «Права его (Мадатова. —
Это кажется иронией. Но дело в том, что Ермолов был уверен в правах Мадатова и настаивал на этом… И вряд ли случайно проконсул Кавказа вспомнил именно Римскую империю. И вряд ли случайно он называет свои войска римскими легионами.
«Не браните ли вы меня за римские мои приказы?» — запрашивает он Закревского.
6 января он писал Давыдову, посылая ему один из своих приказов: «Приказ возьми у Раевского, свидетеля жизни нашей и действий легионов римских».
И в этом же письме: «Боюсь, чтобы не явилось много Язонов, смотря на мое счастие. Здесь золота уже ни золотника давно не находят».
Эта отсылка к мифу об аргонавтах очень значима. Алексей Петрович ничего не писал зря. Он помнил, что овладение золотым руном на кавказских берегах не принесло победителям счастья. И его счастье — его победы — иллюзорно.
Но характерно, что свои потайные мысли зашифровывает он античными реминисценциями.
И уж совсем не случайно недоброжелатели Ермолова в Петербурге саркастически называли его Цезарем.
Здесь, на Кавказе, поднявшись на такую высоту, он отнюдь не забывал свою молодость, когда Античность и стала важнейшей частью его мира.
В апреле 1818 года, еще до выступления на Сунжу, он писал Закревскому: «Если Самойлову, который у меня, не мешает чин подпоручика, то сделай его адъютантом ко мне. <…> Мне бы не хотелось сего прекрасного молодого человека отлучать от себя, и его мать того желает. <…> Я был некогда облагодетельствован отцом его и был его адъютантом; мне приятно было бы, в свою очередь, быть полезным его сыну».
С того времени, когда генерал-прокурор Самойлов благодетельствовал юного Ермолова, прошло без малого четверть века.
А с костромского сидения, когда он изучил латынь и переводил «Галльскую войну», — 20 лет.
Но прошлое оставалось живым и ярким для проконсула Кавказа.
В Кавказском корпусе воевали самые неожиданные персонажи. В частности, в 1819 году в прославленный Нижегородский драгунский полк был зачислен майором Хуан Ван-Гален, испанский аристократ, офицер и мятежник, бежавший из тюрьмы инквизиции. Через год он был выслан из России, когда император Александр узнал о его инсургентском прошлом. Позже он командовал восставшими против голландского короля бельгийцами уже в чине генерала, принимал деятельное участие в гражданских войнах в родной Испании.
Но за те месяцы, что он провел на Кавказе, он вызвал симпатию Ермолова — как храбрый кавалерийский офицер и человек глубокой европейской культуры. Соответственно, ему удалось близко наблюдать Алексея Петровича, и он рассказал много любопытного в своих мемуарах[72].
Ермолов произвел на аристократа-инсургента, немало уже повидавшего незаурядных людей, можно сказать, сокрушительное впечатление.
Этот совершенно свежий взгляд человека, незамутненный знанием о репутации Алексея Петровича и его прошлом, столь интересен для нас, что стоит предложить читателю основной корпус свидетельств Ван-Галена о Ермолове.
«На небольшом расстоянии от лагеря оба полка сделали привал в ожидании распоряжений от Ермолова. Неожиданно вместо адъютанта явился сам Ермолов, причем пеший и без всякой помпы. Едва солдаты заметили его на ближайшей возвышенности, как тотчас имя Алексея Петровича с неподдельным восхищением стало передаваться из шеренги в шеренгу, и вскоре колонны были оповещены о приближении этого великого человека. У нас в Европе нет такого обыкновения и нет слов, которые способны были бы передать оценку воинских достоинств главнокомандующего, какая выражается русскими солдатами, когда они называют его крестильными именами без упоминания фамилии. <…> Всем новоприбывшим офицерам было приказано на следующий день в шесть утра представиться главнокомандующему. Они были введены в кибитку Ермолова графом Николаем Самойловым, одним из четырех адъютантов генерала. Тот обнял знакомых офицеров, служивших под его началом в кампаниях 1812 и 1813 года. После чего долго беседовал с остальными офицерами. <…> Генерал проводил параллель между широкомасштабными военными действиями в Германии и войной в горах, где более необходимо обладать инстинктом, чем полководческими талантами, а в завершение порекомендовал им практически изучить такие различные методы ведения войны, как метод Фридриха и метод (тут он бросил взгляд на Ван-Галена) Мины (записки испанца написаны от третьего лица. —
Понятно, что Ермолову хотелось внушить офицерам с европейским боевым опытом принципиальную разницу между классическими методами ведения войны — отсюда и Фридрих Великий с его жестко отрегулированной системой ведения боя и генерал Франсиско Эспос-и-Мина, один из вождей испанских партизан в войне против Наполеона. Методы борьбы испанских герильясов давали представление о методах герильясов кавказских. Ермолову важно было предостеречь новоприбывших офицеров от следования шаблонам европейской войны.
В ермоловском мифе далеко не последнюю роль, как мы знаем, играла его внешность, особость которой Алексей Петрович максимально использовал. И Ван-Гален восхищенно подтверждает впечатление от этого титанического облика:
«Ермолов роста был высокого, сложения геркулесовского и чрезвычайно пропорционального, могучей комплекции: внешность имел благородную; черты лица его были не грубы, а само оно было исполнено достоинства и энергии; когда же он устремлял на кого-либо живой и проницательный взор, в нем читалась безукоризненная душа и возвышенная натура. Никто, учитывая его положение, не был менее склонен блистать заученными фразами: поистине мало кто нуждался в этом менее, чем Ермолов».
Для человека, впервые увидевшего Ермолова, человека отнюдь не глупого и не наивного, как уже говорилось, не знавшего репутации Алексея Петровича, для этого человека «безукоризненная душа и возвышенная натура» Ермолова оказывались вне сомнения. И свидетельствует это не о лицемерии и талантливом притворстве нашего героя, а о том, что натура его была бесконечно сложна и высокие душевные достоинства удивительным образом смешивались в нем с качествами совершенно иными.
Можно с вескими основаниями предположить, что эта роковая широта была мучительна и для самого Ермолова, когда «возвышенность натуры» шевалье сталкивалась с необходимостью действовать по методе патера Грубера… Отсюда странная для подобного человека рефлексия и самоуничижение.
Однако на отношение к горцам и персам эта рефлексия отнюдь не распространялась. Чеченцы, лезгины и персы существовали в мире, закрытом для «возвышенной натуры» и «безукоризненной души», равно как для «премягких чувств», растрогавших Грибоедова.
«Неприхотливость Ермолова была поистине спартанской. Несмотря на свой рост и могучее сложение, он никогда не пил крепких напитков и даже вина, разве что разбавленное, и то крайне редко; из различных поданных блюд едва ли отведал два; ел мало и торопливо, по большей части холодные закуски. По ходу разговора генерал много раз обращался к Ван-Галену, расспрашивая его о путешествии, только что завершенном, и утверждая, что Ван-Гален, без сомнения, первый испанец, посетивший Кавказ; естественно, разговор остановился на испанских событиях. „Господин майор, — иронически заметил Ермолов, — инквизиция в вашей стране всегда выступает с большой важностью, а вы, мне кажется, несетесь, очертя голову, так где же ей за вами угнаться <…>“.
Время отдыха Ермолов обычно проводил в занятиях, не требующих большой затраты сил. В странах, где столь часты случаи вероломства и убийств, он тем не менее не страшился выходить за пределы форпостов один, в сопровождении одного лишь проводника — весьма опытного в своем деле местного уроженца, а тот, как всякий черкес, никогда не расставался со своим смертоносным кинжалом. Ван-Гален, для которого все сие было внове, немало дивился такому поведению генерала, не скрывая своего удивления от его адъютантов, но те его уверили, что генерал не опасается предательства, поскольку уверен в себе и в том, что горцы его уважают; с другой стороны, генерал убежден, что, если он изменит свой образ действий, он незамедлительно потеряет свой авторитет среди непокорных народов».
Этот пассаж подтверждает самоуверенные утверждения Алексея Петровича относительно подавляющего воздействия самой его личности на горцев. Но при этом надо помнить, что ермоловский отряд, к которому и прибыл Ван-Гален, стоял в это время в окрестностях богатого и мирного аула Эндери (Андреевского). Жители аула меньше всего были заинтересованы, чтобы генерала убили на их территории. Это с неизбежностью повлекло бы уничтожение аула вместе с населением. Ермолов, разумеется, учитывал эти обстоятельства.
«Молодые адъютанты Ермолова принадлежат к лучшим семействам империи. Он обращается с ними отечески, воспитывает их своими советами и увещаниями: он держится в их обществе с братским прямодушием, в редкие минуты отдыха позволяя им любые развлечения, ограничивая их разве в игре или пьянстве; сии страсти порабощают поляков и русских еще в большей мере, нежели американцев. У Ермолова не было личного секретаря, он привык обходиться без оного; он сам составлял в своем уединенном кабинете большую часть деловых бумаг: тяжкий труд для одного человека, и нужно иметь очень хорошую голову, чтобы управлять областью, равной по своей протяженности нашему полуострову, включая Португалию, да еще, если управление ею, и особливо Грузией, сопряжено в настоящее время с препятствиями, вызванными жесточайшей войной, конца коей не предвидится».
Записки Ван-Галена «Два года в России» были впервые изданы в 1826 году и, стало быть, написаны еще во время проконсульства Ермолова. Но слова о том, что конца войне на Кавказе не предвидится, делают честь проницательности мемуариста и, возможно, отражают представления ермоловского окружения.
«Вечером, когда удалялось небольшое общество, образующее его семейный круг, как он его называл, Ермолов предавался различным трудам: либо завершал неоконченные дневные дела, либо читал — занятие, страстно им любимое с младых ногтей, из коего он, благодаря своей отличной памяти, извлекал немало пользы для себя. И, поскольку на часы он не смотрел, то выпускал из рук перо или откладывал книгу лишь тогда, когда его начинало клонить ко сну».
Сведения, сообщаемые Ван-Галеном относительно приватных занятий Ермолова, совершенно точны и ценны. Перо было важнейшим орудием Алексея Петровича в ночные часы — он писал огромное количество писем, помимо официальных документов, которыми он скорее всего занимался во время, так сказать, служебное, и что особенно существенно, он создавал в это время свои воспоминания о войнах с Наполеоном и вообще о докавказском периоде своей жизни. В то же время он вел дневник, который лег в основу его кавказских записок.
Непреодолимая любовь к фиксации действительности на бумаге, заставившая Ермолова исписать за свою жизнь тысячи страниц, тоже роднила его с Цезарем, который среди войн и гражданских смут нашел время для описания своих деяний. Разумеется, и тем и другим руководила не просто страсть к писательству. Им было необходимо оставить личные свидетельства, чтобы современники и потомки увидели реальность их глазами и по достоинству оценили сделанное ими.
Ван-Гален: «Немногие русские генералы, за исключением Суворова и, разумеется, Петра Великого, обладали в столь высокой степени прирожденным даром пробуждать к себе любовь у солдат. И впрямь мало кто в России так заботился о благоденствии своих подчиненных, как Ермолов, и так был скуп, когда дело касалось пролития их крови. „Мюрат, — говорил он, — своими шутовскими самонадеянными эскападами погубил больше французов, чем смогла бы положить их наша картечь“.
Вера войск в Алексея Петровича, как все называли его, была столь велика, что, когда он принимал командование какой-либо операцией, ни у кого не возникало сомнения в ее успешном исходе».
Позже, однако, Ван-Галену пришлось услышать отзыв о Ермолове, который его несколько смутил. Разговор произошел в иезуитской миссии в Моздоке. Возглавлявший миссию отец Энрике, надеясь найти сочувствие в католике-испанце, спросил его:
«— Как вам показался Ермолов?
Услышав краткий и неопределенный ответ, он заметил:
— Уж слишком вы простодушны, друг мой, из ваших слов я просто не узнаю хамелеона, о коем идет речь.
И святой отец привел различные случаи, имевшие место между Александром и знаменитым генералом, но мы о них умолчим, не будучи достаточно осведомлены в сем вопросе. Напоследок он сказал, что Александр счел разумным удалить генерала от своей особы, сделав его главнокомандующим над войсками, состоящими из отчаянных голов, для ведения войны против дикарей, дабы он окончил свои дни среди всевозможных бед и напастей».
Стало быть, версия, о которой мы говорили, — почетное назначение как изгнание из Петербурга, имела весьма широкое распространение, если о ней толковал иезуит в Моздоке. Возможно, это был отзвук разговоров между офицерами. Хотя тень опалы, лежащая на мощной личности Ермолова, могла только увеличить его популярность.
И дальше иезуит попытался открыть глаза «простодушному» Ван-Галену, сказав: «Ведь он всею своею политикой выказывает ненависть к любому иноверцу: он терпеть не может поляков и питает отвращение к священнослужителям любого вероисповедания, кроме собственного».
Ван-Гален понял, что речь идет об отношении Ермолова к католицизму и иезуитам, и не стал поддерживать этот разговор.
Обаяние Алексея Петровича, его ум, образованность и направление мысли пересилили обвинения иезуита. Тем более что Ван-Галену были известны некоторые факты, объясняющие поведение Ермолова.
Бывая у Ермолова в Тифлисе перед походом на Казикумух, о котором у нас пойдет речь, Ван-Гален стал участником и свидетелем любопытной сцены. Миссионер-капуцин отец Фелипе из католического монастыря просил Ван-Галена проводить его к Ермолову. «Ван-Гален <…> сообщил о его просьбе Ермолову во время обеда; тот усмехнулся, но не возразил и согласно кивнул. На другой день в условленное время Ван-Гален зашел в монастырь за отцом Фелипе и проводил его к Ермолову. Один из офицеров (разумеется, в полной форме) проводил капуцина в кабинет Ермолова; они застали его полуодетым, в окружении многочисленных офицеров в полной парадной форме, что представляло весьма забавный контраст. Генерал встретил его со своей обычной благожелательностью, беседовал с ним то по-итальянски, то на латыни, но все о каких-то незначительных предметах, и, прежде чем облачиться в мундир, повернулся в одной рубашке к святому отцу, одну руку положил ему на плечо, другою рукой провел по его груди и бороде, как бы намереваясь представить
Персидская тема не раз появляется в записках Ван-Галена. Так он тогда же в Тифлисе присутствовал при аудиенции, которую Ермолов дал эмиссарам Аббас-мирзы, в очередной раз предъявивших претензии на спорные территории.
«Взгляда, который бросил на них Ермолов, было бы достаточно, чтобы всякий, но только не эти безмерно коварные люди, тут же прервал свою льстивую речь. Окруженный офицерами Ермолов подозвал к себе своего толмача и приказал ему громко переводить эмиссарам, но не на персидский, а на грузинский (что чрезвычайно польстило толпе любопытствующих, которые собрались вокруг, не упуская ни единого слова из речи персов) следующее обращение:
— Царствованию варварства приходит конец по всему азиатскому горизонту, который проясняется, начиная с Кавказа, и Провидение предназначило России принести всем народам вплоть до границ Армении мир, процветание и просвещение, однако враги цивилизации пытаются вновь отнять у них эти блага. Я сам, собственными устами объявил персидскому двору о миролюбивых устремлениях моего государя Александра, но персы своими непрестанными тайными происками заставили увянуть пальмовую ветвь, которую я им принес; коль они не отваживаются открыто объявить войну, то пусть расскажут своему повелителю шаху, что русские орлы проникли дальше, чем кто-либо с древних времен; два месяца назад Персия имела возможность увидеть, как Россия отвечает на происки азиатского варварства, и убедиться, что генералы императора Александра твердой рукой карают дерзких и вероломных.
В то время как грузины, исполненные горделивой радости, слушали толмача, не отводя сияющих взоров от энергического лица генерала, которому они беспредельно верили, персы продолжали отвешивать церемонные поклоны и не могли дождаться часа, когда можно будет бежать от подобного позора».
В этом фрагменте есть несколько принципиальных вещей. Во-первых, то, что речь Ермолова переводится на грузинский и, соответственно, предназначена грузинам, которых генерал приглашает в союзники против их давних мучителей персов.
Во-вторых, фраза о русских орлах и древних временах. Это сочетание неизбежно приводит на память римские орлы — знамена легионов. Римские легионы доходили до берегов Каспия, но в неприступные горы Дагестана они не проникали. А легионы Ермолова проникли.
В-третьих, Ермолов фактически дезавуирует свои договоренности с персами в 1817 году — «пальмовая ветвь увяла». Это говорится в 1820 году, сразу после безжалостного подавления мятежа в Имеретии, о чем проконсул напоминает персам и грузинам.
И главное — проконсул Кавказа декларирует смысл своей миссии: «Провидение предназначило России принести всем народам <…> мир, процветание и просвещение».
И произносится эта речь в канун похода на Казикумыкское ханство, владетель которого теснейшим образом связан с Персией.
В записках Ван-Галена, который и сам был человеком сильным и ярким, сконцентрированы ценные для нас сведения — быт, личность, идеология Ермолова. И мы можем сказать искреннее спасибо генералу Бетанкуру, испанскому военному инженеру на русской службе, занимавшему пост директора Главного управления путей сообщения, и флигель-адъютанту князю Андрею Борисовичу Голицыну за то, что они убедили Александра принять неизвестно откуда взявшегося испанского офицера на службу и определить его к Ермолову.
Иллюзия, владевшая Ермоловым, что несколько жестоких и решительных ударов заставят горцев смириться, доказав им «право сильного», постепенно рассеивалась. Военные действия приходилось вести постоянно.
Напор Ермолова привел к результату прямо противоположному тому, на который он рассчитывал. Проконсул в своем презрении к «азиятам» не понял особенностей их психологии. То, что Алексею Петровичу казалось естественным: принципиальное изменение привычного образа жизни и беспрекословное подчинение русскому начальству, горцам представлялось катастрофой и крушением того мира, в котором они только и чувствовали себя людьми, достойными отцов и дедов.
Очевидно, цивилизационный потенциал Римской империи превосходил потенциал империи Российской. Римляне делали покорившиеся народы своими союзниками. «Союзники» — это был юридический термин.
Союзники Рима, принимая на себя определенные обязательства, постепенно вливались в «римский мир».
Горские племена под союзничеством имели в виду нечто иное — взаимный нейтралитет без всякого посягновения на их традиционный уклад.
Одним из трудно разрешимых противоречий оставалась набеговая традиция. Для искоренения ее требовалась добрая воля обеих сторон. И главное — длительное время для адаптации горской молодежи к новым представлениям о самореализации.
Ермолов торопился. Он писал Воронцову: «Образование народов принадлежит векам, не жизни человека», но не намерен был положить жизнь на перевоспитание горских народов. О веках речи не было. Ему нужны были быстрые и очевидные результаты. И если в апреле 1817 года он убеждал Закревского, что «не оружием намерен наказывать, а под покровительством оного наказывать деньгами», то с осени 1818 года именно оружие и стало главным способом наказания и перевоспитания горцев.
Военные действия шли на всем пространстве Северо-Восточного Кавказа. Сам Ермолов разгромил акушинцев — одно из самых сильных вольных горских обществ Дагестана, чьи воины пришли на помощь ополчению аварского хана. Последствия побед были традиционны: «Селение Большой Джангутай имело до 600 дворов, и в нем был дом брата Аварского хана довольно обширный.
Все приказано истребить, кроме одной небольшой части селения, которую оставили в пользу пришедшим просить пощады жителей, которые, всего лишившись, должны были проводить зиму без пристанища. От них узнали мы многие подробности и что Гассан-Хан имел немало войска, ибо в помощь к нему приходили живущие на Койсу народы».
Начиналась консолидация сил сопротивления завоевателям. Пока это был бессистемный процесс, но Ермолов вполне оценил опасность тенденции.
«На другой день послал я отряд разорить селение Малый Джангутай 200 дворов, но дальше не пошел, ибо выпал глубокий снег и начались довольно сильные морозы. Старшины многих деревень пришли просить помилования, и мне приличествовало даровать пощаду».
Алексей Петрович еще надеялся, что акции устрашения приведут к тотальной покорности…
Поскольку мы не пишем истории войны на Кавказе — у нас другая задача, то нет необходимости придерживаться строгой хронологичности. Для нас важнее смысловая логика сюжета.
Одной из постоянных забот Алексея Петровича после возвращения из Персии и решительного запрета на антиперсидские интриги было доказывать Петербургу свое миролюбие. Каждое свое сколько-нибудь значительное действие он скрепя сердце тщательно обосновывал.
28 июня 1819 года в канун крупной операции, имевшей фундаментальное значение для его общего стратегического плана, Ермолов доносил начальнику Главного штаба генерал-адъютанту князю Волконскому: «Сего июня 22 числа прибыл я на Кавказскую Линию. По сделанному прежде распоряжению приказал я начальнику корпусного штаба генерал-майору Вельяминову войти с отрядом войск в земли Андреевских владельцев и расположиться у селения Андреевского, коего жители прежде чрез депутатов просили о защите их войсками, и потом, внушениями дагестанских народов, поколебались в верности. Теперь мерами кроткими приводятся они в покорность».
Аул Эндери (Андреевское), населенный кумыками, по многолюдности и зажиточности, равно как и по расположению, открывавшему путь вглубь Дагестана, играл в планах Ермолова чрезвычайно важную роль. Базируясь на Эндери, получая от его жителей продовольствие, можно было свободно оперировать на большом пространстве.
Для того чтобы закрепить за собой эту стратегическую позицию, Алексей Петрович решил воздвигнуть над селением большую крепость, батареи которой должны были господствовать над окружающей местностью.
Крепость решено было назвать «Внезапная». Она должна была, помимо сказанного, отсечь земли кумыков от Чечни.
Строительство Внезапной было подготовкой к большому походу в Дагестан. Ермолов в рапорте Волконскому обосновал необходимость этого похода, объединив две наиболее болезненные для него проблемы: происки Аббас-мирзы и возможные измены ханов.
«В Грузии оставался я наблюдать, до какой степени могут успевать происки Шахского сына, Аббас-Мирзы, старающегося возмутить пограничные наши Татарские области. В одной из них, называющейся Шамшадэльскою дистанциею, обнаруживаются некоторые беспокойства, но думаю, кончатся побегом нескольких семейств и важных следствий никаких не будет. Успел я вовремя схватить начальника сей дистанции и отправить его в Россию.
Генерал-лейтенант Мустафа, Хан Ширванский, явные делает измены, сношения его с Аббас-Мирзою беспрерывны, и сей последний чрез него пересылает деньги к изменнику, Аварскому Хану, для возбуждения народов Дагестана.
Они собираются в больших силах сделать нападение на Кубинскую провинцию. Там войск чрезвычайно мало, но не ожидаю ничего важного, разве возмутится самая провинция, где неприятели по единоверию сильную имеют партию.
Впрочем, в жаркое время, не думаю, чтобы горцы решились на какое предприятие, и войска наши, расположенные у селения Андреевского, слишком близки к собственным землям их, чтобы осмелились они удалить все свои силы и идти на Кубу, а с силами малыми ничего не сделают. Но терпеть может владение верного нам Хана Кюринского, против которого озлоблены они за его к нам преданность.
Жалею, что войска, назначенные на укомплектование, прибудут поздно по затруднениям, которые встретил я в приуготовлении для них продовольствия. Я мог бы вскоре рассеять замыслы бунтующего Дагестана и устыдить коварного Аббас-Мирзу в гнусных его происках.
Недавно весьма, под конвоем 200 человек конницы, препроводил он деньги к Хану Ширванскому, который с чиновниками своими отправил их в Дагестан.
Невежество Аббас-Мирзы представляет ему народы Дагестана столько же страшными для России, сколько могут быть таковыми авганцы для Персии, и, с первыми в связи, думает он положить твердую ограду своим пределам со стороны нашей».
Докладывая в Петербург о своих оперативных планах, касающихся чеченцев ли, дагестанцев ли, Ермолов пользовался каждым случаем, чтобы подготовить высшую власть к своим радикальным действиям против ханств, равно как и напоминая о персидской опасности.
1 июля он доносил начальнику Главного штаба, понимая, что его рапорт попадет в руки императора: «К отряду войск, расположенному при селении Андреевском, прибыл я 1 числа июля, и жителей оного, мгновенно возмущенных, нашел покойными; пребывание наше в сем месте наводит страх горским народам, ибо здесь были их все связи, главнейший и почти единственный торг их».
Контроль над Эндери, стало быть, был важным звеном в организации блокады дагестанских мятежников. При этом Ермолов доводит до сведения Петербурга и гуманный аспект пресечения торговых связей горцев, осуществлявшихся через Эндери:
«Недавно еще строгим настоянием моим и усердием определенного здесь старшего владельца, прекращен торг невольниками, которые свозились из гор и дорогою весьма ценою продавались в Константинополь. Большая часть таковых были жители Грузии, похищаемые лезгинами, и немало было солдат наших».
Пресечение работорговли было делом святым. Но любопытно, как сочетались в поведении Алексея Петровича ясное представление о нравственных запретах, делавшее работорговлю отвратительным преступлением, и способы, которыми он старался это преступление наказать и пресечь.
Давыдов — бесспорно, со слов самого Ермолова — свидетельствовал: «Захватив однажды большое количество пленных чеченцев, Ермолов выдал лучших пленниц замуж за имеретян, а прочих продал в горы по рублю серебром. Это навело такой ужас на чеченцев и прочих горцев, что они с того времени лишь изредка выхватывали наших в плен, и то не иначе как по одиночке».
Вырученные деньги Ермолов, естественно, употребил на корпусные нужды.
И далее Алексей Петрович разъясняет смысл строительства крепости над Эндери и очерчивает следующие за этим действия:
«Высочайшее соизволение на учреждение здесь укрепления теперь уже приносит ощутительную пользу, ибо самые владельцы сих земель, мало весьма различествующие от разбойников, и много, по связям с чеченцами и прочими горскими народами, причинявшие доселе нам зла, постигают необходимость оставить ремесло злодеев и покорностию снискивать покровительство. Отнятая свобода делать зло и наказание за преступления, доселе никогда не взыскиваемые, конечно, с первого разу не приобретут нам здешних народов привязанность, но нет сомнения, что весьма скоро уразумеют они пользу в охранении жизни и собственности, которые отъемлет безнаказанно каждый, имеющий силу, и сие легко приучит их к нашей власти. Теперь уже люди, имеющие состояние и по свойствам не наклонные к разбоям, преданы нам совершенно.
Большую весьма получаем мы выгоду, удаляя левый фланг Линии от Терека. Здесь места чрезвычайно здоровые, и мы избавимся той смертности, которую производят низменные берега Терека и непроходимые камыши, их покрывающие.
Акушинский народ, о котором имел я честь доносить прежде, остановился до сего времени делать нападения на Кубинскую нашу провинцию. Но дабы не мог разорить владения верного нам Хана Кюринского, по распоряжению моему, генерал-лейтенант Вельяминов 1-й отправил генерал-майора князя Мадатова в Кубу, где составится отрад из полуторы тысячи человек пехоты, при шести орудиях, и трех сот казаков, при двух конных орудиях, который выступит за реку Самур и предупредит неприятеля, буде обратится он на Кюраг и Чираг. По причине пребывания войск у селения Андреевского и возможности в скором времени вступить в горы, неприятель не решится идти в больших силах, или даже и совсем оставить предприятие.
К отряду генерал-майора князя Мадатова присоединена будет татарская конница от Ханств Ширванского, Шекинского и Карабагского, которую потребовал я с тем намерением, чтобы иметь в руках залоги в верности Ханств, ибо Мустафа, Хан Ширванский, делает явные измены, и на верность Хана Карабагского никак положиться невозможно. В нынешнем году спокойствие в Ханствах для успеха дел наших необходимо, и имею надежду, что все произойдет по желанию.
Прозорливым попечением Государя Императора будет дано спокойствие странам здешним прекраснейшим, и умножение войск, не нанося бедствий народам, но являя власть в виде достойном, научит их для собственного блага покорствовать оной».
Внезапная возводилась быстро и основательно.
Ермолов реализовал свой план постепенного расчленения кавказского пространства системой укреплений для жесткого контроля за каждым сектором.
Цылов вспоминал: «Стены крепости были возведены из сырого кирпича, руками солдат; они же приготовляли и самый кирпич из глины, смешанной с соломенною трухою или, как туземцы называют, с саманом. Вторично я был бессменным ординарцем при Алексее Петровиче, и мне же было поручено построение этой новой крепости под главным распоряжением обер-квартирмейстера подполковника Верховского. Крепость Внезапная строилась также при беспрерывных набегах акушинцев, упорно тревоживших работы. Алексей Петрович мало на кого надеялся; где только можно он лично и зорко следил за точным исполнением его приказаний не только офицерами, но и рядовыми; в походах и в сражениях постоянно был хладнокровен и шутлив; в своих распоряжениях весьма осторожен. Эти его свойства, а также опытность, внушали к нему доверие всех его подчиненных, что каждый был уверен, что не встретит неприятеля, который бы мог воспользоваться оплошностью отряда, идущего на бой. Он весьма часто припоминал всем поговорку: „Осторожность есть мать премудрости“, — и прибавлял, что эту прекрасную поговорку он запомнил еще из прописи, по которой учился писать».
Нельзя сказать, что молодой Ермолов исповедовал эту мудрость, но, безусловно, первые же годы на Кавказе сделали «пропись» актуальной. Настолько актуальной, что он решил следовать ей, когда в 1826 году началась наконец война с Персией, и эта осторожность, как мы увидим, была поставлена ему в вину и сыграла роковую роль в его судьбе.
Создание системы крепостей было настойчивой идеей Алексея Петровича с самого начала. «Настаивай и подкрепи мнением своим представление мое об устроении в здешнем краю крепостей и сформирование для них постоянной обороны», — писал он Закревскому.
Густая система крепостей и других укреплений необходима была для осуществления блокады.
Горцы прекрасно понимали значение крепостей. По свидетельству того же Цылова, 18 августа 1819 года акушинцы и их союзники в числе десяти тысяч воинов начали военные действия против строителей крепости и охранявших ее войск, но были отбиты.
Это стало непосредственным поводом для карательной экспедиции.
Поход был трудный. Цылов вспоминал: «Главнокомандующий с отрядом выступил против них из крепости Внезапной и настиг горцев при селении Горячеводском. Истребив их жилища, он вторгнулся во владения коварного врага нашего Сурхай-хана, а далее, направя отряд к селению Лаваши, шел путем почти непроходимым; приходилось употреблять неимоверные усилия для прорубки дремучих лесов. Силою воли и благоразумия Алексей Петрович достиг до Лаваши, где горцы, сосредоточенные в больших силах и возбужденные одним из предводителей, Амалат-беком, решились защищаться до последней капли крови, под прикрытием возведенных ими огромных завалов. 18 декабря отряд под личным предводительством Алексея Петровича без всякого действия должен был стоять на одном месте до самого полудня, так как в это время был столь сильный в горах туман, что в двух или в трех шагах нельзя было различить предметов. Авангард наш набрел неожиданно на один неприятельский завал и завладел им без выстрела, потому что испуганный неприятель, приняв авангард за штурмующие колонны и убоясь превосходства сил, ретировался. К двум часам прояснилось: горцы, увидя русских, близко подошедших, открыли такой жестокий огонь, что Алексей Петрович, не откладывая ни минуты, повелел штурм завалов. Пук знаков отличия военного ордена, сжатых в руке его, был самою блистательною речью. Войско наше быстро двинулось вперед, штыки склонились грозно стальным гребнем, и толпы горцев обратились вспять, как вихрем гонимое стадо».
Цылов здесь явно совместил две операции.
В конце августа Ермолов, выступив из Внезапной, разгромил ополчение хана Аварского на реке Сулак и, как он рапортовал в Петербург: «сделал марш в горы, пользуясь общим ужасом и бегством и местами почти непроходимыми, так что с трудом мог провести два легких орудия; истребил несколько селений, весь на полях хлеб и ни одного не встретил на пути человека. До такой степени рассеялся неприятель».
Декабрьская операция, о которой вспоминает Цылов, — это был второй поход на Акушу, о котором речь впереди.
Ермолов действительно не знал поражений и нес минимальные при этом потери. Он объясняет это главным образом наличием у него артиллерии, которая производила на горцев сокрушительное впечатление и которой они еще не научились ничего противопоставлять. Он не втягивался в вязкие лесные бои, где горцы, великолепные стрелки, имели все преимущества. Его отряды предварительно расчищали необходимое пространство.
Значительную роль играло конечно же его магнетическое влияние на солдат.
Надо иметь в виду, что «старых кавказцев», тех классических кавказских ветеранов, с которыми Розен, Воронцов и Барятинский совершали свои подвиги, еще не существовало. Ермолов застал на Кавказе и в Грузии некоторое количество солдат, служивших при его предшественниках. Но это была не самая лучшая школа. Это были храбрые солдаты с малым опытом горной и лесной войны.
Грозные кавказские полки, имена которых мы встречаем в более поздних воспоминаниях — Апшеронский, Ширванский, Куринский, Тенгинский, Навагинский, — прибыли на Кавказ в 1819 году и закалялись, обучались уже в ермоловское время.
Было и еще одно обстоятельство: горцы еще не освоили — и долго не освоят — эффективные способы войны с регулярными войсками. Собираясь большими массами, рассчитывая на свою безоглядную доблесть и искусство ближнего боя, они пытались противостоять русским в открытых столкновениях.
Судя по описаниям боевых ситуаций, Ермолов использовал в этих столкновениях те же методы, какими пользовался в европейской войне — с поправкой на особенности местности: старался избегать лобовых атак и применял глубокие обходы и удары по противнику с тыла. Ну и громил его артиллерией.
Что же касается стратегических установок, то недаром его молодость прошла в войнах с Наполеоном. Он многое усвоил. Наполеоновский принцип стремительных ударов по разбросанным в пространстве войскам противника, с тем чтобы не дать ему сконцентрировать свои силы, прославивший молодого Бонапарта в Итальянском походе, был в высшей степени эффективен на Кавказе.
До эпохи Шамиля горские народы не выработали механизма быстрой концентрации сил на нужных направлениях.
«Наполеоновским» принципом Ермолов пользовался сам и приучал к нему своих подчиненных. Готовясь к походу в Акушу в конце 1819 года, он давал наставления Мадатову, действовавшему автономно.
Инструкция Мадатову написана была на французском языке, который он понимал, но говорил на нем плохо. Это был особый знак уважения, который должен был польстить самолюбивому Мадатову с его «светскими» претензиями:
«Господин генерал-майор князь Мадатов!
Гнусная измена уцмия в то время, когда вы заботились единственно о благе его семейства и о средствах возвратить ему милость правительства, поставила вас в необходимость прибегнуть к оружию, и я вполне доволен как мерами, благоразумно вами принятыми, так и исполнением оных, доказывающих деятельность и мужество, вас отличающие. Многочисленные народы, против коих вы должны действовать, не могут быть иначе предупреждены в своих предприятиях, как быстротою, вами так успешно приводимою в действие; возвращаясь всегда в ваш укрепленный лагерь, вы лишаете их способов нападать на вас и оставляете их в неизвестности о ваших намерениях».
Письма-предписания Ермолова Мадатову содержат весьма значимые сведения.
Если Греков продолжал давление на чеченцев на севере, опираясь на Грозную, а Ермолов со своим отрядом, базируясь на крепость Внезапную, нависал над Дагестаном с северо-востока, готовясь обрушиться на Акушу, то Мадатов оперировал на юге Дагестана в мятежной области Табасарань, граничащей с владениями каракайдакского уцмия.
28 августа Ермолов писал Закревскому из Внезапной: «Мадатов наш командует пречудесным войском, с ним собранные с ханства татары и весьма мало войск наших».
Особенность отряда Мадатова заключалась именно в присутствии местных формирований — конницы Кюринского ханства, с Табасаранью граничащего, чей владетель Аслан-хан демонстрировал полную лояльность русским. Ермолов придавал большое значение участию в боевых действиях на стороне России кавказцев. Мадатов в этом отношении был идеальным командиром — карабахский уроженец, знавший местные нравы и владевший местными языками.
Ермолов во что бы то ни стало хотел противопоставить одни кавказские народы другим. Так, во время похода на Акушу он включил в состав своего отряда воинов главного союзника русских в Дагестане шамхала Тарковского. «Со мною находился шамхал, — писал он в записках, — которому поручил я начальство собранных подвластных. Не имел я ни малейшей надобности в сей сволочи, но потому приказал набрать оную, чтобы возродить за то вражду к ним акушинцев и посеять раздор, полезный на предбудущее время».
Готовясь к походу в Дагестан и считая этот поход решающим, Алексей Петрович направил Мадатову предписание, которое свидетельствует о появившейся в отношении Ермолова к покоряемым народам гибкости:
«Господину генерал-майору и кавалеру князю Мадатову.
Государю императору донес я о действии вашем в Табасарани, отдавая должное уважение благоразумным распоряжениям вашего сиятельства и быстрому исполнению оных.
Я не упустил поставить на вид доверенность, снисканную вами у подчиненных вам мусульман, которые столь храбро сражаются под вашею командой. <…> Из последних действий ваших сужу я, что должен быть большой страх, между врагами нашими, ибо и добыча досталась войскам богатая, и что всего более, захвачены женщины и дети. Здесь редки весьма подобные случаи и потому должны производить полезные впечатления и послужить к убеждению их уклоняться от беспокойств и искать покровительства нашего. Потеря имущества не легко и не скоро вознаграждается. Одобряю весьма, что возвратили захваченных женщин; не говорю ничего и против освобождения пленных, ибо полезно вразумить, что русские великодушно даруют и самою жизнь, когда не делают упрямой и безрассудной защиты. <…> В рассуждении пленных, предлагаю вашему сиятельству к соблюдению впредь, следующее замечание: внушить войскам, чтобы не защищающегося, или паче, бросающего оружие, щадить непременно; при малейшей защите истреблять необходимо и, тем пользуясь, не обременять себя излишним и тягостным числом пленных».
Письмо, датированное 11 сентября 1819 года, не столько предписание, сколько одобрение уже принятых решений. Мадатов, знающий местные нравы, не отягощенный комплексом Цезаря, понимал, что одним устрашением должного результата не добьется. И он, командуя местными ополчениями против других местных ополчений, попытался примирить враждующие стороны и выступить в качестве третьей — высшей — силы.
Это было плодотворно, и Ермолов это понял.
Он уже осознавал, что его уверенность в замирении Кавказа серией сокрушительных побед над мятежниками не безусловна. А для эффективного осуществления военно-экономической блокады наиболее опасных народов необходима лояльность их соседей. Блокировать весь Кавказ было невозможно.
Гуманные жесты Мадатова могли привлечь на сторону России жителей ханств, от большинства владетелей которых Алексей Петрович твердо решил избавиться.
Ермолов готовился к решающему удару по акушинцам. В ноябре он вызвал из Табасарани, уже усмиренной, Мадатова с его татарской конницей и начал предварительные переговоры с противником.
«Акушинцам отправил я бумагу, — вспоминал он в записках, — коей требовал, чтобы они дали присягу на верность подданства императору, прислали лучших фамилий аманатов, не давали у себя убежища неблагонамеренным и беглецам, возвратили имеющихся у них русских пленных».
Это были те же самые стандартные требования, которые он предъявлял и чеченцам и на которые акушинцы, защищенные горами, еще менее чеченцев склонны были обращать внимание.
«Обещал, если не согласятся, наказать оружием и взять главный город, Акуша называемый. Жителям провинции Мехтулли (лежавшей перед землями акушинцев. —
Последняя угроза — ссылка в Россию — была одной из самых действенных. Подобная мера уже практиковалась.
28 августа 1819 года Алексей Петрович запрашивал Закревского: «Спроси князя Петра Михайловича (Волконского. —
Очевидно, Ермолов и в самом деле не сознавал, какой психологической катастрофой является для горца любого социального статуса перемещение из традиционной среды в незнакомый, непонятный, враждебный и страшный мир — солдатом ли, унтер-офицером ли — совершенно неважно… Подобная практика не могла в обозримое время сломать традиционные представления горца, но гарантированно могла вызвать еще большее озлобление и ненависть.
Причем Алексей Петрович, стоя на страже законности, не считает это наказанием, но неким способом «смирения».
Его возмущение произвольными убийствами на первый взгляд противоречит его собственному представлению о своем праве распоряжаться жизнями горцев — в том числе женщин и детей. Но он приказывал убивать во имя рациональной и, по его убеждению, законной цели. Он, таким образом, рассчитывал установить прочный мир и привести горские народы к благоденствию под милосердной властью российского императора. Необузданный деспотизм и кровавое самодурство ханов и более мелких владетелей были ему отвратительны.
Он был уверен, что во имя будущего мира на Кавказе он должен был демонстрировать свою несгибаемость.
Греков теснил чеченцев. Мадатов усмирил Табасарань. Но Ермолова не покидало ощущение ненадежности ситуации. Аварский хан снова собрал сильное ополчение.
Аварцы напали на шамхала Тарковского, и тот с трудом отбился. Акушинцы захватили земли лояльного русским вольного общества Гамри-Юзен и чрезвычайно затруднили связь основных сил Ермолова с отрядом Мадатова. Хан Казикумыкский вел себя двусмысленно. Равно как и сильный ширванский владетель Мустафа-хан, на которого вначале Ермолов возлагал большие надежды. Уцмий Каракайдакский откровенно перешел на сторону противника.
Имеет смысл поподробнее рассмотреть поход на Акушу, чтобы представить себе типичную ермоловскую операцию.
Поскольку поход был первой операцией такого масштаба, Алексей Петрович подробно описал и военную, и дипломатическую стороны дела. Это в некотором роде «энциклопедия» не только действий, но и представлений Ермолова на первом этапе его Кавказской войны.
Базой для наступления на Акушу выбран был город Тарки, резиденция шамхала. Туда вызван был Мадатов.
Ермолов писал в воспоминаниях: «В селение Шора соединил я все войска, и отряд генерал-майора Мадатова прибыл из Карабудагента. Незадолго перед сим акушинцы в довольно больших силах занимали гору Калантау, через которую лежит лучшая дорога в их владения. Подъем не менее шести верст и в некоторых местах чрезвычайно крутой, затруднял всход на гору; неприятель, с удобностию защищая оный, мог причинить нам чувствительный урон; но мне удалось посредством шамхала внушить акушинцам, что они раздражают русских, занимая землю, принадлежащую Мехтулинской провинции, находящейся под их покровительством. Они оставили гору Калантау, и сие немало облегчило мои предприятия».
Удивительно! Акушинцы — один из наиболее сильных и воинственных дагестанских народов. И они послушно отказываются от выгоднейшей позиции под влиянием более чем сомнительного аргумента. Какая им разница — раздражат они русских или нет, если те идут их завоевывать?
Возможно, акушинцы надеялись договориться с Ермоловым и избежать войны, но скорее всего они рассчитывали завлечь русские войска как можно глубже в горы, где рельеф работал на них.
Ермолов прибег к испытанным средствам: глубоким обходам флангов неприятеля и мощному артиллерийскому обстрелу, психологически подавляющему горцев. Он уже научился пользоваться особенностями горного рельефа, дающего возможность скрытно приближаться к позициям противника. Новым было и значительное участие «татарской конницы» — ополчения шамхала и отрядов, присланных теми ханами, что еще демонстрировали свою лояльность.
«Судя по твердости неприятельской позиции, я решался на довольно значительную потерю, и она, конечно, была бы таковою, если бы отряд генерал-майора князя Мадатова нашел сопротивление при переправе и были заняты трудные места, которые прошел он без выстрела. Но тогда уже встретил его неприятель, когда, воспользовавшись местоположением, мог он развернуть свои силы и уже начинал обходить конечность правого его крыла, после чего вскоре укрепления подверглись действию артиллерии. Сражение вообще продолжалось около двух часов, неприятель не успел употребить четвертой части сил своих, затруднения в переправе на правый берег реки не допустили обратить таковых, которые бы в состоянии были остановить успехи генерал-майора князя Мадатова, коего решительное и весьма быстрое движение было главнейшею причиною его бегства.
Потеря наша, вместе с татарскою конницей, не превзошла пятидесяти человек, что, конечно, не покажется вероятным.
Во весь переход 20 декабря не видали мы неприятеля; посланные в разъезд партии открыли, что жители из всех деревень вывозят в горы свои семейства, угоняют стада. Конница наша взяла несколько пленных, отбила обозы и множество скота. В селениях находили имущество, которое жители спасти не успевали.
Приказано было истреблять селения, и, между прочим, разорен прекраснейший городок до восьмисот домов, Уллу-Айя называемый. Отсюда с такою поспешностью бежали жители, что оставлено несколько грудных ребят.
Разорение нужно было, как памятник наказания гордого и никому доселе не покорствовавшего народа; нужно в наставление прочим народам, на коих одни примеры ужаса удобны наложить обуздание.
Многие старшины деревень пришли просить помилования; не только не тронуты деревни их, ниже не позволено войскам приближаться к оным, дабы не привести в страх жителей. На полях хлеб их, все заведения и стада их остались неприкосновенными.
Великодушная пощада, которой не ожидали, истолковала акушинским народам, что одною покорностью могут снискать свое спасение, и уже многие являлись с уверенностью, что они найдут снисхождение. <…>
Собравшиеся жители и главнейшие из старшин всех селений приведены были к присяге на подданство Императору в великолепной городовой мечети, войска были под ружьем и сделан сто один выстрел из пушек.
Я назначил главным кадием, бывшего в сем звании незадолго прежде и добровольно сложившего оное старика, известного кроткими свойствами и благонамеренностью, и выбор мой был принят акушинцами с удовольствием. От знатнейших фамилий приказал я взять двадцать четыре аманата и назначил им пребывание в Дербенте. Наложена дань ежегодная, совершенно ничтожная, единственно в доказательство их зависимости. Они обязались никого не терпеть у себя из людей, правительству вредных, были признательны за пощаду и видели, что от меня зависело нанести им величайшие бедствия. Мне, при выражениях весьма лестных, поднесена жителями сабля, в знак особенного уважения.
Многим из отличнейших людей, в особенности пяти кадиям, начальствующим в магалах или округах, роздал я приличные подарки; некоторых, потерпевших разорение, наделил скотом, отбитым во множестве».
Приказ, изданный Ермоловым после этой победы, звучал так:
«Января 1-го дня, 1820 г. № 1. В Дагестане.
Труды ваши, храбрые товарищи, усердие к службе, проложили вам путь в середину владений акушинских, народа воинственного, сильнейшего в Дагестане. Страшными явились вы пред лицом неприятеля и многие тысячи не противостали вам, рассеялись и бегством снискали спасение. Область покорена и новые подданные великого нашего государя благодарны за великодушную пощаду. Вижу, храбрые товарищи, что не вам могут предлежать горы неприступные, пути непроходимые. Скажу вам волю императора — и препятствия исчезают пред вами, заслуги ваши смело свидетельствуют пред государем императором, и кто достойней из вас не одарен его милостию?
Командир отдельного Грузинского корпуса генерал Ермолов».
Приказ этот интересен не только обращением к солдатам, не только патетическим своим тоном, но и уверенностью — искренней! — в праве покорения Акуши. «Новые подданные» должны быть благодарны «за великодушную пощаду». Если бы не великодушие завоевателей — они могли быть истреблены.
Один из офицеров, участников Акушинской экспедиции, вспоминал: «Главнокомандующий <…> отдал по корпусе приказ, который привел нас всех в восторг. Мы беспрестанно читали, повторяли этот приказ и вскоре знали его наизусть».
На это Алексей Петрович и рассчитывал.
Воевавший под началом Ермолова офицер Иосиф Дубецкий предложил в воспоминаниях вполне резонное объяснение неудач горцев в этот период: «У кавказских горцев, как и у всех полудиких народов, самосохранение есть душа военной тактики. На сем основании все кавказские племена, не исключая даже лезгин и чеченцев, грозны в нападениях внезапных, страшны в лесах, в ущельях, в скалах, в завалах, одним словом, везде, где можно убивать других и не быть убиту самому. Но чтобы горцы в чистом поле вступивши с хладнокровием в открытый бой с неравными силами, это бывает весьма и весьма редко, и то в затруднительных обстоятельствах. За всем тем это народ удивительной храбрости, а самоотвержение их бывает невероятное. Зато распорядительность в делах большею частию бывает очень дурная, а дух свободы, разрушая дисциплину и единство в действиях, приводит их военные предприятия к результатам безуспешным и нередко разрушительным для них самих».
Акушинцы предпочли изобразить покорность. Насколько она была искренняя, продемонстрировал случай, зафиксированный участником похода офицером Д. Н. Бегичевым и опущенный Ермоловым в его записках:
«После совершенного поражения на реке Мкасе и взятии нами с величайшими усилиями, один за другим, семи укреплений, построенных в ущельях и утесах, все сопротивлявшиеся нам акушинцы разбежались, а мы, продолжая уже беспрепятственно следование наше к городу Акуши, узнали, что на встречу к нам высланы все старшины в числе 150 человек; между ними был и кадий (из селения Мокагу). Я был личным свидетелем тому, что этот кадий вышел вперед всех и, остановившись в недальнем расстоянии от корпусного командира, начал в самых дерзких выражениях говорить, что одержанная нами победа ничтожна, и что хотя потеря с их стороны довольно значительна, но для целого народа, известного храбростию и воинственным духом своим, полученная нами временная поверхность ничего не значит, что у них осталось еще много войска и они могут не только прогнать русских, но и истребить всех до последнего. — „Взгляни“, продолжал он, указывая на узкие тропинки по горам, — „вспомни, что это те самые места, на которых была рассеяна, разбита и совсем уничтожена предками нашими, в десять раз могущественнее русского государя многочисленная армия Надир-шаха, который сам избавился от смерти поспешным бегством: так может ли после того горсть русских покорить и предписать нам закон?“ — Глаза его блистали от ярости. Я был в это время ближе всех к генералу, и опасаясь, чтобы фанатик, в исступлении своем от ярости не бросился на него с кинжалом, приготовился встретить его при первом малейшем движении, и не спускал с него глаз, держа в руке пистолет с взведенным курком; многие из окружавших генерала обнажили было свои сабли, но он удержал нас и, с величественною, грозною осанкою своею, опершись на саблю, выслушал его хладнокровно, смотревши прямо ему в глаза; когда же он умолкнул, то, обращаясь к прочим старшинам, приказал им обезоружить его и взять под стражу, что и было ими тотчас беспрекословно исполнено; потом генерал объяснил им в самых сильных выражениях всю важность преступления безумца, позволившего себе оскорблять священное имя императора обширного, могущественного государства, при верноподданных его и в присутствии главного начальника над здешнею страною; потом он настоятельно потребовал, чтобы этот дерзкий мятежник был тотчас ими же самими осужден и наказан. — Суд старшин не долго продолжался; они сами объявили генералу, что он более всех причиною бедствий, претерпенных соотечественниками их, что он возбуждал злонамеренными внушениями своими к сопротивлению и непокорности; после того они схватили его, разложили на землю и так жестоко отодрали бывшими в руках их нагайками, что он не мог сам встать; его подняли, кое-как усадили на лошадь и отправили домой… Очень вероятно, что смерть его была последствием претерпенного им жестокого наказания».
Ермолов несколько сгладил тяжесть боев на подступах к Акуше. Но главное в этом тексте другое — Алексей Петрович не мог не понимать, что именно этот яростный кадий выражает истинное настроение затаившихся акушинцев. Но он испортил спектакль и вызвал неудовольствие своих соплеменников.
Ермолов на исходе второго года активных действий по замирению горцев должен был догадываться, что этот поход в Дагестан далеко не последний.
Как только относительно успокоились Чечня и Дагестан, начался мятеж по другую сторону Кавказского хребта — в Имеретии, затронувший и Гурию, и Мегрелию, мятеж, вызванный причинами для Алексея Петровича непривычными.
5 марта 1820 года Ермолов писал Закревскому: «Заставляют меня обстоятельства отсрочить приезд мой в Петербург, хотя многие дела и требовали того чрезвычайно. Меня удержало готовое возгореться в Имеретии возмущение, невзирая на которое решился я вывезти оттуда несколько главнейших лиц духовенства, наиболее к тому возбуждающих. На сие имею я даже разрешение правительства, — следовательно, тут нет моего произвола <…>». И далее, после весьма подробного рассказа о происходящем: «С тобою могу я, однако же, говорить откровенно, что всех сих беспокойств причиною начальствующий здесь митрополит наш Феофилакт. Не познакомясь хорошо с обстоятельствами здешнего края, сделал он представление о преобразовании по Имеретии духовного управления, сие представление было представлено на утверждение. Но когда приступлено было к самому преобразованию, духовенство имеретинское, видя потерю своих выгод, возбудило дворянство, которого Феофилакт также неосторожно коснулся интересов, дворянство сообщило дух мятежа народу, и в прошедшем году все было под ружьем. Феофилакт, не рассуждая об утеснении, хотел умножением церковных доходов сделать угождение своему начальству. Князь Голицын (Александр Николаевич — глава Министерства духовных дел и народного просвещения. —
Но полностью полагаться на характеристику, данную Ермоловым своему недругу, не стоит.
Феофилакт был человеком образованным, а его приязненные отношения со Сперанским явно говорят в его пользу. Беда была в том, что при твердом характере, высоком самолюбии и стремлении во что бы то ни стало добиваться назначенных целей он весьма слабо представлял себе ту реальность, в которой ему предстояло действовать.
В. А. Потто, знаток кавказской истории, писал о нем: «Феофилакт, земляк Ломоносова, одна из тех редких, выдающихся личностей, которые всем своим гордым, упорным характером и направлением умственного развития как бы предназначаются на реформаторскую деятельность, страстно отдаются ей и становятся ли жертвой своей идеи, или добиваются торжества ее»[73].
Получив в 1817 году пост экзарха — высшего духовного лица — Грузии, Феофилакт решительно принялся, так сказать, оптимизировать саму церковную структуру не только Картло-Кахетии, но и сравнительно недавно вошедших в состав России Имеретии, Гурии и Мегрелии.
Причины, вызвавшие мятеж в Имеретии, весьма характерны для сложностей, с которыми русская администрация сталкивалась при управлении вновь присоединенным краем. Непосредственный участник событий молодой офицер Иосиф Петрович Дубецкий вспоминал: «Высшие духовные должности, как то: митрополии, епископства, отдельные монастыри и т. п., имевшие значительные удельные имения и, следовательно, весьма доходные, замещались дворянами из высших фамилий… Для изменения столь вредной монополии, увековеченной временем, нужен был человек с умом, сильною волею и властью не стесненный. Притом же подобный перелом в народе полудиком и невежественном не мог произойти без кровавых усилий».
Это представление о народе, в частности, Имеретии, как «полудиком и невежественном», широко бытовавшее в среде русской военной и гражданской администрации, лежало в основе многих тяжелых конфликтов, ибо давало право игнорировать многовековые религиозные традиции и бытовые обычаи.
«В это время появился подобный человек, — писал Дубецкий, — как бы посланный свыше. То был архиепископ Феофилакт, экзарх Грузии и Имеретии, в полной мере достойный современник Ермолова. Великий ум, обширное образование и энергический характер явили в нем замечательного государственного мужа, коему подобного, быть может, и не было в России на поприще духовной иерархии. Он смело приступил к преобразованиям и встретил сильных противников в имеретинской иерархии. Посему решено было отправить в Россию двух главных сановников митрополитов: Гелацкого и Кутаисского. При арестовании их поступлено было не деликатно, ибо против сопротивления одного из них употреблены в дело приклады и штыки, так что архипастырь, избитый и окровавленный, был связан и посажен на лошадь силою.
Для князей, неискренне расположенным к русским, причины этой было достаточно для поднятия знамени бунта».
Причины конфликта были весьма серьезны.
По представлению Феофилакта было резко сокращено количество церквей, а вместо девяти епархий, на которые были поделены территории Имеретии, Гурии и Мегрелии, остались только три — по одной на каждую область.
До появления экзарха из России высшее грузинское духовенство по своему усмотрению распоряжалось церковными доходами. Феофилакт начал тотальную ревизию для определения размера этих доходов. Ревизия сопровождалась переписью церковного имущества.
Мы подробно остановились на имеретинском эпизоде, потому что он с абсолютной ясностью демонстрирует подоплеку общей драмы, главным действующим лицом которой был Ермолов: взаимное непонимание противостоящих сторон и нежелание сильнейшей, российской, стороны вникнуть в систему представлений тех, кого она стремилась осчастливить.
Решительно не одобряя действий Феофилакта, Алексей Петрович тем не менее считал, что начатую реформу надо проводить до конца, чтобы не проявить пагубную в этом краю слабость. Ему принадлежит решение о высылке в Россию оппозиционных митрополитов.
Для Ермолова мятеж в Закавказье, в непосредственной близости от турецкой границы, был тревожным симптомом. Пространство измен и беспокойств стремительно расширялось. Кроме персидской проблемы могла появиться и традиционная турецкая. Вкупе с продолжающимся сопротивлением горцев это создавало положение тревожное.
Подавление мятежа Ермолов поручил своему начальнику штаба генералу Вельяминову.
Алексей Александрович Вельяминов, глубоко образованный европеец, знаток французской литературы и поклонник энциклопедистов, возивший с собой в экспедиции небольшую библиотеку, талантливый и хладнокровный военачальник, был при этом человеком спокойной жестокости.
Чтобы у генерала не было сомнений в широте его полномочий, Ермолов снабдил его инструкцией: «Употребив в прошедшем году все меры кротости и снисхождения, даже намерения не показывая к открытию виновных в возмущении, не отдалили мы бунта в Имеретии, и он возгорелся без малейшего повода ни со стороны местного начальства, ни со стороны войска».
Смысл последней фразы был Вельяминову понятен: виноват в происшедшем Феофилакт, а расхлебывать приходится светским властям.
«Готов был бы и ныне тоже оказывать снисхождение, но гнусная, подлая измена, сопровождаемая подъятием оружия, требует в пример для будущих времен, строгого наказания. Я предписываю Вашему Превосходительству всех, взятых с оружием в руках, и тех, кои, спасаясь, захвачены будут из скопищ бунтовщиков, наказывать смертию на самом месте преступления. Суду должны подлежать только те, на коих падает подозрение, но нет достаточных доказательств, и сии суды произвести не прежде, как по усмирению мятежа; до того времени содержать их под крепким караулом.
Тех, кои посылаемы будут мятежниками для возмущения жителей, или, устрашая их разорением, будут вымогать их согласия, таковых, пойманных, лишать жизни».
Дубецкий вспоминал: «В шесть или семь месяцев спокойствие было восстановлено. Человек 10 было повешено, некоторые пали под ударами штыков, а другие удалены в Россию».
Ермолов получил высочайший рескрипт: «Алексей Петрович! Принятые вами меры к усмирению народов буйных уничтожили возмущения, уничтожили беспокойства, возникшие в Гурии, Мегрелии и Имеретии. Дагестан покорен твердостию и благоразумием во всех случаях распоряжениями вашими. Я считаю справедливым долгом изъявить вам полную мою признательность за успешные действия ваши, будучи при том уверен, что вы усугубите старания к водворению тишины и благоустройства в областях, управлению вашему вверенных.
Пребываю навсегда к вам благосклонный.
Александр.
В Варшаве.
18 августа, 1820 г.».
События в Имеретии потрясли Феофилакта. Через год он внезапно умер пятидесяти шести лет от роду от «желчной горячки».
Официальные документы, отправляемые Ермоловым в Петербург, рисовали картину значительно более оптимистичную, чем была она на самом деле.
Отсюда и уверенность Александра, что «Дагестан покорен».
Но сам Алексей Петрович ясно представлял себе реальное положение вещей.
Чем дальше, тем лучше он понимал сложность задачи, которую он собирался решать за два-три года, чтобы развязать себе руки к неминуемой войне с Персией.
В его частных письмах уже с 1818 года стали появляться странные на первый взгляд пассажи.
В письме Воронцову от 9 июля 1818 года с Сунжи, когда успешно шло строительство Грозной и ему казалось, что способ усмирения чеченцев им найден безусловно, он писал: «…Представил я систему крепостей для областей наших по ту сторону гор лежащих, вводя в предмет умножение и усовершенствование войск в Персии. Она требует обстоятельного рассмотрения, ибо стоит и некоторых издержек. Я об оной сообщу тебе впоследствии, когда правительством или утверждена или откинута будет. Если допустится, то границы наши, сколько возможно по порочному виду их, примут некоторую твердость, и в случае даже распространения оных (то есть расширения территории России за счет Персии. —
Стало быть, в июле 1818 года Алексей Петрович не рассчитывает пробыть на Кавказе «несколько лет». За те два-три года, что он себе назначает, он намерен заложить основы умиротворения и устройства края, с тем чтобы его преемники продолжили именно его начинания.
А как же война с Персией и грандиозные азиатские планы?
Как ив 1813–1814 годах, настроения Алексея Петровича были весьма неровны. От взлета героического честолюбия до глубокого уныния. И тогда желанный Кавказ казался ссылкой, а срок пребывания в крае минимально сокращался.
Одной из причин, по которым он жестко ограничивал этот срок, была нехватка ресурсов, исключавшая быстрое и прочное замирение горских народов.
В феврале 1819 года Ермолов писал Закревскому по поводу новогоднего производства нескольких генералов в следующие высокие чины: «Можно вас поздравить, что вы обогатились полководцами, приуготовляйте одного из них на мое место, ибо если бы для благоустройства здешнего края откажете мне в трех полках пехоты (которые здесь не более потеряют, как у вас от парадов), по чести говорю тебе, что не хочу здесь служить как Тормасов и Ртищев, и не могу понимать, чтобы власти могущественного государя могли не повиноваться мошенники. Прошу тебя собственно для пользы государя довести сие до его сведения. Я не хлопочу о своих выгодах, ибо все лучше проживу моих предместников, не затею бесполезных беспокойств и, если бы они могли случиться, не кончу их хуже. Но боюсь я, что мы не воспользуемся мирным расположением соседственных земель и не укротим внутренних беспорядков, а когда случится война внешняя, то все горские народы и сядут нам на шею. Желаю, чтобы сего не случилось, но вы, не дав войск, тому много будете способствовать».
Письма Алексея Петровича — сложнейшие психологические документы, отражающие напряженно противоречивое состояние, в котором он постоянно пребывал.
Обида, которая точила душу Ермолова во время Наполеоновских войн, не отпускает его и на Кавказе: «Ты пишешь, что многие по расположению ко мне важно говорят о моих здесь делах и что тебе даже досадно. Перестань негодовать, не только я, но редко из людей необыкновенных кто-либо избегал молвы ядовитой. На мой счет и потому многие говорить будут, что вопреки желанию злословящих, счастье не устает благотворить мне. Посмотрим молодца на моем месте и посмотрим на дела! Не шутя говорю, приготовляйте кого-нибудь из хвастунов».
Это был момент, когда он сомневался — дадут ли ему еще войск, необходимых для задуманных операций и удержания в покое замиренных территорий, или не дадут. Возможное отрицательное решение, ставящее его в тяжелейшее положение, и было катализатором подобных настроений, которыми пронизано это обширное письмо Закревскому.
Однако вопреки его опасениям император решил существенно усилить корпус — и в начале мая 1819 года Ермолов получил от императора рескрипт, в котором излагался план усиления Грузинского корпуса.
Комбинация, придуманная Александром, состояла в том, что в новые прибывшие к Ермолову полки вливались солдаты некомплектных частей корпуса. Вместе с 26 тысячами вновь прибывших они составляли 50 тысяч штыков.
Кадры, то есть основной офицерский и унтер-офицерский состав одновременно выводимых с Кавказа полков распределялся по дислоцированным в России дивизиям и, укомплектованный рекрутами, занимал места полков, отправленных на Кавказ. Армия, таким образом, сохраняла свою прежнюю структуру.
После решения императора тон писем Ермолова резко меняется.
Закревскому от 1–2 июня 1819 года: «Прибавлением войск вы впервые дали мне чувствовать, что проживу здесь с пользою и без стыда. Начинал я терять надежду, и устрашали меня упреки. Ты знаешь мой характер огненный и к несчастию моему я еще более нетерпелив, когда дело идет о службе. У меня многие замыслы и, без хвастовства скажу тебе, дельные и довольно обширные. Теперь есть возможность привести многие в исполнение и щадить трудов не буду».
Он третий год на Кавказе. Пережил крушение «персидского проекта», хотя не потерял надежды на победоносную войну с Аббас-мирзой. Но понимал, что при том числе войск, которыми он располагал по сию пору, ему не обеспечить свои тылы в случае войны. Проиграть войну потомок Чингисхана не мог — это означало моральную гибель.
«Начинал я терять надежду, и устрашали меня упреки». Перед ним явственно вставал призрак крушения всей его миссии. Устрашить чеченцев на Сунже и вырубить леса в Хан-Калинском ущелье, — и даже отбросить ополчения хана Аварского, — этого было далеко не достаточно.
Теперь положение кардинально менялось.
Разгром акушинского вольного общества был первым результатом этой новой ситуации. Войска из России еще не подошли, но главнокомандующий мог свободно маневрировать имеющимися у него силами, зная о близости подкреплений.
Можно было приступать к давно задуманному плану ликвидации ханств.
Вся политика Алексея Петровича была направлена, как и при Цицианове, на провоцирование ханов и вытеснение их в Персию.
Ханы не были надежными и верными подданными. Их симпатии находились на стороне Аббас-мирзы, на стороне Персии, с которой их связывали религиозные и родственные связи, равно как и привычные способы управления подданными.
Ермолов властно пытался заставить их изменить сам стиль жизни.
Предвидя неизбежное столкновение России с Персией, зная об энергичных приготовлениях Аббас-мирзы к войне, о поддержке персиян европейскими державами, ханы надеялись на возвращение добрых старых времен и готовились к их приходу.
К весне 1819 года наиболее влиятельные владетели уже составили негласный союз. Это были уцмий Каракайдакский, Султан-Ахмет-хан Аварский, Сурхай-хан Казикумыкский и лишенный владений, но не лишившийся приверженцев известный нам Ших-Али-хан.
Если аварский хан был открытым противником русских и явным вождем этой дагестанской Вандеи, то теневым лидером союза был наиболее значительный в военном и экономическом отношении Мустафа-хан Ширванский, на которого, как мы помним, Ермолов некогда возлагал большие надежды.
Теперь Ермолов был уверен, что он ведет двойную игру, равно как и уцмий Каракайдакский.
Поведение ханов было тем более опасно, что, несмотря на разгром Акуши, спокойствия в крае не было.
Ханы понимали, что за игру ведет с ними Ермолов, как понимали и то, что вечно эта игра взаимных обманов продолжаться не может…
Могла ли система ханств Южного Дагестана сосуществовать с российскими властями, выполняя некую стабилизирующую функцию? Скорее всего — да, если бы не антиперсидская и цивилизационная установка Ермолова. Но Алексей Петрович поставил своей стратегической целью уничтожение ханской власти как института и превращение территории ханств в области, непосредственно управляемые русскими офицерами.
В 1819 году картина складывалась достаточно тревожная: наращивающий свои силы Аббас-мирза, ориентированные на него и ждущие удобного момента для открытого выступления ханы, скрывающийся в Дагестане царевич Александр, тесно связанный с Аббас-мирзой и возбуждающий надежды на сокрушение русских не только у горских обществ, но и у значительной части грузинского дворянства и аристократии. В Имеретии нарастало напряжение, заражающее Гурию и Мегрелию. Не следовало забывать постоянные беспокойства, которые доставляли закубанские черкесы, совершавшие набеги на казачьи станицы.
Это был вулкан, готовый в любой момент извергнуть лаву мятежа.
Несмотря на почти трехлетние энергичные и внешне вполне результативные усилия проконсула…
Чеченцы были если не замирены, то во всяком случае деморализованы. После разгрома Акуши притих Дагестан.
Все это было ненадежно, но давало возможность приняться за выполнение плана, изложенного некогда в записке «Об уничтожении ханской власти».
Аварский хан, откровенный и активный недруг, был до поры защищен труднопроходимыми горами. После поражения акушинского общества, которое он поддерживал, он попытался войти в переговоры с Ермоловым, но безуспешно.
«Аварский хан ожидал ответа на присланное ко мне письмо, — вспоминал Алексей Петрович, — в котором, признаваясь виновным в глупом поведении своем, просил прощения. Я отвечал ему, что нет подлым изменникам прощения, что он лишился чина своего и жалования».
Ермолов поступил так, как и обещал императору — он карал по собственной воле, значительно превышая в данном случае свои полномочия.
«Он тотчас уехал в Аварское ханство, а я, в прокламации описавши подлую его измену, именем императора лишил его чина генерал-майорского и получаемого им 5 тыс. рублей серебром жалования.
В Парауле истреблен дом сего изменника, строение огромное и нарядное».
Хан Аварский и после поражений сдаваться не собирался. Он знал, что решается не только его судьба и судьба Аварского ханства…
6 августа 1819 года Ермолов писал Закревскому: «Я живу между народом, сто лет называющимся подданными России, и, конечно, трудно найти величайших злодеев и между самыми злейшими врагами. Пребывание наше здесь весьма не нравится, ибо нельзя продолжать делать разбои и надо покорствовать. Измены ежечасные; исключая некоторое число людей благоразумных, все прочие явно со стороны неприятелей. <…> Изменник Аварский хан собирает большие силы, ему содействуют все вообще чеченцы, почти все деревни владений Андреевских и большая часть Аксаевских. Завтра будет часть скопищ их верстах в 20 отсюда. Они прячутся в лесах, пока соберутся со всеми силами для общего нападения. Соединение всех и начало действия положено на сих днях».
В этом небольшом тексте сконцентрирована разница представлений горцев и проконсула Кавказа о сути ситуации. Горцы готовы называться подданными русского императора. Более того, с ними можно договориться о минимизации набеговой практики — хотя это и противоречит их фундаментальной традиции, — но они не желают терпеть русские войска на своей территории и главное — «покорствовать», то есть скроить свою жизнь по чуждым образцам.
Для Ермолова в понятие подданство входит полное подчинение российской власти и постоянный контроль за жизнью «подданных», для чего строится крепость и дислоцируются войска. И те и другие уповали только на силу…
«Глупым народом, населяющим Андреев, — писал Ермолов Закревскому, — управляют несколько злодеев старшин и сии-то желали бы весьма, чтобы нога русских не была на земле их».
И это нежелание казалось ему диким и преступным…
Между тем существовала и иная точка зрения на сложившееся положение.
В известной записке адмирала Мордвинова, этом наставлении, которым опытный и мудрый государственный человек снабдил Алексея Петровича при отъезде, в частности, говорилось: «Кавказские обширные долины, простирающиеся на миллионы десятин в окружности, издревле принадлежали горским жителям и составляли богатейшее их обладание, с избытком вознаграждавшее скудость, обитающую вечно в ущельях, рытвинах и на вершинах тощих каменных гор. От сих степей получали они пищу и одежду, имели все, что для жизни их потребно, довольны были своим состоянием, жили мирно с соседями и, в случаях внутреннего между собой несогласия, ходили на суд к начальнику двух российских батальонов, стоявших на страже собственных границ. Но когда военною цепью загнали горцев в тесные пределы, поставили у подошв гор войска и когда с отнятием у них таким образом степей, ущелья обитаемых ими гор не представили ни единой пространной площади, на коей могли бы они производить землепашество или содержать нужный для них скот, когда разрушилась у них взаимная с нами дружба и восстала на место оной вражда, долженствующая дотоль существовать, покуда вседневные недостатки в жизненных потребностях не перестанут им напоминать об источнике оных, то есть отнятии у них Россиею древнего и богатейшего их достояния».
Сюжет, изложенный Мордвиновым, не совсем соответствует реальности. Адмирал здесь выступил в качестве провидца, предсказавшего ситуацию, которая сложилась в Чечне в результате устроенной Ермоловым блокады. Но и утверждение относительно мира и дружбы между горцами и российскими властями выглядит весьма идиллически. Набеги чеченцев на сопредельные территории не были вызваны голодом, поскольку до появления на Сунже крепости Грозная в их распоряжении была плодородная плоскость, откуда они вытеснены были в «тощие горы» проконсулом Кавказа.
Общая ситуация была значительно сложнее, чем это представлялось Мордвинову, но суть его рассуждений была совершенно верной — горцы яростно реагировали на вытеснение их с земель, им издревле принадлежавших, и не желали терпеть на оставшихся у них территориях присутствия русских войск.
Мордвинов предлагал вернуть горцам часть отобранных плодородных земель и таким образом восстановить мир и дружбу.
Но лучшие земли были уже заняты казачеством, и жить в тесном соседстве с ними горцы не согласились бы.
Идеи Мордвинова были благородными, но запоздалыми.
Обещанные императором полки шли чрезвычайно медленно. Две конные батареи, которые Алексей Петрович особенно ждал, не без труда отыскались возле Полтавы, но без лошадей, и непонятно было, когда они смогут прибыть к корпусу.
Обо всем этом Ермолов пишет с горечью и нервным напряжением.
«Вот положение моих дел и, конечно, не самое лучшее!»
Но когда полки стали наконец прибывать, то Алексей Петрович впал в ярость. Он пишет Закревскому: «Формальная бумага моя покажет тебе, каким образом укомплектовывается мой корпус людьми из вторых баталионов 1-й армии. Ты представить не можешь, какие поступают карикатуры, но на сие роптать не имею я права, ибо где бы то ни было, они будут еще годными, служить должны. Но ко мне поступило и в числе способных, все дряхлое, вялое, неопрятное и даже бывшие нестроевики. Как можно требовать от сих людей деятельной и живой службы, здесь поистине не менее необходимой, как и в 1-й армии».
Несколько позже — в сентябре 1819 года: «Вы совсем загоняли меня упреками, что я пишу очень резко, так что я уже и без желания писать резко не знаю, как составлять мои по службе бумаги, а потому тебе только по дружбе скажу, что полки, идущие сюда из России, совсем не в том числе людей, как сказано в указе. Не знаю, кому было выбрать приказано полки, но выбор поистине чрезвычайный. Есть такие, что не сильнее одного баталиона по здешнему новому положению, но идут со множеством офицеров, ведут лошадей и тьму нестроевых людей, которые фуражом и провиантом разорят меня совершенно.
В 45-м егерском полку какая-то дрянь из гвардии полковник, который беспрестанно пишет рапорты на офицеров, а они на него жалобы, и я, не видав еще на грош от них пользы, должен уже начинать арестами и военным судом.
42-й егерский полк, теперь у меня находящийся, точно весь выпущен из школы, начиная с самих офицеров, между коими три или четыре имеют вид человеческий, солдаты же все дети и только что довольно чисто одеты, но о настоящей службе понятия не имеют. <…>
43-й егерский полк, как я слышал, состоит весь из рекрут и пренесчастный».
И тем не менее через несколько лет из этих «пренесчастных» выработались под командованием Ермолова те самые «кавказцы», храбрость, самоотверженность и выносливость которых ставили в пример всей армии.
Действовать, однако, надо было немедленно и решительно.
Алексей Петрович прекрасно понимал, что первое же поражение его войск станет сигналом ко всеобщему мятежу.
Любопытна стилистическая разница между письмами и описанием тех же сюжетов в воспоминаниях.
Ермолов писал в записках: «В течение августа Аварский хан начал собирать горские народы, обещая им не только препятствовать нам производить работы (окончание строительства крепости Внезапная. —
«Римский стиль», которым пользовался Алексей Петрович в записках, позволял ему объективно представить картину происходящего, не давая ей эмоциональной окраски. В противном случае результаты напряженной деятельности — победоносных экспедиций и организации жестокой блокады горных районов — выглядели бы сомнительными. «Все вокруг нас было в заговоре». Несмотря на явное военное преимущество русских, горцы не теряли надежды вынудить противника оставить их в покое…
«Чеченцы сделали нападение на табуны нашего отряда и отогнали не менее 400 упряжных лошадей, артиллерии и полкам принадлежащих. Недалеко от лагеря повсюду были неприятельские партии, сообщение с Линиею удерживаемо было большими конвоями, от самого лагеря и до переправы на Тереке. Пост на Сулаке, при селении Казиюрте, должен я был усилить двумя ротами и с двумя орудиями, ибо дагестанцы угрожали пойти прямейшею на Кизляр дорогою».
Как только пришел из России первый из обещанных императором полков — 42-й егерский, — Ермолов «выступил, чтобы атаковать Аварского хана».
Следующий за этим рассказ еще раз дает возможность понять уже прочно выработанную им тактику при крупных столкновениях с горскими ополчениями.
Горцы, положившись на свое численное превосходство, встретили русские батальоны в предгорьях, лишаясь таким образом преимущества горной войны и укрепив свои позиции только окопами и земляными валами.
Более того, Султан-Ахмед-хан, опытный воин, вместо обороны, которая могла изнурить атакующие русские батальоны, выбрал наступательную тактику, не учитывая, как ни странно, наличия у русских грозной артиллерии.
Это свидетельствует о характернейшей черте горского традиционного сознания — его консервативности. Они дрались так, как привыкли драться их отцы и деды.
«Неприятель впереди позиции своей встретил мой авангард сильным огнем и бросился с кинжалами. Две роты 8-го егерского полка, удивленные сею, совсем для них новою атакою, отступили в беспорядке, но артиллерия удержала стремление нападавших. В сие время прибыли все войска, и баталион Кабардинского пехотного полка, ударив в штыки, все опрокинул, и если бы изрытые и скрытые места не способствовали бегству неприятеля, он понес бы ужасную потерю, но скоро мог он собраться позади своих окопов. Деревню Боутугай тотчас заняли наши войска. Я, избегая потери, не допустил атаковать окопы, но удовольствовался тем, что мог стеснить неприятеля в горах, отрезав сообщение с равниной, откуда получал он продовольствие, будучи уверенным, что не долго в таковом останется он положении. Перестрелки сначала довольно горячие, но артиллерия наводила величайший ужас, и неприятель смешным образом прятался от оной.
В ночи на 3-е бежал с неимоверною поспешностию и в беспорядке.
Вслед за ним сделал я один марш в горы, но уже догнать было невозможно. Аварский хан бежал в Авар, сопровождаемый проклятиями разорившихся».
Взять Аварское ханство под российское управление Ермолов не решился — расположенное в труднопроходимых горах, оно было пока еще недоступно.
Проконсул прибегнул к им разработанному методу.
«Его Императорскому Величеству.
Преследуя всеми средствами изменника Аварского хана, чрез людей приверженных нам, отыскал я, между родственниками хана, молодого человека, которому по всем правам, и даже по закону мусульманскому, принадлежит управление ханством, коего лишен он коварством жены прежнего хана, находящейся в замужестве за теперешним изменником. Данные мною сему молодому человеку способы привлекли на сторону его большую уже партию людей значущих».
Что же это были за способы?
«Аварским жителям пресечено сообщение с подданными В. И. В-ства, и они, лишенные торга, начинают чувствовать крайность. Наследнику дана от меня печать, и по билетам за оною признаются люди, ему приверженные, и принимаются в областях наших, что производит большое действие и делает его народу необходимым. Теперь он у меня при войсках, и я отправляю его обратно, дабы пользовался благоприятными обстоятельствами последнего поражения Аварского изменника; он награжден и одарен прилично, и я всеподданнейше испрашиваю Вашего Императорского Величества соизволения обнародовать его ханом, когда усилится его партия, дабы жители Аварского ханства видели его под Высочайшим Вашего Императорского Величества покровительством. Таким образом, без потери войск и трудов, наказан будет изменник, и подобные ему получат поучительный пример.
27 сентября 1819 года.
Кр. Внезапная».
Давление на подданных Султан-Ахмед-хана началось еще с весны 1819 года. 31 марта Ермолов приказал майору Пономареву: «Сближается время, в которое обыкновенно жители Аварского ханства приезжают в Нуху по торговым делам, а как изменник Султан-Ахмед-Хан не перестает делать возмущения в Дагестане, то предписываю всех подвластных ему аварцев брать под стражу и препровождать в Елисаветопольскую крепость, имуществу их составляя вернейшую опись, представлять ко мне оную и ожидать приказания о самом имуществе, которое должно сберегаемо быть как принадлежащее казне, повеление сие сохранить в тайне и тогда только о нем объявить жителям ханства к непременному исполнению, когда аварцы в самом г. Нухе уже будут схвачены».
Город Нуха был центром Шекинского ханства, а майор Пономарев приставом при шекинском хане.
В тот же день Алексей Петрович предписал генерал-майору князю Эристову, командовавшему в Кахетии: «Вскоре для торговых дел будут приезжать в Кахетию жители Аварского ханства. Ваше сиятельство извольте сделать распоряжение, чтобы не давали им проезда, и тот, кто представит начальству взятого аварца, имеет право воспользоваться его товаром или другим имуществом беспрекословно.
Предписание сие некоторое время извольте сохранить в тайне, дабы они предупреждены быть не могли и тогда объявите, когда несколько аварских жителей возможно будет схватить».
То есть подданные Султан-Ахмед-хана объявлялись вне закона. Их можно было безнаказанно грабить…
Алексей Петрович решил на примере Султан-Ахмед-хана дать жестокий пример всем прочим владетелям. Назначенный ему преемником «молодой человек» получал максимальную поддержку русского командования.
6 июля 1819 года Ермолов отправил собственноручное предписание генерал-лейтенанту Александру Вельяминову, осуществлявшему административную власть в крае в отсутствие Ермолова, который строил крепость Внезапную под Эндери.
«Известно в. пр., что Сурхай-бек Аварский, составив из жителей ханства партию, оспаривает у изменника Султан-Ахмед-Хана право на владение. Желая способствовать Сурхай-беку, прибегающему под покровительство наше, прошу в. пр. дать повеление во всех провинциях наших брать под стражу жителей Аварского ханства, приезжающих по торговым делам или другим надобностям, если не будут они иметь вида за печатью Сурхай-бека, которой препровождаю при сем несколько слепков, дабы повсюду была оная известна. По предмету задержания их было мною дано приказание прежде, которое усмотреть изволите в журнале. Главнейший торг Аварцев производится в Шекинском ханстве и там против них должна употреблена быть строгость и всякое прекращено с ними сношение. Бывают они частью в Кахетии и Кубинской провинции: я прошу дать приказание начальствующим там генералам.
Задержанных Аварцев употреблять в крепостные и прочие работы. Об имуществе их сказано в прежнем моем предписании.
После сих распоряжений, по мнению многих, нет сомнения, что жители Аварского ханства возьмут сторону Сурхай-бека, и бывший Аварский хан, изменник Султан-Ахмед, будет изгнан из ханства. Сего мошенника, бывшего виною всех беспокойств в Дагестане, надобно преследовать всеми способами, в пример многим другим, ему подобным, или готовым быть таковыми».
К жителям Аварского ханства была применена военно-экономическая блокада.
Очевидно, Алексей Петрович и в самом деле был уверен, что корень всех беспокойств в Дагестане именно в активности аварского хана.
И ему, и его преемникам предстояло убедиться, что все обстоит куда серьезнее…
Через три года Алексею Петровичу снова пришлось прибегнуть к тем же драконовым мерам.
26 сентября 1822 года он предписал князю Мадатову:
«Желая наказать аварцев и андреевцев, имевших доселе безвозбранную в границах наших торговлю, за разные неблагонамеренные их поступки, я предлагаю в. с. сделать распоряжение, чтобы никто из народов сих ни по чьим билетам в управляемых вами провинциях и ханстве Карабагском впредь до повеления принимаем не был; чтобы аварцы и андийцы, открыться теперь имеющие, были под арестом задержаны; товары, им принадлежащие, конфискованы, и мне в то же время донесено о том было, с приложением подробной описи оным, и чтобы сверх того подтверждено было, в особенности армянам и жидам, о неимении с ними тайного торга, под опасением строжайшей ответственности».
Сложность ситуации заключалась еще и в том, что многие из аварцев, несмотря ни на что, предпочли сохранить верность сыну изгнанного, а к 1823 году умершего Султан-Ахмед-хана.
Горское правосознание не совпадало с логикой европейца Ермолова, и то, что казалось ему нелепым и преступным, для них было естественным и законным.
Горное ханство не могло жить без поставок продовольствия. И его жители оказались перед простым выбором — признание своим властителем ермоловского ставленника или голод. Это было куда рациональнее, чем тяжелый военный поход с неопределенным результатом. Большого опыта горной войны еще не было и у Ермолова. Даже его горы пугали. Один из известных кавказских мемуаристов — полковник Константин Бенкендорф, племянник Александра Христофоровича Бенкендорфа, офицер безукоризненной репутации и правдивости, сохранил горестный возглас Ермолова, взиравшего на горный хаос Дагестана: «Как бы избавиться от этих проклятых гор!»
С ненавистными Алексею Петровичу ханами Южного Дагестана, правившими в местностях вполне доступных, все было проще.
Еще до решающего столкновения с ополчением аварского хана, 2 августа 1819 года, Ермолов с удовлетворением писал Нессельроде:
«Милостивый Государь
Граф Карл Васильевич!
Прошедшего июля 24 дня, генерал-майор Шекинский Измаил-Хан, после восьмидневной болезни, умер; после него нет наследников, и я дал приказание ввести в ханстве Российское правление, подобно существующему в других, обращенных из ханств провинций.
О чем просить покорнейше честь имею Ваше Сиятельство доложить Его Императорскому Величеству.
По возвращению в Грузию, займусь я исправлением погрешностей прежнего злодейского управления, и народ, отдохнув от неистовств оного, будет благословлять благодетельнейшего из монархов.
С совершеннейшим почтением и преданностию имею честь быть и пр.
А. Ермолов».
Измаил-хан, прямо скажем, особого сожаления не заслуживал. Вскоре по прибытии в Грузию, ознакомившись с положением в ханствах, Алексей Петрович писал ему:
«Г-н генерал-майор хан Шекинский!
Едва я приехал сюда, как уже закидан просьбами на вас. Не хочу я верить им без исследования, ибо в каждой из них описаны действия одному злонравному и жестокому человеку приличные. Я поручил удостовериться о всем том чиновнику, заслуживающему веры. Если только точно откроет он те жестокости, которые деланы по воле вашей, что могут доказать оторванные щипцами носы и уши, то я приказал всех таковых несчастных поместить в доме вашем до тех пор, пока вы их не удовлетворите. Чиновника вашего, который бил одного жителя палками до того, что он умер и тело его было брошено в ров, я приказал взять и по учинению над ним суда будет лишен жизни. Советую вам, г-н генерал-майор хан Шекинский, быть осмотрительнее в выборе чиновников, назначаемых для приведения в исполнение вашей воли; паче советую вам, чтобы воля ваша не была противна милосердию и великодушию государя, который управление ханством вверил вам совсем не в том намерении, чтобы народ, его населяющий, страдал в дни славного его царствования, и ручаюсь вам, что если найду жалобы основательными, я научу вас лучше исполнять намерения всемилостивейшего нашего государя. Знайте, что я ни шутить, ни повторять своих приказаний не люблю».
Однако до поры Ермолову приходилось терпеть хана Шекинского, поскольку внимание его было устремлено преимущественно на горские общества Чечни и Дагестана.
…Затем наступила очередь Сурхай-хана Казикумыкского и Мустафы-хана Ширванского.
Проведенная в июне 1820 года операция против Казикумуха была уникальной в том смысле, что значительную долю боевой тяжести взяли на себя воины, собранные на лояльных территориях и в особенности в Кюринском ханстве. Это было именно то, о чем мечтал Алексей Петрович.
Ван-Гален, участник похода, подробно и красочно описал происходившее:
«Воинственный вид татарских отрядов, соперничающих между собой великолепием коней, оружья и сбруи, давал все основания сравнивать их с любым самым блистательным кавалерийским подразделением Европы. <…> Отряд Аслан-хана (Кюринского. —
12 июня возле селения Хозрек произошла решительная битва. Сурхай-хан и его соратники понимали, что речь идет не просто о власти над Казикумухом, но о самой судьбе ханств, а потому сражение было чрезвычайно ожесточенным.
Для союза ханов, враждебных России, это был последний шанс сохранить статус-кво до вступления в игру Персии.
Обостряло ситуацию и то, что между Аслан-ханом Кюринским и его сторонниками и казикумухскими владетелями была старая смертельная вражда. Для Аслан-хана поражение Сурхай-хана означало не просто военную победу, но, как мы увидим, крупнейший выигрыш.
В конце концов отряды Сурхай-хана были разбиты и рассеяны.
Ермолов по обыкновению издал «римский приказ»: «Еще наказуя противных, надлежало, храбрые воины, вознести знамена наши на вершины Кавказа и войти с победою в ханство Казыкумыков. Сильный мужеством вашим, я дал вам это приказание, и вы неприятеля в числе превосходного в местах и окопах твердых упорно защищавшегося, ужасным поражением наказали. Бежит коварный Сурхай-хан, и владения его вступили в подданство великому нашему Государю. Нет противящихся вам народов в Дагестане».
Аслан-хан Кюринский получил разрешение присоединить к своему небольшому ханству весь Казикумух и стал, таким образом, владетелем обширной территории.
Поражение Сурхай-хана означало и крушение наиболее значительного из дагестанских владетелей Мустафы-хана Ширванского, который до поры пытался сохранять нейтралитет, демонстрируя лояльность по отношению к российским властям и в то же время не порывая связей с мятежными ханами.
24 сентября 1820 года Алексей Петрович отправил рапорт императору:
«С давнего времени, видя изменническое поведение генерал-лейтенанта Мустафы, Хана Ширванского, искал я случая изобличить его; наконец, схваченный один из приближенных ему людей, знающий тайны его, открыл мне все его злодейства. В то самое время, как Мустафа дал тайное убежище в своем ханстве изгнанному из Казикумыка Сурхай-хану и проводил его в Персию, он мне не переставал писать уверения в приверженности и усердии. На лживые письма я отвечал быстрым вступлением войск в ханство, и изменник бежал в Персию, где заблаговременно приуготовил себе пристанище.
Ширванская область поступила в управление Российское, жители изъявляют чистосердечную радость, и Вашему Императорскому Величеству будут подданными верными.
Таким образом в течение одного года поступили в управление два ханства, без малейших с нашей стороны пожертвований, и даже без самых беспокойств уничтожена власть ханов, не приличествующая славному царствованию Вашего Императорского Величества, и я, имея в предмете полезную цель единоначалия, почитаю происшествия сии и потому достойными внимания, что оба ханства приносят не менее миллиона рублей ассигнациями дохода, который при учреждении порядка, легко возрасти может».
Правда, одновременно с ликвидацией трех сильных ханств — Шекинского, Казикумухского и Ширванского — появилось большое ханство, возглавленное Аслан-ханом, но этот владетель был фигурой весьма нетривиальной.
Ван-Гален рассказывает, что он «несмотря на свои религиозные верования <…> носил на груди крест Святого Владимира, второй по значению русский военный орден, полученный за многочисленные услуги, оказанные Российской империи. <…> Аслан-хан уже возил с собой роскошный экземпляр Библии <…> благодаря этому начальному шагу к обращению, то ли искреннему, то ли притворному, русские власти относились к нему с удвоенной благосклонностью».
Исходя из общестратегических соображений, проконсул решил сохранить объединенное Кюринское и Казикумухское ханство под властью преданного хана, готового поставлять первоклассную конницу.
Через два года прекратилось существование последнего из крупных ханств, чьи владетели оказались под подозрением или просто были лишними в том раскладе, который проконсул считал идеальным.
Речь идет о Карабахском ханстве.
В 1819 году Ермолов, чрезвычайно довольный службой Мадатова, живущего на свое армейское жалованье, задумал наградить его землями в Карабахе. Карабахский хан, не желая перечить главнокомандующему, предложил вернуть Мадатову земли, которые, как он, Мехти-хан, утверждал, некогда принадлежали предкам Мадатова. После нескольких отказов из Петербурга разрешение, под сильным давлением Ермолова, все же было получено. У Мадатова появились все шансы стать реальным правителем Карабаха.
На то Ермолов и рассчитывал. Укоренив Мадатова в Карабахе в качестве крупного землевладельца, он убивал двух зайцев: награждал генерала и создавал предпосылки для изгнания хана.
Мы не знаем, что произошло на самом деле в этом богатом ханстве, но 14 ноября 1822 года Ермолов отправил рапорт императору Александру:
«Возникшие неудовольствия жителей Карабагского ханства на управляющего оным генерал-майора Мехти-хана, паче поборы любимцев его, коим, сам будучи об управлении крайне нерадеюшим, вверял он большую власть, устрашив его ответственностию перед Правительством, решили на побег в Персию, где, как замечено прежде частными в тайне сношениями, приуготовлял он себе благосклонный прием. Главнейшая боязнь его, как легко догадаться возможно, состояла в том, что жители ханства, получив от щедрот Вашего Императорского Величества прошение за несколько лет знатного числа недоимок, милостию сею не воспользовались, ибо расточительный хан не представлял дани в казну, но с жителей собирал подать.
После побега хана, по прежнему распоряжению, должен бы полковник Джафар-Кули-Ага быть наследником; но как оный в 1812 году был в бегах в Персии и действовал против нас оружием, то я, находя основательную причину удалить его от наследства, объявил Карабагское ханство, подобно как и прочие провинции, что оное впредь будет состоять под Российским управлением.
Кроме дохода довольно значительного, который с провинции сей может поступать в казну, немаловажною выгодою почитаю я то, что провинция, на самой границе лежащая, не будет уже в беспутном мусульманском управлении, и жители оной, увидя водворяющийся порядок и неприкосновенность собственности, будут преданными благотворящему им Правительству.
Бежавший хан, долгое время управляя ханством, имеет людей к себе приверженных, но спокойствием жителей обязан я благоразумным мерам, принятым генерал-майором князем Мадатовым».
К 1822 году за пять лет реального управления Ермоловым Грузией и Кавказом система ханств фактически перестала существовать. Алексей Петрович последовательно и хитроумно реализовал план уничтожения ханств, который он представил императору вскоре по приезде в Тифлис.
И только через несколько лет выяснилось, что во многом он просчитался и просчитался самым роковым образом.
Его сильный и здравый ум европейца, полагавшего европейскую модель жизнеустройства в ее российском варианте неким идеалом, не справился с анализом принципиально иной ситуации.
Его уверенность, что жители ханств, освобожденные от тиранства своих владык, будут благодарить новую власть, оказалась ошибочной.
Когда через четыре года войска Аббас-мирзы вторглись на территорию бывших ханств, то именно всеобщий мятеж этих территорий не позволил Ермолову предпринять активные действия против персов и дал возможность новому императору обвинить его в нерешительности и некомпетентности.
В краткой истории наступления на Кавказ, предпосланной «Запискам» Ермолова, составленной скорее всего в его канцелярии, говорилось: «В 1819 году изгнан уцмий Каракайдацкий и заняты владения его. В 1820 году покорено ханство Казикумыцкое, и владетелем оного назначен полковник Аслан-Хан Кюринский. Взято в казенное управление Нухинское ханство в 1822 году. В 1823 году изгнан хан Ширванский в Персию без сопротивления и ханство взято в казенное управление».
Мустафа-хан Ширванский был изгнан, как мы знаем, в 1820 году. Но суть не в мелких неточностях. Если вспомнить судьбу ханств Шекинского и Карабахского, то картина выглядит убедительно. Дело сделано.
Но Алексей Петрович ошибался не только в отношении настроений жителей ханств, за столетия привыкших к своим естественным властителям-единоверцам.
Было еще одно роковое последствие этого торжества европейской гуманности и целесообразности.
Оказалось, что с ликвидацией системы ханств русские власти потеряли пускай «позорную» и ненадежную, но единственную все же опору в Дагестане. Была взорвана традиционная система баланса сил. И вместо самодержавных квазигосударств, по характеру власти родственных самодержавной России и потому психологически понятных русскому генералитету, командование Кавказского корпуса оказалось лицом к лицу с вольными горскими обществами, жившими по совершенно иным законам и готовыми к ожесточенному сопротивлению. Ханы могли бежать в Персию, унося с собой накопленные ценности и уводя свои семейства. Вольным общинникам этот путь был заказан. Они могли отступить в горные трущобы и продолжать борьбу, могли смириться под картечью и штыками на время и восстать при первом же подходящем случае.
Именно вольные горские общества — военно-демократические образования — не имея противовеса в виде ханств, станут вскоре опорой первого имама Кази-муллы, а затем и великого имама Шамиля.
Европейская просвещенность и острый ум Ермолова парадоксально сочетались с имперским высокомерием и ограниченностью представлений, мешавшими предвидеть плоды собственных действий.
Унификационное сознание Российской империи не делало различий между ханствами и вольными обществами, равно считая их сырым материалом для превращения в покорных подданных.
При всей уникальности своей личности Алексей Петрович в этом отношении был плоть от плоти именно Российской империи, несмотря на его римские претензии.
Ломая систему ханств, он не в состоянии был предвидеть, что таким образом расчищает дорогу явлению куда более грозному — имамату.
Имамы Кази-мулла, Гамзат-бек и особенно Шамиль — так же как Цицианов и верный его заветам Ермолов — стремились ликвидировать институт ханской власти, мешавший слиянию народов Северо-Восточного Кавказа в единую вооруженную общность, способную противостоять экспансии с севера.
В борьбе против ханов Цицианов с Ермоловым и имамы оказались союзниками. Разрозненные, неустойчиво сбалансированные действия ханов сменила централизующая, единонаправленная воля имамов. Свирепые и корыстные ханы, несмотря на их тяготение к Персии, стали бы естественными союзниками России в борьбе с имамами, ибо построение единого теократического государства на Кавказе означало их фактическую ликвидацию.
Просветительская, гуманизаторская, цивилизаторская — с его европейской, «римской» точки зрения — доктрина Ермолова решительно сработала в этом случае против интересов России, создав идеальные предпосылки для объединения вольных обществ и освободившихся от локальной деспотии жителей ханств под властью теократического лидера.
Впереди были десятилетия тяжелой войны. Но Алексей Петрович считал иначе.
5 марта 1820 года Ермолов отправил Закревскому письмо, впервые с первых месяцев кавказской эпопеи проникнутое оптимизмом:
«Здесь разнесся слух, что меня отзывают и другой назначен на мое место начальник. Многие письма то подтвердили, и ты представить себе не можешь, какая была радость князей и дворянства грузинского, и в сем чувстве с ними сравнялись одни чеченцы, которые в восхищении. Грузины думают, что они сыщут тоже виновное снисхождение, каковым пользовались они при моих предместниках, а чеченцы ожидают, что можно будет безнаказанно продолжать те же хищничества и разбои, которые прощались им 30 лет. Надо сказать справедливо, что между теми и другими мало весьма разницы в чувствах и правилах! Трудно поверить, какое делает влияние на дела наши отъезд мой, из чего заключаю я, что не самый я приятнейший начальник. Впрочем, не тебя уверять я должен, что не корыстолюбие, лихоимство и неправосудие причиною сей ненависти. Одна строгость во мне не любима и, что пред лицом справедливости не имеют у меня преимущества знатный и богатый пред низкого состояния и бедным человеком — вот преступление!
Чеченцы мои любезные — в прижатом состоянии. Большая часть живет в лесах с семействами. В зимнее время вселилась болезнь, подобная желтой горячке, и производит опустошение. От недостатка корма, по отнятии полей, скот упадает в большом количестве. Некоторые селения, лежащие в отдалении от Сунжи, приняли уже присягу и в первый раз чеченцы дали ее на подданство. Теперь наряжается отряд для прорубления дорог по земле чеченской, которые мало-помалу доводят нас до последних убежищ злодеев.
Скоро, любезный друг, прекратятся продолжительные и горькие оскорбления бедных наших жителей Кавказской линии. Тебе приятно было бы слышать, как благодарят меня. Не раз упоминал я тебе о благоприятствующем мне счастии. И точно, надобно мне стоять пред ним на коленях, ибо здесь все предприятия мои успевают скорее, нежели я предполагаю. В одних подобных расчетах не погрешаю я несносною моею нетерпеливостью!
Девять месяцев в году, определенные мною на кочевую жизнь, образ жизни строгой и неприхотливой, делающий меня чрезвычайно подвижным, заставляют меня чрезвычайно страшиться. Всем кажется, что я иду и если нет где меня — не верят, чтобы я не пришел. Здесь делаю я сие по расчету и вижу большую пользу.
Недавно, проходя в Дербент, пустился я горами отыскивать кратчайшую военную дорогу. Со мною было 800 человек пехоты, 35 казаков и ни одного орудия. Всюду принят был с трепетом и всем казалось силы со мною несметные. Два тому года назад я не смел бы сего сделать. Выгоды сии доставил мне последний поход мой в горы. Теперь повиновение неимоверное и везде, где войска проходили, жители — подданные России, чего доселе не понимали».
И в следующем абзаце: «Не бранили ли вы меня за приказ в роде римского».
Он упорно не дает Петербургу забывать, что он не просто главнокомандующий корпусом, но проконсул, ведущий в бой легионы.
10 февраля 1819 года он писал в письме Денису Давыдову: «Я прошел трудными дорогами до самых неприступных утесов Кавказа, и далее уже не было пути. Появление войск наших в тех местах, где никогда еще они не бывали, преодоленные препятствия самого положения земли, рассеяли величайший ужас. Возмутившиеся наказаны, и вознаграждены сохранившие нам верность. Одному из сих последних дал я в управление 16 т. душ с обширною и прекрасною страною. Так награждает Проконсул Кавказа».
«Проконсул Кавказа» — а не главноуправляющий Грузией и командир корпуса…
Он упорно настаивал именно на этом звании.
6 января 1820 года Давыдову: «Я многих по необходимости придерживался азиятских обычаев, и вижу, что Проконсул Кавказа жестокость здешних нравов не может укротить милосердием».
30 марта 1821 года из Петербурга тому же Давыдову: «Дни через два еду я в Лайбах: желание сократить бесполезное мое здесь пребывание и удаление от моих легионов понудило меня искать позволения ехать туда».
О самой ситуации речь у нас пойдет дальше, а сейчас нам важна терминология, на которой настаивает Алексей Петрович: «проконсул», «легионы».
Это была опасная игра, рискованность которой Алексей Петрович в гордыне своей не сознавал. Сопоставление с Цезарем, бытовавшее в столичном обществе, наводило на мысль о дальнейшей судьбе удачливого и любимого солдатами полководца. Императоров делали легионы.
Этот цезарианский стиль тревожил уже и Александра, а Николая пугал и раздражал…
Разумеется, не одному Ермолову казалось, что в процессе замирения края наступил перелом и что титанические его усилия принесли свои явные плоды.
24 сентября 1820 года Пушкин, вернувшийся с Кавказа, где он путешествовал с семьей Раевских, в Кишинев, место своей ссылки, писал брату Льву: «Кавказский край, знойная граница Азии — любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои — излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная страна, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет преградою в будущих войнах — и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии».
В этом письме все важно. И ощущение замирения Кавказа — ощущение по сути своей ложное, но симптоматичное. И всплывший в памяти молодого Пушкина план похода в Индию, разработанный сначала Бонапартом и Павлом I, а затем Наполеоном и Александром I. Пушкину во времена Тильзитского мира, когда возникали эти «химерические» проекты, не было еще десяти лет. Вряд ли он тогда ознакомился с этими замыслами. Стало быть, идея прорыва к Индии через Персию — мирно или вооруженным путем — жила в русском общественном сознании и связана была в 1820 году с Кавказом и «благотворным гением» Ермолова.
Ощущение выполненной задачи, явная эйфория от военно-дипломатических успехов подтолкнули Алексея Петровича к некоторому смягчению своей позиции по отношению к покорившимся.
Так, сразу после разгрома акушинцев и бегства аварского хана, он обнародует «Извещение» одному из вольных горских обществ, расположенных рядом с землями акушинцев, — обществу Гамри-Юзенскому, являющему по сравнению с установками Ермолова предшествующих лет образец лояльности по отношению к горским обычаям.
Обществу, что чрезвычайно важно, оставлено было в полном объеме собственное традиционное управление. В отличие от ханств, поступивших под управление русской администрации, с общества не требуется никакой дани. Наконец, в «Извещении» отсутствует требование, которое неизменно оказывалось невыполнимым и лишало русские власти и горцев возможностей компромисса, — требование не пропускать через свою территорию враждебные русским отряды.
Три года не прошли даром. Ермолов постепенно приходил к выводу, что нужна избирательная политика по отношению к разным народам и обществам.
Отношение к чеченцам у него было особенное. Он считал их наиболее опасными и непримиримыми и, соответственно, выбирал тон разговора.
В ответ на предложение засунженских чеченцев о переговорах и поисках компромисса Алексей Петрович ответил 30 мая 1818 года: «Вот мой ответ: пленных и беглых солдат не медля отдать. Дать аманатов из лучших фамилий и поручиться, что когда придут назад ушедшие в горы, то от них будут взяты русские и возвращены.
В посредниках нет нужды и потому не спрошу я ни Турловых, ни Бамат-Девлет-Гирея, ни Адиль-Гирея Тайманова. Довольно одному мне знать, что я имею дело с злодеями.
Пленные и беглые или мщение ужасное!»
Послание это свидетельствует о наличии весьма болезненной для русского командования проблемы — бегство солдат к горцам. И если пленных, захваченных при набегах, чеченцы могли вернуть, то многие из беглецов принимали ислам, и выдача их была страшным преступлением против веры. Чеченцы не могли пойти на это, и «мщение ужасное» становилось реальной угрозой.
Надо сказать, что через некоторое время Ермолов понял чрезмерность этого требования и фактически от него отказался.
Он тщательно отслеживал перемещения непокорных групп чеченцев и преследовал их неумолимо.
Где бы он ни находился, он внимательно следил за действиями полковника Грекова, которому поручено было приводить чеченцев к покорности всеми средствами, не только терроризируя их оружием и голодом, но и восстанавливая друг против друга.
Алексей Петрович очень быстро понял ту роль, которую могут сыграть чеченцы в тотальном сопротивлении имперской экспансии, и старался превентивными мерами минимизировать их возможности.
15 марта 1820 года из Моздока, с границ Кабарды, он отправил Грекову инструкцию, можно сказать, энциклопедического характера.
«Ответствую на записку вашу, в проезд мой полученную:
Согласен, что одно стеснение чеченцев в необходимых их потребностях может им истолковать выгоду покорности и я давно уже разрешил вам употреблять к тому возможные средства. Вы достигли уже одного из главнейших: из рапорта вашего ген.-м. Сталю увидел я, что вы открыли дорогу даже на плоскость, близ Гребенчука лежащую. Сближение с сим убежищем разбойников немало послужит к смирению их. Знаю я, что в удобное время не дадите им заниматься работою и тем сделаете способы пропитания их самих и скота во многом зависящими от вас.
Справедливо и то, что содержа их в опасении и боязни, покорность живущих на Сунже деревень будет надежнейшею. Теперь, содействуя вам, они большое оказали повиновение.
Предоставляя вам оказать снисхождение тем из чеченцев, которые на основании сел. Алды будут согласны принять подданство (кроме Горячевской и Найбердинской деревень), и тех, кои, прежде дав присягу, оной изменили, стараться впоследствии времени схватить, как зловредных и доверия не заслуживающих людей, объясняя прочим, что сие есть неизбежное наказание изменников. Разумеется, что сему должны подвергнуться одни главнейшие из злодеев и сообщники известному мошеннику. Против таковых не у места великодушие и вразумительна им одна сила.
Если которые из селений, лежащих по левому берегу Сунжи, будут замечены вами употребляющими во зло данную им свободу пользоваться землею богатою и изобильною и вредные будут иметь связи с непокорствующими нам, таковых предоставляю вам удалить за р. Сунжу. Если противиться будут, то понудить оружием. Думаю, однако же, что полезна на некоторое время терпеливость, ибо надеюсь, что в нынешнее лето успеете вы построить редут на известном месте, близ Алхан-юрта, и хорошо, если соседственные селения препятствовать не будут. По окончании работ можно их выгнать и на зимнее время сие наказание гораздо чувствительнее».
Он не был ни злодеем, ни садистом. Он чувствовал в чеченцах наиболее грозного противника и действовал сообразно общей задаче замирения края.
Когда же он видел другие пути по отношению к другим народам, он охотно по ним следовал.
24 мая 1819 года — а этот год он считал самым тяжелым для себя, — готовясь к решительной борьбе с дагестанскими народами, он наставлял коменданта Владикавказа:
«Обращая внимание, что народ Ингуши, будучи от природы кроткий и трудолюбивый, занимаясь скотоводством и хлебопашеством, не имеет никакой религии, кроме некоторых идолопоклоннических обрядов, а потому желая предупредить могущий последовать ему соблазн со стороны соседей мухаммеданского исповедания, относился я к преосвященному экзарху Грузии с тем, не рассудит ли он послать туда одного или двух миссионеров, известных как поведением своим, так и отличными качествами, которые, находясь посреди самих ингуш, или в близлежащих к ним Российских укреплениях, могли бы примером кротости и благочестия открыть им учение Евангелия и присоединить их к православной Христовой церкви.
Преосвященный экзарх к приведению сего в действие избрал Тифлисского Сионского собора протоиерея Александра, который вместе с сим и отправляется к ингушам.
Объяснив цель предприятия сего, я предписываю вам, по прибытии означенного протоиерея, немедленно снабдить его хорошим переводчиком и, поручив военному начальству в Назрани, чтобы оказываемо было ему всякое по сему поручению пособие, не оставлять его оным и с вашей стороны».
Христианами ингуши не стали, и кротость их Алексей Петрович преувеличил, но сама попытка, восходящая к идеям Мордвинова, — симптоматична.
Нет сомнения, что Алексей Петрович внимательно изучил записку почитаемого им адмирала Мордвинова, полученную незадолго до отъезда в Тифлис.
Основополагающая формула Мордвинова: «Таковых народов оружием покорить невозможно» — явно Алексея Петровича не убеждала. Именно на оружие он и возлагал главную свою надежду. На воздействие оружием и на угрозу оружием.
Хотя, конечно, не мог не согласиться с описанием тех тягот, которые предстояли, по мнению адмирала, новым конквистадорам.
Из всей записки ему принципиально близок был известный нам пассаж: «…Россия должна иметь иные виды; не единую только временную безопасность и ограждение своих нив и пастбищ. Пред нею лежат Персия и Индия. К оным проложить должно дороги и сделать их отверстыми и безопасными во внутренность России. Европа устарела и требует мало от избытков наших; Азия юная, необразованная, теснее может соединиться с Россиею».
«Пред нею лежат Персия и Индия» — напоминание о старой петровской идее, «химерической идее» Наполеона, как назвал ее Пушкин. Но и любимой мечте самого Ермолова, мечте, преграду которой поставила осторожная политика Петербурга. Великие примеры Александра Македонского, Цезаря и Наполеона были, увы, не внятны Нессельроде. Да и Александру Павловичу, утомленному европейскими делами и вообще усталому от жизни.
Но если было запрещено — хотя бы временно — продвижение в Азию через сокрушенную Персию, то был и другой путь.
Мордвинов писал: «К стороне Бухарин полезно было бы поставить себя на твердой ноге, дабы привести в зависимость народы хищные, отделяющие Россию от сей богатой части Азии; нужно соделать сильную колонию на Каспийском море при заливе, называемом Красноводский или Огурчинский, смежном с Хоросанскою провинциею. Занятие сего места в видах военных и торговых представляется важнейшим на Каспийском море. Из оного места владычествовать можно на севере против трухменцев и на востоке против хивинцев. В оном соединиться может торговля сухим путем из богатейшей восточной части Персии, Бухарин и северной Индии, а морем из Астрахани и Баку».
Полномочий для действий на восточном берегу Каспия у Ермолова не было — это была территория вне российских границ. Но, во-первых, это был путь в Азию, минуя Персию. Во-вторых, обитающие там туркмены — «трухменские племена» — враждовали с персами. В-третьих, Хивинское и Бухарское ханства тоже были в напряженных отношениях с этой «региональной сверхдержавой». Стало быть, можно было не только отыскать желанные пути в Индию, но найти союзников в случае войны с Персией.
Опальный уже Ермолов, рассказывая Погодину об этой, в общем-то, авантюре, говорил: «Я послал в Хиву Муравьева на свой страх и ответственность. Если бы я просил дозволения, то никак не получил бы его: пошли бы опросы да расспросы, ноты и переговоры».
Скорее всего, Петербург без всяких расспросов и нот просто запретил бы Алексею Петровичу расширять сферу своей деятельности.
10 июня 1819 года генерал от инфантерии Ермолов вручил в Тифлисе гвардейского Генерального штаба капитану и кавалеру Муравьеву подробную инструкцию: «Назначив экспедицию к Трухменским берегам, все поручения, относящиеся до обитающих по оным народов, возложил я на состоящего по армии майора и кавалера Пономарева.
Вместе с ним отправляетесь и ваше высокоблагородие, и обязанности ваши состоят в следующем:
1. Выбор удобного места на самом берегу моря для построения крепостицы, в которой должен быть склад товаров наших. Место сие не должно быть слишком близко к владениям персидским, чтобы не возбудить опасения против нас; ни близко слишком к Хоросану, дабы караваны с товарами (которые впоследствии правдоподобно к нам обратятся) не подвергнуть нападениям народа хищного.
Главнейшее затруднение в выборе места происходить будет от недостатка пресной воды, и на изыскание оной должно быть обращено все тщательнейшее внимание, ибо всякий другой порок в самом местоположении может при учреждении крепостицы быть исправлен искусством».
Далее следовали подробные советы как Муравьеву, так и Пономареву относительно дипломатических приемов в сношениях с Хивой.
Но все эти разговоры о будущей торговле и дружбе между русским царем и хивинским ханом были далеко второстепенны. Главное заключалось в третьем пункте, обращенном исключительно к Муравьеву:
«3. Если невозможно будет предпринять путь в Хиву, определенный при экспедиции армянин Петрович, имеющий знакомства между трухменцами, доставит Вам случай быть между ними и Вам поручаю я иметь старание изведать:
а) Какие силы сего народа в военном отношении?
Какого рода употребляемое оружие?
Не имеют ли они недостатка в порохе?
Имеют ли они понятие об артиллерии и в войнах против соседей желали бы употребления оной?
Можно ли будет из них самих составить по крайней мере нужную прислугу для некоторого числа орудий?
б) Исследовать расположение их к персиянам. Прошедшая с ними война дала много случаев заключить о вражде, между ними существующей.
Каковы отношения их к жителям Хоросана и нет ли вражды, обыкновенной между соседей?
Принимают ли участие в войне Хоросана против Персии и воспомоществуют ли первому освободиться от ига персиян?
Какого рода пособия дают они хоросанцам и что служит их условием?
Ваше высокоблагородие, можете сделать и другие полезные исследования, которым может дать повод Ваше между ими пребывание, более, нежели, что могу я предписать, а паче о народе почти совершенно нам неизвестном. Я от способностей Ваших и усердия могу себе обещать, что не останутся бесплодными делаемые усилия войти с трухменским народом в приязненные сношения и что доставленными сведениями облегчите Вы путь к будущим правительства предприятиям».
Короче говоря, Ермолов поручал узнать Муравьеву, которому доверял, — можно ли будет в случае войны с Персией вооружить и использовать туркменов.
Хоросан — точнее, Хорасан — появился не случайно. Эта обширная область, населенная разными народами, в том числе воинственными туркменами и курдами, — находилась в состоянии мятежа против Персии. Подкрепленные кочевыми туркменами восточного берега Каспия, снабженными оружием, порохом, а возможно и артиллерией, объединившись с хорасанцами, русские могли нанести удар по Персии с границ, противоположных российским, и поставить Аббас-мирзу в положение катастрофическое.
Характерно, что проводником Муравьева в его рискованном путешествии в Хиву и доверенным лицом стал туркмен Сеид, который «славился разбоями, которые он производил в Персии».
Муравьев с неимоверными трудностями добрался до Хивы и едва не сложил там голову. Но хивинский хан все же не рискнул навлечь на себя месть проконсула Кавказа. Муравьев был отпущен с подарками и уверениями в дружбе. Сколько-нибудь серьезного политического значения это путешествие не имело, но доказало саму возможность достигнуть Хивы этим путем — через Каспий.
Ермолов, однако, не оставлял надежды основать крепость у Красноводского залива и установить прочные связи с туркменами.
Экспедиция Муравьева не вызвала недовольства в Петербурге. По представлению Ермолова Муравьев был произведен в полковники свиты его императорского величества по квартирмейстерской части.
В марте 1821 года Алексей Петрович отправил Муравьева в новую экспедицию уже исключительно для выбора места, где можно было бы поставить укрепления и — быть может, главное — завязать прочные связи с туркменами.
В Петербурге, очевидно, не определили своего отношения к тому, что делал проконсул Кавказа на территории, ему не подвластной. Определенных планов относительно Закаспия у властей не было. Важно было не спровоцировать Персию и не слишком раздражить англичан.
Поскольку подобной опасности Нессельроде не увидел, то и сколько-нибудь отчетливо отрицательной реакции из столицы не последовало.
Равно как не последовало и разрешения строить крепости и создавать экспедиционный корпус на восточном берегу Каспия.
И этот порыв Ермолова, как и «персидский план», был остановлен.
В 1822 году полковник Николай Николаевич Муравьев выпустил описание своих путешествий 1819 и 1821 годов отдельной книгой в Москве.
Через много лет добытые им сведения пригодились при завоевании Средней Азии.
Надо сказать, что Алексей Петрович внимательно следил за европейской политической ситуацией, возможно, догадываясь, что катаклизмы в мире могут отозваться и в его судьбе.
В мае 1820 года, информируя Закревского о мятежах в Гурии и Имеретии и активизации чеченцев, он неожиданно переходит к революции в Испании: «Я, как житель Азии, говорю вам о бунтах, но вы, просвещенные обитатели Европы, вы то же делаете, только что у вас слово бунт заменяется выражением революции. Не знаю, почему это благороднее? Однако же и при сем том в Гишпании возмутились войска, к ним пристал народ, и то, чтобы приличествовало испросить у короля, у него вырывают силой. Прекрасные способы! Хороши и написанные к нему письма! Какой неблагоразумный поступок, оскорблять то лицо, которое и при перемене правления должно остаться первенствующим. Это — приуготовлять собственное уничтожение! Скажите, сделайте одолжение, вас что заставляет все эти мерзости печатать в русских газетах? Неужели боитесь вы отстать в разврате от прочих? Нам не мешало бы и позже узнать о подобных умствованиях, которые, конечно, ничего произвести у нас не в состоянии, но нет выгоды набить пустяками молодые головы».
Речь ретрограда? Не так просто. Во-первых, нужно помнить испытания, которым судьба подвергла молодого Ермолова. Ему инкриминировалось оскорбление начальства вообще и императорского величества в частности. Этот урок Алексей Петрович запомнил на всю жизнь и уже в старости говорил, что он благодарен Павлу Петровичу, осадившему его в самом начале пути, иначе он мог зайти очень далеко и вообще погибнуть.
Во-вторых, обратим внимание на весьма значимую фразу: «то, что приличествовало испросить у короля, у него вырывают силой». То есть общество имеет право испрашивать у высшей власти перемены, но бунтовать нельзя…
30 ноября 1820 года он писал своему другу Кикину: «Что за вздоры происходят у вас в мире просвещенном? Головокружение хуже чумы нашей, а укрощать и ту болезнь не легче; у нас та выгода, что восстающих против законной власти и разрушающих установленный порядок просто называют бунтовщиками и их душат, ибо напрасен труд вразумлять не рассуждающих, а при переворотах таковыми является большая часть людей; движущие же пружины в малом всегда числе или многосложная машина сама собою повреждается. Не нравится мне новый характер революций, производимых армиями. Если сии последние способствовали иногда властолюбивым удерживать народы в порабощении, то сколько же раз были оградою внутреннего царств спокойствия, благоденствия народов. Не в нынешние времена могут быть армии слепыми орудиями власти, следовательно не им приличествует содействовать к разрушению оной! Просвещение открывает народам пользу их, научает властителей не пренебрегать общим мнением и довольно! Кто нынче не разумеет, что лучше сегодня дать добровольно то, что завтра может быть вырвано насилием. Достоинство есть свойственный вид власти, ей приличествует дар добровольный, не совместно соглашение, а народы не менее воспользоваться могут им принадлежащим».
То есть, что касается России и Европы, Алексей Петрович верил в необходимость и неизбежность разумных реформ.
То, что происходило в 1820 году — военные революции в Испании и в Неаполе представлялись ему разрушительными и требующими скорых и энергичных действий.
«Владыкам, собравшимся на конгресс в Троппау, нельзя терять столько времени, как на конгрессе в Вене. Соседней Франции пожар не благоприятен. Гишпанцы не взяли за образец хартию Людовика XV, следовательно можно думать, что есть что-нибудь лучшее».
Но если военную революцию полковников Риэги и Квироги он хмуро не одобряет, то народный мятеж вызывает его откровенное презрение: «Неаполитанцы прикидываются, будто чувствуют себя людьми; впрочем, для беспорядков много годных инструментов, и если ладзарони возмечтают, что революция может дать им лучшую пищу, нежели излавливаемые в море черви, то и ими пренебрегать не должно».
Лаццарони — неаполитанские низы, профессиональные нищие и поденщики, своим участием делают неаполитанскую революцию недостойной уважения.
Но все рассуждения относительно европейских катаклизмов имеют для Ермолова смысл прежде всего применительно к России.
Он сознавал, что любые его проекты, любая возможность удовлетворения честолюбия — все это реально только тогда, когда за ним стоит могущественная империя. Разрушение системы в России создавало бы совершенно новую ситуацию, к которой он не был готов. Как политик он мыслил исключительно традиционно.
И в этом отношении о многом свидетельствует его разговор с генерал-майором Михаилом Фонвизиным, его любимым адъютантом времен 1812 года.
Декабрист Якушкин свидетельствует: «В Москве, увидев приехавшего к нему М. Фонвизина, который был у него адъютантом, он воскликнул: „Поди сюда, величайший карбонарий“. Фонвизин не знал, как понимать такого рода приветствие. Ермолов прибавил: „Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он вас так боится, как я бы желал, чтобы он меня боялся“».
Ситуация любопытная. В 1819 году Алексей Петрович дважды просил Закревского ходатайствовать перед императором за Фонвизина. Первый раз по поводу производства его в генерал-майоры, а второй — желая получить его к себе, в Грузинский корпус. После возмущения в Имеретии 8 апреля 1820 года Ермолов обращается с просьбой непосредственно к Александру прислать уже генерал-майора Фонвизина, с тем чтобы сделать его правителем усмиренной Имеретии, где необходим был умный и тактичный человек, которому он мог полностью доверять.
Стал бы он это делать, если бы до него дошли сведения о «карбонарстве» Фонвизина, то есть его участии в тайном обществе? Трудно ответить.
Очевидно, будучи в 1821 году в Лайбахе и разговаривая с Александром, Алексей Петрович напомнил о своей просьбе и получил от императора недоброжелательный отзыв о своем бывшем адъютанте.
Отсюда и полуироническое приветствие во время встречи в Москве, где Ермолов остановился на обратном пути из Лайбаха на Кавказ.
Но для нас важно не это. Важна фраза о страхе императора перед оппозиционными офицерами, а главное, пожелание, чтобы Александр боялся его, Ермолова.
Это был простой и традиционный для России вариант — самовластие, ограниченное не обязательно удавкой (по мадам де Сталь), но опасением генеральского неудовольствия. Армия не должна производить революций, но властители обязаны учитывать интересы и настроения генеральской элиты.
Если бы император боялся Ермолова, то Алексею Петровичу легче было бы осуществлять свои грандиозные планы…
Русское общество — и консервативная, и либеральная его части — придерживалось вполне определенной точки зрения. Если консерваторы толковали о «цезаризме» Ермолова, то осведомленные либералы не исключали его вмешательства в события в случае успеха тайного общества.
В дневнике Александра Тургенева 1836 года есть запись, формулирующая его с Пушкиным мнение относительно позиции Ермолова и других «кандидатов в Наполеоны» в период перед 14 декабря: «О Михаиле Орлове, о Киселеве, Ермолове. <…> Знали и ожидали, „без нас не обойдутся“».
По мере того как у Александра накапливались сведения о брожении в армии и деятельности тайных обществ, менялось и его отношение к Ермолову.
После смерти Александра в его бумагах обнаружился документ, по своему смыслу для императора трагический. Историки датируют его 1824 годом.
«Есть слухи, — записывает император, — что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит или по крайней мере сильно уже разливается и между войсками; что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии. Ермолов, Раевский, Киселев, Михаил Орлов, граф Гурьев, Дмитрий Столыпин и многие другие из генералов, полковых командиров, сверх того большая часть разных штаб и обер-офицеров».
Это потрясающий документ, многое объясняющий в депрессивном состоянии Александра в последний период его жизни. Он подозревал, что фактически вся армия — его детище! — абсолютно неблагонадежна.
И симптоматично, что имя Ермолова стоит на первом месте…
У императора не могло быть сколько-нибудь конкретных сведений о принадлежности Ермолова к тайным обществам, поскольку он не имел к ним никакого отношения. Но до него могли доходить сведения о резких высказываниях Алексея Петровича, а возможно, и кое-что из содержания его писем тому же Закревскому.
Мы уже говорили, ссылаясь на Дениса Давыдова, о распространении писем Ермолова в достаточно широком кругу. Ермолов знал это и опасался последствий.
13 апреля 1820 года он писал Закревскому: «Сделай одолжение, письма мои по получению истребляй немедленно. Как ты, аккуратнейший человек в мире, пренебрег сию необходимую осторожность? Теперь насядут на меня граф Витгенштейн, барон Сакен, граф Коновницын, граф Нессельроде, все исчадие графа Тормасова и неприятно будет брату Михаилу и графу Каподистрии, о коих пишу в письме сем, что пришло мне в голову. <…> Мой образ писем, если каким-нибудь образом откроется, не сделает мне пользы…»
Зачем же он писал эти письма, понимая, как и чем рискует? Только ли желчь и личные обиды водили его пером? Только ли непреодолимая тяга к острому слову и саркастическое отношение к знатным своим сослуживцам?
Вопрос непростой.
В письмах Закревскому он и в самом деле позволял себе многое. Когда он говорил о своей «пламенной натуре», то не преувеличивал. Он конечно же был человек страстей. И эти страсти требовали выхода. Письма давали эту возможность.
Когда он получил известие о производстве его вне очереди в генералы от инфантерии, то ликующе писал Закревскому: «Вы одержали важную победу над супостатами разных племен и закона. Все попались под один почерк!
Я воображаю, какими смотрели на вас глазами обиженные. Нельзя было им не догадываться, что ты и Петрахан (прозвище князя П. М. Волконского. —
Прямо скажем, невысоко ценил Алексей Петрович своих сослуживцев и соратников по недавним войнам.
И далее идет принципиальный пассаж, полный уже не столько личного, сколько, так сказать, социального смысла:
«Я могу большим числом считать умножившихся друзей моих, ибо не против одних только виноват я старших (ранее его получивших чин генерал-лейтенанта. —
Что бы ни говорил Алексей Петрович, ясно, что его тяжко угнетали незнатное происхождение и бедность. И его гордыня — требование, чтобы не «уродовали» его фамилию графским титулом, резко подчеркнутое бескорыстие, в частности, отказ от аренды (возможности получать доход с земель, пожалованных на время), которую ему предлагал император, его желание остаться «простым солдатом» — все это была твердая компенсация за незнатность и бедность. Все, что он приобретал — чины, должности, славу, — всем этим он был обязан себе, своей шпаге. Вот тут вставал в полный рост шевалье Ермолов, выученик Каховского и Дехтярева!
Когда в письмах он неоднократно называет себя «простолюдином», будучи дворянином с многовековой родословной, то естественным образом на память приходит «Моя родословная» Пушкина, объявившего себя «мещанином».
Это был протест против «новой знати», против придворных парвеню, против сыновей, эксплуатирующих заслуги отцов.
Тех, кого Алексей Петрович не любил, он и не щадил.
Он внимательно следил за назначениями в армии и все происходящее примерял на себя.
«Удивлен я назначением Капцевича…» Под командой генерала Капцевича Ермолов служил после ссылки молодым подполковником и относился к нему презрительно. Теперь он узнал, что Капцевич назначен командовать Отдельным Сибирским корпусом, и счел это обидой для себя — их уравняли. Капцевич, возможно, был малоприятным человеком, но во время Наполеоновских войн он проявил себя вполне достойно… Самооценка Алексея Петровича не давала ему примириться с происшедшим: «После сего пусть осмелятся усомниться, что я вскоре буду командовать армией. Мне подобные назначения много придают гордости, ибо жду своей очереди, но и нельзя не жалеть того, что вы не можете ни от кого отделаться. Я предсказываю вам, что скоро потребую армию и как вы от меня избавитесь, если хотя мало у вас есть совести. Я покажу по соразмерности на Капцевича и прочих».
Это мало похоже на шутку. Это раздражение, доходящее до ярости.
«…Скоро потребую армию…»
Если не удастся «персидский проект», не получится выйти на оперативный простор Азии, то меньше чем на командование одной из двух российских армий он не согласен…
Не то чтобы Алексей Петрович был мелко злопамятен, но обид он не прощал — никому.
В 1818 году он отправил императору письмо — как он потом подчеркивал, а не «донесение», в котором резкими красками обрисовал вопиющий беспорядок в управлении Закавказьем и просил прислать сенатскую ревизию.
Письмо, должно быть, выглядело совершенно непривычным потону.
10 августа 1818 года он писал Закревскому: «Правду и весьма правду говоришь, почтеннейший брат Арсений Андреевич, что письмо мое зло и тебе не должно нравиться; но кто мог ожидать предательского способа, каковым с ним поступлено».
«Предательски» с доверительным письмом Ермолова поступил император. Чтобы так назвать поступок Александра, нужно было глубоко оскорбиться.
9 июля он отправил Закревскому объяснение своей оскорбленности:
«Я послал тебе с последним фельдъегерем письмо, которое писал я государю в рассуждении беспорядков в Кавказской губернии и просил ревизора из сенаторов также и для Астрахани. Что, думаешь ты, сделалось с сим письмом? Конечно, не угадаешь. Его принял он как донесение и отправил в копии в комитет министров. Вот твой способ внушить в меня доверенность. Таким способом можно заставить молчать и о самой правде, какая выгода может быть поссорить меня со всем светом».
То есть письмо попало к тем, кто не в последнюю очередь был ответствен за те безобразия, о которых Ермолов поведал императору.
Требование сенатской ревизии означало недоверие к министерствам и должно было восприниматься как вызов.
«После сего станут еще сомневаться, что простосердечие мое не вредит мне».
Сложность и многообразие ермоловской натуры поражают. Когда он толкует о своем «простосердечии», он не лукавит. Он и в самом деле был простосердечен. Он поверил в особые отношения между ним и императором. Его доверчивость была грубо обманута. Его отдали на растерзание.
Он не простил императору обманутого доверия.
«Конечно, после сего и самую правду буду я говорить сквозь зубы, если за нее должен я покупать себе злодеев, которыми и без того очень изобилую. Воображаю, как на меня дуются министры и какие готовы делать мне пакости, но я не буду сердиться и в свою очередь буду сколько возможно истреблять, хотя весьма уверен я, что сражения не всегда будут в мою пользу. Жалею, но поздно, друг любезный, о сем письме и признаюсь, что не надеялся такого поступка».
Постоянной его обидой было недоверие власти к его мнению в персидских делах.
«Фельдъегерь везет кучи бумаг к Нессельроде и Каподистрии. Моя политика как-то не встретилась с нынешними правилами благочестия, основанном на священном законе; надо было пространное объяснение. Предложения мои не годились, и я по данным мне наставлениям должен вести дела мои с Персиею точно в духе христианства и истин библейских».
Закревский, конечно, понял. В Петербурге господствовало весьма своеобразное явление, которое получило название «официального мистицизма». Главным действующим лицом был Александр. Когда Ермолов уезжал в Грузию, большие привилегии получило Библейское общество, занимавшееся переводом Библии на языки российских окраин и ее распространением.
Ни для взаимоотношений с горскими народами, опиравшимися на свою веру и традиции, ни тем более для дипломатических сношений с шиитской Персией мистическое христианство, которое стали демонстративно исповедовать российские вельможи, чтобы подольститься к Александру, отнюдь не годилось.
Ермолова раздражало, что ему мешают вести дело так, как от него требовали обстоятельства и его знание ситуации.
«Кто хотя мало знает персиян, никак на сие согласиться не может. Я знаю обязанность повиновения и в строгом смысле буду поступать как приказывают, но дабы не упрекнули, что я не сказал своих мыслей и желая оправдать впредь поведение, я написал свое мнение, смирив сколько возможно перо мое, которое нередко следует за кипящим моим характером».
Не таких отношений ждал он с Петербургом, отправляясь на Кавказ. Мы помним его эпическую записку с требованием абсолютных полномочий.
Теперь ему навязывали образ действий те, кого он не слишком уважал.
Тем не менее он «со свойственным ему упрямством» (как выразился некогда Витгенштейн) пытался убедить Петербург, что война с Персией грядет неминуемо и поведением «в духе христианства и истин библейских» Аббас-мирзу не замирить.
Он явно продолжал тайные отношения со старшим сыном шаха, опальным владетелем Курдистана. И когда Денис Давыдов свидетельствовал, что Мухаммад-Али-мирза сетовал на бездействие Ермолова и даже жаловался в Петербург, то сведения его подкрепляются документально.
31 октября 1821 года Нессельроде отправил Ермолову сдержанно-раздраженное послание, в котором проконсулу Кавказа еще раз и окончательно дали понять, что его антиперсидские затеи категорически не одобряются императором и действовать он должен по букве Гюлистанского трактата, то есть поддерживать законного наследника Аббас-мирзу. Никакие доводы Ермолова, никакие факты, свидетельствующие о ненависти наследника к России и о намерении его начать войну, ни Александра, ни Нессельроде не убеждали.
Активность Мухаммада-Али-мирзы в борьбе за престол и надежда его на помощь России подтвердились самым убедительным образом.
Он был отравлен.
Через два месяца после фактического выговора, полученного от Нессельроде, Ермолов с очевидной горечью сообщил министру: «Мамад-Али-мирза умер. Наследник не имеет уже могущего оспаривать престол страшного соперника. Англичане избавились от человека, в твердом и решительном характере которого видели они разрушение некогда могущества их в Персии».
Со смертью Мухаммада-Али-мирзы все рухнуло. Аббас-мирза и стоящие за ним англичане переиграли проконсула Кавказа.
Оставалась надежда на агрессию со стороны Аббас-мирзы и на ответный удар, который Петербург не сможет не одобрить…
Бесконечные препятствия делали все более иллюзорными те грандиозные планы, которые и привели его на Кавказ.
Время от времени Ермолов впадал в мрачное уныние.
В конце 1820 года он жаловался Закревскому: «Здешним пребыванием начинаю скучать и не мудрено, ибо жизнь несноснейшая, нет никаких удовольствий и трудов без конца. Все надобно делать, при малых способах идет все медленно, а если и могут быть успехи, то ими пользоваться будут мои преемники, но, конечно, не я. Признайся, что подобная работа тягостна, и мало таких людей, которые бы не лучше желали наслаждаться плодами трудов в настоящее время, нежели одними ожиданиями таковых в будущем времени. К сему последнему потребен великий героизм, а я не герой!»
Нет, он безусловно чувствовал себя героем, но героем, поставленным в неподходящие для совершения «подвигов» условия.
Он оставался потомком Чингисхана, наследником Македонца и Цезаря, но заниматься делом, соответствующим его самоощущению, ему мешали люди, которых он не уважал. И это вгоняло его в тоску.
В 1819 году Ермолов женился так называемым кебинным браком на кумычке Сюйду, а на следующий год у него родился сын Виктор.
Тут надо объяснить — что такое кебинный брак и какую роль сыграл этот кавказский обычай в жизни нашего героя.
Адольф Петрович Берже, выпускник восточного факультета Петербургского университета, много лет служивший и умерший в Тифлисе, которому чрезвычайно обязаны все последующие исследователи Кавказа и Закавказья, в сентябрьском номере «Русской старины» за 1884 год опубликовал небольшую статью «Алексей Петрович Ермолов и его кебинные жены на Кавказе».
Чтобы не заниматься пересказом, мы приведем весьма содержательный фрагмент из этой статьи, и личная жизнь шевалье Ермолова предстанет отнюдь не столь монашеской, какой представлял он ее в письмах друзьям:
«У мусульман жены разделяются на кебинных, т. е. таких, которым по шариату, при бракосочетании, назначается от мужа известная денежная сумма, очень часто с разными вещами и недвижимым имуществом, и временных (мут’э), пользующихся тою только суммою, какая назначается при заключении условия о сожительстве. Кебинная жена имеет то преимущество пред временною, что после смерти мужа, если он умер бездетным, получает из его наследства 4-ю часть; если же остались дети, то 8-ю. Дети же от кебинных и временных жен считаются одинаково законными.
3-го ноября 1819 года А. П. Ермолов, после разбития Ахмед-хана Аварского у Балтугая, прибыл в Тарку, где заключил кебин с тамошнею жителькою Сюйду, дочерью Абдуллы, которую оставил беременною, поручив ее, пред выездом в Тифлис, попечениям Пирджан-хакумы, жены шамхала Тарковскаго. Сюйду родила сына Бахтиара (Виктора) и года два спустя приехала в Тифлис, вместе с служанкою Пирхан и таркинским жителем Султан-Алием. По прошествии года Сюйду, с почестью и подарками, возвратилась в Тарку, так как, по случаю отправления сына в Россию, не пожелала остаться в Тифлисе. Этим покончились сношения Алексея Петровича с Сюйду. Впоследствии она вышла за Султан-Алия, от которого имела сына Черу и дочерей Дженсу и Аты. Последние еще недавно были живы; Черу же скончался, оставив после себя дочь Сеид-ханум.
Другую кебинную жену Ермолов взял во время экспедиции в Акуту, в селении Кака-шуре. Прибыв туда в сопровождении шамхала, он изъявил желание жениться на туземке. Ему указали на дочь кака-шуринского узденя Ака, по имени Тотай — девушке редкой красоты и уже помолвленной за односельца своего Искендера. Тотай была представлена Ермолову и произвела на него глубокое впечатление. Он тогда же изъявил готовность взять Тотай в Тифлис, при возвращении из похода. Но едва только Алексей Петрович выступил в Акушу, как Тотай была выдана замуж за Искендера, с заключением кебина, в видах воспрепятствования Ермолову увезти ее в Грузию. Расчеты эти однако же оказались тщетными. Возвращаясь из Акуши, Ермолов 1-го января 1820 года достиг Параула, откуда отправил сына шамхала Альбору в Кака-шуру во что бы то ни стало взять и привезти Тотай. Поручение это было исполнено с полным успехом. В момент похищения Тотай отец ее Ака находился на кафыр-кумыкских мельницах, где молол пшеницу. Вернувшись домой и узнав об участи Тотай, он, не слезая с лошади, отправился вслед за нашим отрядом, который настиг в Шамхал-Янги-юрте. Там какая-то женщина указала ему дом, в котором находилась его дочь. Ака немедленно отправился к указанному месту, но переводчик Алексея Петровича, известный Мирза-Джан Мадатов, не допустил его к Тотай, объявив, что дочь ни в каком случае не может быть ему возвращена, при чем вручил ему перстень, серьги и шубу Тотай и посоветовал ему отправиться восвояси.
Таким образом Ермолов остался обладателем Тотай. Впоследствии шамхал, по просьбе Алексея Петровича, выдал ей свидетельство за печатями почетных лиц о знатном ее происхождении.
Тотай жила с Алексеем Петровичем в Тифлисе около 7-ми лет и имела от него сыновей: Аллах-Яра (Севера), Омара (Клавдия) и третьего неизвестного по имени и умершего в самом нежном возрасте, и дочь Сатиат, или как ее обыкновенно называли София-ханум.
Живя в Тифлисе в полном удовольствии, Тотай часто навещали отец ее Ака и брат Джан-Киши.
По отозвании Ермолова, Тотай, отказавшись от принятия православия и поездки в Россию, возвратилась с дочерью на родину, где вышла замуж за жителя аула Гили Гебека, от которого имела сына Гокказа и дочь Ниса-ханум, вышедшую тоже за жителя Гили Сурхай-Дауд-оглы.
Говорят, что Ермолов, при заключении кебина с Тотай, дал ей слово, что прижитых с нею сыновей он оставит себе, а дочерей предоставит ей, что и исполнил. Тотай скончалась в июне 1875 года, а София-ханум вышла за жителя аула Гили Паша-Махай-оглы. Первая пользовалась от Алексея Петровича ежегодным содержанием в 300 рублей, а последняя, т. е. София-ханум — в 500.
Что касается первого мужа Тотай — Искендера, то он, вследствие сильного огорчения от потери любимой жены, заболел и года два спустя скончался.
Сатиат, подобно матери, пользовалась от отца ежегодным содержанием по 500 рублей, а за последний получила 1300 рублей. Она скончалась осенью 1870 года, оставив после себя трех сыновей и четырех дочерей. <…>
Наконец, третьей кебинною женой Ермолова была Бугленская жителька Султанум-Бамат-кызы, с которою он заключил кебин во время пребывания с отрядом в Больших-Казанищах. Алексей Петрович имел от нее сына Исфендиара, который, при следовании Султанум в Тифлис, умер в станице Червленной. Султанум, лишившись сына, не пожелала ехать далее и возвратилась на родину. Там она вышла за Шейх-Акая, с которым прижила сына Яхью, не имевшего потомства; Шейх-Акай вскоре умер, а чрез несколько дней после него скончалась и Султанум».
Старшие сыновья Ермолова — Виктор, Север и Клавдий (он во всем оставался «римлянином») — окончили артиллерийское училище, где им покровительствовал великий князь Михаил Павлович, начальник всей русской артиллерии.
Все трое проявили себя на военном поприще — именно на Кавказе во время наместничества Воронцова, тоже их опекавшего. Виктор дослужился до чина генерал-лейтенанта, Клавдий — до генерал-майора, Север — до полковника гвардейской артиллерии.
Самый младший, Петр, о котором не знал Берже, но о существовании которого ясно из переписки Ермолова, не радовал отца. Он был записан унтер-офицером в Тенгинский полк и убит в бою с горцами…
А еще в московском доме Ермолова с ним жила до самой его смерти крепостная девушка. И был у него «воспитанник» Николай Алексеев, о котором он тоже заботился. Николай дослужился до генерал-майора.
Кавказские сыновья Алексея Петровича, не порывая связей со своими горскими родственниками, органично вошли в среду русского дворянства, заключили удачные браки. Вполне преуспевало и следующее поколение. Так, сын Клавдия, тоже Югавдий, стал камер-юнкером императорского двора.
Письма Алексея Петровича 1820 года производят противоречивое впечатление.
Он горд военными успехами собственными и своих подчиненных.
«В Имеретии, благодаря богу, рассеяны все шайки мятежников…»
«Тебе, как другу, хочу признаться, — пишет он Закревскому, — что покорение всего Дагестана меня весьма потешило, народы сии имеют знаменитость и никакой не признавали над собой власти. Здесь такой вселяли они ужас, что никто верить не хотел, что их усмирить возможно».
Дело в данном случае не в том, что Алексей Петрович далеко не точно оценил ситуацию: Дагестан затаился на время, но отнюдь не был сломлен.
С ханствами фактически покончено. Чеченцы загнаны в горы и голодают.
Но 16 октября того же года он пишет Закревскому: «Что сказать о себе? Хлопоты те же, год тяжелый, фураж так дорог, что если бы можно было кормить лошадей пшеном сарачинским (рисом. —
Еще через полтора месяца — Кикину: «В черные минуты жизни, каковые жизнь здешняя доставляет во множестве…»
Эти «черные минуты» могли быть вызваны и тем, что он чувствовал убывание физических сил. Почти без отдыха после тяжких кампаний 1812,1813, 1814 годов он взвалил на себя далеко не радостное знакомство с Грузией, злое напряжение персидского посольства, многомесячные походы против мятежных горцев, жизнь на бивуаках… Только его богатырская конституция могла это выдерживать — до поры.
Была и еще одна фундаментальная причина его мрачности — крушение персидских планов.
Вопреки его настояниям Петербург признал Аббас-мирзу наследником престола. Это придало принцу уверенности, и он вел себя по отношению к Ермолову — при непрекращающихся переговорах о границе — все более вызывающе.
Алексей Петрович постоянно убеждал императора и Нессельроде во враждебности Аббас-мирзы и неизбежности войны. От него отмахивались.
Аббас-мирза с помощью английских офицеров энергично готовил армию.
Вторая половина 1820 года была временем острого психологического кризиса. Ермолов все яснее осознавал свое положение как ссылку. Его стремление в Петербург, о котором писал он Закревскому, было вызвано не только желанием передышки, стремлением окунуться в другую атмосферу, вдохнуть европейского воздуха. Зная о приготовлениях Аббас-мирзы и трезво оценивая возможности Кавказского корпуса, он уже не так как прежде стремился к войне.
Возможно, он надеялся, что личная встреча с императором изменит его судьбу. Хотя на что он мог рассчитывать — непонятно. Посты командующих обеими армиями были заняты, но в любом случае, на что бы он ни рассчитывал, он преувеличивал расположенность к нему Александра. Тот явно не собирался надолго возвращать его в Россию — не говоря уже о Петербурге.
Но какие-то вполне определенные планы у Алексея Петровича были.
Он писал Закревскому в конце ноября 1820 года: «Я думаю, однако же, что если не просить на то позволения, надобно, по крайней мере, предварить на счет моего приезда, дабы не был неожиданным. Досаден будет вопрос: зачем приехал? Сделай дружбу, распоряди все пристойным образом и меня уведомь».
Стало быть, он намерен был приехать в столицу по собственной воле, не испрашивая позволение императора, а только поставив его в известность.
Его, конечно, обнадеживало то, что инициатива исходила от Закревского:
«Ты не перестаешь зазывать меня в Петербург. Знаю весьма, что и для дел по службе это необходимо, а, кроме того, право хочется и тебя видеть и хотя несколько пожить времени для удовольствия. Я писал выше, чтобы ты уведомил, не будет ли то противно, но если мне ожидать ответа, то пройдет время бесконечное, и потому располагаю выехать из Тифлиса около конца декабря».
Он мечтал о Петербурге, о своем торжественном появлении там в качестве проконсула Кавказа. Он собирался послать вперед доверенного офицера для устройства дел: «
При этом он, по своему обыкновению снижая пафос будущих событий, иронизировал над собой:
«Я сам забавляюсь моим в Петербург приездом, и беспутное мое воображение представляет мне разные престранные вещи. Весьма необыкновенное дело человеку, дожившему до моего чина, быть незнакомым в столице и в обществе представлять одинакую фигуру с трухменцами, башкирами и другими тварями, которые к вам приезжают».
Это было сильное преувеличение, но он выдерживал стиль — одичавший в дебрях Кавказа солдат, чужой в столичном обществе, не знающий, как себя вести…
Однако, как говорилось, он отнюдь не собирался ограничиться отдохновением и чудачествами.
«Между бумагами есть письма к Кикину и министру финансов. Прикажи их отдать и вернейшим образом последнему.
Сей вельможа не отвечает ни на бумаги, ни на письма.
Ты говоришь, чтобы с ними я не бранился, но возможно ли, когда они даже невежливы и тогда не отвечают, когда к ним пишешь по службе».
Ермолова оскорблял и приводил в ярость контраст между его положением проконсула, Цезаря, и пренебрежением, с которым к нему относились петербургские чиновники. Он надеялся изменить это положение:
«Приеду и дам баталию! Знаю всех против меня союзников. Прикажи прощупать Змея (Аракчеева. —
Если он собирался привлечь в качестве союзника Аракчеева, значит, замыслы были весьма серьезные. Для перебранки с министрами по хозяйственным и финансовым вопросам поддержки самого влиятельного человека в империи не требовалось.
Имелось в виду нечто иное. «Война наступательная…»
Что он замышлял, мы не узнаем.
Закревский выполнил дружеский долг — 8 января 1821 года Ермолов был вызван в Петербург. Но когда он приехал туда, императора в столице уже не было.
В июле 1820 года произошла революция в Неаполитанском королевстве. Как и в Испании, это была военная революция. Полки под командованием офицеров-карбонариев заставили короля Фердинанда IV подписать конституцию, схожую с испанской. За Неаполем восстал Пьемонт.
Государи Священного союза съехались в немецком городе Троппау, а затем переместились ближе к итальянской границе в Словению — в городок Лайбах.
Алексею Петровичу недолго пришлось наслаждаться гостеприимством Аграфены Федоровны Закревской. Вряд ли он успел начать свою «наступательную войну», которая в отсутствие императора теряла смысл.
В марте 1821 года он получил рескрипт императора: «Алексей Петрович!
Обстоятельства, соделавшие необходимым присутствие Мое за границею, продолжаясь ныне в последствиях своих, не дозволяют Мне с достоверностию определить время к возвращению Моему в Петербург; а потому, не желая, чтобы ожиданием вашим в сей столице служба лишилась той пользы, которую вы трудами своими всегда ей приносили, признаю за лучшее, чтобы вы, для свидания со Мною, отправились немедленно в место настоящего Моего пребывания.
Ожидаю скорого приезда вашего, пребываю к вам благосклонным.
Александр».
В тот же самый день, 3 марта, когда был написан высочайший рескрипт, начальник Главного штаба князь Волконский отнесся к Закревскому.
«Получил весьма неприятные известия из Турина, где пиемонтские войска взбунтовались и хотят непременно идти против австрийцев, в северной Италии находящихся. А как в северной части Италии австрийцев, по несчастию, не терпят, то и надобно ожидать для них худых последствий, от сего происшедших, у них же войска там недостаточно, чтобы удержать пиемонтцев и жителей Италии. Теперь посылают за остальными войсками в Австрию, Богемию, Венгрию и Галицию, но когда они прибудут! Вместе с тем просят и нашей помощи… К Алексею Петровичу хотя было и писано, чтобы нас ожидал, но по теперешним обстоятельствам его Государь желает видеть здесь для некоторых соображений, о чем и высылается ему рескрипт».
Не удержавшись, Волконский сделал приписку: «А между нами сказать, думаю, будет главнокомандующим сей 3 армии, о чем ему скажите, но ради Бога, чтобы ни он, ни от вас о сем его назначении никто не знал и по приезде его сюда, чтобы не подал вида, что знает».
Закревский немедленно оповестил Ермолова, и они подробно обсудили кандидатуры начальника штаба армии, генерал-квартирмейстера, дежурного генерала…
Это конечно же был поворот судьбы. Судя по сохранившейся росписи войскам, которые должны были составить 3-ю экспедиционную армию, это была бы весьма значительная сила.
Но Алексей Петрович не мог не понимать, что командование этой армией — пост временный. А что же дальше?
Но — удивительное дело! — Алексея Петровича перспектива двинуться во главе мощной армии в Италию совершенно не привлекала.
Он писал Закревскому с дороги: «Быть может дела в Италии без нас обойдутся, и дай Боже. Это было бы счастливо для России по средствам ее небогатым. <…> Рано Волконский заготовил квартиру, а я еще и до Великих Лук не дотащился. Весьма нездоров, и дорога измучила».
Как непохож этот унылый тон на того, кто сопоставлял себя с Цезарем.
11 апреля: «Не еду, мучусь! не редко в день не более 50 верст и болен. <…> В Белоруссии жиды, содержатели почт, встретили меня известиями, что я назначен главнокомандующим. Как они люди самые достоверные, то я не смел усумниться в истине! Итак, тебе, любезный друг, остается меня поздравить.
Как ни забавны эти глупости, но меня в отчаяние приводит злодейская дорога. Я думаю, что она может сносною казаться одному спасающемуся от виселицы, но ни для какого благополучия нельзя делать ее терпеливо».
И это писал человек, недавно водивший своих солдат в неприступные горы.
Это был упадок не столько физический, сколько психологический.
Похоже, возможность «подвига» уже не столь сильно его привлекала.
Путь Ермолова лежал через Польшу, и соответственно предстояла встреча со старым другом и покровителем великим князем Константином Павловичем.
И здесь Ермолов повел себя до странности нерасчетливо.
Во-первых, он не поехал через Варшаву, а избрал более тяжелую дорогу через Краков. Но Константин, в отличие от Ермолова полный искреннего чувства, попытался и на этом пути продемонстрировать свое восхищение «храбрым товарищем».
Ермолов писал Закревскому из Брест-Литовска в середине апреля:
«Здесь от великого князя было повеление принять меня с величайшими почестями, но я, въехав в город и увидев приготовления, выскочил из коляски и скрылся в жидовские переулки. Едва меня отыскали, и я тогда возвратился в квартиру, как уже ни одного не было часового, великому князю пошел эстафет о законопротивных моих поступках. Ту же встречу приказано мне сделать в Люблине, и также спасусь я бегством».
Это было то самоуничижение паче гордости, столь свойственное Алексею Петровичу. Он показывал, что выше всей этой суеты. Проконсул, наследник Цезаря и римских нравов, мог согласиться на триумфальную встречу, которой удостаивались римские полководцы после великих побед.
Почести, которые воздавал ему великий князь силами провинциальных гарнизонов, казались ему шутовством, принимать участие в котором он не желал.
Константин не пришел в восторг от полученных «эстафет», но обиду проглотил.
26 апреля Ермолов прибыл в Лайбах.
27-го — Закревскому: «Вчера приехал я сюда во время обеда и в тот же день приказано мне к вечеру представиться государю. Он занят был делами с Меттернихом до 10 часов, и с того часу до половины первого по полуночи позволил мне быть у себя. Главнейший разговор в том состоял, что государь взял на себя труд изобразить мне картину положения политических дел, и я, признаюсь, что я ни от кого более и яснейших понятий не мог бы иметь. Мне государь изволил объяснить о моем назначении начальником армии и о причинах к тому побудивших, и хотя, для блага нашего, рад я, что мы уклонились от действий, но из основательного рассуждения его вижу, что они были необходимы».
Мы знаем его точку зрения на военные революции, и вполне понятно, что они с императором сошлись во мнениях.
Во фрагментах дневника Ермолова, опубликованных Погодиным, есть любопытное свидетельство о разговоре с Александром:
«Государь удивлен был, когда я сказал ему, что без сожаления услышал я об отмене движения армии, которой назначен я был главнокомандующим. „Суворов, говорил я ему, начальствовал австрийцами и не избежал зависти их. Трудно было ему преодолевать препятствия, которые ему делали. И желал бы видеть, продолжал я, того, кто без робости явится на сцене, которую сей необыкновенный человек, и незадолго перед ним Наполеон, ознаменовали великими воинскими делами“. Рассуждения мои, вероятно, казались основательными».
Эти разговоры о «робости» и сопоставлении с деяниями Суворова и Наполеона наводят на мысль, что Алексей Петрович этого сравнения опасался. Конечно, мятежных неаполитанцев трудно было сравнивать в военном отношении с армиями революционной Франции во главе с талантливыми генералами, противостоящими Суворову, равно как и австрийские войска, с которыми сражался Бонапарт, были достаточно опасными противниками.
И тем не менее — возглавив армию, Ермолов обязан был бы поддержать блеск своей репутации. Он не мог уступить предшественникам. И это, очевидно, его тревожило.
В «Записках» он еще яснее высказался на этот счет: «Конечно, не было доселе примера, чтобы начальник, предназначенный к командованию армиею, был столько, как я, доволен, что война не имела места. Довольно сказать в доказательство сего, что я очень хорошо понимал невыгоды явиться в Италии вскоре после Суворова и Бонапарта, которым века удивляться будут»…
Вскоре Ермолов возвращался обратно, и уже 20 мая он записал в своем дневнике: «Варшава. Великий князь принял меня благосклонно. Почти ежедневно бывал я у развода; видел парады, учения всякого рода войск, смотры и маневры.
Я отказался от квартиры во дворце государя и остановился в гостинице».
Во время смотров и парадов Алексей Петрович вел себя по отношению к Константину откровенно вызывающе, делая при этом вид, что демонстрирует свою скромность. Великий князь, желая подчеркнуть свое уважение к Ермолову, придерживал коня, давая возможность гостю оказаться на первом плане. Но и Ермолов стал придерживать свою лошадь, пропуская Константина вперед. Выглядело это соревнование в скромности довольно комично и, естественно, бесило великого князя.
Но помимо этого Алексей Петрович позволил себе жест, который и положил навсегда конец его дружбе с цесаревичем.
Сам он рассказал об этом в дневнике с невинно-простодушной интонацией:
«По приказанию цесаревича все польские генералы и прочие чиновники на другой день по приезде моем сделали мне посещение. Я просил об отмене сего приказания, но не успел. Я не принял их, не желая делать им беспокойства, зная притом, что из них знакомые охотно увидятся со мною и без объявленного приказа. Цесаревич был в большом негодовании на меня, и начальнику штаба генералу Куруте поручил объясниться со мною самым неприятным образом».
Если приказание Константина ставило Ермолова в несколько нелепое положение, то поведение Алексея Петровича по отношению к своему другу и покровителю было откровенно оскорбительным. Отказаться принять польский генералитет, приехавший к нему по прямому приказанию главнокомандующего польской армией, означало поставить Константина в куда более неловкое положение, чем он поставил Ермолова.
Этого Константин ему не простил…
Алексей Петрович это понял. Очевидно, до него доходили соответствующие слухи.
Уже в 1822 году он писал Закревскому: «Ты ни слова не сказал о пребывании у вас великого князя; так ли он расположен к тебе, как и прежде? Он верно мерзости говорил обо мне и ты молчишь из деликатности. Досадно, что я не заслужил его сердца, а впрочем от того не умирают! Узнай, буде можно, не жаловался ли он на меня государю?»
Странный поворот сюжета — чего ж досадовать, когда Алексей Петрович сделал все, чтобы поссориться с обидчивым и самолюбивым великим князем, до того искренне любившим своего «храбрейшего товарища».
Прямое оскорбление великого князя свидетельствует не только о самооценке Алексея Петровича, но и о взвинченности его состояния в это время.
Именно этим состоянием можно объяснить его вызывающее поведение по отношению ко всем своим «протекторам».
Вскоре по возвращении на Кавказ он поссорился с Аракчеевым.
Граф Алексей Андреевич курировал все стороны государственной жизни. В том числе и финансовую. В этом качестве он усомнился в целесообразности использования Ермоловым неких сумм. К сожалению, мы не располагаем письмом Аракчеева, но по ответу Ермолова ясно, о чем идет речь.
«Графу Аракчееву. 1822 г.
Желая избегнуть случая, в котором объяснения личные могут быть неприятными, я имею позволение на переписку партикулярную, и сим пользуясь, покорнейше прошу взглянуть на письмо, писанное ко мне от Вашего Сиятельства.
Ваше Сиятельство изволите увидеть, что можно было избавить меня от заключающегося в нем вопроса. Конечно Вы бы не делали такового, если бы хотя на минуту остановили Ваше внимание на том, что я приобрел Шекинскую провинцию, которая дает более полумиллиона доходов и сбор оных доселе употреблен во вспомоществование упадшим ханам. Предав уже раз объяснение Министру Финансов, я более ничем не обязан. Как по законам, так по собственным правилам чести, кроме ясной отчетности и таковая отдана Правительству.
Быть может не знаком я Вашему Сиятельству со стороны бережливости, но в течение немаловременной, а иногда видной службы, хорошо будучи замеченным, оскорбительны подобные вопросы, а ежели сделаны с намерением, то даже нестерпимы.
Вам, Милостивый Государь, когда я только ищу приличие, угодно видеть в поступках моих присваивание излишней власти. Увертесь, Ваше Сиятельство, что я не кинусь воспользоваться ничтожеством.
А. Ермолов»[74].
Эта бешеная отповедь, раздраженный выговор, подпись без приличных в обращении к старшему формул — все это должно было оскорбить Аракчеева.
А он был злопамятен.
Теперь оба друга и покровителя — Константин и Аракчеев, отношения с которыми и создавали в значительной степени устойчивость позиции Ермолова, — должны были от него отвернуться.
Ясно, что Алексей Петрович устал от необходимости лицемерить — демонстрировать уважение к людям, которых не уважал. Самооценка побеждала карьерный расчет. Тем более что и карьера шла совсем не так, как ему мечталось.
Вскоре Закревский получит от него горькие признания, о которых еще год назад не могло быть и речи:
«Не поверишь, почтенный друг, как возрастает во мне охлаждение к службе и за какую несносную потерю почитаю я возвращение в Грузию».
И еще более того: «…Угасли пламенные мои замыслы, и многое уже кажется мне химерою».
С таким настроением возвращался он в Россию из Европы.
Александр I настойчиво выказывал ему свое особое благоволение.
20 июня Ермолов заносит в дневник: «Царское Село. Мне уже назначены были во дворце комнаты, и приказание жить в нем объявлено начальником главного штаба Е. И. В. Как все дико для человека, никогда не бывшего близким ко двору, и конечно всех забавлял я моею неловкостию. Но никто не говорил о ней, ибо у двора кроме похвал ничего не говорят о том, кого весьма ласкает государь!»
Алексей Петрович старательно — не только в этой записи, но и в письмах, — выстраивает образ, так сказать, «естественного человека», напоминающего вольтеровского «простодушного» дикаря, попавшего в цивилизованную европейскую среду.
Трудно поверить, что он не представлял себе, как нужно вести себя при дворе. Его «неловкость», надо полагать, была достаточно искусственной. Это была такая же черта особости, как и бедность. Но за ним должен был видеться грозный хаос Кавказа, призрак безбрежной Азии и отличать его от тех, кто жил и действовал в «кротовой норе» Европы… И это притом что Кавказ ему уже опостылел, ибо не оправдал его ожиданий. «Угасли пламенные мои замыслы…»
Тем не менее эта грандиозная «химера» сопровождала его и в Лайбахе, и в Варшаве, и в Царском Селе, не в последнюю очередь определяя стиль его поведения.
Придворный мир должен был понимать — он, Ермолов…
Он, как и в свое время в Париже, противоречил императору.
«Июль. Инсуррекция греков была в полной силе. Порта принимала меры к наказанию, т. е. к истреблению возмутившихся. Война с Турцией казалась неизбежною. Переписка с иностранными кабинетами была беспрерывная, приказано показывать мне оную, и я видел усилия не допустить России до войны. Государь часто говаривал со мной о греках, я утверждал о необходимости войны в защиту их, в спасение! Безуспешно! государь старался доказать мне противное».
Возможно, Алексей Петрович был не прочь возглавить армию, идущую на помощь эллинам, бьющимся за свободу против турок, как некогда их предки дрались против персов. Подавление мятежных итальянцев было делом банальным, восстановление свободы Эллады органично вписывалось в круг представлений об исторической героике.
Но этот «подвиг» Алексею Петровичу не суждено было совершить.
Казалось бы, после такого небывалого и труднообъяснимого доверия, которое демонстрировал император по отношению к Ермолову, следовало ждать его назначения на один из ключевых постов. Он и сам так думал: «Продолжение пребывания моего в Петербурге заставляло многих думать, что я не возвращусь в Грузию, но получу другое назначение, и я имел причины то же предполагать».
Возможно, император колебался и не принял еще определенного решения относительно греческого вопроса. Возможно, он еще не был уверен — не придется ли России начать войну, и тогда Ермолов был самой подходящей кандидатурой в главнокомандующие.
Но войны с Турцией не произошло.
Его отправляли обратно на Кавказ.
На исходе пребывания в Царском Селе у него состоялся знаменательный разговор с Александром.
«Из примечательных происшествий, случившихся со мною, было то, что император в 30 день августа пожаловал мне аренду, не допустив подписать о том указа, я имел случай объясниться по сему предмету, и государь не только выслушал меня благосклонно, но с похвалою отозвался насчет моей деликатности, и когда отпустил меня, еще вторично говорил мне об оной. Редко, думаю, докучают государям подобными объяснениями».
Последняя фраза, от которой не удержался автор дневника, ключевая — Ермолов не такой как все.
Между тем, выказывая публично пренебрежение к презренному металлу, Алексей Петрович всерьез задумывался на приватном уровне о возможности хоть как-то обеспечить свою приближающуюся старость.
На обратном пути на Кавказ он остановился в Орле у старика-отца. И там он принял вполне конкретные решения.
14 октября он писал Закревскому: «Тебе, участвующему во всем до меня касающемся, скажу я и о домашних делах моих. Старика моего нашел я слабым, имение наше не только управляемо худо, но почти без надзора. В первый раз обстоятельно узнал я, в чем заключается состояние наше, и теперь открыто мне, что, разделив с сестрой имение, не более будет у меня семи тысяч дохода. На имении есть довольно значительный казенный долг, и при самой строгой умеренности моей, едва буду я иметь способы существования и тогда даже, как присоединю я принадлежащие мне по законам за 30-летнюю в офицерском чине службу половинное жалование и получаемый за Георгиевский крест пенсион».
То, что следует дальше, вызывает и чувство горечи, и безусловное уважение к нашему герою, особенно если вспомнить, что он только что отказался от аренды, которую ему настойчиво предлагал император.
«Поверишь ли, друг любезный, что при всем ничтожном состоянии сем покупаю я под Москвою деревню. Вот разрешение загадки.
У меня есть алмазные знаки Александра, есть три перстня, пожалованные императорскою фамилиею, их я продаю; есть до двадцати тысяч рублей денег, все обращаю на покупку деревни. Мне дают родные вдобавок сумму за самые умереннейшие проценты, сами выбирают и покупают имение, им управляют и из доходов платят проценты и ежегодно некоторую часть капитала».
Вряд ли Алексей Петрович с легким сердцем расставался с алмазными знаками ордена Святого Александра Невского, да и с перстнями тоже, но в Орле, в местах, где прошло его невеселое детство, он ясно представил себе свою старость.
«Мне по состоянию нельзя иметь собственно в Москве дома и потому буду я приезжать и жить у родных и друзей моих. Я постоялец спокойный и неприхотливый, и конечно никому не наскучу».
Проконсул Кавказа, новый Цезарь, еще недавно одержимый «пламенными замыслами», воитель с «неограниченным честолюбием», теперь смиренно размышляет о том, как он будет за неимением собственного крова останавливаться у родных и друзей…
Вряд ли ему легко было это писать. А в некоторых пассажах сквозит явное чувство отчаяния. Это не яростная обида и ревность времен Заграничных походов. Это признание поражения.
«Скажи мне, любезный друг, что мне делать с табакеркою, пожалованною государем? И жаль мне снять с нее бриллианты, и боюсь того сделать, но на что она бедному человеку, у которого ей ничто соответствовать не будет?
Долго оспаривал я желание многих оставить службу для присмотра за имением, но скажи мне, что мне делать, чтобы не лишиться скудного моего состояния? Неужели и отпуск мне отказан будет?»
И тут он спохватывается, что сетования его могут дойти до императора и тот опять попытается его осчастливить.
«Если еще судьба допустит меня продолжать службу, прошу тебя, почтенный друг, как человека, имеющего честь служить при государе, следовательно, у источника милостей, употребить старание в случае, если на меня обратится внимание, чтобы мне не дано было аренды или денежной награды, не меньшим почел бы я наказанием, если бы пожаловали меня и графом…»
Пожалование графским титулом — сама возможность его — преследовало его как некий кошмар. Став графом Ермоловым, он оказывался встроен в общий заурядный ряд искателей высочайших милостей не по заслугам.
Слишком многие получают аренды и графские титулы.
Стало быть, это не для него.
Он упорно возвращается к мысли об отставке или перемене службы.
Здоровье начинало изменять. Но главное было не в этом. Кавказ и Грузия без персидского и шире — азиатского — проекта изжили себя.
Вернувшись в Грузию, он меланхолически сообщает Закревскому: «Я говаривал с тобою некогда о старшем шахском сыне, который был неприятелем брата своего, назначенного наследником, и оспаривал престол. Он умер, и я потерял человека, бывшего совершенно в моем распоряжении, предприимчивого, пылкого и молодца. Теперь наследник будет гораздо спокойнее. Это отнимает у меня большие способы».
Мы уже приводили официальное извещение Ермолова о смерти Мухаммад-Али-мирзы в Министерство иностранных дел. Но это была фиксация события.
В письме другу это — тяжелая личная неудача.
Разочарование за разочарованием сокрушало «пламенную натуру» Ермолова.
Им овладевало сознание неудавшейся жизни.
Кавказ встретил его неприветливо.
6 января 1822 года он писал из Тифлиса Закревскому: «Неурожай двухлетний, паче же нынешнего года (1821 год. —
Он имел в виду, что хлеб был получен от турок и горцев благодаря его влиянию и его счастью. Но неурожаем и подступившим голодом дело не ограничивалось.
«Какой жестокий год, какие ужасные в войсках и даже между жителями болезни, но к удивлению смертность не более прежних лет. Рекруты болеют во множестве. Снега и метели в горах остановили их на пути, и стеснены будучи в бедных горных селениях и сами заболели и повсюду зародили болезни. Теперь в одном тифлисском госпитале более тысячи рекрут и до пяти сот их жен».
Его проект — женатые рекруты — был принят правительством, но во что он превратился в реальности!
«Исходатайствуй, почтенный друг, чтобы лечение и содержание в госпитале рекрутских жен было принято за счет комиссариата. Полугодовой провиант, выданный оным, для того недостаточен. Его недовольно и для здоровых…»
В параллель трагедии женатых рекрутов пишет он в «Записках» об ужасной судьбе переселенцев из Малороссии.
«В Черномории нашел я переселяемые из Малороссии семейства в ужаснейшей бедности. Войско (Черноморское казачье войско. —
Корыстная жестокость по отношению к людям, которые шли под его, проконсула, опеку и по его инициативе, ввергала его в еще большее уныние. От министров до чиновников земской полиции — никто не выполнял свой долг. Его, как человека долга, это мучило.
«В такой нищете нашел я их разбросанных по дороге, возвращаясь из Петербурга. Сии несчастные должны умножить силу войска Черноморского противу многочисленного, угрожающего ему, неприятеля. Правительства же распоряжения были и полезны, и благоразумны».
Любое благоразумие высшей власти перечеркивалось равнодушной бюрократией на самых разных уровнях…
Во время пребывания Алексея Петровича в Петербурге художник Доу, создававший портретную галерею победителей Наполеона для Зимнего дворца, написал знаменитый портрет кавказского героя — мощный профиль на фоне горных вершин, неумолимый уверенный взгляд, рука, твердо опирающаяся на рукоять шашки… Это было концентрированное представление общества не просто о Ермолове, но о романтической сущности Кавказа, о героике покорения непокоримого…
Но Ермолов слишком хорошо знал истинный Кавказ — трагический для обеих противоборствующих сторон, Кавказ далеко не романтический, требовавший от него не только боевых походов и возведения крепостей, но и тягучей административной рутины, и тяжелых хозяйственных забот — поисков хлеба для своих солдат, и вариантов устройства управления горскими народами, которые, оставляя их под контролем, не вызывали бы постоянных мятежей.
Душевная мрачность провоцировала физические болезни.
В марте 1822 года — Закревскому: «Я с некоторого времени нездоров; кажется привез из любезного отечества ревматизмы. Растравляю болезнь свою множеством хлопот, и служба смертельно начинает скучать мне. Не долго могу я подобным образом упражняться. Приводи к счастливому окончанию дела мои, друг любезный…»
Он имел в виду продажу его алмазных знаков и перстней в Кабинет его императорского величества — ведомство, занимавшееся управлением личным имуществом августейшего семейства.
Он уже представляет себе жизнь в тихом имении на лоне русской природы.
Но он — человек долга и скрепя сердце занимается устройством края.
Однако его европейская логика себя не оправдывала: простой народ предпочитал испокон века установившуюся жизненную систему…
Раздраженный неустройствами во вверенном ему обширном крае, не получивший того объема власти, который он запрашивал, Алексей Петрович сделал ход, который, как он надеялся, полностью развяжет ему руки для преобразований. Он обратился к императору с просьбой прислать сенатскую ревизию.
На Кавказ были командированы в 1818 году сенаторы Гермес и Мертваго.
Надежды Ермолова на жесткие выводы сенаторов, что позволило бы ему действовать решительно, без постоянной оглядки на Петербург, не оправдались. Но тем не менее некоторые возможности для оптимизации системы управления краем Алексей Петрович в результате ревизии получил.
После скупого и неопределенного отчета сенаторов ему было поручено составить план административных реформ.
1818, 1819 и 1820 годы были годами интенсивных военных действий. Но параллельно с ними Алексей Петрович занимался ненавистной ему «гнусной и беспутной гражданской частью».
В том числе он разрабатывал подробную систему реорганизации как административного деления края, так и методов управления им.
Уже находясь в Петербурге, Алексей Петрович передал управляющему Министерством внутренних дел графу Кочубею отношение, датированное 2 марта 1821 года. Это был подробный план преобразований.
Нет надобности приводить в полном объеме этот документ, свидетельствующий о тщательной разработке Ермоловым устройства подвластных ему земель.
Там речь шла и о новом административном делении края, и о переносе столицы Кавказской области из Георгиевска в Ставрополь, и о новой структуре «областного правительства».
В нем охвачены и быт кочевых народов, и проблемы налогообложения, и средства для привлечения на кавказскую службу дельных чиновников: система льгот, касающихся как жалованья, так и чинопроизводства, не говоря об особом порядке назначения пенсий, — и особая система судопроизводства для «азиатцев», и многое другое.
Во всем просматривается одна фундаментальная тенденция: сделать управление краем максимально рациональным и простым. Военный профессионализм Алексея Петровича сказался здесь в полной мере, равно как и его ориентация на «римские» уроки, смысл которых был, с одной стороны, в том, чтобы учитывать особенности покоренных народов, с другой — стараться включить их в общую имперскую организацию.
При всей специфике российской — это документ, составленный проконсулом, кавказским Цезарем.
Во время пребывания своего в Петербурге Ермолов познакомился со Сперанским, великим реформатором, познавшим опалу, ссылку, клевету, а затем назначенным генерал-губернатором Сибири и проводившим там преобразования, по масштабам своим сходные с ермоловскими. В частности, он яростно боролся с казнокрадством и взяточничеством.
Сперанский вернулся в Петербург в марте 1821 года — 22-го числа, за четыре дня до того, как Ермолов вручил Кочубею свой план.
Два этих глубоко незаурядных человека явно пришлись по душе друг другу. К сожалению, мы никогда не узнаем, о чем беседовали они, отягощенные столь разным и в то же время парадоксально схожим опытом.
Кочубей, благодаря которому когда-то и выдвинулся на первые государственные роли Сперанский, передал ему проект Ермолова.
Назначенный вернувшимся из Лайбаха Александром в Государственный совет, Сперанский стал ответственным за обсуждение в совете ермоловского проекта.
В феврале 1822 года Сперанский писал Ермолову на Кавказ: «Я должен вашему высокопревосходительству и благодарностию, и ответом на два письма ваших. Первую приношу вам от чистого сердца; второй будет содержать краткий отчет о поручениях ваших. Дополнения к образованию Кавказской области, согласно предположениям вашим, мною окончены и ныне, по Высочайшему повелению, поступают в комитет; но скоро ли там будут решены, не знаю. Все, однако же, что от меня зависит (а зависит весьма немного), я употреблю, чтобы положить сему доброму делу успешный конец».
Старания Сперанского тем не менее оказались вполне эффективны.
24 июля 1822 года император издал указ Сенату о преобразовании Кавказской губернии в область. Сенат 10 августа адресовался к Ермолову, поручая ему реализацию утвержденного Сенатом плана.
Скорость прохождения документов была для российской практики вполне энергична.
Но сотрудничество Ермолова и Сперанского не ограничилось административными преобразованиями.
В том же письме Сперанский пишет: «По участию, которое вам угодно было принимать в предположениях моих об устройстве Сибири, не излишним считаю сказать, что хотя по многосложной их тяжести и не могут они иметь быстрого движения, движутся, однако же, и, кажется, дойдут к своему концу».
Стало быть, они обсуждали и устройство Сибири.
Могли ли они предположить, что совсем скоро лидеры тайного общества, готовя государственный переворот, будут прочить их обоих вместе с адмиралом Мордвиновым во временное правительство России и готовились именно в их руки вручить судьбу отечества…
Оскорбительные и жесткие оценки, которые в письмах и воспоминаниях дает Ермолов грузинскому обществу, мешают понять разнообразие его истинных устремлений. Кроме мер чисто административных, а иногда и репрессивных, он искал более тонкие пути воздействия на отношение грузин к России.
Грузия обладала древнейшей и глубокой культурой, которая вряд ли была внятна рафинированному европейцу Ермолову с его латынью и европейскими языками. Но как человек умный, он понимал, что сближение культур необходимо для естественного существования Грузии в составе империи. А для этого нужны особые средства.
В 1819 году он основал в Тифлисе первую грузинскую газету.
Несмотря на свое пристрастие к использованию силы, Алексей Петрович довольно скоро понял необходимость психологического воздействия не только на единоверцев-грузин, с их древней культурой, но и на горцев, которых он считал грубыми варварами.
В 1820 году он сочинил, собственноручно записал и разослал начальствующим лицам по всему Кавказу текст молитвы, которую должны были читать в мечетях во время праздников.
Он считал, что истово верующих мусульман часто повторяемая молитва с именем русского царя постепенно приучит почитать императора.
Разумеется, на местах она переводилась на соответствующие языки и читавший молитву мулла обращался к Аллаху, а не к православному Богу…
Действия Ермолова-администратора были, очевидно, отнюдь не совершенны. Это признавали даже преданные ему люди.
Скрепя сердце занимаясь ненавистными ему административными делами, Алексей Петрович главную свою цель видел все же в усмирении, а не в устроении края. Воевать он любил и умел.
Но в этом и разница в масштабах личности Ермолова и его кумира — Наполеона, который, будучи до мозга костей военным человеком, оказался еще и великим администратором…
«Отсутствие мое продолжалось целый год», — записал в дневнике Алексей Петрович, приехав в январе в Тифлис.
Прежде всего, ему надо было оценить обстановку, сложившуюся за этот год в его проконсульстве. И он подробно фиксирует свои впечатления в дневнике.
В Грузии и Имеретии все было спокойно. Абхазия бунтовала. Только что подавлен был мятеж в Мехтулинской области, поднятый все тем же неукротимым аварским ханом.
Главные беспокойства переместились теперь с Северо-Восточного Кавказа, из Чечни и Дагестана в Кабарду и закубанские области, населенные многочисленными и воинственными адыгами-черкесами.
Для подавления набегов закубанцев Ермолов применил то же средство, которое оказалось эффективным на определенном этапе по отношению к чеченцам. Стремительности и храбрости черкесов он противопоставил не столько доблесть своих солдат, сколько — голод.
29 ноября 1821 года он инструктировал генерал-майора Власова: «Войска наши не должны отдаляться на большое расстояние от Кубани и главнейшее внимание должно быть обращено на аулы, по самому берегу или поблизости к оному расположенные. Один из таковых разоренных аулов научит все прочие удаляться. К сему не менее побудить может отгон стад или табунов, что и самого нападения на аулы удобнее. <…> Ваше превосходительство согласитесь со мною, что не перестрелками с закубанцами можно нанести им наиболее вреда, но лишение их имущества, т. е. табунов и скотоводства, которых они по зимнему времени не могут укрыть в горах».
Перед черкесами вставала дилемма — перенести свои поселения дальше от Кубани и, соответственно, от казачьих станиц и прекратить набеги или лишиться скота, что катастрофически подорвет их существование.
«Филантропические», по его определению, планы Петербурга, восходящие к идеям Мордвинова о благотворном влиянии торговли на процесс замирения черкесов, вызывали у проконсула глубокий скепсис.
27 апреля 1822 года он отнесся к графу Нессельроде в ответ на большое инструктивное послание, предлагавшее развернутый проект торговых отношений с черкесами, вплоть до того, что там были указаны штат чиновников, которые должны были его осуществлять, и общая смета затрат.
Проект был утвержден Александром.
Несмотря на это Алексей Петрович вступил в полемику с высшей властью:
«Нельзя не быть исполненным уважения к великодушному намерению правительства распространить торговые отношения с горскими закубанскими народами и, посредством оных удовлетворяя первейшие нужды их, смягчить суровость их; между тем, вразумив в выгоде связей с ними, уменьшить исключительное на них влияние Порты и, наконец, между полудикими сими народами ввести просвещение. Но превосходная сия теория чрезвычайно неудобна в приложении, если не совсем невозможна. Не под властью чуждого, не под невежественным правительством мусульманским, враждующим всякому просвещению, может водвориться оное!»
Идеи Мордвинова были в принципе плодотворны и при соблюдении целого ряда условий могли в будущем принести мир на Кавказе.
Но, во-первых, и сама власть, принимающая эти идеи, не готова была соблюдать сопутствующие условия, требуя от горцев немедленного подчинения и радикального изменения образа жизни, а во-вторых, Ермолов был не склонен годами и десятилетиями ждать результатов экономического мирного воздействия на своих противников.
Ему нужен был скорый и определенный результат.
Правда, в этом случае речь шла о черкесах, которые формально считались подданными турецкого султана, и завоевывать их было нельзя (Западный Кавказ отошел к России в 1829 году. —
Но Алексей Петрович с пренебрежением относился к достижению промежуточных целей. Он покровительствовал торговле с народами уже замиренными. С народами немирными он предпочитал иные методы.
Закубанцы не очень его волновали. Главное внимание его после возвращения обращено было на Кабарду.
Родственные адыгам-черкесам кабардинцы занимали стратегически важное пространство между Чечней и Черкесией — в центральной части Кавказа, на его северных склонах. Это был один из наиболее многочисленных и воинственных кавказских народов. Сильную Кабарду когда-то связывали постоянные отношения с Московским государством с одной стороны и Крымским ханством — с другой.
Кабарда славилась своей блестящей панцирной конницей, которую некоторые военные историки считали «лучшей в мире».
Кабардинское общество, в отличие от многих вольных горских обществ, было четко социально структурировано: князья, дворяне-уздени, общинники, рабы. В то время как, скажем, Чечня была военной демократией, обществом равных.
Тяжкий удар нанесла Кабарде эпидемия чумы, начавшаяся в тридцатые годы XVIII века и более чем наполовину уменьшившая ее население. Но и в ермоловские времена Кабарда играла незаурядную роль в общекавказском раскладе.
Занятый усмирением Чечни и Дагестана, устройством гражданского быта Грузии, он мало уделял внимания Кабарде в первый период своего проконсульства, хотя, естественно, некоторые действия в этом направлении предпринимал.
13 ноября 1821 года, вернувшись из Петербурга и ознакомившись с обстановкой, он предписал начальнику штаба корпуса Вельяминову: «Умножившиеся набеги кабардинских и прочих хищников заставляют взять против них особенные меры строгости и я предназначаю некоторую часть войск к движению в Кабарду в продолжение наступающей зимы, дабы озаботить их собственным охранением и удержать от замыслов нападения на Линию».
В конце 1821 года он прибег к своей излюбленной и эффективной методе — отправил в Кабарду экспедицию для изгнания кабардинцев с обжитых мест и лишения их в зимнее время средств пропитания.
Он приказал генерал-майору Сталю:
«Составить отряд из 1000 чел. пехоты и 4-х орудий артиллерии. При нем находиться 200 линейным казакам с одним конным орудием. Начальство над отрядом поручить артиллерии подполк. Кацареву. <…>
Начальнику отрада поставить главнейшею целью не сражения или сшибки с Кабардинцами, но лишение их стад и табунов, которых они, конечно, укрыть не могут, ибо в горах не менее жестокости времени грозит им самая неприязнь утесняемых ими жителей, которые ободрены будучи не одним, как обыкновенно, мгновенным появлением войск наших, но их присутствием, пожелают отмстить им понесенные оскорбления».
Таким образом достигались сразу две цели. Во-первых, среди зимы лишенные крова, скота и лошадей кабардинцы оказывались в положении крайне бедственном. Во-вторых, при попытке укрыться в горах они должны будут столкнуться с враждебным им народом, который они до того «утесняли».
Более того, Алексей Петрович вполне рационально решил сыграть на социальной розни, существующей в Кабарде, и наказал тому же Сталю: «Стараясь наносить всякого рода бедствия злодеям, строжайшим образом запретить войскам пожигать на полянах хлеб или сено, ибо и из числа их самих редко кто сие делает.
Если черный народ, терпящий разорение от злодейств своих владельцев и узденей и давно скучающий их властью, будет просить пощады и покровительства, то даровать ему оные и оказать великодушие. Вооруженным нет пощады, паче мошенникам узденям. Владельцев, буде можно, брать живыми для наказания в пример прочим, как гнусных изменников великому своему Государю и нарушителей многократно данной присяги в верности. <…>
Если черный народ пожелает переселиться, то отвести ему места по реке Малке и по левому берегу Терека в приближении его к Малке, на местах, прежде принадлежавших Кучуку Джанхотову. Переселяющемуся народу объявить свободу и независимость от владельцев и одну власть над ними Императора.
Воспретить впредь называть кабардинских владельцев князьями, кроме тех, что служат в войсках наших, таковыми признаваемы правительством».
В этих указаниях много принципиально нового по сравнению с тем стилем отношений с горцами, который Ермолов практиковал в первые годы в Чечне. Он ищет способы привлечь на свою сторону часть горского населения. Он не стремится загнать всех в горы — «на пищу святого Антония», но, наоборот, предлагает мирным кабардинцам земли на равнине. Это — важный нюанс.
Социальная структура Кабарды давала ему и еще один сильный аргумент — он освобождал крестьян от крепостной зависимости. Перейдя на предлагаемые им земли по Малке и Тереку, крепостной кабардинец становился свободным.
Алексей Петрович чутко нащупал слабое место кабардинской знати.
28 июля 1822 года он писал Кикину: «Я более двух месяцев таскаюсь по Кабарде, хочу перенести гнусную и убийственную прежнюю Кавказскую линию».
А в ноябре того же года — Воронцову: «Недавно возвратился с Кавказской линии, которой весьма большую часть переношу к горам, охватывая ею прелестную землю кабардинскую. К сему принудили меня беспрерывные и наглые их разбои и смертность войск в прежнем их расположении. Новая линия имеет все вообще удобности и лучше охраняет жителей Кавказской области».
Усмирив Кабарду и придвинув Кавказскую линию ближе к горам, он взял таким образом под контроль предгорья, что лишало возможных «хищников» свободы маневра в случае попытки набега.
Проблема Кабарды была на время решена.
Казалось, цель достигнута — Кавказ затих.
Ермолова по-прежнему волновала и категорически не устраивала кадровая политика Александра. Ему не нравилось, что боевых генералов удаляют из армии. Воронцова прочили на высокую административную должность, но действующим генералом он быть переставал.
Он фактически уговаривает Закревского бросить службу, поскольку начальником Главного штаба вместо князя Волконского, человека их круга, стал Дибич. «Странно было бы видеть тебя докладывающего Дибичу».
Его, воспитавшего себя на Плутархе, приводило в ярость предательство по отношению к грекам.
«Меня терзает участь греков, — писал он в декабре 1822 года Закревскому, — и горько будет, если не смирят зверских поступков турок. Они привыкнут позволять себе неуважение к требованиям нашим и наконец не обойдется без неприятностей».
Не только внутренняя, но и внешняя политика Ермолова отнюдь не устраивала.
Он видел нечто символическое и для себя в судьбе своих любимых адъютантов.
«Заметь, что большая часть из бывших моих адъютантов исчезли, — с горечью писал он Закревскому. — Граббе, офицер достойнейший, — несчастлив.
Фонвизин, с отличными способностями, — кажется, не на хорошем замечании.
Поздеев, исправнейший полковник, умер».
С Поздеевым, тогда адъютантом Кутайсова, он штурмовал батарею Раевского. Граббе и Фонвизин были рядом с ним в роковые моменты Заграничных походов.
Этих людей изгоняли из армии, не давали им ходу. Зато благоденствовали совсем иные. Его безумно раздражало и высокомерие петербургской элиты, и бессовестное завышение репутаций тех, кого он считал ниже себя.
Алексей Петрович знал подноготную карьер тех, кто в это время окружал императора, и это знание, как и утверждал Екклесиаст, умножало его печаль.
Меланхолия его постепенно нарастала и была глубже, чем перепады настроения в первые годы.
8 октября 1822 года он писал Закревскому: «Что скажу тебе, друг любезнейший? Скучаю ужасно, обстоятельства беспрерывно рождают дела новые, многое не ладится, многое улучшается чрезвычайно медленно, не согласуясь и с нетерпеливым моим усердием, с моим пламенным характером. Употребляю усилия всевозможные, но успехи самым постоянным трудам не соответствуют. Какая жизнь несносная!»
А в ноябре — Кикину: «Все идет медленно и с пламенным моим характером несогласно. Живу здесь давно, ничего не сделал, и это меня мучит до крайности. Браните меня, предайте проклятию, но не станет терпения и я бегу! Горестно оглянуться на шесть лет пребывания в здешней стране и ничего не произвести ощутительного, чтобы свидетельствовало об успехах».
Ермолов, разумеется, сильно преувеличивал и прекрасно это знал. Как командир Кавказского корпуса, он сделал немало — впервые подавил волю к сопротивлению у большинства горских народов и заставил их уважать его железную волю.
Он привел в относительный, но порядок гражданскую жизнь Грузии.
Но ужас был в том, что ехал он сюда вовсе не за этим.
Мы помним, с каким восторгом встретил он свое назначение, о котором мечтал много лет.
Он ехал совершать «подвиг», осуществлять самые смелые свои мечтания.
Но даже и с этой точки зрения он явно преувеличивал свои неуспехи.
Одну из главных своих задач, — пролог сокрушения Персии, — изгнание дагестанских ханов — он выполнил и с удовлетворением писал об этом Закревскому: «Не может быть ничто выгоднее для правительства здесь, как удаление сих ханов. В них никогда не было к нам приверженности и предоставленные им права не допускали власть начальства действовать решительно. Теперь, почтенный друг, кажется уже и бежать некому, ибо все земли, которые должны быть нами управляемы, все у нас в руках».
В следующем абзаце Ермолов, вопреки обыкновению, приоткрывает завесу над реальной политической кухней, над которой он шефствует:
«Недавно истребился также один из сильных владетелей, изгнанный мною в 1820 году и не перестававший делать нам некоторые пакости. Его искусно поссорили с одним из приверженных нам людей и сей по вражде убил его. Так исчезают неприятели наши!»
То бишь совершено было политическое убийство.
И дальше — поразительное утверждение, категорически опровергающее цитированные выше иеремиады: «Здесь в короткое время произошли чрезвычайные перемены, и вам на место мое надобно избрать, по крайней мере, столько же как я, счастливого начальника. Не прими за хвастовство слова мои, а меня в сем случае оправдают все, которые захотят сказать правду».
Кикину и Воронцову он жалуется на бесплодность своих неустанных усилий, а Закревскому пишет нечто противоположное.
Разгадка в том, что в каждом случае он применяет свой критерий.
С точки зрения великого «подвига», который прославил бы его имя и утолил «необъятное честолюбие», его достижения незначительны.
С точки зрения банальной государственной пользы его успехи несомненны и значительны.
Но он-то ориентирован на высший критерий — на свой собственный критерий!
Единственно, что его отчасти утешает, что в Европе догадываются о его подлинной миссии.
23 марта 1823 года Ермолов иронически замечает: «Какой нелепый врут вздор французские газеты, но я не менее благодарен за присланную записку. Я примечаю, что с некоторого времени сделался весьма интересной особою для иностранцев. Недавно один пропечатал в книге и в числе исполнителей обширных России замыслов (которых не существует) на востоке, наименован le fier Yermoloff — гордый Ермолов. Видишь ли как коротко меня знают! Таким обо мне мнением заставят наконец полагать меня чем-нибудь стоящим и некоторое иметь ко мне уважение».
Это принципиальный пассаж. Ирония здесь явно перемешана с удовлетворением. У России, то есть у правительства, «обширных замыслов на востоке», быть может, и нет, но они есть у «гордого Ермолова». Французский автор это понял. И если его, Ермолова, как носителя некой миссии в направлении Азии, не ценят в России, то мнение Европы способно эту несправедливость исправить…
Да и личные дела его скорее радовали, хотя к судьбе своих жен и детей относился он вполне по-восточному — фаталистически.
«Ты как редкий из друзей с приятностию занимаешься всем, что до меня принадлежит, и потому от тебя ничего не скрываю. Наследник мой точно умер (один из сыновей Ермолова умер в младенчестве. —
Это первое упоминание о личной жизни Алексея Петровича в письмах. Но из следующих фраз понятно, что они с Закревским говорили об этом в Петербурге.
Он был уверен в достоинствах своих сыновей, представлявших и Россию, и Кавказ, — и, как мы знаем, не ошибся.
Удивительна разница между разного типа документами, выходившими из-под пера Ермолова. Кажется, что письма его писал один человек, а дневник другой.
После мрачности и сетований писем дневник 1823–1824 годов оставляет впечатление величественного удовлетворения: проконсул объезжает вверенную ему страну, вполне благоденствующую и цветущую, населенную верными подданными.
«Сентябрь 7. Тифлис. Повсюду совершенное спокойствие. В одной Абхазии продолжался мятеж и народ не повиновался своему владетельному князю. <…>
16. В первый раз я посетил богатую и роскошную Кахетию.
Ноябрь, Тифлис. После побега в Персию карабагского хана предположил я взглянуть на Карабагскую провинцию и после осмотреть Ширванскую и Шекинскую, чего до селе не имел я времени сделать по множеству занятий.
Декабря 21. Встретили меня знатнейшие беки всех трех ханств.
23. Во время пребывания моего в г. Шуше жители города приведены к присяге на верноподданство императору и то же приказано сделать по всей провинции. Открыт провинциальный суд, членами коего назначены отличнейшие из беков и люди других состояний под председательством коменданта, начальствующего в провинции. Жители на память присоединения области и прекратившегося беспорядка ханского управления поднесли мне саблю с надписью. <…>
Для привлечения торгующих я дал наставление, дабы во многих отношениях была допущена свобода, которую изгоняют правительства, омраченные исламизмом. Я имел в предмете и то, чтобы в самом городе поклонник Магомета находил все роскоши прославленного Шираза! <…>
В Ширванской провинции сделал я некоторые перемены в хозяйственном управлении и уничтожил часть обширных казенных посевов, отягощающих жителей, приказал заменить оные разведением шелковичных деревьев в весьма значительном количестве.
24. Нуха. И нашел жителей блаженствующих после злодейского правления последнего хана, которого жестокость и алчность равно были беспредельны.
Февраль 1. (Была ночь.) Пехотный конвой мой остался в 2 часах позади. Со мною были 50 нухинских беков.
Три или четыре года назад хотел бы я видеть, чтобы главный в сем краю начальник, известный строгостию, мог в ночное время проехать с теми самыми людьми, которых смиряя своевольство и грабежи, против себя вооружает, — проехать в самом близком расстоянии от лезгин непокорных. <…>
1824 г. Январь. Приезжали ко мне изменники кабардинские, укрывающиеся за Кубанью, изъявляя желание возвратиться в свою землю. Отказано в безмерных их требованиях, позволено заслужить равные выгоды, предоставленные соотечественникам их, которые не переставали быть верными подданными. Они вразумились, что несправедливо было дать им преимущество над сими.
В то же время приехал известный разбойник чеченец Бей-булат просить прощения в прежних злодеяниях. За доверенность к начальству принят благосклонно.
Прощен молодой джангувайский владелец Ахмат-хан, сын мехтулинского Гассан-хана, который бунтовал против нас. Он бежал от родственников своих из Авара, с доверенностию явился ко мне, и я, возвратя ему большую часть владений отца его, взял присягу на верноподданство императору.
Явились многие прислужники бывшего дербентского Ших-Али-хана, умершего в бегах; они просили позволения возвратиться в отечество. Отказано только тем, коих известны были непростительные преступления, но они отпущены даже без упрека, как люди, предавшие себя моей власти».
Эта идиллия нарушилась только однажды:
«Наказаны смертию главнейшие из виновников мятежа (в Мехтулинской провинции. —
Даже и казнь была принята народом «с признательное — тию»…
Занося эти записи в дневник, Алексей Петрович не мог предвидеть, какую роль вскоре будет играть «разбойник Бей-булат» и насколько искренни были мирные настроения жителей ханств…
Но вообще при чтении этих страниц дневника вспоминается опасная шутка Александра в Лайбахе относительно того, что Ермолов уже ощущает на плечах царственную мантию.
Это — интонация владыки, замирившего обширную и буйную страну и теперь демонстрирующего милосердие к вчерашним врагам.
Со страниц дневника встает некто более значительный, чем проконсул. «В Азии целые царства к нашим услугам…»
Двойственность самоощущения Алексея Петровича в это время поразительна и, надо полагать, мучительна для него самого.
Вскоре после триумфального проезда по мусульманским провинциям — 12 сентября 1824 года — он сетует в письме Воронцову: «Судить можешь, что, при малом знании моем гражданской части, при совершенном незнании части администрации, могу я без помощи способных людей сделать полезного? И так живу здесь долго и бешусь, что даже начала самого не сделал порядочного. <…> Не подумай, чтобы, как многие, говорил сие par fausse modestie[75], божусь, что не скрываю от тебя истинных чувств моих. Гораздо решительнее скажу тебе, что войска и все что в управлении военном, теперь в лучшем состоянии, нежели прежде было. Народы, которые не повиновались нам, теперь лучше покорствуют, солдат в бодром духе и более уважаем <…>».
Быть может, он заполнял дневник для собственного успокоения или для потомства, для своей репутации в истории, а в письмах толковал о реальном положении вещей?
В том же письме он благодарит Воронцова за намерение подарить ему кусок земли в воронцовских поместьях в Крыму. «Сделай меня своим соседом!»
Отношения Ермолова и Воронцова — особый сюжет для психологического исследования. Искренняя дружба — боевое братство времен великой войны — существенно осложнилась в кавказский период. Воронцов был на пять лет моложе Ермолова, происходил из семьи, выдвинувшейся при Елизавете. Сын генерала-дипломата, он провел детство в Англии и получил блестящее образование. В цициановские времена сражался добровольцем на Кавказе против лезгин.
По сравнению с Ермоловым он был баловнем судьбы. Любопытно, что чем дальше, тем острее Алексей Петрович чувствовал разницу их положений, хотя полного генерала он получил на семь лет раньше Воронцова и Александр явно отличал его больше, чем командующего отдельным корпусом во Франции.
Алексей Петрович обладал удивительным даром предвидения: когда он не раз писал Воронцову, что он должен занять его, Ермолова, место на Кавказе и при этом возможности у него будут куда значительнее, то он как в воду смотрел…
На исходе кавказского периода сменилось не только обращение Алексея Петровича к своему привычному адресату: вместо обычного «редкий брат» — «любезный граф Михаил Семенович», что должно было подчеркнуть расстояние между ними, но и появилась какая-то совершенно не свойственная «гордому Ермолову» жалобная нота.
12 июля 1826 года он писал: «На твоей стороне преимущества происхождения, имени, ознаменованного важными заслугами предков, средств доставляющих связи и способы утверждать их, даже множество приверженцев. Мне отказаны все сии выгоды!!! <…> Ты верно не в том смысле как я принимаешь предложение доставить мне небольшую дачу на полуденном берегу. Я просто принимаю за величайшее одолжение и с такою деликатностию сделанное, которая, может быть, одному тебе свойственная. Избери по своему вкусу, но если только прикажешь построить или завести сад, то чтоб было по моим средствам, то есть, чтобы было самое умеренное и даже несколько скудное».
Это все та же неотступная мысль о скорой отставке и мирной жизни вдали от суеты, которая преследовала его постоянно в разных вариантах.
10 декабря того же 1824 года он писал Закревскому: «Ты меня порадовал мыслию построить для меня маленький домик под Москвою. Я принимаю то за величайшее одолжение и, конечно, им воспользуюсь. Неужели вне службы нет для человека удовольствий? <…> Я гораздо старее тебя и мне кроме упражнений хозяйственных, по состоянию моему, весьма ограниченных есть заботы воспитания детей, следовательно совершенно праздным не буду я, но и занятий найдется достаточно».
Это ли мечты «потомка Чингисхана», нового Цезаря, проконсула Кавказа, только что величественно и бесстрашно объезжавшего свои необъятные владения, миловавшего и казнившего? Нет, это другой человек.
Это человек, которого терзают мелочные финансовые заботы. Он уже отправил на продажу орденские алмазы и августейшие подарки — перстни. Но жизнь заставляет думать и думать о своем скором будущем:
«Старик мой, как слышу я, жизнию не довольно расчетливою порядочно порасстроил состояние и умножил долги, следовательно на первое время и я не без хлопот буду».
Была, как мы знаем, и еще одна забота, неожиданно возникшая для человека, привыкшего к одинокой бессемейной жизни.
Судя по всему, Алексей Петрович не питал горячей привязанности к своим кебинным женам. Но неожиданно он оказался увлеченным и заботливым отцом своим «татарчатам».
В том же письме, готовясь к мирной жизни в отставке, он вопрошал Закревского: «Научи меня, как поступить мне к испрошению детям моим дворянского достоинства и какой-нибудь фамилии? Через кого я должен действовать? Весьма недавно были примеры и, между тем, сделали то для генерал-лейтенанта Талызина, довольно великого мерзавца. Неужто мне-то откажут».
Судьба троих его сыновей, как мы знаем, сложилась вполне успешно…
Он уже продумал корректный способ уйти на покой.
«Ты желаешь, почтенный друг, — спрашивал он Закревского, — справедливы ли доходящие до тебя слухи, что я намерен удалиться из Грузии? Вот чистосердечное помышление мое: в 1825 году хочу я поехать на минеральные воды, там возьму курс, сдав прежде формально команду старшему; и потом подам рапорт, что расстроенное здоровье требует лучшего пользования и успокоения. К тому времени, кажется, будет сорок лет службы по формуляру, разумеется, со включением унтер-офицерской в гвардии, и я попрошу отпуска с полным жалованием, ибо иначе нельзя мне существовать».
Забегая вперед надо сказать, что сорока лет не получилось и, соответственно, по закону полного жалованья ему не полагалось. Что было чувствительным ударом.
Усталый и разочарованный, он чувствовал приближение неких событий и хотел избежать участия в них. Он писал время от времени в Петербург о враждебности и коварных намерениях Аббас-мирзы, но и возможная война с Персией вряд ли его влекла.
Однако события уже настигали его.
«Не в том положении я, — писал Ермолов Закревскому 12 июля 1825 года, — ибо уже к старости клонятся мои лета и мне уже почти не принадлежат удовольствия. Не по силам были труды мои и утомление призывает болезни. Прошу Бога, чтобы мог расстаться со службою без больших оскорблений».
Это не прозрение, это постоянное мироощущение. Готовность к несправедливости. Казалось бы — любимец императора, высший генеральский чин вне очереди, намерение государя поставить его во главе большой армии в Европе… Откуда это постоянное ощущение опасности?
От сознания неудавшейся жизни? От обилия врагов, число которых, равно как и их ожесточенность, он явно преувеличивал?
Понимание, что он — без богатства, знатности и семейных связей — держится только покровительством императора с его непостоянным характером?
А слава, популярность, любовь подчиненных, обожание солдат, ордена, чины, власть?
Оглядываясь назад, он видит «преследования, досады и горести».
Проконсул Кавказа. Новый Цезарь… Цезарь без Рубикона.
Видимо, Закревский был единственным — кроме друга юности Казадаева, — кто искренне любил Ермолова. Недаром и письма к нему Алексея Петровича так напоминают по своему скорбному тону письма Казадаеву из Костромы и Вильно… Удивительным образом Ермолов возвращался к психологической ситуации своей невеселой молодости.
В роковом декабре 1825 года его постоянно обуревают мысли о будущей жизни на покое.
События настигали его.
Записи этого времени в дневнике уже не напоминают царственную идиллию.
«1825. Июня 25. Отправил я фельдъегеря с письмом к императору, в котором огласил подозрения мои насчет войны с Персиянами. Просил подкрепление корпуса одною дивизией пехоты.
Поверенный в делах при персидском дворе г. Мазарович отправлен к шаху с предложениями, дабы отдалить войну.
Июля 2. Получил известие, что в ночи с 7 на 8 июня возмутившиеся чеченцы, возбужденные лжепророком, напав на укрепленный пост Амир-Аджи-Юрт, сожгли оный. Неосторожный начальник поста был атакован внезапно, хотя неоднократно предупрежден был о намерении. — Гарнизон (одна рота), потерпев чувствительный урон, переплыл через Терек».
Еще недавно он был уверен, что «любезные чеченцы» подавлены психологически, обессилены блокадой и осознали бессмысленность сопротивления. Оказалось, что последние годы в Чечне шли процессы, которые неминуемо должны были привести к взрыву. Поскольку мятеж не ограничился территорией Чечни, то становилось ясно, что потерпела крушение вся его политика умиротворения вольных горских обществ.
Не помогло возведение крепости Грозная, на которую был такой расчет, не помогли вырубленные до самых гор леса. Чеченская проблема оказалась куда фундаментальнее, чем еще недавно казалось.
Во главе мятежа стал тот самый «разбойник Бейбулат», которого Алексей Петрович так недавно величественно простил.
Но уникальность и опасность мятежа 1825 года заключалась не в популярности и отчаянности Бейбулата. Дело было куда серьезнее.
На Кавказе развивалось учение тариката.
Как писал глубокий исследователь этой проблематики и истории Кавказской войны вообще Николай Иванович Покровский: «Идеология борцов за „возрождение мусульманства“ выразилась в учении тариката, „пути к истинному богу“, организационно же движение оформилось в мюридизме»[76].
И далее, опираясь на соответствующие тексты проповедников тариката: «Основные правила тариката преследуют задачу целиком подчинить волю ученика-мюрида воле его учителя-мюршида (шейха). Первым из этих правил является тщательное соблюдение всех требований религии».
На Восточном Кавказе начался процесс выковывания нового типа воинов, сплоченных железной дисциплиной и безоговорочным подчинением своему вождю — имаму, не просто сражавшихся за свободу и заветы предков, но выполнявших высшую миссию: ведущих газават, священную войну против неверных.
Один из «коренных кавказцев», генерал Григорий Иванович Филипсон, автор содержательнейших мемуаров о своей кавказской службе, сетовал: «Известно, что фанатический шариат возник еще в начале 20-х годов. Непонятно, как Ермолов не придал этому никакого значения, не знаю, сознал ли он после свою ошибку, но последствия стоили нам слишком дорого».
Филипсон был не прав. Он начал служить на Кавказе уже в 1830-е годы и просто не знал реальной ситуации. Что не удивительно, ибо Ермолов сделал все от него зависящее, чтобы его усилия в этом направлении остались в тайне.
Алексей Петрович достаточно рано ощутил надвигающуюся опасность. И предпринял превентивные действия, делающие честь его проницательности.
Покровский пишет: «…Группу умеренных тарикатистов и использовал Ермолов для противодействия слишком широко распространившейся проповеди тарикатистов радикальных. Царский наместник, по свидетельству М. П. Погодина, „провел в ауле Казанищи всю зиму с 1823 г. на 1824 г., где имел при посредничестве умного и вполне преданного нам шамхала Тарковского ночные свидания с Сеидом-эфенди, ученым наставником значительнейших туземных мулл, пользовавшимся в горах огромным влиянием. Во время этих свиданий, о коих не знали многие из самых приближенных к Ермолову лиц, ему удалось склонить Сеида-эфенди употребить в нашу пользу свое влияние в горах и принять на себя наблюдение за своими единоверцами. Таинственность этих свиданий вполне понятна.
Ермолову было нужно, чтобы агитация Сеида против мюридов не связывалась с русским командованием“»[77].
Через шамхала Тарковского проконсул выплачивал Сеиду-эфенди постоянное жалованье[78].
Меры, принятые Ермоловым, были более чем своевременны. Кавказ находился на пороге газавата — идеи, которая на десятилетия объединила горцев и сделала их силой куда более мощной, чем в ермоловское время.
В 1825 году и была сделана первая после восстания шейха Мансура в 1780-х годах попытка объявить священную войну.
Генерал Греков, которому Ермолов поручил чеченские дела, доносил: «Разбойники, употребив все обманы для народа уверениями в помощи дворов турецкого и персидского в продолжение прошедших лет, и видя, что им уже не верят, вздумали прибегнуть к религии».
То, что произошло дальше, не в последнюю очередь объясняется личными особенностями главных действующих лиц с русской стороны.
С марта 1825 года Кавказской линией командовал генерал-лейтенант Д. Т. Лисаневич, недавно возвращенный на Кавказ и еще слабо ориентировавшийся в новой ситуации. Генерал-майор Греков, напротив, много лет провоевал на Кавказе, начав службу унтер-офицером в 1805 году и к 1823 году дослужившись до генерал-майора.
Авторитетный военный историк Н. А. Волконский писал про Грекова: «Ермолов был чрезвычайно расположен к нему и безусловно доверял ему, потому что видел в нем честнейшего, беззаветно храброго и весьма распорядительного офицера. Греков и в самом деле имел все эти прекрасные качества <…> но имел недостатки, те именно недостатки, которые были вредны только для него одного. Прежде всего в нем сильно развито было чрезмерное самомнение, которое могло быть, с одной стороны, последствием жизненных удач и быстрого возвышения, а с другой — действительно обширного знания среды, в которой он стоял, и дела, которым руководил. Последнее условие развило в нем гордость, излишнее самолюбие, упрямство и ту самоуверенность, которая не допускала ни советов, ни возражений. <…> Греков был совершенно в духе Ермолова»[79].
Греков относился к чеченцам с еще большим презрением, чем Ермолов. Как писал Волконский: «Греков смотрел на этот народ с весьма невзрачной для него точки зрения, и не только в разговоре, но и в официальных бумагах называл его не иначе как „сволочью“, а всякого представителя из среды его — „разбойником“ или „мошенником“. Так отнесся он и к Бейбулату Тайманову. <…> А между тем Бейбулат был известен среди чеченцев удалью, бесстрашием, вообще „джигитством“, которое они беспредельно уважали в каждом; он имел нередко решающий голос на общественных сходках, и тогда его считали поборником народных интересов»[80].
Был и еще один персонаж, сыгравший свою роль в событиях лета 1825 года.
Собиравший материалы по истории чеченского восстания Н. Ходнев выяснил личность пристава, управлявшего в этот период Чечней. Это был казачий офицер Артамон Лазаревич Чернов.
«Приняв управление Чечнею в преклонных летах, пристав не выказал большой гуманности к подчиненным; напротив, все знавшие его говорят в один голос, что, собирая с чеченцев штрафы, он закапывал сопротивлявшихся в землю по пояс; уверяли далее, что бывали случаи, когда он и совсем закапывал их в землю живыми. Страх к нему был так велик, что он свободно ездил по Чечне в сопровождении лишь одного казака вестового. Окончательно возненавидели его чеченцы в 1825 году по поводу исчезновения одного из фамилии Турло, Могомы. Об этом обстоятельстве ходило много слухов, но все они выставляли Турло, укрывателя разбойников, невинною жертвою, а Чернова безжалостным мучителем. <…> Если Чернов служил правою рукою для Грекова, то понятно, что к этому последнему народ питал не менее враждебные чувства. Это раздражение и было одною из главных причин восстания»[81]. Жестокость Чернова и Грекова конечно же свою роль сыграла. Но она сыграла ее в наэлектризованной атмосфере религиозной проповеди.
Проповедь газавата в это время широко распространилась в Дагестане. А весной 1825 года оттуда вернулся Бейбулат в сопровождении муллы Могомы Майортупского.
29 мая в ауле Майортуп состоялся сход, на котором с проповедями выступили два проповедника из Дагестана. Они утверждали, что мулла Могома — истинный пророк, который пришел возвестить час освобождения от ига неверных.
Бейбулат Тайманов стал военным вождем готовящегося восстания, а мулла Могома — его духовным вдохновителем.
По Чечне распространились слухи о чудесах, которые творит новоявленный пророк.
Это была совершенно новая ситуация, отличная от всех предшествующих мятежей. Восставших объединяла высокая религиозная идея.
Алексей Петрович записал в дневнике под тем же числом 2 июля: «Генерал-лейтенант Лисаневич и генерал-майор Греков нанесли им поражение и рассеяли их совершенно. За сим должно было последовать совершенное укрощение мятежа, но в это время один из аксаевских жителей, которого генерал-лейтенант Лисаневич приказал взять под стражу, как изменника, бросился на него с кинжалом, нанес ему тяжелую рану и заколол генерал-майора Грекова».
К убийству двух генералов мы еще вернемся. А сейчас надо вспомнить обстоятельства, при которых начался мятеж. Это важно для понимания восприятия русским командованием реальной ситуации.
Кумыкский князь Хосаев, преданный русским властям, неоднократно сообщал Грекову о происходящем, но генерал был уверен, что это напрасные страхи. Он не мог себе представить, чтобы чеченцы после неоднократных разгромов, которым они подвергались, после сожженных и вырезанных аулов, после голодных зим в горах осмелились на новое восстание. Когда Бейбулат и мулла Могома, провозглашенный имамом, активно собирали силы для нападения на русские укрепления, он писал Хосаеву: «Почитаю нужным уведомить вас, что чеченцы, самые усердные почитатели пророка, наконец одумались и совершенно перестали верить. Я посылал везде нарочных и удостоверился в том. Шалинцы и оба Атаги больше всех прилеплялись к мошенникам и верили имаму, теперь раскаялись и сознались, что их обманывали и что они теперь сами увидели и не поверят ничему. Мошенники распускают разные ложные слухи, ибо видят, что дело их разрушается. Разбойник Бейбулат поехал в горы, но там никто его не слушает и не верит».
Когда Греков прозрел, Бейбулат и Могома собрали значительные силы и получили подкрепления из Дагестана. После первых неудач русских войск Лисаневич и Греков рассеяли отряды Бейбулата, но это отнюдь не означало окончания восстания.
30 июля Ермолов писал Кикину из Владикавказа: «Любезный и редкий брат, Петр Андреевич! Со мною должны встречаться все странные случаи и все, что неприятно.
Не в сем числе должно быть возмущение чеченцев и горских их соседей, ибо здесь это дело обыкновенно, и если бы жив был отличный генерал-майор Греков, то все было бы приведено в порядок, и мне не нужно было самому туда ехать, следовательно, я застал бы тебя на водах, хотя один или два дня, но надобно, чтобы судьба во гневе дала мне генерал-лейтенанта Лисаневича, который, по чрезмерной ограниченности своей, думал, что он лучше всех все знает, и потому, не следуя мнению Грекова, человека умного, дальновидного и опытного, взялся распоряжаться всем.
Правда, как человек храбрый, он решился с горстью войск напасть на многочисленных мятежников, разбил их и рассеял, но не хуже его сделал бы то же и генерал-майор Греков, но вслед за сим совершенным успехом, который давал выгодный делам оборот, он умел бесполезно и без нужды попасть на кинжал злодея.
Вызвавши к себе жителей города Аксая, явно изменивших нам и участвовавших в нападении на укрепление Герзель-Аул, от коего с уроном отбиты мятежники, он, вговаривая им в измене, вздумал взять главнейших виновников. Не мог отклонить его Греков, представлявший, что не прилична мера сия и не время употреблять строгость и розыскания, он не послушал. Двое преступников, вызванные из толпы, предстали с покорностию, но когда взяли третьего, он бросился на Лисаневича с кинжалом и его ранил смертельно, Грекова же убил одним ударом. Истребили убийцу, это не заплата за достойного Грекова!»
Трагедия в Герзель-Ауле этим не кончилась. Теряя сознание, Лисаневич крикнул солдатам: «Коли!» Не совсем ясно, что имел он в виду, но понят был вполне определенно. Разъяренные солдаты перекололи всю толпу безоружных людей. При этом погибли преданные русской власти армяне и переводчики из местных жителей.
«Прекрасные и благоразумные действия Лисаневича», — зло прокомментировал случившееся Ермолов.
Гибель не одной сотни безоружных и в большей части невинных людей ожесточила их родственников и соплеменников. Это способствовало развитию мятежа.
«Иду к чеченцам, — говорит Ермолов в конце письма Кикину, — всюду бунт, все под ружьем и давно на меня готовятся кинжалы. Но со мною мое счастие, и знаю, что Бог поможет мне все, по желанию, кончить. <…> Смените меня другим начальником и увидите, что не те будут обстоятельства».
Но где же плоды девятилетних трудов? Где усмиренные чеченцы? Где покоренный Дагестан? Где устрашенная Кабарда?
«Всюду бунт». Так и было.
И было еще одно обстоятельство, о котором Алексей Петрович не пишет своему другу, но которое фиксирует в дневнике.
После записи о гибели Лисаневича и Грекова: «Я хотел тотчас ехать на линию, но сильная болезнь меня удерживала.
24. Болезнь моя в дороге очень усилилась от чрезвычайного жару. <…>
28. Возобновилась болезнь с жестокостию, и лекаря отчаялись в жизни».
Бесконечное напряжение подтачивало его могучий организм.
А ситуация требовала действий.
«Слышно было, что чеченцы собираются в силах и лжепророк имеет большое в народе влияние. Партии их переходят на правый берег реки Сунжи».
Он приказал разрушить часть города Аксая, а сам город перенести дальше от гор, чтобы затруднить связь с чеченцами.
«Получены известия о возгоревшемся в Кабарде мятеже».
До конца года, превозмогая болезнь, он курсирует по своему проконсульству, затаптывая тлеющий и время от времени вспыхивающий пожар.
Грибоедов пишет 7 декабря 1825 года своему другу Бегичеву в Москву из станицы Екатериноградской: «Чтобы больше не иовничать, пускаюсь в Чечню. Алексей Петрович не хотел, но я сам ему навязался. — Теперь это меня несколько занимает, борьба горной и лесной свободы с барабанным просвещением, действие конгревов; будем вешать и прощать и плюем на историю».
«Конгревы» — реактивные снаряды или ракеты английского инженера Конгрева.
«Плюем на историю» — то бишь не будем заботиться о своей репутации в потомстве. «Будем вешать и прощать».
В этот поход Ермолов больше вешал, чем прощал.
Но не только вешал. В одном из донесений на высочайшее имя за январь 1826 года он писал: «Я делал весьма малые переходы и неприятелю давал время собраться; но не мог извлечь его из лесов, в которых оставался он для охранения укрывавшихся семейств. Чеченцы, лишившись в деревнях хлеба, чувствуют в оном недостаток и от ужасного голода перетерпевают великие бедствия».
Это доносил он уже новому императору.
13 декабря 1825 года — Кикину: «Дожил я до того, что пришло внезапное известие о кончине императора и теперь привожу к присяге войска новому государю».
Это был император Константин Павлович, бывший друг, ныне — недруг.
1 мая 1826 года Алексей Петрович отправил генерал-майору Лаптеву, заменившему убитого Грекова, секретное предписание, в котором сконцентрировал печальный опыт всех прошедших лет. Этот документ писал уже не тот Ермолов, который в 1818 году строил Грозную и уверен был, что только сила и страх, сопряженные с голодом, могут привести «мошенников» чеченцев к покорности.
«Со стороны вашего превосходительства, как начальника, для коего новы еще сии народы, нужны крайняя осмотрительность и терпение. Доходящие до вас обвинения должны быть сколько возможно проверяемы сведениями от людей благонамеренных, каковых хотя не много, но есть между чеченцами. Без совершенного изобличения, знаю я, что вы не приступите к наказанию, но еще нужно, чтобы не было до того ни малейшей перемены в кротком и снисходительном обращении с ними».
Надо отдать должное Алексею Петровичу: мятеж 1825 года, захвативший зиму 1826-го, стал для него весьма серьезным уроком. При всем своем уважении и доверии к Грекову он осознавал совершенные им роковые ошибки. И то, что он далее пишет Лаптеву, — явная укоризна убитому Грекову и недавно умершему от чахотки Чернову:
«Предместник ваш не всегда соблюдал сие правило, а подчиненные его не всегда изобличали виновных; нередко даже по видам корыстолюбия обносили правых, либо облегчали вину мошенников».
Точнее говоря, это не просто укоризна, но это обвинение, в значительной степени снимающее вину с мятежных чеченцев.
То, что Ермолов внушает Лаптеву далее, — принципиальное изменение его первоначальных установок. С ним произошло то, что произошло в последний год командования с Цициановым. Мощное давление обстоятельств вынудило их признать достоинства горских народов, которые надо уважать и на которые ориентироваться.
«Между здешними народами не трудно начальнику приобрести доверенность справедливостью и точным исполнением данного обещания. Данное слово должно быть свято. Строгим соблюдением сего последнего нередко случалось мне привлекать людей, известных злодеяниями, и многие из них не только переменили род жизни, но сделались полезными. Каждый полагающийся на великодушие начальства и доверяющий лицо свое должен пользоваться безопасностью, принимайте с кротостью являющегося к вам; выслушивайте его с терпением; несоглашающегося на убеждения отпускайте свободным и без укоризны; преследуйте обманувших раз, а изменивших наказывайте строго.
Сколько здешние народы ни закоснелы в невежестве, сколько ни упорны в наклонностях порочных, они имеют уважение к правосудию начальника: не возбуждает в них ропот заслуженное наказание».
Удивительным образом это наставление Ермолова новому начальнику над чеченцами совпадает с горькими размышлениями Грибоедова, бывшего свидетелем действий Алексея Петровича в период мятежа.
7 декабря 1825 года Грибоедов писал Бегичеву: «Я теперь лично знаю многих князей и узденей. Двух при мне застрелили, других заключили в колодки, загнали сквозь строй; на одного я третьего дня набрел за рекою: висит, и ветер его медленно качает. Но действовать страхом и щедротами можно только до времени; одно строжайшее правосудие мирит покоренные народы со знаменами победителей».
Судя по контексту, речь идет о кабардинцах, схваченных во время подавления мятежа и доставленных в станицу Екатериноградскую, на границе Кабарды, где пребывал в это время Ермолов.
И далее в ермоловском наставлении следует истина простая, но выстраданная Алексеем Петровичем:
«Никогда не требуйте того, что для них исполнить трудно или чего они вовсе исполнить не могут, ибо за ослушанием должно следовать наказание. <…> Наблюдайте, чтобы никто из подчиненных не позволял себе грубого обращения с ними; чтобы никто не порочил веры мусульман, паче же не насмехался над ней».
Это установка, как мы понимаем, противоположная стилю поведения Грекова и Чернова, о котором Ермолову, разумеется, было известно. И он смертельно боится повторения ошибок. Мятеж уже достаточно скомпрометировал его многолетние усилия.
Он должен вернуться со славой покорителя Кавказа, а не воинственного неудачника, разбудившего дремавший вулкан. Он должен оставить своему преемнику замиренный Кавказ, а не тяжкое пространство непрерывных боевых действий. Иначе неизбежно встанет вопрос: а чего же он, герой легенды, новый Цезарь, достиг своими титаническими десятилетними усилиями? Русское общество — от императора до мещанина — весьма приблизительно представляет себе, что такое Кавказ. И никто не станет слушать его объяснений.
Он не мог позволить себе вернуться побежденным.
А для этого надо было менять стратегию взаимоотношений с горцами.
«Каждого руководит собственное убеждение и сильные предрассудки народа в полудиком его состоянии. Надобно стараться сблизить чеченцев частым их общением с русскими. Начальнику войск на линии предпишу я об учреждении торгов в кр. Грозной и для опыта учредить меновой двор. Распоряжение сие неприметно привлечет чеченцев, коих некоторые изделия, нужные нашим линейным казакам, будут вымениваемы и исподволь можно будет дать большее обращение медной нашей монеты вместо извлекаемого ими серебра».
Он возвращался, таким образом, к идеям адмирала Мордвинова, которые в первые годы казались ему наивными.
«Дам я предписание о построении мечети (в крепости Грозной! —
Нужно иметь большее попечение об аманатах, что доселе было крайне пренебрежено. Содержание, определяемое на них, достаточно, но они жили в сырой и худой казарме, где занемогли и родственники их жаловались на то. Я назначил для них дом, полковником Сарочаном построенный собственными издержками. На нем надобно переменить крышу, уменьшив тягость оной. Вы извольте приказать соблюдать в содержании аманатов большую опрятность».
Это не значит, что он исключил насилие.
«О действиях против чеченцев оружием дам особенное предписание».
Ему не нужен был новый мятеж еще и потому, что он чувствовал приближение войны.
Еще 12 июля 1825 года он направил в Петербург два обширных рапорта — императору и Нессельроде, в которых обосновывал свое предвидение скорой войны.
Он писал Александру: «…Делаются персиянами приуготовления к войне, собираются из отпусков войска и уже на границах появились отряды оных, где прежде их не бывало. Думать можно, что сим желают они показать твердость, с каковою решились они поддерживать требования свои о границах, но в то же время дерзость некоторых из пограничных начальников простирается до неимоверной степени. <…>
Строгий исполнитель священной воли Вашего Императорского Величества, не подал я ни малейшей причины к неудовольствию и все доселе преодолевая терпением. Я мог бы перенести более, если бы в понятиях здешних народов оскорбления, относящиеся собственно к лицу моему и снисхождения со стороны нашей не принимались в виде робости и бессилия.
Но есть предел снисхождению, далее которого оно непростительно и преступно. Могут оскорбления возбудить познания собственных сил, и кто обвинит меня в чувствах, что я принадлежу Государю великому, народу могущественному? Смотрят на поведение мое здешней страны покорствующие нам народы. Они легкомысленны, склонны к беспокойствам и еще не утверждены в обязанностях послушания».
Последний аргумент был серьезен. Вызывающее поведение Аббас-мирзы и его представителей на границе вполне могло возбудить в приграничных областях и татарских дистанциях надежду на скорое пришествие единоверцев-персов.
Рапорт императору — довольно странный документ. Из него не очень понятно — хочет Алексей Петрович по-прежнему войны или уже не хочет.
С одной стороны, он предрекает: «Накажет судьба правителей жестоких и зверонравных, и царствующую семью поколения, всегда бывшего в презрении и теперь ненавидимого». И просит усилить Кавказский корпус.
С другой — он готов уступить славу победителя персов новому командиру корпуса.
«Безбоязненно излагая мысли мои, не имею сомневаться, что Ваше Императорское Величество простить мне изволите, если простодушно скажу, что, имея несчастие возбуждать зависть многих милостями, которыми ущедряет меня Государь, мне благотворящий, я опасаюсь порицания, что я был виною прервания мира, что война есть замыслы мои для удовлетворения видов честолюбия.
Всего легче заменить меня на случай войны другим начальником.
Буду скорбеть я, что не мог быть полезным приобретенными сведениями в девятилетнее мое здесь пребывание, но почту наградою, если благоугодно будет Вашему Величеству позволить мне остаться здесь в состоянии частного человека, ибо свидетелем буду наказания правительства самого низкого и вероломного, народа самых презрительных свойств в мире».
Странная для Ермолова просьба…
В послании Нессельроде Алексей Петрович подробно конкретизирует свои доводы в пользу скорой войны, но завершает подобным же пассажем:
«Многие, не зная происшествий, готовы будут обвинять меня, что не отвратил я разрыва, скажут, что приуготовил даже войну, как могущую льстить видам моего честолюбия. <…> В доказательство же того, что в службе Государя моего нет у меня места собственным выгодам, я не скрыл от Его Величества ожидания моего, что заменен буду другим в здешнем краю начальником».
Александр и Нессельроде ответили ему успокаивающими письмами.
В Петербурге категорически отказывались верить в агрессивные намерения Персии и, соответственно, не расположены были усиливать Кавказский корпус, о чем просил Ермолов. А он, в отличие от императора и министра, хорошо представлял себе и разбросанность своих войск на огромном пространстве с растянутыми и слабыми коммуникациями, и ненадежность населения в бывших ханствах, близких к персидской границе. Хотя эту опасность он недооценивал.
На что же рассчитывал он несколько лет назад, мечтая о сокрушении ненавистной Персии? Это понятно. Если бы ему самому пришлось начинать военные действия, он мог предварительно сконцентрировать необходимый войсковой кулак и обеспечить наступающие батальоны и сотни продовольствием. Сейчас ему приходилось держать войска в местах постоянной дислокации, чтобы не быть обвиненным в провоцировании войны.
Нессельроде, уверенный, что он владеет всей нужной информацией, влиял на императора, связывая ему, Ермолову, руки.
Если учесть, что переписка по персидским делам велась на фоне разгорающегося мятежа, становятся понятны те ноты отчаяния, которые явно проступают в его посланиях.
Есть все основания предположить, что неудачная — по вине Петербурга — война с Персией становилась его кошмаром.
Офицер Шимановский оставил свидетельство о ситуации, в которой принималась на Кавказе присяга Николаю.
Перед походом в Чечню войска собирались в станице Червленой.
«Толкуя о предстоящем походе в Чечню, мы увидели, что шибко скачет кто-то на тройке прямо к квартире генерала. Это был фельдъегерь Дамиш. Тотчас позвали его к генералу; он подал ему довольно толстый конверт, в котором были: манифест о восшествии на престол императора Николая и все приложения, которые хранились в Москве в Успенском соборе. Алексей Петрович поздравил нас с новым государем и тут же приказал дежурному по отряду сделать нужные распоряжения относительно присяги. Не медля нимало был отправлен курьер в Тифлис к начальнику штаба, и как мы расположены были по раскольничьим станицам, то пришлось посылать за священником в город Кизляр (с лишком 200 верст от станицы Червленой), которого и привезли только на третий день. Тогда все мы <…> присягнули. Эта медленность была поставлена потом в вину Алексею Петровичу, между тем как вины никакой тут не было».
Ермолову и в самом деле в Петербурге ставили в вину промедление с присягой, которое объяснялось скорее не политическими, но географическими обстоятельствами.
Хотя, по сведениям Погодина, узнав об отречении Константина, Ермолов посылал нарочного в Новороссийский край к Воронцову, чтобы узнать точнее, что происходит, но непохоже, чтобы это задержало присягу.
Тут надо разобраться с «декабристским сюжетом» в судьбе Алексея Петровича.
Официальная советская историография старалась революционизировать Ермолова, объявляя его если не участником, то покровителем тайного общества, опираясь при этом на достаточно сомнительные источники.
На следствии по делу 14 декабря выяснилось, что капитан Якубович, кавказский герой, сообщил князю Сергею Григорьевичу Волконскому, одному из лидеров Южного тайного общества, что таковое же существует на Кавказе и возглавляет его Ермолов. Но Якубович, фантазер и фанфарон, сознался, что это было чистой выдумкой.
Эмигрант-публицист Петр Долгорукий утверждал: «Сперанский сносился с Обществом через посредство Батенькова, Мордвинов через Рылеева, Ермолов через Грибоедова, Михаила Фон-Визина и еще через одного полковника».
Сперанский действительно был осведомлен в общих чертах о возможном сопротивлении переприсяге. Осведомленность Мордвинова крайне сомнительна. Характер отношений Ермолова и Фонвизина нам известен — подозревая своего бывшего адъютанта в «карбонарстве», он не желал иметь ничего общего с его конспиративной деятельностью. Участие Грибоедова в тайном обществе не доказано. Стало быть, и связным он быть не мог.
Николай Павлович действительно подозревал Ермолова в коварных замыслах, и у него был вполне конкретный повод. В письме, которое передал ему 12 декабря подпоручик Ростовцев, член тайного общества, затеявший свою собственную игру, в частности, говорилось: «Государственный совет, Сенат и, может быть, гвардия будут за вас; военные поселения и отдельный Кавказский корпус решительно будут против».
Ростовцев откровенно вводил великого князя в заблуждение. Он знал, что готовится выступление гвардейских полков против Николая. Что до военных поселений и особенно Кавказского корпуса, то проверить их настроения в обозримое время было невозможно. Быть может, это были отголоски слухов, которые распространял Якубович.
Николай уже знал о заговоре из обширного письма начальника Главного штаба Дибича из Таганрога, суммировавшего поступившие к императору доносы. И он отнесся к сообщению Ростовцева с полной серьезностью.
В тот же день он писал Дибичу: «Послезавтра я — или государь, или без дыхания. <…> Но что будет в России? Что будет в армии? Я вам послезавтра, если жив буду, пришлю — сам еще не знаю, кого — с уведомлением, как все сошло; вы тоже не оставьте меня уведомить о всем, что вокруг вас происходить будет, особливо у Ермолова. К нему надо будет под каким-нибудь предлогом и от вас кого выслать, например, Германа или такого разбора; я, виноват, ему менее всего верю».
Стало быть, в штаб Кавказского корпуса был послан полицейский агент, о котором мы ничего не знаем.
Дело было и в том еще, что Николай и Константин после 14 декабря были уверены, что «эти мальчишки», капитаны и поручики, — только «застрельщики», а за ними стоят некие крупные фигуры.
Ермолов, своенравный, вечно недовольный, строптивый, вполне подходил, по мнению Николая, для такой роли. Он был любимцем покойного императора, к которому у Николая несмотря на все трогательные декларации было отнюдь не простое отношение.
Никаких следов причастности Ермолова к заговору не обнаружилось, и Николаю пришлось с этим примириться. Равно как и не было доказано существование тайного общества на Кавказе.
Политические воззрения Алексея Петровича кавказского периода нам известны. Его отношение к «карбонариям» — Фонвизину, Граббе — не выходило за пределы чисто человеческой симпатии. О их делах он, как нам известно, «знать ничего не хотел».
Именно человеческая симпатия заставила Ермолова решиться на весьма рискованный шаг: дать возможность Грибоедову уничтожить свои бумаги перед арестом.
Существует версия, что, поступая подобным образом, Ермолов думал не только о Грибоедове, но и о себе. Это маловероятно.
Вряд ли в бумагах Грибоедова был план государственного переворота или планы тайного общества. Скорее всего, это были дружеские письма, в которых могли быть весьма резкие высказывания, не говоря уже о том, что письма эти могли втянуть в круг следствия новых лиц. Это могла быть литературная переписка с Александром Бестужевым, которая сама по себе компрометировала Грибоедова, вне зависимости от содержания.
Там, конечно, могли быть и записи бесед с Ермоловым, но вряд ли в этот момент Алексей Петрович об этом думал. И, надо полагать, высказывания Ермолова, которые мог зафиксировать Грибоедов, были не опаснее того, что содержалось в письмах Алексея Петровича Закревскому, ходивших в списках.
Надо сказать, что лидеры тайного общества ошибались в Ермолове в том же духе, что и советские историки. Его недовольство несовершенством системы они принимали за радикальное ее неприятие.
Князь Сергей Петрович Трубецкой писал в воспоминаниях: «Общество намеревалось предложить в члены Временного правления двух членов Государственного Совета адмирала Мордвинова и Сперанского и генерала от артиллерии Ермолова».
Чрезвычайно интересный вопрос — принял бы Алексей Петрович это предложение в случае победы тайного общества 14 декабря, что было вполне реально? И если принял бы, то на каких условиях? Увлек бы его пример Бонапарта и возможность утолить неограниченное честолюбие? Или он саркастически отказался бы от этой чести?
Думается, что не принял бы — не это была сфера его мечтаний. А если бы принял, то не для того, чтобы ломать систему, а лишь совершенствовать ее. В означенном выше триумвирате союзниками были бы Ермолов с Мордвиновым.
Но устроило бы такое развитие событий лидеров тайного общества? У них не было бы выхода. Авторитет Ермолова в глазах гвардии и армии был неизмеримо весомее их авторитета…
Если вернуться к поставленной в начале главы проблеме, то можно сказать, что Ермолов и «карбонарство» — проблема, решаемая в плоскости скорее чисто человеческой, чем политической.
Молодой император между тем совершенно не был в этом уверен, тем более что в обществе ходили упорные слухи о роли Ермолова в недавних событиях.
Как мы помним, сразу после 14 декабря на Кавказ, скорее всего, был послан полицейский агент. Кроме того, Николай решил действовать прямо и откровенно. В разгар следствия над мятежниками он отправил на Кавказ генерал-майора князя Александра Сергеевича Меншикова, входившего еще недавно в дружеский генеральский круг — Ермолов, Воронцов, Закревский — и носившего прозвище Калиостро.
Конечным пунктом вояжа Меншикова была Персия, где он должен был урегулировать пограничные споры, сгладить противоречия, вызванные, как считали в Петербурге, радикализмом Ермолова, и окончательно укрепить мир между двумя державами.
Это были наивные надежды, основанные на полном непонимании ситуации и столь же полном недоверии к донесениям Ермолова.
Но функции Меншикова как доверенного лица императора были шире.
Выбор был не совсем понятен. У Меншикова была стойкая репутация либерала. Он вместе с Воронцовым и Новосильцевым в 1821 году предлагал Александру проект освобождения крестьян. Его попытались удалить из Петербурга, как и прочих ненадежных, назначив посланником в Дрезден — в Саксонию. Пост был вполне второстепенный, и Меншиков демонстративно вышел в отставку.
Трудно сказать, почему Николай, вернув его в службу, тут же дал ему весьма ответственное, а кроме того, конфиденциальное поручение.
Персидские дела были не единственной заботой князя.
28 января 1826 года Меншиков подал Николаю записку, в которой сформулировал поставленные перед ним задачи и метод расследования. Как мы увидим — главным героем этой записки оказывается Ермолов.
Меншиков должен был выяснить, действительно ли Ермолов в силу своего чрезмерного честолюбия и ненависти к Аббас-мирзе провоцирует войну с Персией. Он должен был довести до сведения проконсула недовольство Николая излишней разбросанностью войск на Линии. Но суть поручения сконцентрирована была в разделе третьем:
«III. Настроение войска и секретные действия
Контакты посольства с гражданскими и военными чинами Кавказа и Грузии и те сведения, какие оно соберет на месте, дадут ему возможность составить общее понятие о настроении войска и местных жителей. Труднее будет определить демагогические происки и тайные замыслы, если таковые существуют.
В этом случае недостаточно одних данных, доставляемых наблюдением; они могут породить лишь неясные подозрения до тех пор, пока следствие, производимое в Петербурге, не доставит дальнейших сведений о делах на Кавказе.
Если в этой местности не кроются никакие нити заговора, то, может быть, было бы удобнее поговорить откровенно с генералом Ермоловым и сообщить ему о слухах, ходящих на его счет, с тем чтобы самолюбие побудило бы его опровергнуть их фактами.
С этой целью ему следовало бы передать следующие мысли, изложенные здесь вкратце.
Когда была обнаружена анархическая цель заговора, клонившегося к цареубийству, то всеобщее негодование против зачинщиков мятежа побудило общество проследить и разъяснить их прежнюю деятельность.
При просмотре списка их фамилий невольно бросалось в глаза, что в этом деле замешаны один адъютант генерала Ермолова и две другие личности, Якубович и Кюхельбекер, пользовавшиеся его покровительством, между тем как один из них посягал на жизнь императора Александра, а другой — на жизнь вел. кн. Михаила.
Покровительство, оказанное им этим личностям, вызвало в обществе самые немалые толки.
Император не обратил на них внимания, но они не могли нравиться ему, так как касались одного из известнейших его генералов, пользующегося его полным доверием.
Поэтому е. в-во с прискорбием сообщает ему эти подробности, но по чувству деликатности, которое генерал, конечно, сумеет оценить, государь поручил передать ему все это словесно, чтобы в официальной корреспонденции не осталось следов этого дела.
К тому же меры, которые г-н Ермолов не преминет принять к соблюдению порядка и к обнаружению пагубных стремлений, если будет повод подозревать их, сами собой разрушат клевету, столь огорчившую императора».
Алексея Петровича, стало быть, подозревали в том, что он провоцирует конфликт с Персией — что было запоздалым подозрением, и, главное, в причастности к событиям декабря 1825 года, мятежу в Петербурге и деятельности Южного общества.
К абзацу, в котором говорилось об адъютанте Ермолова — Фонвизине, о Якубовиче и Кюхельбекере, Николай сделал примечание: «Прекрасно; к вышеупомянутым фамилиям прибавить Грибоедова, о поведении, связях и проч. его разузнать у того же генерала Ермолова и у других».
Меншикову предстояло исполнить обязанности следователя.
Надо отдать ему справедливость, он категорически отмел всяческие политические подозрения — как в отношении Ермолова, так и в отношении настроений в Кавказском корпусе и вообще в крае.
Но отголоски тогдашних представлений о роли Ермолова в событиях 14 декабря звучали еще очень долго…
Ермолов догадывался, что означает для него воцарение Николая. Он знал, что, помимо известной ему антипатии молодого императора, немалую роль сыграют наветы его многочисленных недоброжелателей.
Опереться ему было не на кого. Закревский, уже третий год как финляндский генерал-губернатор, прежнего влияния в Петербурге, естественно, не имел. Аракчеева Николай решительно отстранил от государственных дел. «В силе» были совершенно иные люди.
Он рассчитывал на личную встречу с Николаем во время коронации, на которую собирали всю военную и статскую элиту. Но и этого не получилось.
31 мая 1826 года он писал Кикину: «Я возвратился из Чечни, где более рубил дрова, нежели дрался. Я прочищал леса и пролагал пути, а неприятель прятался повсюду и показывался редко. Теперь со мною, как с искусившимся, не говорите ни слова о дорогах, или приглашу видеть их в Чечню. Тацит не более ужасными описывал леса Германии…»
Последняя фраза свидетельствует, что наша догадка о сопоставлении Ермоловым варварской Германии Тацита и современной ему Чечни совершенно справедлива.
И тут он переходит к сюжету для него в этот момент самому важному:
«Вот уже одиннадцатый месяц я из Грузии и уже седьмой на чистом воздухе без крыши. А у вас против меня все ругательства, но только, по чрезмерной нелепости своей, к счастию моему, не весьма оскорбляющие».
Слухи, которые распускали о нем в Петербурге его недруги, и в самом деле были вполне абсурдными. Его обвиняли в том, что он, сидя в Тифлисе, с полдня уже пьян и никакими делами заниматься не в состоянии.
Когда разнесся слух о его скорой отставке, говорили, что его привезут скованного как преступника за страшные злоупотребления.
Погодин, тщательно собиравший при жизни Алексея Петровича сведения о нем, утверждал: «Врагами были Барклай, Витгенштейн, а после Чернышев, Бенкендорф, Паскевич, Нессельрод, Васильчиков. <…> Если Ермолов имел в свое время немало почитателей и поклонников, и если вообще немногие на нашем веку пользовались такою популярностию, то было у него однако ж и множество врагов, и враги сильные, которых неприязнь началась гораздо прежде, чем он впал в немилость. Во главе их стоял человек, никогда не соизмерявший свои чувства с придворным термометром, известный всем своим благородным прямодушием всегдашний рыцарь правды и чести, князь Илларион Васильевич Васильчиков. Он едва ли ненавидел кого-либо в такой степени как Ермолова. Имелись ли к тому какие-нибудь особенные причины, может быть, еще за время, когда они служили вместе в рядах войск, неизвестно; но при одном имени Ермолова добрейший человек совершенно выходил из своего незлобивого характера». Одна из причин этой ненависти, вполне возможно, уходила корнями в известные события, о которых и сам Алексей Петрович вспоминал без всякого удовольствия — его интриги против Барклая.
Увы, антибарклаевская интрига тяготела над Алексеем Петровичем и активно против него использовалась.
Ермолов отвечал Васильчикову откровенной неприязнью и презрением.
Александр умер. Николай Ермолову явно не благоволил, а рядом с молодым императором стояли именно его недруги во главе с сильным Васильчиковым.
«Несчастное происшествие (мятеж 14 декабря. —
Желал бы я, чтобы мне было позволено приехать, когда то могу без упущения должности».
Мы помним, как он собирался в 1821 году отправиться в столицу, не дожидаясь разрешения императора. Теперь — не то.
Казалось, ничто не свидетельствовало о неблаговолении. Чтобы понять внешний рисунок отношений между императором и проконсулом, стоит прочитать первые письма Николая Ермолову, написанные сразу после вступления на престол.
16 декабря 1825 года он отправил ему рескрипт следующего содержания: «Алексей Петрович! Военный министр докладывал мне отношения ваши к начальнику главного штаба моего от 26 и 29 ноября, коими уведомляете, что распространившийся между чеченцами и прочими горскими народами мятеж проник в Кабарду, и что подтверждается дошедшее до вас известие о намерении закубанцев вторгнуться в пределы наши большими силами. По таковому положению дел на Кавказской линии, я заключаю, что весьма легко может встретиться надобность в усилении пехотного правого фланга войск Кавказского корпуса.
Дабы заблаговременно предупредить сию необходимость и преподать вам надежные способы к успешному действию против мятежников, я предназначаю на сей конец 20-ю пехотную дивизию, в Крыму расположенную».
Далее следуют технические подробности.
То, в чем упорно отказывал Ермолову Александр, было мгновенно решено Николаем.
Заканчивался рескрипт весьма лестно для Алексея Петровича:
«…По известной мне предусмотрительности и деятельности вашей, не должно опасаться неприятных последствий от предприятий хищников. В сих мыслях, ожидая от вас лучших известий о положении дел наших в отношении к горцам, за удовольствие поставляю пребыть к вам всегда благосклонным.
Николай».
Относительно благосклонности есть большие сомнения. Но это была формула, которую, однако, государь мог и не использовать. Ермолов был слишком крупной и популярной фигурой, чтобы с первых дней царствования имело смысл входить с ним в конфликт.
Ермолов подробно рапортовал Николаю о своих действиях по подавлению мятежа, демонстрируя победоносную активность. Уже по завершении основных операций он направил императору обширный рапорт, включавший в себя не только отчет о военных действиях, но и элементы истории горских народов. Причем Алексей Петрович постоянно подчеркивает, что замирение достигается в основном без применения оружия. (Что лишь отчасти соответствовало действительности.)
«Редко будут случаи употребить оружие, ибо боязнь потерять хлебопашество и скотоводство, составляющее богатство их, дает возможность достигать желаемой цели, не прибегая к средствам силы».
У Николая не было поводов для претензий. Его рескрипты, направляемые Ермолову, казалось бы, говорят о полном примирении императора с нелюбимым недавно еще генералом.
«Алексей Петрович! Я с удовольствием получил донесение ваше от 10-го января. Неутомимая деятельность ваша, неразлучная с свойственными вам твердостию и благоразумием, послужит мне надежнейшим ручательством, что все, предпринятые вами меры к водворению тишины и порядка на Кавказской линии увенчаются желаемым успехом.
Но дабы удовлетворить настоятельному желанию вашему о усилении Кавказского корпуса, я поручил начальнику главного штаба моего привести оное без потери времени в исполнение. От него вы получите подробнейшее по сему предмету уведомление.
Мне приятно уверить вас при сем во всегдашнем дружеском моем к вам расположении и быть взаимно уверену, что по многолетнему опыту могу ожидать от вас в полной мере те же чувства преданности ко мне и усердия к пользе отечества, кои постоянно отличали служение ваше покойному императору, общему нашему благодетелю.
Пребываю навсегда вам благосклонным.
Николай.
В С.-Петербурге. Февраля 16, 1826 года».
Все эти привычные формулы по сути дела ничего не стоили. Николай, еще далеко не уверенный в прочности своего положения, опасался резких кадровых перестановок. А по части лицемерия ему мало было равных.
Он ждал повода, благовидного предлога, чтобы убрать Ермолова с Кавказа.
Еще не предполагая, что этот предлог дадут ему персидские дела, император обратил на них особое внимание.
31 января 1826 года Николай пишет Ермолову, в очередной раз предостерегая его от разрыва с Персией.
Император находится всецело под влиянием Нессельроде, и опасения Ермолова вызывают у него привычные подозрения: не намерен ли этот честолюбец из своих собственных видов развязать войну.
Между тем Ермолов был совершенно прав: Аббас-мирза готовился к вторжению.
16 июля войска Аббас-мирзы вошли на территорию, принадлежащую России, и двинулись к Елизаветполю и Шуше.
Казалось бы, предыдущая война с Россией стала для Персии тяжелым уроком. Но воинственный и оскорбленный Ермоловым Аббас-мирза полагался на свою реорганизованную армию. А кроме того, было и еще одно чрезвычайно значимое обстоятельство, которое внушало персам большие надежды.
Изгнанные Ермоловым ханы, вернувшись вместе с персами, были радостно встречены своими бывшими подданными, озлобленными на российских чиновников.
«По изгнании Мустафы-хана из богатых его владений, — пишет Муравьев в воспоминаниях, — армяне и грузины, жадные к деньгам, заняли все места, до управления касающиеся, грабеж и воровство водворилось в ханстве».
Муравьев склонен был винить в порочной кадровой политике прежде всего начальника штаба корпуса Вельяминова. Так ли это, кто нес главную ответственность за неустройства в гражданской сфере управления, сказать трудно. Сфера ответственности Ермолова была так огромна, а чиновничий корпус, имевшийся в его распоряжении, так несовершенен, что контролировать его Алексей Петрович, да еще при его отвращении к гражданским делам, был конечно же не в состоянии.
В 1826 году положение в приграничных ханствах было таково, что сотни семейств бежали в Персию. Хотя за несколько лет до того тенденция была противоположная.
Разумеется, Аббас-мирза все это прекрасно знал и рассчитывал на массовое восстание жителей приграничных областей при вступлении туда его сарбазов.
Униженные Ермоловым агалары, отнюдь не утратившие своего влияния в татарских дистанциях, с нетерпением ждали прихода персов.
Поведение Алексея Петровича во время Персидской войны — один из самых загадочных эпизодов его биографии.
Денис Давыдов утверждал: «Никогда гражданская доблесть Ермолова не проявлялась в столь высокой степени, как во время вторжения персов в наши Закавказские владения; Алексей Петрович находился в то время в обстоятельствах, которые, более чем когда-либо, требовали с его стороны особых подвигов, чтобы удержаться на той высоте, на которой он был поставлен. Все и все говорили, что ему надо было лично нанести решительный удар персиянам; но он, зная сомнительное состояние умов в Закавказских провинциях, встревоженных приближением многочисленных полчищ Аббаз-Мирзы, и сознавая чрезмерную слабость наших военных сил на Кавказе, пожертвовал своими личными выгодами; он послал на верную победу Паскевича, вверив ему начальство над небольшим количеством превосходных войск, коими он мог лишь в то время располагать. Ермолов дал ему своих лучших сподвижников Вельяминова и князя Мадатова, коим Паскевич был вполне обязан своей первой победой над персиянами, остался лично в Тифлисе с самыми ничтожными силами, которые могли быть сильны под его именем, потому что одно присутствие его в этом городе и приобретенное им необычайное нравственное влияние в крае могли не допустить всеобщего противу нас взрыва. Это беспримерное самоотвержение, переносящее нас в лучшие времена великого Рима, было оценено лишь самым ограниченным числом людей, а большинство ставит этот великий подвиг в важнейшую минуту жизни этого человека, подвиг, который, несмотря на многие другие, совершенные им в течение жизни, составляет едва ли не самый блестящий алмаз в его славном венце».
Это одна и весьма убедительная точка зрения. Были и другие. Говорили, что Ермолов растерялся, едва ли не струсил, испугавшись подавляющего превосходства сил противника, и послал Паскевича скорее на поражение, чем на победу.
Упрекать Ермолова в трусости бессмысленно. Он был человеком абсолютной личной храбрости. Вторжение персов стало для него неожиданностью не из-за его недальновидности, но из-за уверенности Петербурга в неизбежном решении пограничных споров мирным путем — для этого в Персию послан был князь Меншиков с широкими полномочиями и правом уступить Персии часть спорных территорий.
Сообщая императору о вторжении персов, Ермолов объяснял: «В то время, как особа, облеченная доверенностию Вашего Императорского Величества, находится при лице шаха по его приглашению, когда туда же для переговоров призывается наследник,
Аббас-мирза самым простым способом переиграл не Ермолова, а российскую дипломатию. Имитируя переговоры и тем связав руки Ермолову, он готовил вторжение.
Ермолов стал жертвой некомпетентности Нессельроде в персидских делах.
Говорить о его растерянности и в этой ситуации тоже не приходится. Об этом свидетельствуют его инструктивные письма Мадатову и Муравьеву — с четкими и энергичными указаниями. Узнав о вторжении, он немедля стал концентрировать войска на основных направлениях. Это было сложно, ибо войска оказались разбросаны по обширной и сложной по рельефу территории.
Он сознавал, что противник, поддержанный населением приграничных областей, обладающий многочисленной кавалерией и обеспеченный продовольствием, находится в куда более выгодном положении, чем те силы, которые он может противопоставить ему под собственным командованием.
Война началась совершенно не в тех условиях, о которых он мечтал. И трезво оценивая свое положение в новом царствовании, он понимал, что должен действовать наверняка. Он не мог позволить Аббас-мирзе нанести себе хотя бы частное поражение.
Прежде чем выступить против своего вечного противника, ему необходимо было убедиться в надежности тыла — то есть в лояльности грузинского дворянства. Мятеж в Грузии, в тылу действующей армии, неизбежно привел бы к разрыву коммуникаций, изоляции от войск Кавказской линии и катастрофе.
Положение в приграничных областях резко ухудшалось.
Русские войска оказались во враждебном окружении.
Не зная о начавшейся войне, Николай направил Ермолову возмущенное послание по поводу нападения атамана Черноморского войска Власова на мирные черкесские аулы: «Ясно видно, что не только одно лишь презрительное желание приобресть для себя и подчиненных знаки военных отличий легкими трудами, при разорении жилищ несчастных жертв, но непростительное тщеславие и постыдные виды корысти служили им основанием».
Власов был отдан под суд, который окончился для него вполне безобидно.
По отношению к Ермолову Николай по-прежнему демонстрирует полную лояльность: «Мне приятно думать, что вы, по испытанной вашей деятельности, твердости и усердию на пользу государства, положите надлежащую преграду действиям, подобным тем, кои позволил себе генерал-майор Власов при нападении на Натухайских черкес.
Пребываю вам всегда благосклонным».
Ермолову в это время было не до бесчинств Власова с его казаками. Он уже отправил Николаю рапорт о вторжении персиян…
1 августа Николай, находившийся в Москве, ответил Ермолову:
«С прискорбием читал я донесение ваше, Алексей Петрович! Стало, не всегда добрые намерения венчаются успехом и за скромность и миролюбие наше платят нам коварством.
Сколь ни избегал я войны, сколь ни избегаю я оной до последней крайности, но не дозволю никогда, чтобы достоинство России терпеть могло от наглости соседей, безумных и неблагодарных. Хотя надеюсь и полагаю, что происшедшие военные действия суть собственное нахальство сардаря эриванского, но в государствах, столь благоустроенных, каково Персидское, можно, требуя удовлетворения, и самим оное себе доставлять; а потому и предписав вам немедленно выступить против эриванского сардаря, ожидаю скорого извещения вашего, что, с помощью Божиею, нет сардаря и Эривань с его областию занят вами; вы и 15 т. Русских достаточный мне залог успехов. Прочее увидите в предписании. Одно здесь прибавлю: вы христианин, вождь русский, докажите Персиянам, что мы ужасны на поле битвы, но что мирный житель может найти верный покров и всегдашнее покровительство среди стана нашего. На вашу ответственность возлагаю исполнение сей моей непременной воли.
За сим Бог с вами! Был бы Н. П. прежний человек, может быть явился к вам, у кого в команде в первый раз извлек из ножен шпагу; теперь остается мне ждать и радоваться известиям о ваших подвигах, и награждать тех, которые привыкли под начальством вашим пожинать лавры. Еще раз Бог с вами! Буду ожидать частных донесений ваших, о которых прошу доставления по возможности.
Вам искренно доброжелательный
Николай».
Что касается истории с извлечением шпаги, то Николай вспоминает парад в Париже в 1815 году, когда Ермолов командовал Гренадерским корпусом.
Как обычно, в Петербурге считали, что оттуда можно успешно руководить военными действиями в любой части света.
31 июля начальник Главного штаба Дибич писал Ермолову: «Вы имеете до 30 тыс. штыков пехоты по ту сторону Кавказских гор; из оных 15 т. находятся в Тифлисе и окрестностях и близ границы Эриванской. Оставя 2 тыс. для охранения Тифлиса, Вы, без дальнейшего отлагательства, можете собрать в один корпус 13 т. пехоты. Корпус сей, с прибавлением нужных к оному артиллерии и кавалерии, можно безошибочно считать в 15 т. человек. Его Императорское Величество нисколько не сомневается, чтобы под предводительством вождя столь опытного, столь отличного и в столь высокой степени имеющего доверие своих подчиненных, как Ваше Высокопревосходительство, сих войск не было бы достаточно для ниспровержения оных сил».
Николай требовал «наступательных действий», совершенно не представляя себе реальной ситуации.
Переписка Ермолова с Петербургом в эти дни носила несколько абсурдный характер, поскольку положение в Закавказье менялось стремительно, а Николай с Дибичем ориентировались на карты и формальные списки войск.
За день до того, как Дибич объяснял Ермолову, сколько у него штыков, Алексей Петрович писал Николаю, что он вынужден сложно маневрировать своими немногочисленными войсками, чтобы предотвращать частые мятежи и в то же время не подвергать солдат опасности окружения. «Повсюду готовые возродиться возмущения между мусульманскими народами, — пишет он, — окружающими Грузию, понуждают меня во многих местах оставить часть войск для охранения спокойствия оной, ибо она одна в теперешних обстоятельствах может доставить мне средства продовольствия».
Спокойствие в самой Грузии тоже было не совсем надежно: мегрельские владетели Дадиани убеждали царевичей Александра и Вахтанга, первый из которых находился в Персии, а второй в Турции, что грузины ждут их появления для того, чтобы восстать против власти русских.
Это было сильным преувеличением, но появление царевича Александра в пределах Грузии могло еще более осложнить обстановку.
Ермолов все это учитывал. Петербург — нет.
В это время до Николая дошли сведения о первых неудачах в приграничных областях.
Дислоцированный в Карабахском ханстве 41-й егерский полк полковника Реута, оставив место постоянной дислокации, закрепился в крепости Шуша и был осажден многократно превосходящими силами Аббас-мирзы. Продовольствия у Реута было в обрез.
Но главным было другое. Три роты этого полка, стоявшие отдельно, в горном Карабахе, не сумели присоединиться вовремя к основному составу полка. Подполковник Назимка, ими командовавший, не решился бросить орудия, что страшно замедлило движение его отряда. В результате измученные тяжелым переходом в горах, изнывающие от жажды егеря были окружены мятежными жителями провинции и подоспевшими персидскими войсками и взяты в плен.
Это трагическое происшествие привело Николая в ярость и подтолкнуло его к радикальному решению, которое он, скорее всего, обдумывал и раньше.
10 августа Николай отправил Ермолову рескрипт уже совершенно иного тона.
«С душевным прискорбием и, не скрою, с изумлением получил я ваше донесение, от 28-го июля.
Русских превосходством сил одолевали, истребляли, но в плен не брали. Сколько из бумаг понять я мог, везде в частном исполнении видна оплошность неимоверная; предвиделись военные обстоятельства, должно было к ним и приготовиться.
Я надеюсь, что вы нашли способ выручить полковника Реута, и тут замечу, что мне непонятно, чтобы в Шуше, в сборном пограничном месте, не было достаточных запасов, чтобы держаться столько, чтобы ближние войска могли подоспеть на помощь.
Первое письмо и посланные приказания вам достаточно объяснят намерения мои; я не вижу еще причины изменять их, ибо все считаю вас довольно сильными, чтобы хотя на время. Они тем ныне необходимее, что, после несчастного начала, надо ободрить войска блестящим успехом. Сколько отсюда судить мне можно, предстоит вам возможность разбить персиян по частям, начав с отряда, показавшегося против Шуши; если сие движение вам удастся, в чем с помощью Божиею я и сомневаться не хочу, другой отряд, идущей вдоль морского берега, не может далеко проникнуть, и если б и осмелился на то, вы его без наказания назад не пропустите. <…>
Я посылаю вам двух вам известных генералов, генерал-адъютанта Паскевича и генерал-майора Дениса Давыдова. Первый, бывший мой начальник, пользуется всею моею доверенностию; он лично может вам объяснить все, что по краткости времени и по безызвестности, не могу я вам письменно приказать. Назначив его командующим под вами войсками, дал я вам отличнейшего сотрудника, который выполнит всегда все, ему делаемые, поручения с должным усердием и понятливостию. Я желаю, чтоб он, с вашего разрешения, сообщал мне все, что от вас поручено ему будет мне давать знать, что я прошу делать как наичаще.
За сим прощайте, Бог с вами! Ожидаю с нетерпением дальнейших известий и, с помощию Божией, успехов.
Николай».
Николай ошибался. Во время Наполеоновских войн русские солдаты и офицеры нередко оказывались в плену. Но ему нужно было уязвить Ермолова. Тем более что промахи в подготовке к войне и в самом деле были существенные.
Дениса Давыдова Ермолов выпрашивал у Александра неоднократно и безрезультатно. Теперь Николай посылал ему Давыдова.
Но сутью послания были не гневные упреки, а те полномочия, с которыми направлялся на Кавказ генерал-адъютант Паскевич, «отец-командир», ближайший к молодому императору человек.
Паскевич становился фактическим командующим войсками корпуса и — более того — ему вменялось в обязанность сообщать непосредственно императору, через голову Ермолова, обо всех решениях командира корпуса.
Это было намеренное оскорбление.
Но этого императору показалось мало. На следующий день он отправляет следующее послание, с тем чтобы у Ермолова не осталось сомнений в истинных намерениях высшей власти:
«Алексей Петрович! С истинным прискорбием получил я донесения ваши о вторжении Персиян в наши границы и о тех неблагоразумных частных распоряжениях, по коим частицы российских войск подвергались неудачам и потери от неприятеля, доселе ими всегда презренного. Вы увидали из прежних моих приказаний, объявленных вам начальником главного штаба моего, что твердое мое есть намерение наказать Персиян в собственной их земле, за наглое нарушение мира, и что я, будучи уверен, что находящееся под начальством вашим многочисленное и храброе войско достаточно к достижению сего, не менее того приказал и 20-й пехотной дивизии идти на усиление оных. Усматривая же из последнего донесения вашего намерение ограничиться оборонительными действиями, до прибытия сих подкреплений, я на сие согласиться не могу, и повелеваю вам действовать, по собрании возможного числа войск, непременно наступательно, сообразно обстоятельствам, по усмотрению вашему, против раздельных сил неприятельских. — Уверен, что вы истребите их по частям и заставите их почитать славу российского войска и святость границ наших. Для подробнейшего изъяснения вам намерений моих посылаю к вам генерал-адъютанта моего, Паскевича, коему, сообщив оные во всей подробности, уверен, что вы употребите с удовольствием сего храброго генерала, лично вам известного, для приведения оных в действие, препоручая ему командование войск под главным начальством вашим.
Николай».
Разумеется, Ермолов не мог не понять, к чему идет дело. Он недавно еще писал Закревскому, что надеется оставить свой пост «без особых оскорблений». Надежды не сбывались.
У него еще была возможность переломить ситуацию. Он мог, не дожидаясь приезда Паскевича, с теми силами, которые были под рукой, двинуться навстречу Аббас-мирзе, разгромить его и доказать тем свою незаменимость. А уж потом, увенчанный лаврами победителя, уступить свое место Паскевичу.
Трудно сказать, почему он этого не сделал. В самом деле опасался оставить Грузию? Но на карту были поставлены его репутация, его честь, его честолюбие.
Как бы то ни было, продолжая руководить военными действиями из Тифлиса, передвигая войска так, чтобы избежать всеобщего мятежа мусульманских провинций, Алексей Петрович не сделал этого решительного шага.
Но игнорировать яростные требования Николая о «наступательных действиях» он не мог. Он послал навстречу персам Мадатова.
3 сентября отряд Мадатова у города Шамхор принял бой с авангардом персидской армии, возглавляемым сыном Аббас-мирзы Мухаммад-мирзой, и разгромил его.
После боя при Шамхоре стало ясно, что несмотря на старания Аббас-мирзы и его английских советников, несмотря на умение маневрировать и держать строй, персидская армия по-прежнему далеко уступала по своему качеству армии русской и не могла противостоять штыкам Кавказского корпуса.
Через три дня после победы Мадатова, 7 сентября, Алексей Петрович отправил ему писанное по-французски — что Мадатов любил — благодарственное письмо:
«Господину генерал-майору и кавалеру князю Мадатову.
С величайшим удовольствием получил я рапорт вашего сиятельства об успехе, приобретенном войсками под начальством вашим. Обстоятельство сие, чрезвычайно полезное для общей связи дел, должно произвести ужасное впечатление на неприятеля, которое следующим впредь войскам много облегчит успехи. <…>
Принесши вашему сиятельству благодарность за начало, поистине столько блистательное, я с равною признательное — тию вижу усердие храбрых товарищей моих, бывших под вашим начальством, которых, уверен я, не раз еще будете вы провождать к победе».
Огромная организационная работа, проделанная за полтора месяца Ермоловым, давала свои плоды. Рационально расположенные в мусульманских областях войска минимизировали поддержку, которую мятежное население могло оказать Аббас-мирзе.
Сконцентрированные для контрнаступления батальоны, эскадроны и сотни готовы были к активным действиям. Оставалась серьезная проблема с продовольствованием войск, но Мадатов брался решить ее.
Теперь, казалось бы, у Ермолова были все основания взять на себя командование действующим главным отрядом и разгромить своего ненавистного соперника. Он был обречен на победу. А после первого поражения персиян опасаться мятежа в Грузии не приходилось.
После оскорбительного рескрипта Николая, фактически приставившего к нему своего доверенного человека, только громкая победа могла дать Ермолову возможность с честью выйти из того унизительного положения, в которое его загонял император.
Но Ермолов оставался в Тифлисе. В чем же дело? Или это был уже другой Ермолов? Не тот генерал, стратегическое кредо которого формулировалось ясно и определенно: «Нужно идти на неприятеля, искать его, где бы он ни был, напасть, драться со всею жестокостию»? Не тот, кто во главе гвардейских полков стоял насмерть под Кульмом против многократно превосходящего противника? Не тот, что водил своих солдат в горы Дагестана, где не бывала еще нога русского солдата? И не тот, что десять лет назад, объявив себя потомком Чингисхана, проклял Персию и поклялся ее разрушить?
Во всяком случае, перед шамхорским боем он наставлял горячего Мадатова: «Противу сил несоразмерных не вдавайся в дело. Нам надобен верный успех и таковой приобретешь ты со всеми твоими войсками, без сомнения. <…> Суворов не употреблял слово ретирада, а называл оную прогулкою. И вы, любезный князь, прогуляйтесь вовремя, когда будет не под силу; стыда нимало в том нет».
«Нам надобен верный успех…» Он хотел действовать только наверняка.
Он понимал, что Николай и Нессельроде, как в свое время Александр и Нессельроде, не дадут ему, даже в случае полного разгрома Персии, вырваться на оперативный простор бескрайней Азии, и это делало для него войну с Персией уже не столь привлекательной.
Или он рассчитывал, что даже после разгрома вторгнувшихся сил персиян война неизбежно продлится на будущий год, и хотел подготовить наступление на ненавистную деспотию со всей основательностью и лишь тогда возглавить армии?
Мы никогда не получим ответа на этот вопрос.
Ясно одно — он упустил возможность уйти победителем…
29 августа в Тифлис прибыл генерал-адъютант Паскевич.
Историю своего назначения, которого он не хотел, Паскевич изложил в отдельной мемуарной записке. Там есть любопытные подробности.
Паскевич утверждает, что Дибич за несколько дней до коронации Николая — поэтому вся элита съехалась в Москву, где и проходило это торжественное действо, — пригласил его для секретного разговора.
Дибич говорил (далее следует текст из записки Паскевича): «Государь император получил от главнокомандующего Кавказским корпусом генерала Ермолова донесение, что персияне вторгнулись в наши Закавказские провинции, заняли Ленкоран и Карабаг и идут далее с 60 т. войск регулярных и 60 т. иррегулярных, и около 80-ти запряженных орудий, — что у него нет достаточных сил противустоять персиянам, и что он не ручается за сохранение края, если ему не пришлют в подкрепление двух пехотных и одной кавалерийской дивизии. „Государь желает, — сказал мне Дибич, — чтобы вы ехали на Кавказ командовать войсками. Сила персиян должна быть преувеличена и Его Величество после такого донесения не верит Ермолову“. При этом Дибич присовокупил, что и покойный император Александр Павлович был недоволен Ермоловым и хотел отозвать его и назначить на его место Рудзевича, ибо поступки Ермолова самоуправные, войска же распущены, в дурном состоянии, дисциплина потеряна, воровство необыкновенное, люди несколько лет не удовлетворены и во всем нуждаются, материальная часть в запустении и проч., что, наконец, он действительно не может там оставаться».
В утверждениях Дибича, если он действительно это говорил, содержится сознательная ложь. Ермолов никак не мог донести императору эти фантастические сведения о численности персидских войск.
В рапорте от 22 июля он сообщал Николаю о пятитысячном отряде сердара Эриванского, вторгнувшегося на подконтрольную России территорию, а о численности армии Аббас-мирзы вообще не сообщал никаких определенных цифр, ибо еще не получил надежных сведений.
Когда же он получил их, то и оперировал совершенно иными данными. Когда Мадатов в рапорте определил численность армии Аббас-мирзы в 50 тысяч, то Ермолов его добродушно высмеял: «Я <…> сомневаюсь, чтобы могло быть персидских войск 50 000 человек. Это арифметика здешних народов. Такое число людей при персидском порядке уморили бы с голоду».
Он считал, что Аббас-мирза может сосредоточить не более 25 тысяч человек. И это была цифра, близкая к реальности.
В Москве создавали соответствующую репутацию Ермолову, готовя его отстранение.
Что до недовольства Александра, то его рескрипты Ермолову последних лет не дают оснований для подобного вывода. Известия о безобразиях в корпусе были многократно преувеличены, что же касается до распущенности и необеспеченности войск, то самому Дибичу предстояло убедиться в ложности этих сведений.
Денис Давыдов, служивший на Кавказе в период Персидской войны, утверждал: «Заботы Ермолова о войске, нужды которого он хорошо знал, были примерны; он неуклонно следил за хорошим содержанием войск; он строго запретил изнурять их фронтовыми учениями и дозволил им носить вместо касок папахи и вместо ранцев холщевые мешки с сухарями. Это, к сожалению, подало многим повод обвинять в либеральном образе мыслей Ермолова, явно, по их мнению, баловавшего войска, в коих через то будто бы обнаружился упадок дисциплины. <…> Лучшим опровержением тому служат слова барона Дибича генералу Сабанееву по возвращении своем из Грузии: „Я нашел там войска, одушевленные духом екатерининским и суворовским“».
Нет оснований в данном случае не верить Давыдову. Если бы корпус был в том состоянии, которое описывал в Москве Дибич, Ермолов не был бы кумиром своих солдат. А он им был. И это волновало Николая, быть может, в первую очередь.
При дворе ходило простодушное высказывание фельдъегеря, доставившего известие о присяге Николаю Кавказского корпуса. Когда его спросили — гладко ли прошла присяга, он ответил: «Так ведь там Алексей Петрович. Если он бы приказал, так и шаху персидскому присягнули бы!»
Наместники обширного края с таким влиянием на войска Николаю не были нужны.
Паскевичу очень не хотелось ехать в Грузию, ибо он догадывался, что оба они с Ермоловым окажутся в ложном положении. Несмотря на давнюю нелюбовь к Ермолову, он понимал, насколько тот в общем мнении авторитетнее и значительнее, чем он.
Однако, судя по первому рапорту, который он 4 сентября отправил Николаю, Паскевич был готов и к сотрудничеству:
«Имею счастье донесть В. И. В-ву, что я приехал в город Тифлис 29-го числа августа в 11 часов. Я явился к генералу Ермолову, который принял меня довольно хорошо и казался довольным, что вместе будем служить».
Рапорт был более чем лоялен по отношению к Ермолову. Паскевич опровергает слухи о недисциплинированности кавказских войск, фактически одобряет все распоряжения Ермолова — ясные и рациональные, и выражает полную готовность ему подчиняться.
Но ситуация в Тифлисе была совсем не такая благостная, как ее изображает Паскевич. Очевидно, он рассчитывал наладить отношения с проконсулом, понимая, что конфликт может весьма усложнить его положение — учитывая популярность и авторитет Ермолова, а кроме того, он не знал, как отнесется император к такому конфликту.
И хотя в кармане у него лежал указ о смещении Ермолова, он не решился пустить его в ход без чрезвычайных оснований. Положение в крае ему этих оснований не давало.
Слово было за Ермоловым. Но «пламенный характер» и неукротимое самолюбие толкнули его на неверный путь.
Ермолов был чрезвычайно раздражен решением Николая, и это раздражение естественным образом опрокинулось на Паскевича.
Вполне возможно, что непосредственным поводом для резкой перемены отношения Алексея Петровича к Паскевичу — если верить последнему, что сперва Ермолов принял его «довольно хорошо и казался довольным, что вместе будем служить», — стал допрос, который по поручению Николая Паскевич ему учинил вскоре по приезде.
Ответы Ермолова были, как и полагается при процедуре допроса, зафиксированы письменно и каждый ответ был заверен подписью Паскевича, отчего документ приобрел чисто полицейский вид.
Паскевич не отличался деликатностью Меншикова.
Ответы Ермолова были отправлены Паскевичем в Петербург.
Поручение, которое выполнял Паскевич, было явно провокационным. Николай не собирался оставлять Ермолова на Кавказе, и его отношение к допросу, учиненному не самим императором, что было бы естественно, но подчиненным ему Паскевичем, императора не волновало.
С этого момента Ермолов воспринимал Паскевича как противника.
Алексей Петрович, известный своими дипломатическими талантами в служебной сфере, повел себя отнюдь не дипломатично, а вполне прямолинейно.
Он отказался отдать приказ по корпусу о назначении Паскевича — приказ, который должен был определить его положение.
Когда Паскевич просил направить его с отрядом для деблокады Шуши, Алексей Петрович ответил откровенно издевательски. «Он отвечал мне, — возмущенно записал Паскевич в своем повседневном журнале, — что не смеет тронуть меня, ибо я прислан, дабы „быть здесь“».
То есть Ермолов дал понять, что считает прибывшего генерала прежде всего соглядатаем, место которого в Тифлисе.
Когда Паскевич снова заговорил о командовании отрядом, идущим к Шуше, то, судя по журнальной записи Паскевича, Ермолов ответил ему, «что он сего не может сделать, что он сам останется ничтожным и что лучше у него совершенно взять команду, нежели быть в таком положении».
Выдержка совершенно изменила Алексею Петровичу — назначив Паскевича командиром одного из отрядов, он мог разрядить атмосферу взаимного раздражения. Более того, он мог поставить его на второстепенное направление, а сам возглавить основные силы и двинуться против Аббас-мирзы.
Он этого не сделал.
Биограф Паскевича, князь Щербатов, совершенно резонно писал: «Положение было неестественное. Паскевич без определенной власти, как подчиненный Ермолова, должен был в порядке службы исполнять его приказания, а Ермолов обязан был получать от Паскевича „изъяснение Высочайших намерений и повелений“»[82]. То есть Ермолов формально был главным, но Паскевич при этом являлся выразителем и толкователем высочайшей воли.
Щербатов пишет: «Действительно, при подобной обстановке столкновения устраняются только нравственным влиянием. Паскевич, подчиняя свою мысль и волю влиянию Ермолова и преклоняясь перед умом его, несомненно сошелся бы с ним»[83].
Он, как мы видели, попытался это сделать. Но его благоразумия в сложившихся обстоятельствах хватило ненадолго.
Паскевич, как сказали бы теперь, «крепкий общевойсковой командир», имеющий несомненные боевые заслуги, отнюдь не отличался сильным интеллектом и умением ценить чье-либо умственное превосходство. Своеобразие личности Ермолова, его популярность в армии и его независимость могли вызвать у примерного фрунтовика Паскевича только резкое отторжение.
О «тонкости» его ума свидетельствует аргумент, которым он воспользовался, чтобы убедить Ермолова в естественности ситуации.
«Я ему представлял, — записал Паскевич в своем журнале, — что это (передача ему командования над войсками. —
Паскевич, желавший сгладить конфликт, явно не сознавал, насколько он оскорбил Ермолова этим сравнением.
Багратион действительно командовал войсками под номинальным руководством фельдмаршала князя Прозоровского во время Русско-турецкой войны в 1807 году, поскольку дряхлый и больной фельдмаршал был просто не в состоянии ничем командовать.
Тем не менее Ермолов взял себя в руки и легализовал положение Паскевича.
«Я отдал в приказе об вас, чтобы вы командовали войсками, — сказал он ему вечером 1 сентября и добавил: — Разумеется, я государева указа удержать не могу». То есть он против своего желания выполнил указ императора.
С этого момента Ермолов, выбрав линию поведения, повел себя как старший начальник.
4 сентября Мадатов уже разбил персиян при Шамхоре, но в Тифлисе об этом еще не знали, Алексей Петрович вручил Паскевичу подробное предписание, которому он со своим отрядом должен был следовать.
Паскевич получил максимум войск, которые удалось за это время сосредоточить под Тифлисом. Кроме того, к нему должен был присоединиться и отряд Мадатова.
Ермолов приступил к выполнению приказа императора о «наступательном действии».
Паскевич еще не выступил из Тифлиса, как 5 сентября пришло известие о победе Мадатова.
После Шамхора стало ясно, что соответствующим образом подкрепленный Мадатов вполне способен будет разбить и основные силы персиян. Но тогда совершенно непонятно было, зачем прибыл в Грузию Паскевич, которому высочайше поручено было «наказать» вероломного противника.
Вскоре после выступления Паскевича из Тифлиса Ермолов писал Мадатову: «Не оскорбитесь, ваше сиятельство, что вы лишаетесь случая быть начальником отряда, тогда как предлежит ему назначение блистательное. Конечно, это не сделает вам удовольствия, но случай сей не последний, и вы, без сомнения, успеете показать, сколько давнее пребывание ваше здесь, столько знание неприятеля и здешних народов может принести пользы службе Государя». И далее скрепя сердце Алексей Петрович просит сдержать свою ревность к незваному гостю:
«Употребите теперь деятельность вашу и помогайте всеми силами новому начальнику, который, по незнанию свойств здешних народов, будет иметь нужду в вашей опытности.
Обстоятельства таковы, что мы все должны действовать единодушно».
13 сентября у Елисаветполя отряд Паскевича встретился с основными силами Аббас-мирзы, который после Шамхора вынужден был снять осаду с Шуши.
Еще не зная об этом, Николай писал Ермолову из Москвы 16 сентября: «Известие о первых успехах войск наших дошло до меня сего утра. <…> Вникнув во все, я наиболее убеждаюсь, что прежние мои к вам предписания совершенно согласны с обстоятельствами, с правотою нашего дела, с честью нашего государства. Мне остается, стало, вполне одобрить последние принятые вами меры и ожидать справедливых последствий, т. е. успехов. Обещанные подкрепления к вам следуют. <…> Бог с вами! продолжайте как начали и тогда будьте уверены в искреннем моем уважении.
Вам доброжелательный
Николай».
Это было чистое лицемерие. Николай для себя уже решил судьбу Ермолова.
Мы не будем подробно описывать битву при Елисаветполе, в которой решающую роль сыграли Мадатов и Вельяминов.
После разгрома Аббас-мирзы Паскевич намерен был преследовать его на территории собственно Персии, форсировав пограничную реку Араке, и захватить столицу наследника Тавриз. Но Ермолов ему этого не разрешил.
Паскевич приписывал это решение злокозненности Ермолова, не желавшего доставить ему, Паскевичу, возможности одним ударом закончить войну и заслужить громкую славу. Ермолов же опасался, что зарвавшийся Паскевич столкнется со свежими силами персиян, посланными шахом в подкрепление Аббас-мирзе, не в состоянии будет сохранить коммуникации, разорванные многочисленной иррегулярной персидской кавалерией, и останется без снабжения.
Возможно, он был слишком осторожен, но ему вовсе не хотелось, чтобы его обвинили в том, что он воспользовался неопытностью своего соперника и постарался его погубить.
Трудно сказать, насколько безусловны были его опасения. Даже ближайшие его соратники упрекали его впоследствии в нерешительности.
Муравьев, в преданности которого Ермолову нет ни малейших сомнений, писал в мемуарах: «Наступательные действия наши в сие время года, осенью, должны были во всех отношениях обратиться в нашу пользу. <…> Продовольствие везде было изобильное. <…> Народ в Тавризе был готов принять нас, ненавидя правителей своих и царствующую в Персии династию Каджаров; мы могли бы смело надеяться на возмущение или, по крайней мере, не должны были ожидать никакого сопротивления при вступлении в столицу, в чем нас удостоверяли и все известия, из Персии получаемые. Дух народный был в чрезвычайном упадке после поражения под Елисаветполем войск, коих оставалось под ружьем уже самое ничтожное количество; но мы не предприняли, не взирая на все сии выгоды, зимней кампании. Ошибку сию приписываю нерешимости Алексея Петровича».
Но если бы положение персидской армии было столь плачевно, как считает Муравьев, то война не продлилась бы еще полтора года. Тавриз был взят только в октябре 1827 года, а начать кампанию Паскевич смог лишь в июне этого года.
Заявление Муравьева об изобилии продовольствия вызывает сомнения, ибо приграничные области уже были разорены военными действиями.
Князь Щербатов, объективный исследователь, утверждал: «Весьма скоро обстоятельства доказали Паскевичу то, чего Ермолов не мог не знать, а именно, что в Карабаге с трудом прокормится русский отряд, что о запасах не могло быть и речи, а подвоз провианта из Грузии вовсе не предвиден и не подготовлен. Припомним, к тому же, что Ермолов и в Грузии был особенно озабочен заготовлением зимнего, для войск, продовольствия и что вновь прибывающие войска из России значительно усложнили, как он выражался, „затруднительный сей предмет“»[84].
Узнав 28 сентября о победе при Елисаветполе, Николай пришел в восторг:
«Получив от Вас известие об одержанной Вами победе, первой в мое царствование (первой победой был разгром персов при Шамхоре, но Николаю хотелось думать иначе. —
Он еще не знал, что Ермолов остановил движение отряда Паскевича, — и это тоже будет поставлено Алексею Петровичу в вину.
Заявление императора о том, что без Паскевича персиян было бы не одолеть, как мы знаем, большое преувеличение. Но это была вполне понятная игра.
Иван Федорович являл собой именно тот тип генерала и подданного, который вообще был близок Николаю. Ермолов был ему принципиально чужд.
Елисаветпольской победе способствовало, кроме решающего участия Мадатова и Вельяминова, еще одно обстоятельство, которое не учитывалось ни императором, ни сторонниками Паскевича вообще.
Ермолов записал в дневнике: «Я получил известие, что сардар Эриванский частию войск занял хребет гор Чардахлы в Шамшадильской дистанции и что конница его появилась на плоскости. Она прерывала сообщение с Елисаветполем и беспрепятственно могла действовать в тылу войск генерал-адъютанта Паскевича, к которому навстречу шел Аббас-Мирза из Карабага. Поспешно выступил я в Казахскую дистанцию, откуда мог действовать я на войска сардаря эриванского, если бы покусился он идти на Елисаветполь; не допускал соединиться с ним чарских лезгин. <…> Если бы генерал-майор Давыдов не в состоянии был противиться превосходному неприятелю, я мог удобно подкрепить его и в два форсированных марша совершенно закрыть Тифлис».
Таким образом, Ермолов обезопасил тылы Паскевича, спас его коммуникации, предотвратил появление в его тылу кроме конницы эриванского сардара многочисленных и воинственных лезгин и при этом не подвергал опасности Тифлис.
Бросок отряда Ермолова в татарские дистанции свидетельствовал, что он контролирует стратегическую ситуацию.
Император решил не обращать внимания на эти второстепенные, по его мнению, обстоятельства, и все плоды победы достались Паскевичу.
Последующие месяцы были посвящены приведению к покорности бунтовавших провинций, налаживанию управления в них и подготовке к следующей кампании.
Алексей Петрович совершил несколько рейдов по мятежным территориям:
«Я вошел в мусульманские провинции, дабы, прекратив возмущения их, восстановить прежний порядок, тем более необходимый, что в оных учреждались запасы продовольствия для наступательных против персиян действий. Счастливый оборот дел наших водворил спокойствие в Грузии, и я мог беспрепятственно отлучаться из оной».
Но основным сюжетом этих месяцев были отношения Ермолова и Паскевича.
Журнал Паскевича полон сетований на недоброжелательность Ермолова, коварство Мадатова, старавшегося оставить его без продовольствия, необученность солдат Кавказского корпуса. Он возмущался, что они не умеют перестраиваться из каре в колонну и обратно. (Что, очевидно, не требовалось в войне против горцев.) Весь день накануне битвы у Елисаветполя он посвятил фрунтовому обучению своей пехоты. Но, судя по описаниям боя, эти перестроения там не понадобились.
Он был возмущен запретом на переход через Араке, находился в состоянии почти истерическом и резко настаивал на своих полномочиях.
Ермолов описал эти баталии в дневнике:
«26 октября. Тифлис. Я нашел возвратившегося из Карабага генерала Паскевича. При первом свидании с ним не трудно мне было заметить его неудовольствие на меня, которое тем более умножалось, что он почитал себя вправе требовать, чтобы я сообщал ему о моих намерениях, на что отвечал я ему, что не имею нужды в его советах; что знаю один случай, когда требуются рассуждения подчиненных, и тогда мнение не только офицера в его высоком чине, но даже и несравненно меньшем, приемлется с уважением; но таковые случаи редки, и я еще не нахожусь в подобном. Все получаемые мною повеления препровождались ему в копии из Петербурга, и он всегда желал знать мои отзывы на оные. Я не имел нужды сообщать ему о том, и полезно было некоторые хранить в тайне. Он в одно время предложил мне, чтобы объяснил я ему план предполагаемой мною кампании, уверяя, что государю императору приятно будет знать мнение о том каждого из нас. Я отвечал, что я представлю мое предположение и что он может сделать то же с своей стороны, из чего государь не менее усмотрит понятие наше о деле. Возражения сии умножали его злобу на меня, и я разумел, сколько она может быть мне вредною при особенной доверенности, при отличном благоволении к нему государя. К тому же знал я, сколь часты были донесения его в собственные руки».
Здесь выразительнейшим образом проявилась одна из уникальных черт личности Алексея Петровича — умение его действовать себе во вред, когда бывало затронуто его самолюбие. Он сделал все, чтобы оскорбить и восстановить против себя Паскевича. Совершенно естественно ему было делиться с ближайшим подчиненным своими планами и объяснить ему план будущей кампании, в которой оба они собирались участвовать. Но он презрительно отказал Паскевичу, прекрасно понимая, какую реакцию это вызовет и что напишет о нем Паскевич императору.
Иначе он не мог.
Он напряженно готовил войска для будущей кампании и составлял стратегический план на 1827 год. И план этот был одобрен Николаем.
Но это не изменило сокровенных намерений императора.
В феврале 1827 года в Тифлис в качестве третейского судьи прибыл начальник Главного штаба генерал-адъютант Иван Иванович Дибич.
Если приезд Паскевича формально не выходил за рамки обычного назначения: Николай укреплял командный состав корпуса, ослабленный гибелью Лисаневича и Грекова, то неожиданное явление начальника Главного штаба было событием из ряда вон выходящим и означало лишь одно — прибыл судия. Ермолов был потрясен.
Николай Николаевич Муравьев вспоминал:
«Алексей Петрович послал за мною. Я никогда не видел его столь расстроенным, как в то время. „Любезный Муравьев“, сказал он мне, „Дибич едет к нам не знаю с каким намерением, но я могу всего ожидать (губы его затряслись, и он заплакал как ребенок, опасающийся наказания своего наставника). Я на тебя одного полагаюсь и поручу тебе вещь, которую ты мне дашь обещание никому не показывать“. Я ему обещал быть ему всегда преданным и исполнять всегда то, что могло для него быть приятно. „Я не знаю“, продолжал он, „с каким намерением сюда Дибич едет; но он мне враг. Все может со мною случиться. Он, может, прямо ко мне приедет и опечатает мои бумаги. Не хотелось бы мне лишиться сих Записок похода 1812-го года, которые я писал, когда был начальником штаба при Барклае-де-Толли во время той войны и в коих я поместил многие вещи предосудительные для него; я не щадил слов и выражений для описания разных беспорядков, производившихся под его начальством; тут названы многие лица. Возьми книгу сию к себе, спрячь ее, никому не показывай, никому не сказывай о сем, и отдай ее никому более как мне лично, когда я ее у тебя сам спрошу; между тем ты можешь читать ее, если пожелаешь“.
Поступок сей Алексея Петровича показывал конечно большую доверенность его ко мне; но казалось бы, что он не должен был в сем случае подвергать меня всем тем неприятным последствиям, коих бы я без сомнения не миновал, если бы в самом деле Дибич стал описывать его бумаги, и дошло бы до сведения его, что я скрыл у себя некоторые из них. Алексей Петрович должен был взять в соображение, что вся почти фамилия моя пострадала в недавнем времени и что правительство могло также иметь меня в наблюдении. Я взял его книгу без запинания и спрятал ее, никому не показывал и отдал ее Вельяминову, по его приказанию, с месяц уже после того. Я прочел половину оной».
Легко представить себе, в каком нервном напряжении находился все это время Алексей Петрович, если у него — мужественного и твердого в критических ситуациях — известие о приезде Дибича вызвало истерику.
Но дело не только в этом. Ясно, что происходящее напомнило ему 1798 год — арест, обыск, крепость, ссылку… Он вполне допускал, что его, генерала от инфантерии, проконсула Кавказа, человека с таким громким именем, может ожидать нечто подобное.
И это говорит не только о психологическом состоянии Ермолова, но и психологическом климате вообще. Судьба деятеля любого уровня целиком зависела от воли самодержца.
Переписка Дибича с Николаем впервые обнаружила истинное отношение императора к Ермолову.
Сразу по приезде в Тифлис Дибич отправил обширный отчет Николаю и начал, естественно, со свидания с Ермоловым:
«Я приехал прямо к нему на квартиру, находившуюся ближе моей у въезда, и был встречен им дружески с уверением в совершенной своей откровенности и с требованием таковой же от меня. Он при том изъяснялся, что он не знает, почему полагают меня с ним неприятелями, ибо мы нигде не встречались в коротких сношениях и не могли иметь к тому причин; но что он уверен в моей справедливости и желал бы иметь меня своим судьей даже и тогда, когда бы я не был и начальником главного штаба».
Это, понятно, были дипломатические хитрости. Мы знаем по письмам Алексея Петровича Закревскому, что он относился к Дибичу весьма пренебрежительно, считая его лидером «немецкой партии».
«Я со своей стороны уверил его, что и я столько же не постигаю, почему могли бы считать нас неприятелями, и что всегда руководствуясь по службе одною лишь справедливостию и откровенностию, я с сими же правилами буду действовать в деле, порученном мне Высочайшею волею».
Дибич тоже отнюдь не был откровенен, ибо мы знаем, какую характеристику давал он Ермолову при беседе с Паскевичем в Москве.
И с той, и с другой стороны это была осторожная разведка позиций.
«После сих первых объяснений я объявил ему в нескольких словах главные причины, по коим Ваше Величество должны по прежним действиям сомневаться, чтобы успехи были столь быстры и решительны, как сего требует воля Ваша и важность общих дел».
То есть главная претензия императора, весьма приблизительно представлявшего себе положение в Закавказье, заключалась в том, что Ермолов не выполнил его приказа немедленно разгромить агрессора.
Алексей Петрович не стал вступать в полемику. Он согласился с тем, что можно было после елисаветпольской победы идти на Тавриз, но тут же привел в еще более подробном виде свои аргументы против этой рискованной операции.
Он решил сыграть в поддавки и согласился, что преувеличил силы Аббас-мирзы. Далее Ермолов изложил Дибичу для передачи императору план будущей кампании, которую он уже активно готовил:
«…Он к первым числам апреля надеется иметь на два месяца провианта и достаточные способы к подвозу <…> что к тому же времени подвинет передовые войска к границам, поддерживая их главными силами, и что он ручается головою, что сходно повелениям Вашего Величества, займет все пространство ханств Эриванского и Нахичеванского до Аракса прежде знойного времени».
Затем Дибич приступил к главному предмету, ради которого он, собственно, и был командирован Николаем.
«Говоря насчет сношений с генералом Паскевичем, генерал Ермолов старался отклонить сей предмет, но наконец говорил, что ген. Паскевич кажется ему характера не довольно твердого и под влиянием других, ибо не всегда равно с ним обходится; что он, как полагает генерал Ермолов, надеется после него командовать; но он, генерал Ермолов, привыкнув исполнять Высочайшую волю, не мог решиться при приезде генерала Паскевича сказаться больным, как бы может быть сделали на его месте другие; что после генерал Паскевич стал требовать от него все бумаги и приказы, которые он отдает, и отвергнул предложение его, чтобы сообщать оные от дежурства Ермолова дежурному штаб-офицеру Паскевича, и что он, Ермолов, не почел себя в обязанности давать ему отчет в бумагах по управительной части. Я ему на сие сказал, что Ваше Величество, зная генерала Паскевича еще более нежели мне он известен, изволили мне ручаться за него, что при деликатном обхождении он будет вернейшим помощником. Генерал Ермолов сказал, что рад моему приезду, надеясь, что я разграничу отношения, долженствующие быть между ними с учреждением новых штабов, и уверен, что устрою так, что будет безобидно для звания его».
Разумеется, все это было чрезвычайно унизительно, тем более что Дибича он не уважал. Но просить отставки в разгар войны он не считал возможным.
Дибич, надо сказать, вел себя по отношению к Ермолову вполне достойно. Из разговоров с ним Алексей Петрович вполне мог заключить, что речь о его смещении с поста не идет.
Дибич, вопреки тому, что распространялось в Петербурге и Москве, нашел войска в состоянии вполне приличном. Как человек достаточно опытный, он сообразил, что предъявлять к кавказским солдатам те фрунтовые требования, которые предъявляются к войскам в России, не следует.
Относительно же Ермолова он, естественно, прежде всего выслушал мнение Паскевича.
«Он повторил мне <…> о невозможности ему служить с генералом Ермоловым <…> но потом с благодарностию уважил мои резоны, оставаясь однако непоколебимым и уверяя меня, что я точно чрез неделю разделю непременно его мнение насчет фальшивости генерала Ермолова, и неспособности, которую он показывал и показывает как при военных действиях, так и при управлении войсками и в крае здешнем».
Понимая, что Паскевич вряд ли может быть объективным, Дибич обратился к людям, не относящимся к ермоловскому окружению, недавно приехавшим в Грузию, но уже успевшим здесь освоиться.
«Генерал-адъютант Бенкендорф 2 говорил мне в том же смысле (что и Паскевич. —
Бенкендорф, младший брат шефа жандармов, не принадлежал к числу сторонников Ермолова, как и его влиятельный брат, но любопытна его ссылка на «общее мнение». К сожалению, мы не знаем отношения к Алексею Петровичу вне армии. Хотя можно предположить, что и грузинское дворянство, и коррумпированное чиновничество, которое Ермолов пытался обуздать, было бы радо его удалению.
«Флигель-адъютант полковник князь Долгорукий, не оправдывая бездействия генерала Ермолова после Елизаветпольского дела, уверяет, что убежден, что примирение между генералами Ермоловым и Паскевичем невозможно; но что в сем не причиною вражда первого против последнего, но более чрезвычайная чувствительность генерала Паскевича и хитрое действие одного поручика из армян, служившего у генерала Паскевича переводчиком, по личной вражде этого армянина к генерал-лейтенанту князю Мадатову (этот поручик Караганов прославился своей нечистоплотностью и интриганством. —
Дибич старался соблюсти равновесие.
Но и в этом, и в следующих его рапортах Николаю явно присутствуют следы чисто политических доносов, полученных высшей властью.
19 марта 1827 года Дибич докладывал императору: «В разговоре с генералом Ермоловым о сем предмете (о присутствии на офицерских обедах разжалованных в солдаты и сосланных декабристов. —
Что до последнего пассажа, то Дибич намекает на дух вольномыслия, которому покровительствовал сам покойный император.
А что до сути разговора, то можно себе представить, каково было Алексею Петровичу, еще недавно ощущавшему себя новым Цезарем, жалобно оправдываться перед презираемым им Дибичем.
Мысль о причастности Ермолова к деятельности тайных обществ крепко сидела в голове Николая, и одной из задач Дибича было выяснить, так ли это.
Первым разговором «следственные действия» Дибича не ограничились. Судя по всему, у него на руках было немало доносов и жалоб на Ермолова. Причем не только политического характера.
28 марта Дибич докладывал императору: «Генерал Ермолов не дал мне еще до сего времени никакого объяснения на записки мои по гражданской части, но поныне не могу переменить прежнего мнения, что упущения есть довольно значительные, но что доносы о злодействах и преступлениях, основанные только на слухах, ничем не доказанные, и весьма часто даже по совершенному недостатку, причем к злодейскому поступку невероятные, никакой веры не заслуживают».
То есть Алексея Петровича неизвестные нам доносчики обвиняли в «злодействах и преступлениях». Речь явно шла не о жестокости по отношению к горцам, чего было больше чем достаточно, а именно об уголовных преступлениях по отношению к своим подчиненным или мирному населению.
Дибич должен был оценить и ближайших сотрудников Ермолова.
В том же рапорте он писал о Вельяминове: «Он человек с познаниями и здравыми военными мыслями, но кажется по весьма холодному характеру и систематическому образу суждений более склонен к верным, чем к блистательным действиям».
Дибич явно подстраивался под представления молодого императора. Николаю было мало «верных» действий, он требовал действий «блистательных», наступательной стратегии — невзирая ни на какие обстоятельства.
Вполне возможно, что лояльность Дибича к Ермолову, которая не нравилась Николаю, объяснялась помимо добросовестности начальника Главного штаба и нежелания прослыть палачом популярнейшего генерала еще одним существенным обстоятельством.
Дибич не сомневался, что война с Персией закончится победоносно, и ему вовсе не хотелось уступать славу победителя Паскевичу. Все его поведение и те планы, которые они с Ермоловым разрабатывали для следующей кампании, свидетельствуют о том, что Паскевичу в них не оставалось места. Очевидно, Дибич рассчитывал, что император отзовет Паскевича, как выполнившего свою миссию, а заканчивать войну будут они с Ермоловым. Причем он, как начальник Главного штаба и доверенное лицо императора, будет на первых ролях…
Отправляя Паскевича в Грузию, Николай и сам еще не решил, чем кончится этот вояж, а потому и полномочия Паскевича были не слишком определенными.
Но к январю 1827 года ситуация для Николая прояснилась.
В представлениях о происходящем на Кавказе и в Закавказье Николай ориентировался прежде всего на донесения Паскевича. Никакие жесты Дибича в пользу Ермолова не могли перевесить обвинения, предъявленные ему Паскевичем. А он ненавидел Ермолова, и ждать от него объективности не приходилось.
Муравьев засвидетельствовал характерный факт: «Я слышал, что Паскевич, взявши одного солдата, находившегося давно на работе в старой своей шинели, велел его срисовать и послал рисунок сей к Государю».
Главное, в чем Паскевич старался убедить императора, — ибо этого требовало прежде всего его самолюбие, — так это в профессиональной несостоятельности Ермолова. Он жаждал разрушить репутацию этого совершенно незаслуженно, по его мнению, вознесенного человека.
Ермолов же своим высокомерием усилил изначальную неприязнь своего возможного преемника и довел ее до степени ненависти.
И здесь мы вынуждены вернуться к разговору о противоречивости характера нашего героя.
Безусловно симпатизировавший ему и восхищавшийся им Погодин счел необходимым соответственно прокомментировать финал ермоловского дневника, который он опубликовал:
«С кончиной императора Александра Ермолов действительно похоронил свое счастие, как выразился, в конце дневника. Сколько в том было его вины, нельзя еще теперь решить окончательно. Показания современников разноречивы. Но вот в чем они все почти сходятся, хоть и безотчетно: Ермолов в описанных обстоятельствах перехитрил. И это кажется очень вероятным. Сколько мне случалось говорить со знакомыми Алексея Петровича, сколько удалось наблюсти самому, эта черта преобладала в его характере при всех его достоинствах и гениальных способностях. Ясный, решительный, твердый на сцене, на поприще действий, за кулисами он, кажется, делался другим человеком, и в самых маловажных обстоятельствах, без всякой нужды, он не мог действовать прямо, всегда были у него как будто задние мысли, и искренности, простоты, или, как ныне говорят, непосредственности, задушевности, от него никогда ждать было нельзя».
В том, что пишет Погодин, есть несомненный резон. Хотя, как мы знаем, были люди, с которыми Алексей Петрович был и непосредствен и задушевен. Это и Казадаев, и Закревский, и некоторые из его родных.
Но что касается конфликта с Паскевичем, то тут все обстояло наоборот. Ни о каких хитростях тут и речи не было. Ермолов шел напролом, как ему диктовали его яростное самолюбие и самооценка. Если бы он вел себя дипломатичнее, ситуация могла быть иной.
Грибоедов с горечью писал Бегичеву в декабре 1826 года: «…Старик наш человек прошедшего века. Несмотря на все превосходство, данное ему от природы, подвержен страстям, соперник ему глаза колет, а отделаться от него он не может и не умеет. Упустил случай выставить себя с выгодной стороны в глазах соотечественников, слишком уважал неприятеля, который того не стоил».
Главное в наблюдениях Грибоедова — «подвержен страстям».
Не хитрость, а страстность подвела в этом случае Ермолова.
«Человек прошедшего века» — века XVIII с его бурными страстями и стремлением к радикальным решениям…
Николай между тем продолжал резко критиковать действия Ермолова в письмах Паскевичу.
Рейд Мадатова за Араке, по мнению императора, опровергает аргументы Ермолова — «тамошние уверения». Но короткий рейд небольшого отряда, вскоре вернувшегося на свою территорию, абсолютно ничего не доказывал и ни в коей мере не дезавуировал опасения Алексея Петровича относительно западни, в которую мог угодить более многочисленный корпус, требовавший постоянного снабжения по надежным коммуникациям.
Эту опасность сознавали и куда менее опытные военачальники. Так, по свидетельству Муравьева, генерал Красовский, исполнявший обязанности начальника штаба корпуса, оглушенный сложностью приготовлений к походу — «устроение транспорта и заготовление продовольствия <…> его совершенно с ума сводили», — заявил Дибичу, настаивавшему на скорейшем выступлении, что «мы испытаем в Персии участь французов в 1812 году в России». Но Дибича подгонял из Петербурга Николай, у которого были свои представления. Все, что исходило от Ермолова, казалось ему, мягко говоря, неосновательным.
Несмотря на заявление, что его долг избегать крайностей, император не мог сдержать себя в письмах Дибичу вскоре после прибытия того в Тифлис.
Старая неприязнь к Ермолову, страх перед ним в дни междуцарствия, ярость от того, что заговорщики прочили генерала в орган, который должен был заменить его, Николая, — взвинчивали чувство недоверия до степени ярости, гнева, презрения.
Теперь он мог компенсировать себе ту вынужденную сдержанность, те лицемерные формулировки — «пребываю навсегда благосклонным», которыми он должен был прикрывать свои истинные чувства в первые месяцы царствования.
8 марта 1827 года он писал Дибичу: «4-го числа сего месяца получил я Ваше первое письмо из Тифлиса, мой дорогой друг, и Вы легко представите себе, с каким нетерпением и с каким удовольствием я его читал. Мне приятно, признаюсь Вам, знать, что Вы находитесь на месте и иметь возможность оценить Вашими глазами этот лабиринт интриг; надеюсь, что Вы не дадите ослепить себя этому человеку, для которого ложь — добродетель, когда она может быть ему полезна, и который потешается над приказами, которые ему отдают, словом, да поможет Вам Бог и вдохновит Вас быть праведным. Я с нетерпением жду известий, которые Вы мне обещаете»[85].
Вот это истинные чувства, которые молодой император питал к Ермолову. Сдержанные оценки Дибича его не устраивали.
Отношения Ермолова и Паскевича запутывались все больше и больше. Но Дибич вовсе не собирался безоговорочно вставать на сторону Паскевича. Он считал — и писал императору, что Ермолов безусловно полезен на Кавказе: «…Сколь незначительны ошибки его по военной части, и вероятно большие упущения по гражданской, но не менее того его имя страшно для горских народов, что в нынешнее время, мне кажется, столь же уважительно, как и 10-летнее отношение с разными особами Персии».
И далее Дибич убеждал императора, что «Ермолов выполнит план предначертанной кампании».
Основная идея Дибича была неизменна. 5 марта, еще до получения императорских посланий, с ясными характеристиками Ермолова (до них скоро дело дойдет), он настаивает на сохранении Ермолова во главе Кавказского корпуса, а Паскевича предлагает вернуть в Россию. Как уже говорилось, он поддерживает разработанные Ермоловым планы будущей кампании, в которых нет места Паскевичу. Он только настаивает на более интенсивных действиях, понимая, что этого хочет император.
Николай, однако, вел свою линию и 10 марта писал Дибичу: «Письмо от К. Бенкендорфа говорит об ужасе, который произвело Ваше прибытие, и о радости многих честных людей Вас там видеть; он, похоже, весьма убежден в прошлых и теперешних дурных намерениях Ермолова; было бы существенно важно, если бы Вы постарались разобраться в этом лабиринте интриг».
12 марта он уже решительно отметает соображения Дибича относительно дальнейшей службы Ермолова: «Я ясно вижу, что дела не могут идти подобным образом; если Вы и Паскевич уедете, этот человек, предоставленный самому себе, поставит нас в то же положение относительно знания о состоянии дел и уверенности в том, что он будет действовать в нужном нам направлении, как это было до отправления Паскевича из Москвы, — ответственность, которую я не могу принять. Поэтому, все тщательно взвесив, все еще ожидаю Вашего второго курьера: если он не доставит мне иных сведений, нежели те, что Вы мне уже сообщили, я не вижу иной возможности, как позволить Вам употребить данные Вам полномочия для увольнения Ермолова. Я предназначаю ему на замену Паскевича, ибо не вижу из Ваших рапортов, чтобы он в чем-либо отступил от соблюдения строжайшей дисциплины. Бесчестить же его отзывом в подобных обстоятельствах противно моей совести. Вы замените в таком случае Мадатова тем, кого сочтете подходящим, ибо оставить его там нельзя. <…> Словом, я повторяю, если Ваш последний курьер не принесет нового известия по сравнению с нынешним, без промедления исполните то, что я Вам предписал, и тотчас меня о том оповестите. Дайте сперва надлежащие наставления Паскевичу и покажите ему всю значимость поста, на который я призываю его в подобных обстоятельствах, и дайте почувствовать всю цену моего доверия; человек чести и мой старый командир, он сумеет, я за это ручаюсь, исполнить мои желания. <…> Вот, дорогой друг, последнее мое слово; и повторяю еще раз, что оно на тот случай, если Ваш курьер, которого я жду, не принесет мне иных известий, нежели последние <…>».
Во всем этом есть некая странность. С одной стороны, император твердо решил избавиться от Ермолова. С другой — он явно боится последствий этого решения…
Но что такого трудного в замене одного должностного лица другим по воле императора? Совершенно естественное дело при смене персон на престоле.
Николай понимает, что Ермолов — фигура уникальная. Николай еще не оправился от потрясения 14 декабря и сопутствующих событий. Он не может с уверенностью предсказать, как поведут себя сам Ермолов и «ермоловские». Он опасается, как мы увидим, реакции армейского офицерства…
Дибич получил послание императора утром 28 марта 1827 года. Он понял, что его планы рухнули и ему придется выполнить волю Николая.
Он оповестил Паскевича о его назначении, а после этого встретился с Ермоловым.
Он рапортовал: «Генерал Ермолов, с коим я говорил после, принял это повеление с совершеннейшей покорностью и готовностью сложить с себя полномочия, превзошедшей мои ожидания, повторив мне, что он докажет, как он это говорил прежде, что в любом состоянии будет покорным и верным подданным».
Этот пассаж свидетельствует, что не только у Николая, но и у Дибича были сомнения в том, как отреагирует Ермолов на свое увольнение.
Очевидно, Дибич не знал, что задолго до этого разговора Ермолов отправил в Петербург письмо, которое окончательно развязывало руки Николаю. Письмо это датировано 3 марта, в Петербург оно пришло, разумеется, уже после 12 марта, когда было отправлено решающее указание Дибичу.
«Ваше Императорское Величество.
Не имев счастия заслужить доверенность Вашего Императорского Величества, должен я чувствовать, сколько может беспокоить Ваше Величество мысль, что, при теперешних обстоятельствах, дела здешнего края поручены человеку, не имеющему ни довольно способностей, ни деятельности, ни доброй воли. Сей недостаток доверенности Вашего Императорского Величества поставляет и меня в положение чрезвычайно затруднительное. Не могу я иметь нужной в военных делах решимости, хотя бы природа и не совсем отказала в оной. Деятельность моя охлаждается той мыслью, что не буду я уметь исполнить волю Вашу, Всемилостивейший Государь.
В сем положении, не видя возможности быть полезным для службы, не смею, однако же, просить об увольнении меня от командования Кавказским корпусом, ибо в теперешних обстоятельствах это может быть приписано желанию уклониться от трудностей войны, которых я совсем не считаю непреодолимыми; но, устраняя все виды личных выгод, всеподданнейше осмеливаюсь представить Вашему Величеству меру сию, как согласную с пользою общею, которая всегда была главною целью всех моих действий.
Вашего Императорского Величества верноподданный
Алексей Ермолов».
Это отнюдь не простой документ. Фраза о человеке, «не имеющем ни довольно способностей, ни деятельности, ни доброй воли», — откровенно саркастична, поскольку немного найдется в армии и обществе людей, которые всерьез воспримут эту характеристику легендарного генерала. Кроме того, ответственность за свою недостаточную решимость Алексей Петрович фактически перекладывает на императора. Если бы Николай ему доверял, он мог бы действовать с той энергией, которой наделила его природа.
Что же до второй части послания, то и она вполне двусмысленна — он не может быть «полезным для службы» в данных конкретных обстоятельствах, но вовсе не намерен «уклоняться от трудностей войны», которые он считает преодолимыми.
По сути дела это ультиматум, предъявленный со свойственной Алексею Петровичу стилистической тонкостью, — или император выражает ему свое доверие, или же, готовый воевать, он не имеет такой возможности.
Очевидно, реакцией на этот ультиматум и был рескрипт Паскевичу, датированный 28 марта. То есть написан он был через две недели после решающего письма Дибичу.
«Господину генерал-адъютанту Паскевичу.
Уволив генерала от инфантерии Ермолова от настоящего его звания, Я назначаю на место его вас командиром отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющим гражданскою частию и пограничными делами в Грузии и в губерниях Астраханской и Кавказской, на том праве и с теми преимуществами, какие имел ваш предместник».
Разрыв между решением — 12 марта — и его официальным оформлением — 28 марта — свидетельствует о том, что Николай ждал известий из Тифлиса.
Узнав, что все прошло гладко, и получив послание Ермолова, он закрепил свое решение соответствующим документом.
Этот двухнедельный интервал красноречив…
Перед тем как подписать рескрипт Паскевичу, Николай отправил 27 марта очередное письмо Дибичу. Судя по всему, еще не написав цитированного выше рапорта о смене Ермолова, Дибич отправил в Петербург курьера с коротким извещением о выполнении императорского приказа.
Николай немедленно ответил письмом, в котором чувствуется огромное облегчение:
«Ваш курьер прибыл ко мне вчера, мой дорогой друг; читал и перечитывал Ваши интересные письма; и хорошо ухватив их смысл, аплодирую себе за то, что заранее предписал Вам то, о чем я должен был бы Вас уведомить вследствие того, что принес сей курьер. Я вновь убедился в полной невозможности оставить вещи по-старому, т. е. видеть Вас, равно как и Паскевича, не там, где Вы теперь находитесь, а следственно и себя, обреченным на сомнения, тревоги и т. д., как до посылки Вас обоих. Я аплодирую себе за то, что указал Паскевича в качестве замены, ибо вижу из Вашего письма, что в случае, если бы именно он был мною назначен, Вы не считали бы нужным продление Вашего пребывания. Вы, верно, видели из моего последнего письма, что я уполномочил Вас оставаться столь долго, сколь Вы сочли бы это необходимым, чтобы наставить надлежащим образом Паскевича и наладить весь новый порядок вещей; стало быть, повторяю Вам это вновь, заранее извещая Вас, что отправил вчера приказание Сипягину немедля явиться в Тифлис, для исполнения обязанностей военного губернатора Грузии в отсутствие Паскевича, и что моим завтрашним приказом я призову заменить Ермолова во всех его обязанностях. Да благословит Бог сей важный шаг, и даст Вам всю силу духа и достоинства в сию важную минуту. Да сопутствует Вам Бог, дорогой друг, равно как и все наши добрые люди, кто там находится. По получении сего приказа, известите меня о нем, равно как о его исполнении; Вы сообщите мне возможно полно подробности того, как все пройдет — никакого шума, скандала, я воспрещаю самым положительным образом всякое оскорбление и делаю Вас
С нетерпением буду ждать Ваших известий. Прощайте, дорогой друг, да направляет Вас Бог.
Весь Ваш и навеки.
Николай.
Моя жена говорит Вам тысячу любезностей».
Представляя себе степень популярности Ермолова в войсках корпуса, Николай, несмотря на успокоительное сообщение Дибича, все же опасается «шума, скандала», а потому предупреждает Дибича и Паскевича о необходимости избегать «всякого оскорбления». Но Дибич и не думал ни о чем подобном.
Он выполнил приказ императора явно без большого энтузиазма. Он, разумеется, издал 29 марта соответствующий приказ, но в рапорте его Николаю о смене власти на Кавказе сквозит несомненное сочувствие Ермолову. Дибич понимал, что речь идет и о дальнейшей судьбе знаменитого генерала, действия которого он наблюдал под Кульмом.
Основная часть рапорта от 29 марта посвящена личности Ермолова:
«После он говорил мне о многих деталях, касающихся края и службы, и должен сказать, что во всем этом не смог я заметить ни малейшего лукавства. Лишь принимая от меня отставку, адресовал он мне вопрос, на чем в особенности, полагаю я, основано дурное мнение о нем Вашего Императорского Величества. Я ответил ему, что не считаю себя в праве давать на это какой-либо ответ, что Ваше Величество вольно в выборе своих генералов согласно степени доверия, которое Оно имеет к их способности хорошо выполнить его приказы, но если он хочет знать мои личные предположения, то я обязан полагать, что такое решение, должно быть, основывалось, прежде всего, на слабом обеспечении решающего хода операции».
Надо отдать должное Дибичу — он старался проявить максимум благородства по отношению к опальному генералу. Он знал, с какой нетерпимостью относится Николай к Ермолову, и тем не менее решился на рискованный жест:
«Увольнение генерала Ермолова накладывает на меня обязанность засвидетельствовать Вашему Императорскому Величеству, что в этом краю, столь склонном к доносам даже ложным, не высказывается никакого сомнения в полном бескорыстии этого генерала. В то же время он беден, ибо состояние его отца должно быть совершенно расстроено. Мне кажется справедливым вознаградить доброе качество, даже наказывая неправоту. Осмеливаясь остановить внимание Вашего Величества на сем предмете, я должен добавить, что, как говорят, г-л Ермолов отказался от мызы, дарованной Его Величеством покойным Императором, будучи убежден, впрочем, что подобный повторный отказ мог бы пасть лишь на того, кто на него осмелился. Должен добавить, что г-л Ермолов имеет детей, к несчастию незаконнорожденных, к которым он кажется питает нежную привязанность. Соблаговолите принять, Государь, чувства глубочайшего почтения и неизменной преданности, с коими имею счастие быть,
Государь,
Вашего Императорского Величества
смиреннейший и покорнейший слуга
И. Дибич.
Тифлис, 29-го Марта
1827 года
в 11 часов вечера».
То есть Дибич предлагал императору обеспечить благосостояние увольняемого генерала тем же способом, к какому прибег в свое время его покойный предшественник. И если тогда Ермолов отказался — будучи в фаворе — принять высочайший дар, то теперь он вряд ли рискнет совершить нечто подобное.
Николай не предложил Ермолову ни мызы, ни аренды, но к соображениям Дибича прислушался. Это был способ воздействовать на общественное мнение.
В дневнике Алексей Петрович по обыкновению лаконично описал этот последний краткий период своего пребывания на Кавказе:
«28 <марта>. Начальник главного штаба его императорского величества получил высочайшее повеление объявить мне, чтобы командование войсками и управление краем сдал я генерал-адъютанту Паскевичу, а сам отправился в Россию.
Таким образом заключилось служение мое в Грузии в продолжение более 10 лет».
Как мы помним, он мечтал оставить свой пост «без особых оскорблений».
Горькая парадоксальность ситуации заключалась еще и в том, что 12 лет назад в ноябре 1815 года он уже сдавал командование корпусом Паскевичу, бывшему тогда генерал-лейтенантом. Это было командование Гренадерским корпусом, от которого Алексей Петрович с радостью избавился.
Тогда Паскевич был одним из многих генерал-лейтенантов, а он, Ермолов, персонаж героического мифа, любимец императора, которого ждала еще неопределенная, но славная судьба.
Мог ли он ожидать такого финала своей карьеры? О том ли он думал весной 1816 года, получив назначение на Кавказ?
Мы помним, что это были за грандиозные мечтания.
И чем все кончилось…
«Более месяца жил я в Тифлисе частным человеком и наконец оставил страну сию.
Со времени удаления моего от должности, я не видался с генералом Паскевичем, который, отзываясь болезнию, принимал дела или через начальника корпусного штаба, или сношениями со мною письменно.
Новое начальство не имело ко мне и того внимания, чтобы дать мне конвой, в котором не отказывают никому из отъезжающих. В Тифлисе я его выпросил сам, а на военных постах по дороге мне давали его постовые начальники по привычке повиноваться мне».
Он выехал из Тифлиса 3 мая 1827 года.
По складу своего мировидения он воспринимал все это не просто как несправедливость и унижение, но как драму историческую, не имея при этом возможности обставить эту драму соответствующими декорациями.
Для многих, кто служил с Ермоловым, его смещение было тяжелым потрясением.
Муравьев: «Смена Алексея Петровича сделалась мне известна ввечеру, на другой день. Я был еще в постели, как ко мне приехал Сергей Ермолов, который при мне находился и, не сказав друг другу ни слова, мы оба залились слезами. Мы не могли объясниться и пробыли несколько времени в таком положении. Я поехал прямо к Дибичу, не собравшись с духом, чтобы навестить Алексея Петровича, который мне так жалок был, что я не мог бы удержать слез своих в присутствии многих».
Муравьев был человеком отнюдь не сентиментальным, скорее суровым и желчным, но потрясение было слишком велико даже для него.
Он неоднократно в воспоминаниях обращается к этим скорбным дням:
«…Хотя Алексей Петрович и думал о потере своего места, но никогда не был в сем уверен, трудился до последней минуты и был поражен сею новостию. И в сем случае не умел он себя вести: имея всех за себя, видя участие, которое все в нем принимали, он был малодушен, то жаловался, то сердился, то смеялся, то употреблял выражения неприличные ни сану его, ни летам, и не умел сохранить того спокойного величия, коим бы он мог сразить врагов своих. Напротив того, они торжествовали, видя, сколько падение оскорбляло его и выводило из границ благоразумия. Говорят, что Дибич сам прослезился, объявив ему сию волю Государя. Они не переставали затем видеть друг друга; но кажется, что новое правительство крепко наблюдало за влиянием, которое перемена сия произвела во всех умах. Солдаты, узнав о смене любимого ими начальника, роптали. Гвардейские офицеры стали толпами ездить к смененному начальнику и тем показывать преданность свою».
Демонстрации эти не могли продолжаться долго — военная жизнь, подготовка к походу брали свое.
Муравьев: «Я приехал навестить Алексея Петровича; но в каком состоянии застал я дом сей, прежде того наполненный людьми, ищущими его покровительства! Дом, в коем умер хозяин, есть лучшее уподобление, которое можно прибрать к сему случаю. <…> Однажды собрался я к нему, но вошед в первую комнату, а там и в другую и далее и найдя их совершенно пустыми, я не мог далее идти, заплакал, остановился и воротился назад».
И Ермолов, и его приверженцы находились в состоянии крайне взвинченном.
Погодин записал со слов Алексея Петровича: «Отставка А. П. сделалась известною в Тифлисе. Ширванский полк шел тогда на персиян. Это был любимый полк, который он называл в подражание Цезарю четвертым легионом. Храбрые воины просили его усердно, чтобы он выехал проститься с ними. Начальники один за другим приезжали к любимому главнокомандующему передать ему пламенное желание всех солдат. Но Ермолов не хотел делать сцен и, скрепя сердце, отказался. Напрасно шли ширванцы тихо и беспрестанно оглядываясь — Ермолов не показывался».
Нет оснований ставить под сомнение подобный эпизод. Как писал Погодину князь Николай Борисович Голицын, служивший при Ермолове: «Армию он образовал по своему разумению, создал непобедимых воинов, для которых он был род кумира, — так велика была любовь, которую он умел внушить всем своим подчиненным».
Но он понимал, что любая демонстрация этой любви к нему солдат будет поставлена ему в вину. А дальнейшая судьба его была и так крайне неопределенна. «Я не отставлен от службы, не уволен в отпуск, не сказано, чтобы состоял по армии». В конце концов он мог ожидать любых обвинений, поскольку ничего не знал о последнем благожелательном рапорте Дибича.
«8 <июня>. Таганрог. Никогда не бывал я здесь прежде и поехал единственно для того, чтобы видеть место кончины императора Александра, вместе с которым похоронено и мое счастие.
15. Приехал в деревню отца моего, с. Лукьянчиково, близ Орла».
«Римский» стиль дневника не дает представления о чувствах, которые испытывал Алексей Петрович, уезжая с Кавказа.
С дороги, из Георгиевска, он писал 30 мая своему кузену генерал-майору Петру Николаевичу Ермолову, командовавшему на Кавказе 21-й пехотной дивизией: «К половине июня надеюсь быть в Орле и предамся жизни покойной. Много вытерпел я оскорблений, чтобы желать службы; буду стараться и успею истребить из памяти, что я служил когда-нибудь. Кончена моя карьера, и пламенное мое усердие к пользам отечества скроет жизнь безызвестная. Порадуются неприятели мои, но верно есть правосудие Божие!»
И уже из Орла — тому же Петру Николаевичу: «Кажется, пережил уже я все неприятности и предстоит мне жизнь покойная, безызвестная. Сколько непредвидима участь человека! Теперь надо искать семейственного счастия. Не подумай, мой друг любезный, чтобы я имел глупость в мои лета помышлять о женитьбе, нет, я разумею приобрести дружбу родных, между коими провести старость с меньшею скукою. Вот моя претензия!»
И далее — неожиданный пассаж: «Впрочем, в нынешнем веке происшествия теснятся в коротком пространстве времени так, что имея пятьдесят лет, я ожидаю еще дожить до многого и еще Бог знает, что со мной случится. Не грусти, любезный брат, о случившемся со мною, ибо я сам переношу все молодецки. Посмотрим на других, что последует с возвышающимися!»
Он не был готов к «безызвестной жизни». Он еще надеялся…
Передавая дела Паскевичу и тяжко переживая свое унижение, Алексей Петрович не подозревал, что происходящее с ним вызывает нешуточное волнение в высших сферах.
Конфликт между Паскевичем и Ермоловым еще только разгорался, а глава политической полиции, управляющий Третьим отделением Максим Яковлевич фон Фок предпринял активные действия для точного выяснения особенностей личности Ермолова и ситуации вокруг него.
Возможной реакцией на его смещение интересовался шеф корпуса жандармов Бенкендорф, что свидетельствовало о безусловной политической окраске этого волнения.
В апреле 1827 года Бенкендорф запросил Павла Дмитриевича Киселева, начальника штаба 2-й армии, о реакции в армии на смещение Ермолова. Императора и шефа тайной полиции обуревали опасения. Запрос был проверкой общественного мнения и проверкой самого Киселева, связи которого с лидерами недавнего заговора были несомненны. «Скажите мне, — писал Бенкендорф, — какое впечатление произвела в вашей армии перемена главнокомандующего в Грузии? Вы поймете, что Государь не легко решился на увольнение Ермолова. В течение 18 месяцев он терпел всех, начинал с некоторых старых и неспособных париков министров. Надо было иметь в руках сильные доказательства, чтобы решиться на смещение с столь важного поста, и особенно во время войны, человека, пользующегося огромною репутациею и который в течение 12 лет управлял делами лучшего проконсульства в Империи».
Стало быть, они — Бенкендорф, естественно, транслировал представления Николая — ясно представляли себе масштаб репутации Алексея Петровича, а проконсульство под его управлением считали лучшим в империи. Последним утверждением опровергалась версия о неспособности Ермолова.
Киселев, понимавший и свое собственное положение, ответил письмом замечательным по дипломатической изворотливости. Он, с одной стороны, ничем не выдал своего отношения к увольнению Ермолова (а оно было, скорее всего, отрицательным), с другой — успокоил императора и шефа жандармов соображениями как конкретными, так и общими. Последнее дало ему приятную возможность встать над всеми и взглянуть на ситуацию с высоты истории вообще.
«Общественное мнение у нас не имеет своих органов, а потому трудно о нем что-нибудь сказать. Офицеры, рассеянные на огромном пространстве, весьма мало интересуются делами, не относящимися до них непосредственно, и, не имея служебных отношений к генералу, говорят о нем с равнодушием. К этому прибавлю, что перемена лица, какого бы то ни было, не может иметь важности, когда довольны общим ходом дел; в противном случае это имеет свое значение. Отозвание фельдмаршала Румянцева почти не было замечено, а он пользовался огромною славою; в другое время перемена лица, далеко не значительного, кажется преступлением. Все это относительно, особенно во мнениях. — Такова моя мысль».
Тут, правда, был один нюанс — Киселев так и не ответил, к какому типу ситуаций относится смещение Ермолова — к первому или второму.
Во всяком случае никаких катаклизмов он не предрекал.
У Бенкендорфа в этом апреле — Ермолов уже лишен поста, но еще на Кавказе, — была оживленная переписка по его поводу.
Очевидно, он запрашивал разных лиц — не только Киселева.
9 апреля 1827 года ему ответил великий князь Константин Павлович:
«Очень сожалею о том, что генерал Ермолов выказал себя столь мало достойным доверия Его Величества, и искренне желаю, чтобы генерал Паскевич загладил ошибки, сделанные его предшественником. Мне очень больно видеть, что этот последний, уже приобретши известность и будучи способен оказать важные услуги нашему августейшему Государю, пошел по пути несогласному требований долга. Я уже давно предсказывал ему, что его способ вести себя и его образ действий должны были рано или поздно иметь такой конец. Я очень хорошо помню, что в проезд свой через Варшаву в 1821 году он вел себя не так, как следовало, и что по этой причине я нашел вынужденным прервать с ним всякие отношения. Как бы то ни было его удаление от службы не должно вводить нас в заблуждение; оно вызовет множество догадок; на генерала Ермолова непременно будут смотреть как на жертву произвола, а иностранные газеты найдут достаточно поводов, чтобы выставить его в глазах Европы невинною жертвою».
Очевидно, Бенкендорф сообщил Константину, что Ермолов отказался выполнять приказы императора в начале войны, и отсюда фраза великого князя о нарушении Ермоловым своего долга. Ермолов был представлен как злостный упрямец, обуянный гордыней и не оказывающий достаточного уважения императору. Поскольку это в известной степени соответствовало его репутации, то Константин, раздраженный непочтительным отношением Алексея Петровича к нему самому, охотно в это поверил.
Ссора с великим князем была большой ошибкой Ермолова, отнюдь не подтверждающей мнение о нем, как о корыстном хитреце. Его интриги фатальным образом оборачивались против него самого.
15 апреля Константин снова пишет Бенкендорфу: «Вы сообщаете мне сведения, дошедшие до вас о неожиданном впечатлении, произведенном на публику удалением генерала Ермолова, и по этому случаю присылаете мне по приказанию Государя Императора и Царя представленную Его Величеству записку, в которой в точности излагаемы происки партий, образовавшихся с целию поддержать интересы вышеупомянутого генерала. Я прочел эту записку с большим интересом. <…> И подробности, изложенные в этой записке, и стремления, возбужденные в злонамеренных людях опалою генерала Ермолова, — все это я предвидел и говорил во время моего последнего пребывания в Санкт-Петербурге».
Стало быть, ведомством Бенкендорфа было произведено расследование и выявлены некие «партии», готовые «поддержать интересы» Ермолова. Это, разумеется, совершенная чепуха. Через десять лет Бенкендорф в записке, представленной Николаю, объявил только что умершего Пушкина главой либеральной партии…
Бенкендорф, конечно, был не одинок в своей ненависти и агрессивной зависти, в страстном желании отомстить за то психологическое унижение, которое слишком многие испытывали от самого существования этого феномена — Ермолова, с его неприемлемой особостью…
Но дело было сделано. Никакие старания унизить Ермолова внутри враждебного генеральского круга уже не могли разрушить его репутацию, вне зависимости от того, раздутой она была или истинной.
И в этом отношении Алексей Петрович был фигурой уникальной.
Погодин в своих записках о Ермолове предлагает одно очень тонкое наблюдение: «Ермолов всегда был в глазах публики не столько обыкновенным смертным, сколько популяризированною идеей. Когда в верхних слоях уже давно разочаровались на его счет, или, по крайней мере, старались всех уверить в этом разочаровании, масса все еще продолжала видеть в нем великого человека и поклоняться под его именем какому-то полумифическому, самою ею созданному идолу».
Именно эта уверенность в увлечении широкой публикой ермоловским мифом и волновала Николая, Константина и Бенкендорфа.
Русская политическая полиция слишком часто принимала разговоры за готовность к действию.
Между тем Алексей Петрович искренне пытался стать частным человеком, понимая, что кончилось время «подвига», но не подозревая, что наступило время легенды.
Теперь он был еще более беззащитен, чем во времена своей молодости, после освобождения из ссылки. Тогда был Казадаев, тогда он отнюдь не был предметом зависти и ненависти. И вообще времена были гуманные.
За прошедшие четверть века он сделал слишком много для того, чтобы стать беззащитной мишенью. Он слишком высоко взлетел. Он слишком явно демонстрировал свое превосходство и свое презрение к придворному генералитету. Его планы были слишком грандиозны, чтобы не вызвать злого раздражения у тех, кто довольствовался банальной карьерой. Он пожинал плоды своей особости, своего необъятного честолюбия…
Он писал Закревскому: «Я 15-го числа прошедшего июня приехал в деревню к отцу моему, которому придало силы мое присутствие. Старик с неописанным великодушием принял детей моих и называет их сиротами. Я живу весьма покойно и сия жизнь кажется мне не без приятностей. Давно нужно было мне отдохновение, к которому впрочем мог я перейти и не таким образом, но, почтеннейший друг, чиста у меня совесть и не оставит судьба без наказания врагов моих, оклеветавших меня перед государем. Что делали со мной в Грузии! Какой гнусный ябедник Паскевич, непостижимо!» Воспоминания терзали его: «Больно, достигнув звания моего, службою довольно продолжительною и довольно усердною, быть неизвестным до такой степени, что принимались против меня самые гнусные доносы <…>».
Однако надо было готовиться к новой жизни.
6 августа, приехав в Орел, он писал Кикину: «Давно расстался я со многими мечтами и ближайшее рассуждение о них обуздывает прежних лет молодые страсти. Первого злодея — честолюбие, гоню из обиталища моего <…>». И через несколько фраз: «Здесь я иностранец, вышедший на берега африканские. Как все пусто, как дико!»
Мир, в котором он теперь очутился, отличался от его мира не географически и не социально. Это был мир, в котором не было места его мечтам, не было места «подвигу». Пустой мир.
Его утешали только сыновья и книги, собранные в Заграничных походах.
Щедрость императора дала ему возможность заняться образованием детей, не прибегая к милостям Закревского.
Чтобы избавиться от неопределенности своего положения, он подал в отставку. И получил ее буквально через два дня после получения Дибичем его прошения.
Он подыскивал учителей сыновьям и увеличивал свою библиотеку. Он строил себе дом в Орле со специальным помещением для библиотеки и старался убедить себя, что счастлив. Но мы-то знаем, что его представления о счастье были существенно иными. Его героем был не император Диоклетиан, который предпочел воинской славе и власти выращивание капусты.
Его героем был Цезарь, которого судьба не смогла наказать бездействием.
Но был и еще один герой.
Погодин, наблюдавший Ермолова в годы опалы, многое понял в его настроениях:
«В деревне обратился он к обыкновенным своим занятиям — читал книги о военном искусстве, и в особенности о любимом своем полководце Наполеоне. Утомительно долго тянулось для него время в тишине, в бездействии, среди полей и огородов, лесов и пустынь. А между тем Паскевич пошел вперед, взял Эривань, Тавриз, Ахалцых, проникнул далеко в Персию. А между тем Дибич вскоре перешел Балканы, занял Адрианополь. Что происходило в то время в душе Ермолова, то знает только он, то знал Суворов в Кобрине, читая италиянские газеты о победах молодого Бонапарта, то знал, разумеется, больше всех этот новый Прометей, прикованный к скале Св. Елены. Но они испили, по крайней мере, свои чаши почти до дна, а Ермолов только что налил свою и поднес было к устам».
Это сомнительно — Алексей Петрович воевал больше тридцати лет и, как мы знаем, уже мечтал о покое. Но в главном Погодин прав: он чувствовал себя вытесненным из жизни — подло, оскорбительно и несправедливо. Он готов был уйти, но не так.
Судьба Наполеона, врага и кумира, должна была особенно остро волновать его в это время.
Мы не имеем цели во всех подробностях описать жизнь нашего героя в мучительные для него годы бездействия или имитации деятельности, ибо здесь мы ничего не сможем прибавить к пониманию личности этого могучего и полного противоречий человека. Наша задача — понять суть его личности, которая и определила его судьбу, роковым образом связав ее с судьбой и сутью империи, чьим строптивым солдатом он был…
Самое знаменитое свидетельство о Ермолове этих лет принадлежит Пушкину. С него начинает он «Путешествие в Арзрум». Пушкин ехал в армию Паскевича, и то, что путешествие начинается со встречи с Ермоловым, — знак понимания ситуации. Это было через два года после отставки Алексея Петровича, в 1829 году, — общество еще живо обсуждало свершившуюся несправедливость, в списках ходила приписываемая Крылову басня «Конь» с весьма нелестной характеристикой Николая и глубоким сочувствием к Ермолову, а сам Крылов написал басню «Булат», которую в публике считали откликом на ермоловскую историю.
Путь на Кавказ лежал не через Орел — жест Пушкина был значимым и красноречивым.
«Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел и сделал таким образом 200 верст лишних; зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, близ коего находится его деревня. Я приехал к нему в 8 часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого, набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностию. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка не приятная, потому что не естественная. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом Черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно, говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским. „Пускай нападет он“, — говорил Ермолов, — „на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, например на пашу начальствовавшего в Шумле — и Паскевич пропал“. Я передал Ермолову слова гр. Толстова, что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтоб отличаться от него. Ермолов засмеялся, но не согласился. „Можно было бы сберечь людей и издержки“, сказал он. Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки (записки о Наполеоновских войнах уже были написаны, но знали об этом только самые близкие Ермолову люди. —
Судя по всему, разговор был достаточно непринужденным и в основном касался традиционных для Алексея Петровича тем — Паскевич, немцы.
Осмелимся предположить, что смысловое зерно разговора определяют два имени: Курбского и Карамзина.
То, что Алексей Петрович говорил о «записках», то бишь посланиях Курбского к Грозному, с любовью — «con amore» (любопытно, что Пушкин написал эти слова по-итальянски, неужто Ермолов демонстрировал перед ним свое знание итальянского?) — чрезвычайно симптоматично. Стало быть, он не считал его предателем, но признавал за ним — и не только за ним — право на сопротивление деспоту любыми средствами.
Он, Ермолов, как и Курбский, был полководцем с крупными заслугами перед отечеством, незаслуженно впавшим в опалу.
Жаль, что Пушкин не сообщил подробностей разговора. Но он понимал опасность такого поворота беседы и только обозначил главное — Ермолов одобрял Курбского. Этого более чем достаточно.
Что до «Истории» Карамзина, то Пушкин ценил в ней объективность и преданность эмпирике. Ермолова это не устраивало.
Он предпочел бы, чтобы великий историограф следовал его примеру. Ведь его собственная биография написана хотя и не «пламенным пером», а сдержанным римским стилем, но именно по этому принципу: восхождение героя от «ничтожества» — мальчик из небогатой и незнатной семьи восходит своим могучим усилием, своими «подвигами», несмотря на происки врагов, к славе и могуществу — кавказское проконсульство. А в идеале он должен был достигнуть целей куда более значительных.
Он хотел, чтобы русская история в движении своем совпадала с тем путем, который он себе предначертал…
Он хотел, чтобы Карамзин изобразил реализацию великой мечты. Единственный достойный, по его представлениям, вариант судьбы — народа ли, героя ли.
Он остался и в 1829 году тем же молодым генералом, декламирующим перед роковым боем песни Оссиана… И от этого все случившееся с ним было еще больнее и оскорбительнее.
Но было одно обстоятельство, которое бесспорно радовало Ермолова. Это его необыкновенная популярность в московском обществе.
Он в эти первые годы редко бывал в Москве, но когда он появлялся в московском Дворянском собрании — в черном фраке, с Георгиевским крестом, который, как все знали, был вручен ему Суворовым, — то его приветствовали стоя даже дамы.
Как и прежде, он умел поразить своей внешностью. В начале 1830-х годов его наблюдал в Москве Герцен: «…Его насупленный, четвероугольный лоб, шалаш седых волос и взгляд, пронизывающий даль, придавали ту красоту вождя, состарившегося в битвах, в которую влюбилась Мария Кочубей в Мазепе».
Постепенно Алексей Петрович осваивал новую роль. Она не могла заменить его былое величие Цезаря, проконсула Кавказа, но безусловно давала некоторое успокоение его истерзанному самолюбию.
Как писал Герцен: «Московские львы с 1825 года были: Пушкин, М. Орлов, Чаадаев, Ермолов». Ермолов оказался в числе избранных.
Тот же Герцен повторил: «Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А. С. Пушкин; где до нас декабристы задавали тон; где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале».
Более того, в отличие от Орлова и Чаадаева молва связывала его имя с новыми заговорщиками. В 1827 году были арестованы студенты Московского университета братья Критские и несколько их единомышленников, мечтавшие продолжить дело декабристов. Был упорный слух, что эти романтические юноши надеялись на содействие Ермолова.
Уже в 1847 году польские эмигранты, прослышавшие о каком-то новом заговоре в России, добивались от Герцена — «участвует ли в нем Ермолов».
Этот ажиотаж вокруг личности человека, которого он желал навсегда убрать из активной жизни, не мог радовать Николая. За Ермоловым, как и за Орловым, приглядывали — в этом нет сомнения.
Если Ермолова мучило бездействие, то Николая ничуть не устраивало это поклонение опальному герою. И они оба сыграли в некую игру.
В 1831 году во время посещения императором Москвы Алексей Петрович обратился к нему с просьбой об аудиенции. Непонятно, какую цель он преследовал. Командование армией ему не грозило.
Николай энергично воспользовался ситуацией. Вместо формального приема он удостоил Ермолова длительной беседы с глазу на глаз, — мы никогда не узнаем, о чем они говорили, — и всячески демонстрировал на людях свое благоволение к недавно еще ненавидимому и презираемому генералу.
Результат высочайших «ласк» оказался для Алексея Петровича печален. Николай заставил его вступить в службу и отправил в Государственный совет. В данном случае это был род почетной ссылки. В апреле 1832 года Ермолов был определен в комитет по рассмотрению проекта карантинного устава. Притом что в Государственном совете были комитеты, непосредственно занимающиеся делами армии.
Военачальника с огромным опытом заставили заниматься второстепенными и не близкими ему проблемами. На попытку Ермолова объяснить свою бесполезность в карантинном комитете Николай сделал ему вполне иезуитское предложение — возглавить генерал-аудиториат.
Генерал-аудиториат Военного министерства занимался военно-судными делами, то есть системой наказаний.
Понять замысел императора было несложно. По свидетельству Давыдова, Ермолов ответил: «Единственным для меня утешением была привязанность войска; я не приму этой должности, которая возлагала бы на меня обязанность наказывать».
«Ермолов не так это понимает!» — сказал раздраженный Николай.
Ермолов все понял правильно. Прозябание в Государственном совете продолжалось до 1839 года…
В 1834 году Алексея Петровича посетил его любимый адъютант Павел Христофорович Граббе, уже генерал-майор, начальник драгунской дивизии, герой Русско-турецкой и Польской войн.
«На возвратном пути из Москвы заехал я и к Алексею Петровичу Ермолову в деревню. В молодости моей я был первым его адъютантом, и совершенно отеческое его обращение со мною оставило во мне сыновнюю к нему привязанность. Я не видал его девятнадцать лет. Мы расстались в 1815 году, когда я получил конноартиллерийскую роту. Он отправился тогда главнокомандующим на Кавказ и послом в Персию. Взоры целой России обратились туда. Все, что излетало из уст его, стекало с быстрого и резкого пера его, повторялось и списывалось во всех концах России. Никто в России в то время не обращал на себя такого общего и сильного внимания. Редкому из людей достался от неба в удел такой дар поражать, как массы, так и отдельно всякого наружным видом и силою слова. Преданность, которую он внушал, была беспредельна. Теперь я нашел старика, белого как лунь (Ермолову было 57 лет. —
При этой встрече и возник уже известный нам разговор о возможном возвращении Ермолова на строевую службу — в качестве главнокомандующего одной из армий.
Он как-то очень быстро старел. Отсутствие привычной деятельности тому явно способствовало.
Он еще на что-то надеялся. Тем более что Николай вел с ним коварную игру. Так, он однажды сказал Ермолову, что в случае войны он его обязательно «употребит». Разумеется, он не собирался этого делать.
Когда в 1830 году произошло восстание в Польше и польская армия, выпестованная Константином, вела в первые месяцы 1831 года успешные операции, общественное мнение обратилось к легендарной фигуре Ермолова. Но воевали в Польше сперва граф Дибич-Забалканский, затем — граф Паскевич-Эриванский, ставший князем Варшавским.
К концу 1830-х годов терпение Ермолова истощилось. Он просил Бенкендорфа, обращение к которому отнюдь не доставляло ему удовольствия, передать императору его просьбу об отставке.
Бенкендорф пригрозил ему неудовольствием императора. Ермолов настаивал. В конце концов Николай через того же Бенкендорфа потребовал от Ермолова письменного объяснения. Что и было немедленно исполнено.
Алексей Петрович мотивировал свою просьбу неопытностью в административных делах, на что Николай резонно напомнил ему о его проконсульстве на обширнейшей территории, должности, включающей и сугубо административные обязанности.
В результате Ермолов был отпущен в бессрочный отпуск с издевательской формулировкой «до излечения болезни». Притом что ни о какой болезни Алексей Петрович и не упоминал.
Снова началась частная жизнь между Москвой и Осоргином. Заботы о будущности сыновей, трое старших из которых учились в Михайловском артиллерийском училище и пользовались особым покровительством великого князя Михаила Павловича, командующего всей артиллерией, а младший безуспешно пытался осваивать науки в Лазаревском институте восточных языков.
Старшие — Виктор, Север и Клавдий — успешно окончили училище, получили офицерские чины и отправились служить на Кавказ. Служили усердно, выслужили по ордену Святого Владимира, давшему им потомственное дворянство. Фамилию Ермоловых им своей властью присвоил великий князь. До этого они звались Горскими.
Судьба младшего, Петра, была трагична. Очевидно, ему совершенно неинтересно было в Лазаревском институте, учился он плохо и разгневанный Алексей Петрович отправил его унтер-офицером на Кавказ, где он и погиб в бою с горцами.
В сентябре 1841 года Ермолов писал Граббе: «Что сказать о себе? Для жизни политической я умер, и нахожу, что весьма покойно существовать для небольшого числа весьма добрых приятелей! Восемь месяцев в году живу в деревне, остальное время в Москве, в кругу малом и не шумном. Здоров так, как бывал двадцать лет назад, и утешаюсь, что не одна старость делает негодность мою для службы, о которой имею я благоразумие довольно давно уже не иметь помышления. Вот так возможно избавиться от честолюбия».
«Как избавиться от честолюбия…» Постоянный мотив. Не было покоя и смирения. Были обида и горечь.
В октябре 1845 года — Николаю Николаевичу Муравьеву: «Уже девятнадцатый год как грызет меня бездействие, и с ним познакомился я, когда мне был пятидесятый год».
В августе 1847 года — Воронцову: «…Жизнь скучная, единообразная и лень, совершенно покорившая меня. Словом, жизнь преглупая!»
В январе 1851 года — своему бывшему адъютанту, а теперь — генералу Бебутову: «Мне 74-й год, которого не все достигают; давно благодарю смиривших во мне демона честолюбия».
«Демон честолюбия» — яркая формула. Прекрасно знавший Античность, Алексей Петрович помнил, разумеется, знаменитого демона Сократа — неодолимый внутренний голос, диктовавший философу стиль его поведения.
Долгие годы демон честолюбия вел по жизни Ермолова. Теперь он по-христиански благодарит тех, кто сумел смирить его гордыню. Паскевич? Николай Павлович?
Плохо верится в это смирение…
Это была странная жизнь. В 1835 году, когда на месте сражения под Кульмом был заложен памятник русской гвардии, Ермолову, как и жившему за границей Остерману, был пожалован орден Святого Андрея Первозванного — высшая награда империи[86].
«Государь во время посещений своих Москвы осыпал его ласками», — вспоминал Погодин.
Великий князь Михаил Павлович называл его своим другом. Наследник Александр Николаевич с обширной свитой посещал дом Ермолова, выражая ему свое восхищение.
Алексей Петрович не мог не сознавать, что для наследника он — музейный экспонат. А император, демонстрируя свое благоволение, стремится разрушить его ореол опального героя.
Уничтожив Ермолова, сокрушив этого гордеца, Николай безжалостно играл с ним, стараясь извлечь пользу из своего демонстративного благородства.
Иногда он намекал Алексею Петровичу, что в случае войны его дарования могут пригодиться. Это было чистое лицемерие.
«Судьбы его, разумеется, навсегда окончены», — не без сожаления говорил великий князь Михаил Павлович, более простодушный, чем его старший брат, и сочувствующий былинному персонажу…
Его утешала успешная карьера трех старших сыновей: в конце концов, двое выслужат генеральские чины, а третий — гвардии полковника, и возобновившаяся с середины 1840-х годов активная переписка с Воронцовым, ставшим наместником Кавказа. Воронцову был ценен опыт Ермолова, а Алексей Петрович заново переживал свое кавказское время.
Он по-прежнему пожинал плоды своей былой славы.
Погодин вспоминал: «В табельные дни является он в собрании, на балах, ездит в театр, приверженные к нему русские люди, старые и молодые, оборачиваются всегда в ту сторону, где стоит Ермолов, опершись на верную свою саблю, и смотрят в задумчивости на белые его волоса, на львиную голову, стоящую твердо на исполинском туловище, и ищут в потускневших глазах его глубоко запавшие мысли».
Публика не ошибалась. Ему было о чем подумать кроме собственной судьбы.
В 1848 году взорвалась Европа. И он точно определил причины.
«Будущность готовит ужасные бедствия, и горе странам, где ослабевает уважение власти и в народе доверие к ней исчезает, дает место негодованию и справедливому ропоту!» Это из большого письма Воронцову весной 1848 года — по сути дела небольшому политическому трактату.
Для Франции он ждет повторение якобинского террора. Прусского короля презирает за предательство по отношению к своим солдатам.
«Каков король прусский, заставивший войска резаться под окнами его дворца, в котором сам прятался пьяный. <…> Не умел сесть на коня и быть при войсках. <…> Сам приобрел достойное наименование подлеца и труса!»
Он соотносит то, что происходит в Европе, с тем, что может произойти в Польше и на Кавказе…
Но самому Алексею Петровичу остается лишь смотреть на все это со стороны, «опираясь на верную саблю».
«Мне 71 год и я быстро старею…»
Горькое ощущение оконченности осмысленной жизни способствовало этому старению.
Он смирился, понимая, что ни лестные визиты наследника, ни «ласки» императора при публичных встречах ничего по существу не изменят в его судьбе.
Близко наблюдавший его с 1843 года Погодин подробно описал характер его повседневного быта:
«Он вставал в шесть часов и тотчас одевался, не зная никогда ни шлафрока, ни туфлей, ни спальных сапогов; надевал свой казинетовый сюртук (казинет — простая полушерстяная ткань. —
Он занимался, читал письма, принимал посетителей.
Обедал в три часа: щи, пирог, жаркое — вот и все. Любил вообще соленое. Если случалось ему иногда обедать где в гостях, в первые годы, и там нравилось какое-нибудь кушанье, он заказывал его у себя своему Мемеке (прозвище управляющего. —
Вечером пил чай, две чашки, с хлебом, и любил сидеть долго, за полночь смотреть игру в карты, оставляя гостей, пока Мемека, как Суворову Прошка, не напомнит ему, что пора спать.
Был очень бережлив, расчетлив, но не скуп; денег не любил иметь при себе. Издерживал в год не более трех тысяч руб. серебром. Из своих сбережений сохранил он порядочное наследство четырем своим сыновьям. <…> Ходить и гулять Ермолов никогда не любил, даже в деревне; любил переплетать книги, в чем и успел отлично».
(Мы говорили о трех сыновьях Алексея Петровича, ибо Петр рано погиб. Но Погодин имеет в виду «воспитанника» Ермолова, его сына от экономки, родившегося уже в Москве. Алексей Петрович дал ему образование, и Николай, окончив Михайловское артиллерийское училище, дослужился до генеральского чина.)
Сохранилось несколько свидетельств, вполне достоверных, о Ермолове последних лет жизни. Из них, естественно, наиболее ценны воспоминания историков, сознававших всю важность сообщаемых ими сведений.
В 1844 году знакомец Ермолова генерал Годеин представил Алексею Петровичу Погодина, известного уже историка.
Ермолов жил еще в своем одноэтажном деревянном доме.
«Мы вошли, — вспоминал Погодин, — в низенькую комнату, оклеенную желтыми обоями; на голых стенах не висело ничего, кроме медальонов графа Толстого, изображающих сражения двенадцатого года. Насупротив находился портрет старика в Екатерининском мундире. Это был отец Алексея Петровича — Петр Алексеевич Ермолов, правитель канцелярии у генерал-прокурора Самойлова. Перед небольшим оконцем стоял работный стол, за которым, в углу, на простом стуле сидел славный сподвижник 1812 года, один из победителей Наполеоновых. Голова у него была вся белая, глаза маленькие, соколиные, тело тучно. На нем был серый поношенный сюртук из казинета, жилет темного цвета был застегнут наглухо до шеи. На столе лежал носовой платок и очки. <…>
Разговор был чрезвычайно содержательный — Петр I, Кавказ.
В частности, Алексей Петрович сообщил вещь весьма любопытную: „Отпуская меня на Кавказ, Александр Павлович сказал мне: знаешь ли, Алексей Петрович, что я еще не решил, должна ли Россия удерживать владения свои за Кавказом“.
Это были отголоски сомнений 1801 года, когда Александр долго колебался, прежде чем подписал манифест о вхождении Грузии в состав империи.
И далее Алексей Петрович прокомментировал слова императора с чисто военной точки зрения: „России нечего опасаться за свои владения, пока соседями с той стороны остаются такие слабые народы, как персияне и турки. Но притаись где-нибудь англичане, доставь горцам артиллерию, научи их военному делу, и тогда нам будет надо укрепляться уже на Дону. Англичане стерегут нас не спуская глаз.
Я послал в Хиву Муравьева на свой страх и ответственность…“».
Это совсем не похоже на победительные настроения Ермолова кавказских времен, но ведь он и тогда говорил, что успехи русских войск могут прекратиться, если им будут противостоять объединившиеся горские народы. Что, собственно, и произошло в 1840-е годы.
Но главную опасность видел он в активном вмешательстве Англии.
Он не случайно тут же упомянул экспедицию Муравьева — эту очередную попытку подобраться к северным границам Индии, чтобы отвлечь англичан от персидских и кавказских дел…
Мысль его интенсивно работала, анализируя возможные варианты развития событий на Кавказе и в Азии.
26 декабря 1854 года Ермолова посетил Петр Иванович Бартенев, прославившийся впоследствии изданием «Русского архива». Петр Иванович умело направлял разговор, наводя Алексея Петровича на темы особо важные.
«Разумеется, разговор зашел и о Суворове. <…> У Ермолова лежат 4 фолианта копий с переписки Суворова с разными лицами, данные ему для прочтения. Упомянув о том, что во время своего пребывания в Петербурге после взятия Праги Суворов отлично принимал в Таврическом дворце Державина, я завязал разговор про наших поэтов и мало-помалу довел до Пушкина. Я весь был внимание, когда наконец зашла о нем речь. „Конечно, беседа его была занимательной?“ — „Очень, очень, очень!“ — отвечал с воодушевлением Алексей Петрович. Он виделся с ним в Орле, вскоре после отставки. Пушкин сам отыскал его. „Я принимал его со всем должным ему уважением“. О предмете своих разговоров с ним Ермолов не говорил (мы знаем о них от самого Пушкина. —
С фельдмаршалом Каменским Ермолов турецких крепостей не осаждал. Но он был легендой, а стало быть, в сознании младших современников должен был участвовать во всех сколько-нибудь значительных военных событиях…
Для Бартенева Ермолов был воплощением исторической героики России, и потому для Петра Ивановича было особенно интересно узнать отношение его к другой сфере общепризнанной русской славы — к литературе. И воодушевление Алексея Петровича при воспоминании о Пушкине и Лермонтове, о поэзии вообще, отнюдь не было эпизодом.
За два года до бартеневского визита у Ермолова побывал совсем молодой человек, который никак не мог управлять их беседой.
Это был племянник партизана Фигнера, столь любимого в свое время Ермоловым.
Аполлон Фигнер оставил бесхитростные, но чрезвычайно выразительные воспоминания. Они ценны еще и подробным описанием быта Ермолова.
«Швейцар провел меня по лестнице во второй этаж и, отворив вторую дверь, громко произнес мою фамилию. Я очутился в кабинете Ермолова.
Кабинет представлял продолговатую комнату, оклеенную зелеными обоями, с одним итальянским окном, к которому примыкал письменный стол. У левой стороны стола в большом круглом кресле сидела какая-то огромная масса с шапкою белых волос на голове. <…> Я сел в кресло, стоявшее у противоположной стороны стола, и передо мною вырисовался весь гигантский бюст Алексея Петровича. Бакенбарды его сливались с головными волосами и как бы служили продолжением их, а на лбу выделялся чуб. Среди этой массы совершенно белых волос резко очерчивались под носом короткие темно-каштановые усы. Нижняя губа полуотвисла, а рот почти постоянно был немного открыт. Из-под нависших бровей мелькали небольшие, серые, проницательные глаза. <…> Я часто обедал вдвоем с А. П. и нам во время обеда служили его люди, имена которых я и теперь припоминаю: Иван Прокофьев, Иван Филиппов, Никита Филиппов и Максим Максимович, постоянный денщик, метрдотель и управляющий А. П., 40 лет служивший при нем и нянчивший его детей (управляющего звали Кирилл Максимович, но Фигнера, очевидно, спутал известный лермонтовский персонаж. —
Обычно А. П. сидел в своем кабинете, в круглом старинном кресле, обитом сафьяном. На столе под рукой у него находился носовой платок и табакерка. Памятна для меня бронзовая фигурка Наполеона I (! —
Любопытно, как изменился антураж ермоловского быта — Пушкина он встретил в зеленом черкесском чекмене, на стенах кабинета висели шашки и кинжалы. Он еще душою был на Кавказе. Через четверть века — простой сюртук и никакого оружия…
В 1850-е годы главными составляющими окружавшего его пространства стали совсем иные символы — статуэтка Наполеона и бюст Александра, а на стенах исключительно изображения сражений, данных Наполеоном. Ясно, что с годами усиливалась его тяга к любимому врагу, чью азиатскую идею он сам мечтал реализовать во время оно.
Окружая себя приметами своей героической — докавказской! — молодости, он убеждал себя в значимости пройденного пути.
С Кавказом было связано слишком много горечи.
И есть в воспоминаниях Фигнера пассаж, полностью подтверждающий свидетельство Бартенева об отношении старого Ермолова к поэзии и литературе вообще.
«Я подметил в А. П. одну черту его духовной природы, которой не подозревал и которую не многие может быть замечали; эта черта — склонность к поэзии.
Я часто читал А. П. разные книги (в последние годы у Ермолова заметно ослабло зрение. —
— Вот, — говорил он мне однажды, — графиня Ростопчина написала мне стихи и сама же написала ответ мой, стихами же, а я в жизни не написал четырех стихов (Алексей Петрович хитрил — известны его стихи на случай. —
Затем А. П. просит меня прочесть что-нибудь из Оссиана в переводе прозой Кострова. Любимым местом А. П. из переводов Кострова была поэма „Картон“ и в ней описание, начинавшееся так: „О ты, катящееся над нами лучезарное светило, круглое, как щит отцов наших“».
Прошло полвека с тех пор, как Ермолов и Кутайсов в ночь перед Бородинской битвой читали друг другу вслух Оссиана.
Два молодых красавца-генерала готовились к смертельной схватке, и кровавый, но благородный пафос Оссиана делал наступающий день высоко осмысленным. Они включали себя в тысячелетнюю традицию воинской доблести. Им предстояла не просто битва за Россию, но великое испытание духа.
Теперь восьмидесятилетний Ермолов искал в песнях Оссиана созвучие своей тоске, своему горькому ощущению уходящей жизни.
Алексея Петровича привлекал явно не сюжет, но настроение этих переложенных торжественной прозой стихов.
Очевидно, ему доставляло горькое удовольствие сопоставлять свое нынешнее печальное положение — старость и слепота — с судьбой того, кто некогда вдохновлял их с Кутайсовым перед битвой…
Песни Оссиана стали одними из тех воспоминаний, которые давали ему возможность испытать хотя бы тень чувств, их тогда обуревавших.
Любое воспоминание о тех временах было для него драгоценно.
Встретившись на официальном приеме в Москве с Алексеем Орловым, он напомнил николаевскому фавориту, что их обоих, раненных в день Бородина, перевязывали в одной избе…
Ему хотелось максимально облагородить даже и свои несчастья павловского времени.
«Хотя А. П. отзывался иногда шутливо о некоторых странностях императора Павла Петровича, но никогда не позволял себе никакой горечи в своих выражениях, невзирая на двухлетнее нахождение под грозным следствием во время его царствования. А. П. говорил, что у покойного императора были великие черты и исторический характер его еще не определен у нас. „Это был мой благодетель и наставник“, — прибавлял А. П. Высидев год в Петропавловской крепости и выходя из заключения, А. П. вырезал на двери своего каземата слова: „Свободен от постоя“».
Как видим, три-четыре месяца заключения по первой версии со временем превратились в год. Хотя мы знаем, что это были несколько дней. И, разумеется, молодому узнику было не до вырезывания остроумных надписей на дверях каземата.
Миф разворачивался по своим законам…
«Когда я спросил, за что он называет императора, засадившего его в крепость, своим благодетелем, А. П. ответил:
— Если бы он не засадил меня в крепость, то я, может быть, давно уже не существовал и в настоящую минуту не беседовал бы с тобою. С моею бурною, кипучею натурою вряд ли мне удалось совладать с собою, если бы в ранней молодости мне не был дан жестокий урок. Во время моего заключения, когда я слышал над моею головою плескавшиеся невские волны, я научился размышлять. По закону природы здоровый и бодрый человек не может оставаться в пассивной недеятельности. Когда деятельность организма неподвижна, деятельность мысли усиливается. Впоследствии, во многих случаях моей жизни я пользовался этим тяжелым уроком и всегда с признательностью вспоминал императора Павла Петровича».
Можно сделать вывод — катастрофа 1798 года определила характер устремлений Алексея Петровича при его неограниченном честолюбии — не внутри системы, как у Михаила Орлова, Киселева, отчасти и Воронцова, лидеров тайных обществ, а вовне ее — так, чтобы не сталкиваться непосредственно с политическими интересами власти. «В Азии целые царства к нашим услугам…»
Отсюда и неудержимое стремление на Кавказ — подальше от Петербурга, где при его честолюбии и бурной натуре слишком много соблазнов…
Он прекрасно понимал, что мыслящие молодые генералы, воспринимающие себя спасителями России и Европы, могут претендовать на свою долю участия в определении судьбы России.
Он мог не знать, что Михаил Орлов и Дмитриев-Мамонов сразу по возвращении из Европы основали с далекоидущими намерениями «Союз русских рыцарей». Но с его умом, опытом и наблюдательностью Ермолов не мог не чувствовать наэлектризованность атмосферы. Как чувствовал и понимал ее Александр, разославший опасных честолюбцев во все концы России…
В воспоминаниях Фигнера есть немало ошибок, когда он говорит о вещах, свидетелем которых не был, и пересказывает чужие рассказы, но многие из сведений, им сообщаемых, несомненны, ибо он просто не мог их придумать.
Так, ответ Ермолова на вопрос его юного собеседника — почему он не обзавелся семейством, не только объясняет это конкретное обстоятельство, но дает представление о фундаментальных установках нашего героя:
«Положение военного человека весьма неопределенно, необеспеченно, находится в постоянной зависимости от случайностей. Боевое поприще, трудности и лишения в походах, ужасы войны, стоны и страдания на перевязочных пунктах, постоянное опасение за свою собственную жизнь, все это вместе не может способствовать врожденного человеку чувства нежности и сострадания; в его психическом строе происходит последовательно спартанское закаливание нервов и развивается эгоистическое чувство самосохранения. Мое психическое воспитание совершилось на полях кровавых сражений, столь многочисленных, во времена Суворова и Бонапарта <…>». «В нравственном смысле я солдат».
Запомним эту формулу.
В феврале 1855 года, когда дела в Крыму пошли совсем тяжело и стали, как в 1812 году, формироваться ополчения, то москвичи пожелали видеть командующим московским ополчением Ермолова. Он понимал, что это чисто символическая ситуация — он был стар и болен, но согласился. Восторг публики был неописуем. Николай скрепя сердце утвердил назначение.
Через короткое время Ермолов, сославшись на свой возраст, вышел в отставку…
Война была проиграна, и Ермолов с его боевым опытом и стратегическим мышлением понимал почему. В свое время и он, и Денис Давыдов, наблюдая происходящее в стране — в частности, кадровую политику Николая, подобные события предсказывали, Погодин, с ним много в это время беседовавший, вспоминал: «Нашу прошедшую европейскую политику он осуждал и повторял часто, что нам принадлежит Азия. <…> В Европе не дадут нам ни шагу без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам».
Именно тогда он и вывел эту чеканную формулу, согласно смыслу которой пытался действовать с 1817 года.
«Военная история и преимущественно история Наполеона, — писал Погодин, — была ему знакома, как нельзя более. Наполеон был его любимый герой. Другой — Петр Великий».
Наполеон мечтал создать гигантскую азиатскую империю.
Петр мечтал закрепиться на Каспии и двинуться вглубь Азии к Индии.
«К Пушкину А. П. питал восторженное чувство», — писал юный Фигнер.
Пушкин питал к Ермолову чувства более сложные, но Алексей Петрович остро его интересовал, ибо он сознавал масштаб и характерность этого гиганта для истории и судьбы империи.
В начале 1833 года, стало быть, через четыре года после личного свидания с Ермоловым, Пушкин набросал письмо к нему:
«Собирая памятники отечественной истории, напрасно ожидал я, чтобы вышло наконец описание Ваших Закавказских подвигов. До сих пор поход Наполеона затемняет и заглушает все — и только некоторые военные люди знают, что в то же самое время происходило на Востоке.
Обращаюсь к Вашему Высокопревосходительству с просьбою о деле для меня важном. Знаю, что Вы неохотно решитесь ее исполнить. Но Ваша слава принадлежит России, и Вы не вправе ее утаивать. Если в праздные часы занялись Вы славными воспоминаниями и составили записки о своих войнах, то прошу Вас удостоить меня чести быть Вашим издателем. Если ж Ваше равнодушие не допустило Вас сие исполнить, то прошу Вас дозволить мне быть Вашим историком, даровать мне краткие необходимейшие сведения, и etc».
Было два исторических персонажа, историю которых готов был писать Пушкин, — Петр и Ермолов.
Причем Пушкина интересуют в первую очередь Кавказ и Закавказье, хотя он не мог не знать о существовании записок Алексея Петровича о Наполеоновских войнах, которые широко ходили в списках.
Возможно, это объяснялось тем, что в то время было уже немало мемуаристов, стремившихся закрепить в исторической памяти наполеоновскую эпоху, а война на Кавказе была для русского общества «неизвестной войной».
Пушкин это прекрасно понимал и намеревался заполнить этот зияющий пробел сведениями, полученными от Ермолова. Ему ясно было и значение Кавказа в судьбе России, и роль Ермолова в судьбе Кавказа.
Письмо это отправлено, однако, не было. Планы Пушкина изменились.
Но Алексей Петрович — Пушкин об этом не знал — почти всю свою сознательную жизнь писал свою историю, так тесно и в то же время парадоксально совпадавшую с историей империи, его империи, которую он мечтал расширить безгранично в соответствии с безграничностью своего честолюбия…
Неизвестно точно, когда он начал вести дневник, потому что дневник в основном не сохранился. До нас дошли те его фрагменты, которые включены в материалы для биографии Ермолова, составленные Погодиным — низкий ему поклон!
Необыкновенно обильное эпистолярное наследство, оставленное Алексеем Петровичем, тоже не случайно — это своего рода летопись как собственной жизни, так и картина времени. И хотя он и просил иногда своих адресатов уничтожать его письма, он не мог не понимать, что многие из них сохранятся.
Но главным в сфере его бытия было — вслед за Цезарем — сочинение воспоминаний.
Записками как явлением он интересовался с юности — будучи адъютантом Самойлова, он читал полные записки Екатерины II.
Они с Погодиным часто беседовали об этом предмете. У Ермолова явно было обостренное чувство истории, усиленное тем, что он видел себя ее творцом. И когда он понял, что творить историю в тех масштабах, как было им задумано, ему не дадут, он стал творить ее пером.
Воспоминания о Наполеоновских войнах он писал с 1818 года и до последних недель жизни.
Погодин, как историк и патриот, был чрезвычайно заинтересован в том, чтобы Ермолов как можно подробнее и правдивее зафиксировал свое огромное знание.
А Ермолову необходимо было соотнести свою судьбу, свой «подвиг» с судьбой империи. Он творил свой оссиановский миф, где кровь и жестокость искупались высотой и благородством намерений. Он сам был мощным воплощением имперской идеи.
Погодин видел генерала, прославленного и воспетого. А Ермолов ощущал себя шевалье, рыцарем империи, служившим ей, как служит рыцарь даже неблагородной и неверной даме, даже вопреки ее неразумию и умственной ограниченности.
Погодину нужна была правда, а Ермолову — идея.
«Я часто заводил с Алексеем Петровичем разговор о его записках; он всегда говорил, что они будут в верных руках, и с ними не случится, что было с бумагами графа Толстого и других значительных лиц. Он принял свои меры.
Года за три перед его кончиной я застал его однажды поутру за переписыванием из одной толстой тетради, его же рукою написанной и во многих местах перечеркнутой, в другую. Я испугался про себя, подумав, что старик верно исправляет старую исповедь по новым своим видам и соображениям и что история потеряет несколько важных данных. <…> В записках важны именно горячие следы первого впечатления, и в сравнении с ними ничего не значат ошибки, легко исправимые. Нам нужно знать, что делал, видел, думал и как судил сам Ермолов, а о прочем узнаем и от других».
Погодин не понял, что Алексей Петрович тем именно и занимался, что отсекал все постороннее и стремился представить исключительно свое вйдение событий.
Он ставил перед собой, десятилетиями трудясь над своими тетрадями, вполне определенную задачу. Отсекая лишний камень, он вытесывал монумент своей великой неудаче. Он рассказывал о своих титанических усилиях, своем постоянном стремлении к «подвигу» и о том, как обстоятельства, воплощенные в конкретных людях, мешали ему совершить жизненный «подвиг» во всем его величии.
Тот же Погодин из долгих разговоров с ним стал понимать масштаб его истинных замыслов: «Он <…> образовал и приготовил Суворовское войско, готовое идти хоть в преисподнюю по гласу любимого начальника, и бросал русско-Петровские взоры на Турцию, Персию, Бухару, Хиву, Индию…»
Записки и книги — более семи тысяч томов — вот что было главное в его жизни, после того как устроена оказалась судьба сыновей.
Север стал, как и желал Ермолов, адъютантом московского генерал-губернатора Закревского и, соответственно, был при дряхлеющем отце. Старшие на Кавказе успешно продвигались в чинах.
«Библиотека его была отборная, — свидетельствует Погодин, — особенно, что касается до военного дела, до политики, и вообще новой истории. Он выписывал и получал тотчас все примечательное, преимущественно на французском языке. Значительная часть книг испещрена его примечаниями на полях».
(К сожалению, ермоловская библиотека, хранящаяся в фонде редких книг библиотеки Московского университета, до сих пор не описана.)
Он не только исправлял свои записки. До последних дней он жаждал слушателей.
Погодин: «Беседа его была очаровательна. Воспоминания, анекдоты, замечания, остроты лились потоком».
Тяжелый, неподвижный, он стремился максимально реализовать себя в слове — устном и письменном. Он жадно держался за эту возможность, ибо она хоть как-то компенсировала чувство неудачи…
Он чувствовал приближение конца, хотя и скрывал это. У него стало резко слабеть зрение.
«18 марта 1856 года. (Из записок С.)
Кабинетное окно завешано темно-синею материей. На глазах у Алексея Петровича шелковый зонтик. Я спросил о его здоровье. „Плохо, брат, отвечал он, вот с 14-го числа страдаю глазами“. Он сказал мне, что в глазах его предметы как-то странно двоятся. „Например, смотрю на тебя, а вижу двух Саш, у которых вместо головы обои и картины. Вот табакерка, я хочу взять ее, так непременно ищу ее здесь“, — и он показал пальцем вершка на три от табакерки. „Точно так же и карты все лезут одна на другую. Да, прибавил он, это уже le commencement de fin“[87]. При этом он улыбнулся. Я заметил ему это. Он отвечал, что с твердостью и шутливостью встретит свой конец. Мы продолжили разговор на ту же тему. Он все шутил. Говорил, что еще молод (79 л.), что предчувствует, что долго еще проживет на свете. „Нужно бы покончить кое-что“. Я сказал ему, что он может поручить окончание своих дел сыну. Он отвечал, что духовная его лет двадцать как уже сделана, но что есть еще другие дела».
Естественно, выстраивание и совершенствование мифа о себе и своих отношениях с империей и миром вообще он не мог поручить никому. Он все еще не был удовлетворен своими мемуарами.
А симптомы были тревожными.
Из записок того же С., который снабжал Погодина столь ценными материалами:
«Накануне с ним случилось маленькое происшествие. В продолжение получаса он не мог говорить с желаемым смыслом. „Мысль является, порядок изложения составлен, — стану говорить — выходит совсем другое. Не мог никак заставить повиноваться язык“».
(Сегодня это назвали бы грозным признаком усиливавшегося атеросклероза.)
«Он говорил, что память его еще свежа, хотя прежде была еще лучше. <…> Иногда забывает, что ему прочтешь. Если начинает рассказывать что-нибудь, то забывает название местностей, но минуты через три вспомнит».
Конец приближался.
Аполлон Фигнер: «При усилении болезни ему уже трудно было долго оставаться в кресле и он ложился. Но в промежутках, во время облегчения, опять садился в свое любимое кресло.
В один из этих дней я по обыкновению пришел осведомиться о его здоровье. На вопрос мой, как он себя чувствует, А. П. взял меня за руку и грустно склонив голову сказал:
— Теперь уж, брат, я совсем обабился.
Это была последняя из полушутливых фраз, слышанных мною от этой благородной и высокой личности».
Мы не знаем, как относился Алексей Петрович к бурному политическому процессу второй половины 1850-х годов — яростной борьбе вокруг проекта отмены крепостного права. Но сама идея Крестьянской реформы уже не вызывала у Ермолова столь резкого неприятия, как тридцать с лишним лет назад.
После отставки Воронцова в октябре 1854 года с поста кавказского наместника связи Алексея Петровича с Кавказом естественным образом ослабли.
Он следил за службой старших сыновей, переписывался с Бебутовым, но тот интенсивный обмен сведениями и соображениями, который был при Воронцове, закончился.
Последним ярким впечатлением, связанным с Кавказом, была встреча с Шамилем в Москве. Этот парадоксальный эпизод современники описывают очень по-разному, и мы не будем углубляться в этот сюжет.
Шамиль был пленен в 1859 году, отвезен в Петербург, а затем через Москву в Калугу.
Один из мемуаристов утверждает, что, увидев Ермолова, Шамиль бросился ему на шею.
Это маловероятно. Гордый и сдержанный Шамиль вряд ли способен был на такую импульсивность, а Ермолов вряд ли допустил бы подобные нежности.
Он все реже покидал свой дом. Если еще в 1854 году его видели сидящим в первом ряду рядом с генерал-губернатором Закревским на премьере пьесы Островского «Бедность не порок» — он был поклонником замечательного актера Прова Садовского, — то к концу 1850-х для него это было уже не под силу.
В 1859 году его посетил поэт и журналист Николай Берг и оставил скорбное описание внешности Алексея Петровича:
«В лице старого генерала, когда-то страшном и грозном <…> осталось очень мало напоминания о его прошлой воинственной красе: оно представляло соединение мясистых холмов, где нос, широкий и расплющенный, как нос льва, был главным возвышением. Большие губы складывались под ним как-то оригинально, сливаясь в одну массу. Все это было обрамлено белыми седыми бакенбардами, при дурно обритой и даже засыпанной табаком бороде. Брови сильно надвигались на маленькие глаза, имевшие в себе еще что-то пронзительное. Наконец сверху распространялся густой шалаш небрежно разбросанных по огромной голове белых волос. Все вместе в иные минуты необычайно напоминало льва».
Какой печальный контраст с описаниями Погодина и Бартенева.
Он говорил Фигнеру, что устал от такой жизни — между креслом и постелью.
Он, который без колебаний зажигал предместья городов, чтобы пламя пожара освещало цели для его батарей, который верхом вел в смертельную атаку на Курганную высоту своих солдат, который мог хладнокровно приказать вырезать поголовно многонаселенный аул, который бесстрастно вешал и прощал, перед которым трепетали персидские вельможи, — с тоской говорил теперь, что он «обабился»…
Он устал жить, но могучая жизненная сила, которая так поражала всех с ним соприкасавшихся во времена его расцвета, еще не совсем оставила его. И это было особенно мучительно.
Служивший у Ермолова на Кавказе Похвиснев со слов врача рассказывает, что однажды во время тяжелого приступа Алексей Петрович, схватив за руку врача, твердил: «Да ты понимаешь ли, мой друг, что я жить хочу, жить хочу!» Но это и было начало конца…
Аполлон Фигнер, наблюдавший Ермолова в последние недели, вспоминал: «Вскоре уже А. П. не мог сидеть в кресле и окончательно слег в постель. Страдания его постепенно увеличивались, но он и в эти минуты не хотел оставаться один. Его постоянно окружали сыновья и самые близкие к нему лица. Чтобы отвлечь внимание от своих страданий и рассеять висевшую в воздухе тоску, А. П. просил, чтобы при нем играли иногда в карты. К постели придвигали стол, и сыновья его играли в преферанс».
Наблюдать за карточной игрой было одним из любимых занятий Ермолова в редкие часы досуга в Тифлисе.
Он умирал от явной сердечной недостаточности, спровоцировавшей водянку, и резко прогрессировавшего атеросклероза.
Ермолов умер 11 апреля 1861 года в 11 часов 45 минут пополудни.
Как он и завещал, его похоронили в Орле — рядом с могилой отца.
Свой обширный архив, включающий массу документов, тщательно хранимых Алексеем Петровичем, он завещал своему племяннику Николаю Петровичу Ермолову как старшему в роде.
Активнейшую роль в сохранении и публикации ермоловского наследия сыграл Погодин, получивший доступ к архиву Алексея Петровича и настойчиво разыскивавший его бумаги вне семьи.
Через два года после его смерти Погодин выпустил основательное и чрезвычайно полезное издание — «Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его биографии».
Еще через год Николай Петрович Ермолов начал издание записок Алексея Петровича в двух томах с приложением обширного корпуса документов.
В 1867 году Погодин выпустил «Воспоминания об А. П. Ермолове».
Начиналась вторая жизнь «великого Ермолова», в которой ратоборствовали между собой два мифа — его собственный и миф, рожденный памятью о нем.
3 июня 1834 года Пушкин занес в дневник: «…Обедали мы у Вяземского: Жуковский, Давыдов и Киселев. Много говорили об его правлении в Валахии. Он, может, самый замечательный из наших государственных людей, не исключая Ермолова, великого шарлатана».
Павел Дмитриевич Киселев, один из тех молодых генералов александровских времен, которые мечтали изменить ход русской истории, после войны 1828–1829 годов командовал армией, оперирующей в Дунайских княжествах, и после окончания войны стал правителем этого русского протектората. Он произвел там ряд радикальных реформ и, в частности, существенно облегчил положение крестьян.
Он вернулся в Россию в 1834 году, одержимый своей старой мечтой об освобождении крестьян.
Состав обедавших был таков, что посягать на репутацию Ермолова не приходилось. Алексей Петрович был в приязненных отношениях с Вяземским. Жуковский воспевал его в стихах и уже во время опалы. О Денисе Давыдове говорить не приходится.
И если вчитаться в текст Пушкина, то ясно, что Ермолов, по мнению Пушкина, естественно включался в состав «замечательных <…> государственных людей». В 1834 году он был членом Государственного совета, и его политическая судьба была еще не ясна его почитателям.
Но если «замечательный государственный человек», то почему — «великий шарлатан»?
Очевидно, это реакция на то впечатление, которое Алексей Петрович произвел на Пушкина во время свидания в 1829 году. Кроме того, Пушкин интересовался Ермоловым, и ему было от кого почерпнуть сведения о нем и его натуре.
Слово «шарлатан» в словаре Даля объясняется так: «Обманщик, хвастун и надувала; кто морочит людей, пускает пыль в глаза…»
Разумеется, Пушкин не считал Ермолова обманщиком и надувалой. Он скорее имел в виду вторую часть. Демонстративная обходительность Алексея Петровича, «льющиеся потоком» воспоминания — о своей деятельности, — рассыпающиеся «полными горстями остроты», величественная повадка, умелая эксплуатация своей незаурядной внешности, сокрушительное обаяние, безотказно действовавшее на молодежь, — все это давало Пушкину право употребить столь обидное слово.
Неизвестно, знаком ли был Пушкин с записками о путешествии в Персию, широко ходившими по рукам. Но если был знаком, то у него не осталось бы сомнения, что «пускание пыли в глаза» было доведено Алексеем Петровичем до степени высокого дипломатического искусства. Потомок Чингисхана…
Однако заметим: «великий шарлатан» — «великий», а не мелкий фигляр!
Речь шла о несоответствии мира внутреннего — «замечательный государственный деятель» — и стиля поведения.
Нет ни малейших оснований считать столь часто цитируемую формулу Пушкина основой его оценки Ермолова…
Но и забывать об этом не приходится. Алексей Петрович действительно играл роль — роль великого человека. Он обозначил ту роль, которая была, по его убеждению, предназначена ему судьбой и сыграть которую всерьез ему не дали.
Великое деяние не состоялось. Остался великий театр…
Участвует в боях под Витебском (
Участвует в сражении при Тарутине (
Журнал посольства в Персию генерала А. П. Ермолова. Чтения в императорском обществе истории и древностей российских. 1863. Кн. 2.
История Московского университета. T. I. М., 1955.
Национальные окраины Российской империи. Становление и развитие системы управления. М., 1997.
Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. М., 2004.
Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. VI. Тифлис, 1870.
Акты кавказской археологической комиссии в 12-ти томах. T. VI. Ч. 1,2. Тифлис, 1866.
Материалы следственного дела «кружка Каховского» // Российский государственный архив древних актов. Ф. VII. Ед. хр. 3245, 3249,3250,3251.
Письма А. П. Ермолова А. В. Казадаеву. 1797–1813 гг. // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 325. Оп. Отчет Публичной библиотеки за 1893 г. § 14.
Формулярный список о службе и достоинстве Члена Государственного Совета, генерала от артиллерии Ермолова 1-го. За 1849-й год // Российский государственный архив древних актов. Ф. 1406 / Фонд А. П. Ермолова/Оп. 1.Д. 157. Л. 13–23 об.
А. П. Ермолов. Кавказские письма. 1816–1857 / Сост. и коммент. Г. Г. Лисицыной, Б. П. Миловидова, В. В. Лапина. Рукопись.
А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980.
Ермолов, Дибич и Паскевич (Переписка с императором Николаем и между собой) // Русская старина. 1872. Т. 5. № 5; Т. 6. № 7, 9.
1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991.
1812 год в воспоминаниях современников. М., 1995.
1812 год. Военные дневники. М., 1990.
1812 год в дневниках, записках, воспоминаниях современников // Материалы ученого архива Главного штаба. Вильно, 1900. Вып. I.
Бородино. Документы. Письма. Воспоминания. М., 1962.
Внешняя политика России: документы Министерства иностранных дел. Т. 14. М., 1985.
Генерал Багратион. Сборник документов. М., 1945.
Документы штаба М. И. Кутузова. 1805–1806. Вильнюс, 1951.
Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. 1769–1791. М., 1997.
Журнал военных действий императорской Российской армии против французов с 1806 по 1807 г. СПб., 1807.
Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981.
Письма А. П. Ермолова к князю П. И. Багратиону на походе 1812 года // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Кн. I. М., 1861.
Труды императорского Русского Военно-исторического общества. T. VI. Война 1812 г. СПб., 1912.
Фельдмаршал Кутузов. Документы. Дневники. Воспоминания. М., 1995.