Левон Григорян
Параджанов
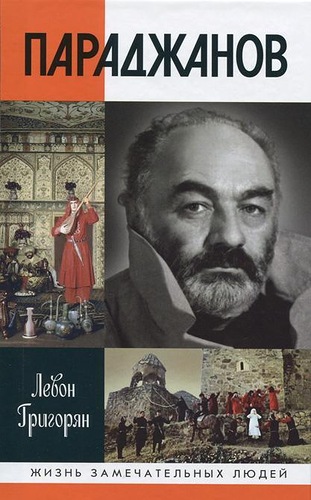
Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит…
Возможно, когда-нибудь и нам будут завидовать, как завидуют тем, кто был свидетелем великих исторических событий. Когда-то на корабле Колумба раздался крик: «Земля!» — и перед глазами мореплавателей впервые предстал огромный и таинственный континент. Еще живы те, кто помнит, как в громе и пламени поднялся в небо космический корабль, уносящий первого человека в черную и загадочную бездну Космоса. А свидетели того, как впервые прозвучали проникновенные слова Нагорной проповеди, не догадывались, какая великая энергетика заключена в этих словах, навсегда изменивших мир.
Звездные часы истории обладают чарующей магией, которая начинает свою ворожбу лишь впоследствии… Сами свидетели этих мгновений вряд ли горят желанием воскликнуть: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» Вот и мы, свидетели того, как спустился по флагштоку Кремлевского Дворца красный флаг советской империи, вряд ли осознавали в тот миг, какое грандиозное историческое событие произошло на наших глазах… Итог каких грандиозных усилий, деяний и свершений подводит этот знаменатель. И чт
Так в чем же дело? Неужели мы действительно так рвемся назад? Неужели мы снова хотим жить в тех политических и экономических реалиях, в которых жили наши отцы и деды? Весьма сомнительно… Новое поколение встретит в штыки всех, кто попробует вернуть «старый мир». А вот ностальгировать — это с удовольствием. Единственное объяснение этому — обольстительная магия имперской культуры, и случай этот далеко не последний.
Ушли в небытие властные фараоны, но мы по-прежнему с восторгом замираем перед пирамидами, не задумываясь, что политы они потом и кровью возводивших их людей.
Давно замолкли хриплые крики «Хлеба и зрелищ!», превратились в прах жестокие цезари с их сомнительными шоу, дарованными народу в монументальном Колизее. Но величие этого удивительного сооружения, вобравшего в себя и кровь гладиаторов, и кровь первохристиан, раздираемых хищными зверями, находит в наших душах странный компромисс.
Единственное объяснение этому феномену, столь неумолимо перечеркивающему этические законы, слова, сказанные еще в античности: «Искусство вечно — жизнь коротка»…
Да, магия красоты воистину всесильна! И оказывается сильнее всех законов жизни и ее норм. И заложена эта страсть в нас, наверное, еще с тех далеких первобытных времен, когда одетый в косматые шкуры человек, почувствовав странное томление души, стал украшать стены своей пещеры рисунками. Кроме огня, согревающего его, кроме охоты, дающей ему еду, он почувствовал необходимость — искусства! И одно из первых великих достижений мировой культуры начинается там — с рисунков, оставшихся на стенах пещер Альтамиры… Удивительный прыжок оленя, запечатленный на камне, дошел до нас и продлится еще века.
Давным-давно настал грозный последний день Помпеи, и давно уже раскопана и изучена она, но удивительный, чарующий танец на фресках виллы Боргезе дошел до третьего тысячелетия и будет еще завораживать и в четвертом, и в пятом тысячелетиях.
Давно уже потух первобытный огонь и замолк грозный рык вождя, повелевавшего своим племенем, жившим в пещерах на юге Франции, но мастерство художника, запечатлевшего свою страсть, по-прежнему волнует и заставляет замирать наши сердца.
Во все времена властители понимали, что эта страсть сильнее их владеет человеческой душой, потому и старались поставить себе на службу эту страсть. Пусть этот необъяснимый зов льет воду на их мельницу! Крутит жернова их власти!
Наверное, самый лучший пример этому — всем знакомые хрестоматийные слова: «Из всех искусств важнейшим для нас является кино». Слова эти были продиктованы, разумеется, сугубо прагматическими, деловыми целями. Главным была не любовь к искусству, важен был бухгалтерский расчет: какое из искусств является самым массовым и, значит, самым результативным по своему воздействию.
Вот мы и подошли к содержанию нашего повествования…
Да, действительно, сталинская империя придавала большое значение кино. Только имперский размах мог создать 15 национальных кинематографий! Товарищ Сталин был не только лучшим другом пионеров и физкультурников, но и отъявленным кинематографистом, первейшим и, прямо скажем, весьма способным продюсером, приложившим руку к созданию многих известных картин. Знал, когда нужна комедия, а когда — патетика, сколько выдать на экран любви и сколько героизма. Такой феномен мировой культуры, как советский многонациональный кинематограф, был создан его властью. Что и говорить, советское кино отмечено призами самых престижных фестивалей, тому много свидетельств. Но сохранились и другие свидетельства…
Какой стон слышен со страниц дневников Довженко и Тарковского, с записей Эйзенштейна. Как много замечательных, великолепных замыслов было загублено грубой «акушерской» рукой еще в чреве.
Впрочем, история советского кино — не наша тема. Сегодня наш рассказ о режиссере, пострадавшем от империи более всех и наказанном строже остальных. Как ни велика чаша горечи, испитая и Эйзенштейном, и Тарковским, и многими другими режиссерами, их, во всяком случае, миновала тюремная камера.
А Параджанову — ибо именно он герой нашего рассказа — досталось как никому. Его присудили к пяти годам заключения в лагерях строгого режима на Украине, а в Грузии ему пришлось девять месяцев сидеть в тюрьме в ожидании приговора, и только ходатайство многих видных деятелей культуры помогло ему получить пять лет условно. Пятнадцать лет он был лишен возможности подойти к съемочной камере, ибо камера его зачастую ждала другая — тюремная.
Наш рассказ будет о его сложной и порой драматической судьбе, это рассказ о своеобразном Одиссее наших дней, прошедшем через разные страны, испытания и необыкновенные приключения.
Сразу возникают вопросы: почему, отчего, для чего нам нужен этот рассказ?
Потому, что из множества прекрасных режиссеров мира именно он включен в число десяти режиссеров, создавших, подобно Феллини, Бергману, Тарковскому, свой уникальный язык, на котором мог говорить только он. Оттого, что это, возможно, самый уникальный режиссер, одинаково свободно творивший в разных национальных культурах.
Его фильм «Тени забытых предков», удивительно передавший поэтические импульсы и особенности характера славянского этноса, стал одной из вершин украинского кино. Параджанов причислен к классикам этого кинематографа, и бюст его не случайно установлен на студии имени Довженко.
В Армении он причислен к классикам армянского кино. Его фильм «Цвет граната» стал наивысшим достижением армянской кинематографии. Музей Параджанова, открытый в Ереване, один из самых посещаемых.
В Грузии он снял фильм «Легенда о Сурамской крепости», удивительно точно передающий особенности грузинского характера, также ставший одним из лучших достижений грузинского кинематографа. И памятник ему украшает одну из площадей в центре Тбилиси.
И наконец, самым феноменальным является то, что он, художник, глубоко связанный с христианскими культурными традициями, в своей последней работе «Ашик-Кериб» столь же глубоко проник в сущность мусульманского менталитета и создал фильм, ставший событием исламской культуры. И лучшим памятником и подтверждением этому является то, что иранские режиссеры, собирающие в последнее время награды на лучших фестивалях, откровенно называют Параджанова своим духовным гуру и всегда с высоким уважением отзываются о нем. Образно говоря, они подтверждают, что «вышли из его шинели».
Все сказанное уже дает достаточное основание для рассказа об одном из самых интересных художников XX века — «герое того времени», оставившем яркий след в истории мирового кинематографа.
Но мы не ответили на последний вопрос: для чего?..
А для того, что при всей своей известности Параджанов и по сей день пребывает в терра инкогнито. За двадцать лет, прошедшие после его кончины, практически мало кто занимался серьезным исследованием его творчества. Многие ли знают, что он не только выдающийся режиссер, но и столь же интересный литератор, создавший свою поэтику, свой глубоко оригинальный стиль. Его книга «Исповедь» (Азбука, 2001), в которой впервые были собраны, проанализированы и расшифрованы его рукописи, стала сенсацией — открытием Параджанова как писателя.
Его рассказы, новеллы, сценарии и многие поэтические миниатюры явили целый мир, во многом столь же оригинальный и не похожий ни на что, сколь и его фильмы, имеющие свой уникальный стиль, свой язык, свое неподражаемое видение мира. Книга эта, изданная небольшим тиражом и разлетевшаяся в одночасье, давно стала раритетом. К сожалению, за прошедшие десять лет никто не попытался издать другие его новеллы и сценарии. Так и не дойдя в свое время до экрана, они и по сей день пребывают в неизвестности.
Образные и удивительно эмоциональные письма из заключения, изданные сначала в журнальном варианте, еще одно подтверждение его незаурядной литературной одаренности, но все остальные сокровища его эпистолярного жанра до сих пор так и не собраны и не расшифрованы.
На сегодняшний день, пожалуй, лучше всего исследована третья грань его разнообразной натуры — поиски в области пластики и оригинальных изобразительных решений. Выставки его коллажей много раз демонстрировались и в крупных европейских городах, и в Америке.
Неоднократно экспозиции его ассамбляжей и коллажей демонстрировались и в Москве. Изобразительные работы Параджанова сегодня привлекают коллекционеров, и цены на них стали резко возрастать. Вернейший показатель — появление разнообразных имитаций и всевозможных подделок под Параджанова. Коллаж в отличие от живописи подделать легко и торгаши этим весьма активно пользуются.
Если творчество Эйзенштейна давным-давно тщательно и академически, в лучшем смысле этого слова, исследовано, здесь в первую очередь надо вспомнить настоящую подвижническую работу Наума Клеймана, то Параджанову в этом вопросе не повезло. Внимательного исследователя он до сих пор ждет…
Финал его жизненного пути в 1990 году совпал со стартом нашей новой буржуазной революции, и имя Параджанова в выгодном ореоле «мученика режима» мгновенно стало торговым брендом. Начиная с «лихих девяностых» и по сей день этот привлекательный бренд активно используется. Чего только не связывают с его именем… И фонды Параджанова, возникающие и исчезающие после завершения ряда «благотворительных» акций. И киностудия «Параджанофф-фильм», и медали его имени, и поощрительные стипендии, и выставки-продажи… Как говорится, всё на продажу!..
Данная работа не ставит серьезных исследовательских задач. Это должны делать специалисты со специальными научными навыками. Будем надеяться, что такие работы рано или поздно появятся. Историки искусства совершали еще не такие открытия, проникая даже через толщу веков.
Повод для этой книги другой…
Случилось так, что многие дни своей жизни я был рядом с Параджановым, начиная с премьеры «Теней далеких предков» и до финала его жизненного пути, когда в опаленный жарой полдень читал над его могилой прощальные телеграммы от Тонино Гуэрры и других выдающихся деятелей культуры.
Работал ассистентом на фильме «Цвет граната», неоднократно в разные годы гостил в его доме и был свидетелем долгих театрализованных пиршеств в замечательной творческой атмосфере. Одним из первых встретил его после возвращения из заключения. Снял четыре фильма, исследующих его творчество. Моя книга «Три цвета одной страсти», начатая при жизни Параджанова и представленная ему в черновике, была, по сути, первой попыткой расшифровать его «иероглифы», попытаться найти «код Параджанова» и объяснить его широкому зрителю.
В данной работе стоит совершенно иная задача… Не проникновение в тайны его языка (порой действительно сложного), а желание понять причины возникновения этого непростого, во многом закодированного языка. Найти тайные ключи и родники его творчества. Что подпитывало, что вдохновляло и воодушевляло его. Из каких целебных ключей он черпал свою поистине фантастическую энергию. Что хотел крикнуть, несмотря на зажатый рот. Наконец, какую божественную истину он узрел, если так ее хотел выразить! А без участия Бога истину узреть невозможно…
На сугубо научном языке это называется найти геном его творчества. Задача, прямо скажем, весьма сложная, трудновыполнимая. Эта работа, еще раз подчеркнем, не скрупулезная, точно выверенная научная диссертация.
Для нашего маршрута выбраны другие ориентиры — замечательные как в художественном, так и аналитическом плане биографические книги Стефана Цвейга, яркие, во многом театрализованные жизнеописания Эдварда Радзинского и образные, биографические путешествия Петра Вайля, собранные в книге «Гений места». Ибо место рождения и обитания художника очень многое определяет и в его судьбе, и в архитектонике его сознания.
Основная драматургия его душевных конфликтов, тонкие детали будущих психологических сюжетов закладываются с первыми в
Таким образом, определимся с временной и пространственной системой координат.
Время на часах нашего «героя того времени» отмерено сталинской империей… Он пришел в мир, когда она делала только первые шаги, и ушел с ее последними часами. Всю жизнь он чувствовал ее дыхание и слышал тяжелые шаги неотступно идущего по пятам командора. Их синергетика настолько взаимосвязана, что к этой теме мы вынуждены будем возвращаться снова и снова…
А теперь, подобно тому, как, включая программу Goougle «Планета Земля», мы видим в вечном мире звезд нашу планету и можем укрупнить ее и приблизиться к любому месту, уточним пространственную точку выбранного нами маршрута.
Все ближе и ближе точка, с которой все началось… И первое дыхание, и первые шаги, и первые открытия… И на стремительно набегающей планете Параджанова мы несемся к теплому городу, где слово «тбили», то есть теплый, дало ему название. Еще ближе, еще теплей… Уже горячо — мы в серных, обжигающих источниках Тбилиси! Здесь начало…
Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарей стон звенит…
Город этот не стоит у моря, не расположился на холмах и не раскинулся в долине. Город этот, заложенный на теплых ключах, родился в тесноватой, но уютной и живописной колыбели и поднялся амфитеатром по склонам крутого каменистого ущелья. И стены этого природного цирка надежно, как бы изначально определив его благоприятную судьбу, прикрыли от дальних холодных ветров, сохранив, как в ладонях, тепло его источников — ласкающую негу целебных ключей.
Нет в этом городе башни, где большие часы вели бы отсчет времени, но ход его — неостанавливающийся вечный ход времени, над которым не властны ни жара и стужа, ни приходящие и уходящие властители: шахи, цари, президенты, — чувствуется здесь постоянно. Ибо роль часов с неумолимым бегом времени приняла на себя река, ставшая живым участником всех городских событий.
На этой реке принято было устраивать праздники, в эту реку стекались ручейки крови, обильно пролитой многочисленными мусульманскими набегами, эхом отражались от ее вод бурные политические страсти, кипевшие как в нашем веке, так и в минувших столетиях…
Кура, а именно так называется эта река, переступает здесь обычные речные функции. Будучи не судоходной, она долгие годы была кормилицей города: рыбак, закидывающий сети, был частью обычного городского пейзажа.
Кура была вдохновителем множества песен, стихов и пиров. Не случайно самые важные торжества когда-то отмечались на плотах, и эти проплывающие праздники тоже были частью городской жизни, символично подчеркивая бренность человеческого бытия.
В какое из мгновений ее вечного бега родился герой нашего повествования, и был ли этот миг чем-то отличен от других? Конечно же нет, да и установить или остановить это мгновение невозможно и не нужно.
Знает его, наверное, только Кура, помнящая тот миг, когда в доме Овсепа (Иосифа) Параджанова раздался первый крик младенца, пришедшего поразить мир многими своими деяниями. Но кто определил в тот миг рождения его будущую судьбу, даровав ему столь многие приключения и испытания, достойные Одиссея, мы не узнаем никогда.
Возможно, это был древний языческий армянский бог судьбы Грох, в переводе — Писатель! Судьба по-армянски «чакатагир», в переводе — лобная надпись, и наносит ее в миг рождения именно Писатель-Грох, и это тайное клеймо остается на лбу человека уже навсегда, определяя все его пути и дороги, взлеты и падения, радость и беду…
Воистину не случайно было сказано: «В начале было слово…»
Так неисповедимо переплетаются великие языческие и христианские прозрения, особо выделяя сакральное значение Слова… «…И Слово было от Бога…»
Через город этот не только река протекает, но и проходят многие караванные пути, и самым известным, конечно, является Великий Шелковый путь, соединявший Европу с Азией и очень многое определивший и в судьбе города, и в судьбе его обитателей.
Со всеми континентами просто, все имеют границы, кроме Европы и Азии… Даже школьник укажет на глобусе четкие очертания Африки и Австралии, Северной и Южной Америки. Но как обозначить границу между Европой и Азией?
Словно два страстных любовника, сплели они свои объятия, проникнув каждый в глубь другого. Как вбить клин между ними, как разорвать это любовно-вражеское сплетение? Одни считают, что границы Европы начинаются от Урала, другие полагают, что Великая Степь, или Дикое Поле, простирается до самой гряды Карпат, и Азия именно тут завершает свой долгий бег…
И только здесь, в узко зажатом пространстве между Черным и Каспийским морями, возникает определенность. Слева — Европа, справа — Азия. Одно из морей исторически принадлежит Европе, другое так же неоспоримо блещет азиатской лазурью. И как плод этого вечного противостояния и вечной любви-ненависти в самом центре горного края, вбитого, словно клин, между континентами, стоит город Тифлис, Тбилиси, где родился герой нашего повествования.
Город, возникший в узком лоне ущелья, принял семя двух разных континентов, влившихся в звонкую горную чашу, в которой бродит чарующий и смутный хмель евразизма. Здесь нет отторжения разных культур, нет векового спора между западниками и восточниками, здесь одинаково чудесно звучит и русский романс, и персидский напев. И скрипка, и кяманча одинаково властвуют над сердцами, наполняя их негой и страстью.
Город этот армяне, во времена Российской империи составлявшие большинство населения, именуют на своем наречии — Тифлисом, а грузины — Тбилиси, поскольку он был заложен Вахтангом Горгосалом, основавшим его у теплых (тбили) ключей.
Но поскольку у города этого есть свой заветный код, свой многое означающий пароль, стоило бы найти еще одно название…
Истинная сущность этого города, его основной нерв, характер и не остывающая страсть — это тамаша, то есть зрелище… И стоило бы его назвать Тамашакали, Тамашаван, Тамашабад… То есть — Зрелищеград! В самой архитектонике города, поднявшегося амфитеатром над рекой, есть момент непрерывающегося здесь никогда театрального зрелища. Его красивые резные балконы — по сути, удобные ложи, откуда всегда можно обозревать захватывающее уличное действо. Дворы — многоэтажные ярусы, а жизнь, этот всемогущий драматург и режиссер, разыгрывает самые темпераментные спектакли в замкнутой арене этих дворов, перебрасывая порой действие на сами ярусы и галереи окруживших его внутренних балконов.
Вы родились в Тифлисе, вы — тбилисец, вы живете в Зрелищеграде? Тогда выше голову, шире плечи, смените усталый шаг на горделивую легкую поступь — на вас смотрят со всех сторон, вы предмет внимания сотен глаз.
Очарование этого неожиданного, сумбурного, ни на что не похожего евразийского города в том, что театральное действие и острое желание смотреть и самому участвовать в зрелище-тамаше не стихает никогда. Расположенный у целительных источников, так эффективно омолаживающих тело, город в свою очередь омолаживает и взбадривает душу, насыщая ее желанием любить, наслаждаться и воспевать жизнь. Потому, осознавая силу этой живой воды, приникает к ней снова и снова…
Жизнелюбивых городов много, но редко где найдешь такую не остывающую страсть к зрелищу! Широко воспетая и признанная театральность Венеции — явление другого порядка: там скорее лукавство и тревожная мистика маски… Ощущение города на грани воды и суши, он то ли есть, то ли привиделся.
Там правит свой бал Фата-Моргана…
Здесь иной театр… Город, прочно стоящий на плодородной земле, любящий вкусно поесть, выпить, посплетничать, потешить душу выдумкой, забавой. Потому одно из любимых слов в его словаре — «масхара»… Означает оно поднять на смех, придумать что-то необычное, учудить…
Такой город не случайно возник на грани континентов, на перекрестке разных цивилизаций и разных торговых дорог. Здесь в первую очередь торговали, а не производили, отсюда желание выгодней представить свой товар ярким театрализованным способом. Говоря современным языком, умение пропиарить и прорекламировать свой товар здесь отшлифовывалось веками.
А ярмарка и театр — это побратимы… Незнакомец с индийским товаром встречался с незнакомцем с итальянским товаром, и каждый был волен в своем хвастовстве, не ограничен в своих возможностях. Мог уговаривать, прибегать к образным доводам, а в случае неудачи — скрыть свою досаду «масхарой».
Именно в таком городе родился и вырос герой нашего рассказа, открывая для себя шершавые стены грузинских крепостных башен, хранящих громкие возгласы рыцарских пиров. Прохладную задумчивость армянских храмов, воплотивших в себе печаль и силу. И лукавую негу восточных бань, где царит праздник и соблазн горячего тела.
Тбилиси был для Параджанова школой, университетом, духовной академией, и, чтобы понять сложную механику его души, мы еще не раз вернемся сюда.
А теперь самое время заглянуть в его анкетные данные…
Ищу человека…
Итак, Сергей Иосифович Параджанов родился 9 января 1924 года в городе Тбилиси, на улице Котэ Месхи, в доме 7. По национальности — армянин.
Родители: отец — Иосиф Параджанов, мать — Сирануш Бежанова. Мальчик был третьим ребенком в семье, старшие сестры — Аня и Рузанна.
31 мая 1942 года окончил русскую школу № 42. Учился плохо, об этом свидетельствуют выставленные оценки: алгебра — посредственно; геометрия — посредственно; тригонометрия — посредственно; естествознание — отлично; история — хорошо; география — посредственно; физика — посредственно; химия — хорошо; рисование — отлично.
Ну, что еще… Мтацминда, район, в котором он родился, один из старейших в городе. Для ориентира — это там, где на горе стоит телевизионная башня и расположен известный ресторан. К ресторану, выстроенному в стиле «сталинского классицизма», можно подняться на фуникулере, построенном еще при Российской империи. Местная достопримечательность. Вот, кажется, и все достоверные сведения, зато всевозможных легенд и баек тьма!
Говорят, что папа Параджанова сожительствовал с мамой Сталина и как-то за свой «ударный труд» получил 20 банок отличного орехового варенья (слегка засахарившегося).
Говорят, что закадычным другом детства Параджанова был сын Берии — Серго. Два Сергея воровали на правительственной даче розы и успешно продавали их на базаре, таким образом решая вопрос средств на кино и мороженое.
Говорят, что папе Параджанова принадлежал лучший в городе публичный дом, а за кассой сидела мама…
С каким блеском в глазах, как сочно, с подлинным актерским мастерством рассказываются эти байки. Порой складывается впечатление, что именно «байковеды» стали лучшими параджановедами. Во всяком случае, судя по фотографиям на всех выставках его коллажей, ретроспекциях фильмов и юбилеях, на сцену поднимается одна и та же «команда», хорошо сыгравшаяся «сборная». Лишних в этот «ближний круг» не берут…
Рассказов вокруг этого действительно большого художника набрался целый Эверест, и чем-то, кстати, эта ситуация напоминает историю «открытия» великой горы.
Уже были сделаны все величайшие географические открытия, прорыты Суэцкий и Панамский каналы, а о большой горе в центре Гималаев так и не было достоверных сведений. Долгое время за вершину принимали ложный пик и даже дали ему название — Гауризанкар.
Прошло время и, как и положено, все расставило на свои места. Открывать большую гору было не нужно, она существовала всегда и имела свое название — Джомолунгма — Мать Богов. Зато сегодня на ней толчется столько народу, желая приобщиться к славе известного места, что возникла новая проблема: Джомолунгма страшно засорена, на ней столько пустых банок, пластмассовых бутылок и прочего мусора, что организованы специальные экологические экспедиции по очистке территории.
Думается, что территория Параджанова тоже будет очищена от грязных слухов, намеков и клеветы.
А сейчас вернемся к немногим достоверным данным и попробуем понять, что они нам говорят. Вглядимся еще раз в школьные оценки.
Налицо явная склонность к гуманитарным наукам. К точным интерес посредственный. Зато явно выражена склонность к естествознанию, и вся дальнейшая жизнь Параджанова — подтверждение этому…
Его гуцулы в фильме «Тени забытых предков» поразили своей естественностью, это была не очередная имитация народной жизни, а подлинная жизнь с реальными героями. В его фильмах почти нет декораций, выстроенных в павильонах. Действие всегда происходит в настоящих горах, текут настоящие реки, шумят настоящие моря. В его исторических фильмах всегда естественные интерьеры: старинных монастырей, дворцов, караван-сараев, всегда настоящие деревенские дома с настоящей фактурой деревянных стен, естественность старинных кладбищ, пещерных жилищ и т. д.
И самое главное — жажда открытий естественных законов бытия. Во всех его лучших фильмах отчетливо проглядывает желание того, о чем так замечательно сказал Пастернак:
Во всем мне хочется дойти
до самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
В принципе все «параджановедение» укладывается в эти строчки, здесь все сказано о его фильмах, ибо эти слова могли быть девизом Параджанова.
Но мы, кажется, забегаем вперед — до авторских фильмов школьнику еще далеко. Сейчас лишь отметим, что единственное «отлично» он получил далеко не случайно и в желании «знать естество» — вся его страсть, вся его сущность: стремиться к открытию новых миров и уходить за новые горизонты. Страсть к естествознанию, знакомая, наверно, и Колумбу, и Одиссею.
И также, наверное, не случайно рядом с «отлично» за естествознание стоит «хорошо» за историю и химию. Большинство его фильмов именно исторические, а что касается химии, то «химичить» он тоже откровенно любил, и принимала эта любовь весьма изобретательные формы.
Говоря о способностях, обнаруженных в школьные годы, нельзя не вспомнить о безусловной музыкальной пластической одаренности. Об этом будем говорить отдельно. Сейчас только укажем на тот достоверный факт, что пропеть все партии из «Травиаты» или «Евгения Онегина» он мог запросто, и достоверные свидетельства этого мы еще приведем.
Теперь несколько слов о широко распространенной, кстати сначала им самим, байке, что единственной книгой в его доме был «Мойдодыр».
Вот здесь мэтр явно «химичит», но, поскольку эта байка давно взята на «вооружение», попробуем внести ясность в имеющиеся у нас анкетные данные.
Параджанову удалось осуществить то, о чем, наверное, мечтает каждый ребенок, — реализовать наяву любимую детскую сказку. И этой сказкой, которую ему прочитала мать, когда, заболев, он лежал дома, был «Ашик-Кериб» Лермонтова. Простуда прошла скоро, но заболел он этой сказкой надолго, на всю жизнь. Сказка о бездомном бродячем певце-ашуге настолько запала в душу, что спустя долгие годы он, осуществив мечту, экранизировал ее. Запало в душу и другое детское открытие — поэма Лермонтова «Демон», и, спустя годы, Параджанов написал замечательный сценарий и мечтал об экранизации. Неосуществленным оказался также услышанный в детстве «Бахчисарайский фонтан», по мотивам которого он написал еще один замечательный сценарий — «Дремлющий дворец». Так что слухи о невежестве его детских лет, как говорится, сильно преувеличены.
А вот еще несколько свидетельств.
О чем пишет заключенный в лагере строгого режима Губник в письме своему другу режиссеру Роману Балаяну: «Рома! Прочти, пожалуйста, Корнея Чуковского третий том — Оскар Уайльд, — ты все поймешь. Прочти два раза и дай прочесть Светлане. Это просто страшно — аналогия во всем…»
В данном случае речь идет не о детском поэте, авторе «Мойдодыра», а о другой стороне деятельности Чуковского — замечательного литературоведа, создавшего глубокое исследование об Оскаре Уайльде.
Арестант, восхищающийся литературоведческой работой… Тут есть о чем подумать…
В этом же письме он дает советы Балаяну по поводу его экранизации чеховской «Каштанки»: «…Не торопиться разыграть сюжет, а создать настроение „Анкор, еще анкор“ (речь идет об известной картине П. А. Федотова. — Л. Г.). Настроение Тулуза-Лотрека… Город, империя, импрессионизм, газовый свет, настроение людей и животных — все это потрясает».
А спустя несколько месяцев Параджанов пишет в письме жене Светлане: «Надо Суренчику (сын. — Л. Г.) прочесть: 1) Толстая — „Детство Лермонтова“. 2) „Подвиг Магеллана“ — Стефана Цвейга. Тебе надо прочесть: Чуковский К. — глава Оскар Уайльд».
Это не просто советы по художественной литературе. Речь идет об интеллектуальных, исследовательских произведениях. Таких доказательств можно привести огромное количество. В его тюремных письмах упоминаются Достоевский, Гоголь, мечта экранизировать Радищева и многое другое… В данном случае цитаты из писем выбраны для того, чтобы подчеркнуть и не остывающий интерес к Лермонтову, и сохранившийся даже в тюрьме интерес к естествознанию, к «зову Магеллана», «зову Улисса», отразившийся в обращении к античной тематике. А вот почему он «химичил», почему намеренно выставлял себя малограмотным, ничего не читающим невеждой, уже отдельная тема, об этом мы будем говорить ниже.
Прерывая — ненадолго — рассказ о доме и семье, скажем только, что его сестра Рузанна предпочла техническое направление и стала серьезным и известным специалистом в области исследования космоса. Работала в городе Королеве над созданием ракетного топлива. Еще одна «братская» перекличка с хорошими оценками по химии и естествознанию. Полагаю, не случайная… И брата и сестру всю жизнь влекли таинственные дали.
Таким образом, домыслы о том, что Параджанов рос в мещанской, обывательской семье, озабоченной только материальными проблемами, мягко говоря, неверны. А теперь пора вспомнить, что основная его учеба происходила не в школе № 42… Личность его сформировала аура города, в котором он рос и в котором делал первые открытия. Об этом, право, стоит говорить подробнее…
Аура (греч., дуновение ветерка) — особое состояние, предшествующее приступам эпилепсии, мигрени и др., имеющее различные проявления: чувства онемения, обдувания ветром, звона в ушах и т. д.
Словарь иностранных слов
Одна из любимых традиций города, в котором рос Параджанов, это поднять на рассвете еще сонного, удивленно хлопающего глазами гостя и повести его кушать — хаш… Впрочем, нет, хаш не кушают, его вкушают, и этот процесс превращен в священнодействие, строгий ритуал с вековыми правилами. Что же это за странный обычай и что скрывается за ним?
Хаш, наверное, самая грубая, варварская еда, но она же и еда для гурманов. Нет ничего примитивнее хаша. Это — всего лишь варево из говяжьих копыт, заправленное солью и неимоверным количеством чеснока. Но хаш — это и мерцание золотистого острого бульона, это янтарный суп, в котором плавают кусочки мяса, нежнее кожи ребенка. Гость будет вместе с хозяевами раздирать белую мякоть лаваша, глотать огненную синеву чачи и запивать ее резко пахнущим чесноком супом и, ощутив жар выглянувшего солнца в своем желудке, останется на всю жизнь благодарен. Ибо в это утро и в этот миг он поймает и ощутит ауру — дуновение ветерка, предшествующее истерии.
Хаш варится в больших котлах всю ночь. Мосластые жесткие копыта, способные нести всю тяжесть огромного быка, трансформируются под утро в другую субстанцию. Мясо отделяется от костей и превращается в нечто иное.
Это «нечто» можно не жевать, а пропускать сквозь зубы, это «перевоплотившееся» мясо можно просто глотать, как золотистый нектар, волнующий и возбуждающий, подобно ауре хмельного рассвета, встающего над городом.
Хаш!.. Самая грубая, самая нежная, самая опьяняющая еда. В его корне армянское слово «хашел» — варить, но еда эта, с небольшой разницей в ритуалах и рецептах приготовления, одинаково любима и грузинами и азербайджанцами.
И Параджанов на самом рассвете своей жизни приобщился к хашу. Этой странной еде, объединяющей в едином экстазе грузчиков и артистов, таксистов и педагогов, патрициев и плебеев, депутатов и избирателей. Самая демократичная, простая еда и в то же время изысканное блюдо для ценителей, для гурманов.
И мальчик, еще в отчем доме вкусивший хаш, возможно, именно тогда, на заре жизни, сделал одно из своих первых открытий. Ибо вкусом, открытым в детстве, был вкус трансформированного мяса!.. Преображенное на его глазах из грубого — в нежное, из варварского — в изысканное, из безобразного — в золотистый острый мед, вызывающий экстаз.
Так ли это состоялось или не так, мы никогда с точностью не определим. Но очевидно, что алгоритм трансформации, преображения, перевоплощения станет основным в его жизни и творчестве, и мы увидим это в дальнейшем нашем маршруте на множестве примеров и фактов. Сейчас же вспомним лишь его удивительное преображение из украинского кинематографиста в армянского кинорежиссера. Переход в творчестве от сугубо христианского кино («Сурамская крепость») к чисто исламскому («Ашик-Кериб»).
Этот редкий случай в истории искусства не может быть случайным. Ответ может быть только в фундаменте закладывающегося дома: какой камень лег в основу, какое из открытий детства поразило и прошло через всю жизнь.
Хаш — это первое и второе… Для супа он слишком плотен, ложкой его редко едят… Накрошив в тарелку побольше сухого лаваша, иногда едят просто руками… Грань между «первым» и «вторым» блюдом здесь не ощутима, как и во всяком перевоплощении.
Мы вспомним хаш, когда в его биографии дойдем до главной трансформации его жизни… До почти необъяснимого, загадочного, не поддающегося логике перевоплощения в творчестве, изменившего всю его жизнь.
Хаш! Еда детства… рассветное открытие. Эти парадоксы нам еще пригодятся…
Какая мука — искать нужное слово, какая радость, когда оно наконец вылетает, словно само зная свое значение. Вот так из уст великого поэта Хлебникова на заре авиации удивительно вылетело в наш язык слово — летчик. Не иностранное — пилотировать, а летать, не пилот, а летчик. Просто и гениально.
За многое низкий поклон Солженицыну и в том числе — за введенное в употребление удивительно емкое слово — образованщина. Все сказано про наше время.
Вечная слава Интернету!
Но вместе с его приходом в наш быт наступило глобальное неуважение к точности слова. Какая разница — пара ошибок…
Для чего эти сентенции? Для того, чтобы признаться в своей ошибке. Сознательной, надо сказать.
Говоря об атмосфере города, в котором рос Параджанов, я написал аура города, зная, что, открыв словарь, приведу точное его значение.
Здесь не было большого лукавства. Именно так для обозначения среды, атмосферы чаще всего используется нынче достаточно популярное слово — аура.
Но если мы хотим лучше представить, что он впитывал с детства, какая тайная энергетика подпитывала его, какие трудно объяснимые, но столь действенные флюиды оказали на него формирующее воздействие, то тогда нам нужна именно аура в своем точном значении.
Все знавшие Параджанова подтвердят, какая психическая энергетика, доводящая до «звона в ушах», исходила от него. Находиться в его обществе всегда было безумно интересно, но в то же время очень утомительно. Не будет преувеличением сказать, что от него шли волны, близкие к «перманентной истерии». Потому, независимо от возраста, в его обществе уставали все, рано или поздно «чувствуя онемение, обдувание ветром, звон в ушах».
Он часами безостановочно творил. Был одновременно и литератором, и художником. Как писатель рассказывал всевозможные сценарии, придумывал рассказы и новеллы, а руки в это время без конца рисовали, клеили коллажи из разбитой посуды, различной дешевой бижутерии.
Безусловно, это была сублимация… трансформация, преображение запертой энергии. Пятнадцать лет его не подпускали к съемочной камере, а тень камеры тюремной со зловещей решеткой следовала рядом. И, словно ощущая под ногами эту решетчатую тень, он ускорял шаг — успеть бы, успеть…
Все это так… Но по воспоминаниям свидетелей его учебы во ВГИКе и работе ассистентом на студии имени Довженко он и в молодости отличался неуемной энергией. Всегда возбужден, всегда чрезмерен. И потому, пытаясь разгадать код его уникальной личности, невольно приходишь к выводу, что его во многом определила атмосфера, точнее, аура города, в котором он рос.
Энергетика двух континентов, сошедшихся вплотную и слившихся в едином дыхании, не могла не оставить своего следа. Множество путешественников, приезжавших в Тбилиси в разные годы и по разному поводу, отмечали особый характер эмоциональной приподнятости, присущий этому городу.
Возможно, в этом один из его секретов. Давайте задумаемся: почему живет спокойно Берлин, забыв, как яростно крушил свою знаменитую стену. Москва неохотно вспоминает три экзальтированных дня исторического путча. Давно замолк гром барабанов на киевском майдане…
Но Тбилиси бурлит по-прежнему, и вот уже который год состояние, близкое к истерии, охватывает здесь всех снова и снова.
Подбирая ключи к коду Параджанова, обратимся к серным ключам этого города.
Не торопись ступать на этот склон,
Чтоб к запаху привыкло обонянье;
Потом мешать уже не будет он…
При всем изобилии храмов: православных, католических, иудейских, мусульманских — истинными храмами этого города являются бани.
А подлинной, объединяющей всех «мессой» служит омовение — праздник горячего тела. Город, как было сказано, основали у обжигающих серных источников, вытекающих из самых недр земли.
Откуда они исходят? Не здесь ли врата Ада? Резкий, тяжелый, неприятный запах идет от тех серных вод. Он обдает вас даже в вагоне метро, когда с воем и грохотом он проносится через глубокие подземные недра, и жутковатое ощущение ада, который, возможно, где-то здесь, совсем рядом, выступит на вашей коже липким потом.
Впрочем, утешьтесь: если ад здесь, близко, то и рай в двух шагах. Для этого достаточно вступить под гулкие своды тбилисских бань. Восторженные отзывы от посещения их, близкие по экстазу к истерии ауры, оставили многие, но, пожалуй, лучше всех их описали Пушкин и Дюма. Что же здесь происходит? Какая литургия тут идет?
В тбилисских банях вас грубо и больно «насилуют», но здесь же умеют и удивительно нежно ласкать. Сперва на вас прыгает жилистый черный терщик. У него — острые, твердые, как копыта, пятки на мохнатых толстых — бычьих — ногах.
Он берет вас за шею и пригибает на каменное ложе, он ходит по вашей спине и бьет своими пятками-копытами по ребрам и позвонкам, и вы кричите от боли.
Но все это лишь начало, цветочки, ибо, выхватив жесткую ковровую рукавицу, терщик начинает сдирать с вас кожу, и теперь вам хочется кричать от стыда, так как вы и не подозревали, сколько вонючей черной грязи выходит из ваших пор.
Это — ад вне всякого сомнения, потому что вас душит горячий серный пар, пахнущий тухлыми яйцами, а неистовый, молчаливо приплясывающий терщик теперь деловито обмазывает вас отвратительной черной грязью, темнее и пакостнее всех ваших грехов. Вот оно — возмездие! Пришел час расплаты. Но — терпение: рай близко. Вот, бесцеремонно пригнув вашу голову, терщик низвергает на вас ведра воды. Она гремит в ушах, и кажется, что вас подхватит и унесет с мутными потоками, что льют с вашего тела.
Неужели вы и в самом деле были так грязны? Почему не подозревали об этом, когда мылись в домашней ванне лучшими ароматными шампунями?
И вдруг — наступает тишина. Ваш враг, ваш мучитель молчаливый, черный терщик касается вас нежно-нежно и даже не рукой, а пеной. Эта пена истекает из большого полотняного пузыря, ей нет конца и предела, она заполняет вас всего… Из вас сделали хаш. Трансформировали в «нечто», и ваша кожа теперь — нежна, розова и девственна, как у ребенка, и теперь вам хочется стонать не от боли, а от заполнившей вас ласковой неги. Наконец вы опускаетесь в мраморный бассейн с мягкой водой, окончательно превращающей вашу кожу в бархат, и благословляете этот миг, когда ад и рай сошлись так близко.
Бани — альфа и омега теплого города, его особенность, своеобразный гербовый знак. И Параджанов — герой нашего рассказа — рос в этом городе. Городе, поднявшемся на сере и чертовщине, без которой нельзя представить самого Параджанова. Он — сын этого города, его плоть и кровь. Вздумай кто рисовать портрет Тбилиси, тот горячий и лукавый дух, что живет в нем, ему следовало бы заглянуть в глаза Параджанова — в их непередаваемый, насмешливый блеск. В этом веселом, озорном, всегда улыбчивом сатире словно воплотилась вся удивительная энергетика этого города, вся его аура. Она тяжело дышит серой своих вод, но превращает кожу в шелк. Она кипит в паре, идущем из огромных котлов, в которых варят хаш и перевоплощают мясо в «нечто»… Она плачет в ястребином трио сазандари (восточные музыканты), умеющих своими толстыми кроваво-красными губами извлекать из дудука и зурны то томные, ласкающие сердце звуки, то разрывать его пронзительными и страстными стонами.
Параджанов — сама щедрость и алчность, доброта и жестокость, верность и коварство своего города. Он дарил дорогие подарки незнакомцам, но часто оказывался несправедлив к своим друзьям. Бывал и отзывчив, и неблагодарен. «Прелестен, но невыносим» — таким девизом он украсил выставку своих работ.
Добавим, что слова эти были сказаны человеком, хорошо знавшим Параджанова, — это слова его жены, испившей в полной мере его парадоксальный «коктейль»…
Мы еще вернемся в этот город и побродим по его улицам, как возвращался к нему снова и снова Параджанов. Но сейчас, коль уж мы забрели в банный квартал, вспомним, как показал бани сам Параджанов. Чем запомнились они ему… И что он рассказал о своих первых детских открытиях.
Прямая обязанность художника —
показывать, а не доказывать…
Потоки дождя низвергаются на острые купола Санаинского монастыря, духовной академии, поднявшейся в заповедной глуши армянских гор.
Ночь… Молния… Потоп…
А утром снова безмятежное пение птиц, улыбчивое солнце и горестные монахи, печально извлекающие из подвалов свои сокровища. Это книги!.. Сотни, тысячи бесценных манускриптов. Разложенные для просушки на крутых скатах крыш, напоминающих горные склоны, книги эти хранят чудо и тайну обретенного слова — великую и по сей день зовущую магию логоса… Порыв ветра шелестит страницами, перелистывает их.
И этот единственный звук, нарушивший тишину, дает ощущение ворожбы. Книги ожили. Всегда безмолвные, сейчас они обрели голос и, подставив себя солнцу, о чем-то вспоминают, мечтают, переговариваются…
Среди этого моря книг, а повторяющиеся один за другим скаты храмовых крыш рождают иллюзию набегающих волн, лежит, широко раскинув руки (распятие?), мальчик. Он тоже то ли вбирает солнечные лучи, то ли плывет, как щепка, в этом море с набегающими волнами книг. Задумчивый взгляд говорит, что сейчас он весь во власти этого таинственного шелеста, этого тайного зова, и, поднявшись, он переходит от одной из этих книжных волн к другой, раскрывает древние манускрипты, вглядывается в них…
Глубокие, сочные краски знаменитых армянских миниатюр. Киноварь, пурпур, густая синь. Черный, суровый камень армянских церквей, обступивший со всех сторон. Этот мальчик — Арутин Саядян, юный слушатель духовной академии, который станет прославленным поэтом Закавказья Саят-Новой, творящим удивительно легко и свободно на армянском, грузинском, азербайджанском языках. В его судьбе удивительно много биографических параллелей с Параджановым, снявшим свой фильм «Цвет граната» (первое название «Саят-Нова») об известном поэте.
Они оба родились в Тифлисе, прошли множество стран, изведали славу и царский гнев. Одного затем сослали в монастырь, другого — в «зону». И оба, изведав множество страстей, передали нам их краски: и страстные, и нежные, и тревожные.
Мальчик, схватившись за гремящую железную цепь, свисающую с купола, начинает раскачиваться, как маятник, и… оказывается в Тифлисе, где снова открывает краски окружающего мира.
Вот мастерская красильщиков: из густого пара извлекается огромный моток шерстяных ниток и, упав в таз, завораживает яркостью сочного пурпура, затем в таз падает другой огромный моток и дышит, клубится синим паром. Их перекличка с цветами, открытыми в древних манускриптах, очевидна.
А вот другая мастерская: здесь из этих ниток ткут столь знаменитые армянские ковры. И волшебство цвета превращается в колдовской узор орнамента. Мальчик, так же задумчиво вглядываясь в сделанное открытие цвета, теперь ищет звук! И пальцы его перебирают струны-нити коврового станка. И мы оказываемся в мастерской музыкальных инструментов.
Музыканты пробуют новые инструменты, они разные и разное богатство звуков льется на нас как водопад.
В этих кадрах предстает отчетливое стремление режиссера передать основы рождающегося творческого сознания будущего поэта.
Первые открытия мира он делает в храмах, библиотеках, мастерских… Только тогда, когда нить красоты сплетется в единый узор с нитью ремесла, возможно рождение великого искусства и великого поэта. Какое простое и в то же время ошеломляющее своей поэтичностью, образностью и точностью проникновение в генезис творчества!
Здесь на биографические черты героя фильма отчетливо накладывается автобиографическая проекция. В детстве, сбегая с высот Мтацминды по кривым улочкам на Хлебную площадь, где сейчас навек застыл в бронзе его прыжок, он, конечно, и подумать не мог, что когда-нибудь его скульптурное изображение украсит одну из самых старых площадей города.
А тогда, в детстве, здесь еще шумел старый ремесленный Тифлис с мастерскими и лавками красильщиков, ткачей, оружейников и музыкантов. Всю жизнь он мечтал снять автобиографический фильм «Исповедь», но успел показать свое детство только в «Цвете граната». Поразивший его детское воображение мир старых мастеров-варпетов — первое приобщение к красоте цвета и звука. Здесь шумел главный театр города — майдан.
Турецкое это слово одинаково прижилось и на Украине, и в Грузии. И основными актерами в этом колоритном театре его детства были кинто — мелкие предприниматели (пользуясь современной терминологией).
Здесь был караван-сарай, торговые ряды Манташева (Манташян), известного нефтепромышленника, одного из первых олигархов Российской империи. И сердцем этого района была так образно нареченная Хлебная площадь. Район назывался Харпух, что по-армянски означает «насморк»…
Столь оригинальное название этого старейшего района города пришло из Средневековья. Арабы, в отличие от турков так и не одолевшие Второй Рим, возвращались удрученно от стен непобежденного Констатинополя и на обратном пути в свои пустыни вдруг увидели в покоренной Грузии прекрасные румейские бани.
Немедленно был издан приказ разрушить непривычные бани до основания, но тут у начальника случилась неприятность — сильнейший насморк. Окунувшись в горячие воды и немедленно исцелившись, он сменил гнев на милость и решил сохранить этот ценнейший источник. Так, благодаря сильнейшему чиху начальника, и выжил этот самый колоритный район города, воплотивший в себе весь его дух, всю его ауру…
Но давайте проследим, куда дальше бежит мальчик, так полюбивший естествознание. Сейчас мы получим еще одно объяснение его единственной оценке «отлично»…
Рядом с Хлебной площадью располагается та самая «заразная» достопримечательность города, оставившая неизгладимый след и в душе мальчика Арутина, и в душе героя нашего рассказа, сумевшего так образно исповедаться о своей «болезни»… Взбежать на эти круглые купола ничего не стоит.
Мальчик на экране после Санаинского монастыря оказывается на другой кровле…
Здесь не аскетичные острые конструкции христианского храма, а круглые, чувственные купола, явно напоминающие по форме женские груди. Не холодные горные ветры их обдувают, а тепло горячего пара, идущего изнутри…
Это знаменитые серные бани, прошедшие через жизнь и Саят-Новы, и Параджанова хотя бы по той простой причине, что домашних ванн не было в детстве ни того ни другого. Весь город мылся в банях.
Задумав дать первый толчок сознанию через так образно раскрытый мир книг, Параджанов поднимает своего героя на новую крышу, с высоты которой он открывает новые горизонты прекрасного: сейчас перед ним не царство духа, а территория плоти, праздник горячего тела.
Заглянув в крохотное оконце, он видит розовую женскую грудь в тумане клубящегося пара. Одна из грудей символично прикрыта спиралью перламутрово-розовой раковины. Красавицу моют в мраморном бассейне, под грубой ковровой рукавицей тело ее сияет мраморной белизной. И мальчик в восторге и ужасе от сделанного открытия, от приобщения к еще одному чуду открываемого им мира…
После тайной литургии духа, представшей ему в загадочном зове шелестящих книжных страниц, он приобщается к еще одному таинству — манящему зову прекрасного тела.
И эта литургия — еще одна грань естествознания, она имеет свои законы и обряды, ибо именно в сосуде тела заключено вино духа. У него своя власть, своя ворожба…
Не в райских садах вкусил герой фильма грешную сладость яблока, с высокой крыши бани сделал он свое открытие.
Клубятся за тесным оконцем серные пары, густой запах горячего тела обдает и дурманит его. Мальчик в смятении откидывается на округлость купола, и стена за ним вдруг покрывается льющейся влагой.
На что намекает Параджанов? Что это — первое детское приобщение к острой, сладостной муке, к которой так или иначе приобщаются мальчики?
Коды Параджанова не всегда нуждаются в расшифровке. Их сила в поэтике неожиданно найденных образов. Они удивительно тактичны в своем легком намеке, но за ними всегда исследовательский интерес. И в данном случае нам ценно то, как Параджанов приоткрывает одну из тайных страниц своих детских воспоминаний, создает биографическую сагу о приобщении к запретному и сладостному плоду. Сплетает в единую нить биографию героя своего фильма и свои детские открытия, показав их на экране так откровенно и так поэтично.
Мы останавливаемся на этом эпизоде столь подробно, потому что через все свои фильмы он снова и снова будет воспевать яркие краски мира, воплощенные в двух параллелях — зове духа и зове плоти…
«Как идет к его одежде цвет коралловый тюрбана!
Он справляется о ценах гуланшарского майдана».
Гуланшаро — это портовый город, феерию которого развернул в удивительной красоте и фантазии Параджанов в своем фильме «Легенда о Сурамской крепости». Но до этого фильма, до этого очередного порта в его одиссее нам еще плыть и плыть…
А сейчас попробуем разобраться, откуда ему привиделся этот сказочный город, не отмеченный на картах, не похожий ни на Батуми, ни на Трапезунд, ни на какой-либо близлежащий порт.
При жизни не успел спросить, вот и осталась загадка, на которую долго не мог получить вразумительного ответа. Поиски привели к поэме Руставели «Витязь в тигровой шкуре» — здесь встречается это название.
Дальнейшее оказалось еще более интересным. Выяснилось, что так на Востоке когда-то давно называли Венецию… Можно теперь только гадать, случайно или весьма даже не случайно вернул из небытия Параджанов это название, что он этим хотел сказать. Ведь герои его фильма не едут в Венецию и не имеют никакого отношения к персонажам замечательной поэмы Руставели.
Об этом подробно поговорим, когда речь пойдет о «Легенде о Сурамской крепости». А сейчас о том, каким описывает Гуланшаро Руставели. Он возникает у него как щедрый, гостеприимный торговый город. Не напоминает ли он Тифлис?
Нет на картах страны детства, как нет ни на одной карте мира города Гуланшаро… Что же так поразило его память, что спустя годы он вызвал его из своих первых детских открытий?
Хотя наш «юный корнет» (вспомним его земляка Окуджаву) получил уже аттестат зрелости и хочет отправиться в дальние края, не будем пока спешить покинуть город его детства. Мы еще не прошли по всем его кривым переулкам, не преодолели все его крутые подъемы и спуски.
Итак: почему Гуланшаро и почему Параджанову понадобились ассоциации с Венецией? Венеция — это восточные ворота Апеннин, самый космополитичный город Италии, вобравший в себя и черты византийской культуры, и многое из культуры Востока. Город, ставший отдельным государством со своей культурой и своими традициями, во многом отличающимися от всего обширного наследия Римской империи.
Вот и в Российской империи были свои ворота на юг и восток. Весьма космополитичные как по характеру, так и по своему этносу города, ставшие своеобразными отдельными государствами в государстве если не по статусу, то по сути. Это Тифлис и Одесса. Недаром возникли такие этнические определения — одессит и тифлисец, носящие весьма определенный типаж и характер.
Потому пройдем еще раз маршрутом Петра Вайля. В уже упомянутой книге «Гений места» он совершает подробные экскурсы в историю описываемых городов с целью определить тот фундамент, на котором поднимается храм художника.
Как было уже сказано, основал Тбилиси царь Вахтанг Горгосал. Так поблизости от древней столицы Мцхеты стал расти новый город. Населять его стал торговый и ремесленный люд. Потянулось сюда и население Ани — разоренной к тому времени столицы Армении.
Братский, христианский народ Карталинского царства принимал их со всем грузинским гостеприимством. Связывало двух соседей не только единство по вере. Царская династия Багратидов, разделившись на две ветви (Багратуни в Армении), создала многие родственные корни и в Грузии.
Ани, население которого доходило до ста тысяч человек, был одним из крупнейших городов Востока. После турецкого завоевания он опустел навсегда… Разрушила этот город не огненная лава вулкана, а сметающая все на своем пути, подобно самуму, лава кочевников из пустынь Центральной Азии.
Оказавшись сегодня в Ани, вдыхая хрустальный горный воздух, в звенящей тишине которого звучит только эхо шагов в десятках разоренных храмов, можно представить, какая бурная жизнь кипела здесь, за мощными крепостными стенами, сохранившимися по сей день, как сохранились и многие другие шедевры архитектуры — величественный кафедральный собор, созданный гением зодчего Трдата, стены многочисленных караван-сараев, принимавших путешественников и купцов, следовавших по Великому Шелковому пути.
Не сохранилась только жизнь… Сегодня Ани — город призраков, и даже пастухи избегают его. Зато эта жизнь, словно огонек в заветной лампаде, перенесенная в теплый город Тбилиси, воспылала здесь вновь, передавая торговые традиции и секреты ремесла.
Разговор об Ани потребовался, чтобы подчеркнуть тот факт, что переселялось в Грузию из Армении в основном городское население. Гости, не вступая в конкуренцию с местным сельским населением, заняли нишу третьего сословия, — это были торговцы, ремесленники, мелкие буржуа, принесшие с собой особый дух и своеобразный колорит.
Крушение столицы армянских Багратидов и последовавший исход сыграли для самой Армении весьма драматическую роль. На родной земле осталось лишь крестьянское население, а в небольших провинциальных городах едва теплилась культурная жизнь. Уходили ведь не только в Грузию, уходили в Баку, Тегеран, Константинополь. Доходили до самых дальних стран, создавая армянские колонии по всему миру. Этот экспорт самого деятельного, энергичного генофонда во многом обескровил Армению, зато соседям эти энергичные иммигранты дали новый импульс, принеся в существующие здесь феодальные структуры городской деятельный дух третьего сословия.
Так в Тифлисе родилась особая прослойка — мокалаки со своим этносом, мелосом и многими другими этнографическими особенностями. Сюда пришли печаль армянского дудука и веселье кинтаури — танца городских ремесленников в широких шароварах, типичных только для Тифлиса. Мокалаки со своей любовью к острому слову, со своей предприимчивостью, энергией и жизнелюбием придали городу особый колорит, во многом похожий на тот, что принесло еврейское население в Одессу.
Вот таким образом возник на Кавказе своеобразный сухопутный «порто-франко», космополитичный Гуланшаро. Здесь вместо неожиданных изгибов каналов были сулившие такие же неожиданные встречи изгибы переулков. Любимым праздником был свой карнавал — Кейноба, свои любимые персонажи: вместо Коломбины — томная Кекел, а вместо неунывающего Арлекино — весельчак кинто.
Особый расцвет города начался в XIX веке, когда Российская империя надежно защитила город от набегов кочевников. Беспощадный поход Ага-Могамед хана, разорившего и сжегшего Тбилиси, показал, что город может постигнуть судьба уничтоженного Ани. Сближение с могучим русским соседом стало насущной необходимостью, и армяне горячо поддержали это сближение, помня свой горький опыт.
Географические и политические интересы здесь скрестились. И через этот евразийский перекресток Российская империя начала вдыхать пряный экзотический аромат Востока. Сюда съезжался цвет российского офицерства и интеллигенции, приезжали с гастролями итальянская опера и цирк, возводили свои костелы, кирхи и синагоги подданные разных империй: поляки, немцы, евреи, создавая свои кварталы.
На рубеже XIX и XX веков город, как и вся Россия, переживал настоящий экономический бум. Но вместе с экономическим ростом возник тогда и уникальный культурный прецедент — Серебряный век… Даже сегодня, на рубеже уже нового тысячелетия, в городе многое напоминает о былом цветении.
Именно эти следы, эти «тени забытых предков» воспел с такой ностальгией Параджанов в своем сценарии «Исповедь». Здесь и «продающийся прононс» мадам Жермен, и лилии в стиле модерн, отлитые из чугуна, и резные камеи и шляпки мадам Бауэр, и многие, многие приметы этого причудливого города, для которого он извлек из небытия странное название — Гуланшаро…
Себя Параджанов всегда называл тифлисским армянином, и отличие их от ереванских или бакинских армян весьма ощутимо. Живя по всему городу, они создали два особых армянских квартала на разных берегах Куры: Авлабар и Сололак.
Авлабар возник гораздо раньше, и населяли его в основном ремесленники и мастеровые. Сегодня уже нет многих профессий, исчезли ряды ювелиров, скорняков, ковроделов, но по-прежнему здесь лучшие слесари, мебельщики, часовщики, по-прежнему шьют отличную обувь и умеют обновить даже самые разбитые машины. При этом народ здесь живет простой, грубоватый, хорошими манерами не отличающийся и завоевавший когда-то, подобно Молдаванке, славу блатного квартала.
Полной противоположностью ему вырос в XIX веке Сололак, где жила крупная буржуазия: Сараджевы — основавшие винное и коньячное производство; Мирзоевы и Тамамшевы, владевшие серными банями; Манташевы, владевшие торговыми рядами и нефтепромыслами; Питоевы, построившие театральные здания. Эта космополитическая буржуазия принесла моду изменять фамилии. Следуя ей, Параджаняны стали Параджановыми.
Армянская буржуазия, обосновавшаяся в Баку и Тбилиси и ставшая одним из «локомотивов» экономического движения Российской империи на рубеже веков, сконцентрировала в своих руках 70 процентов всего торгово-промышленного капитала на Северном Кавказе и Закавказье. Они строили железные дороги и заводы, прокладывали первые нефтепроводы и в отличие от нынешней буржуазии не вывозили капитал, а возводили великолепные дома у себя на родине. Так в Сололаке, подобно особнякам Морозова и Рябушинского в Москве, возникли на рубеже веков свои прекрасные здания, до сих пор украшающие город.
Эпоха многонациональных мощных империй ушла в историю. Вместо этих гигантов осталась россыпь маленьких, бедных и недружелюбных мононациональных государств, безуспешно выясняющих отношения друг с другом. Когда после развала Английской империи такие племенные войны начались в Африке, это не особенно удивляло. Но сегодня уже на Европейском континенте идут такие же яростные племенные разборки и предъявляются счета давно канувших в прошлое лет.
Патриции, строившие когда-то великолепные виллы в Сололаке, давно исчезли. Выжили только трудяги Авлабара со своим особым колоритом.
Параджанов впитал в себя дух этих двух разных берегов Куры. Он был эстетом, чувствующим тончайшие нюансы культуры разных народов, но при этом любил есть руками и не отличался изысканностью манер. В его доме можно было встретить весь цвет интеллигенции, сюда приезжали Андрей Тарковский, Белла Ахмадулина, Юрий Любимов, Владимир Высоцкий, но здесь же зачастую бывали и многие короли блатного мира. Его руки были фантастически умелы, как руки авлабарского мастерового, а взгляд столь же цепок, практичен и лукав. Он умел делать всё: мастерил шляпы, которые дарил Ив Сен-Лорану и Франсуазе Саган, делал дивные куклы и одевал их в удивительные наряды, но в то же время сам одевался как мастеровой и любимой одеждой его была черная ремесленная блуза. В его фильмах можно встретить тонкий аристократизм Лукино Висконти и густой аромат восточных базаров, на самое дно которых он любил погружаться.
Он показал на экране свой Гуланшаро в калейдоскопической смене разных кадров. Магия калейдоскопа в том, что из обыкновенных кусочков разноцветного стекла складываются необыкновенные узоры.
Но от разбитого калейдоскопа остаются только стекляшки. Город, который никогда не был обозначен на картах, исчез, как мираж, осталась лишь память о чудном видении. Сегодня многонациональный город, умевший в своем веселом котле сплавлять в единую культуру традиции разных народов, давно ушел в небытие. Нет уже ни немецкого, ни польского, ни еврейского кварталов. Сололак давно уже не армянский квартал, да и Авлабар сжимается на глазах, как шагреневая кожа. Всё вернулось на зыбкие круги своя… И Тифлис снова теперь Тбилиси — скромная столица небольшого государства, озабоченного своей национальной идентичностью.
Гуланшаро, возникший из легенд далекого прошлого, опередил свой апеннинский прообраз и опустил свои улицы и храмы в воды моря забвения.
А существовал ли когда-то этот удивительный город? Возникший как заманчивый, очаровывающий мираж и исчезнувший затем как фата-моргана на долгом, вечном пути исхода…
…Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит…
Время и наступившее совершеннолетие торопят нашего героя в дальний путь.
Но прежде чем на долгие годы покинуть город, куда наш герой вернется после многих сражений, уже седым мужем в шрамах от тяжелых душевных ран, ибо вернется он сюда прямо из «зоны» в тяжелой робе зэка, прежде чем он, подобно Одиссею, вновь обретет свою Итаку, заглянем еще раз на улицу Котэ Месхи, 7, — в его отчий дом, попробуем исследовать его родовое древо и поговорить о его родителях, о которых почти ничего не сказали.
А что можно сказать? Вся информация о них сохранилась в основном в многочисленных байках, которые рассказывал сам Параджанов, и лились они у него как из ведра, вернее сказать, как из большой деревянной шайки, используемой и в домах для стирки, и в банях для омовения тела.
Кроме сценария «Исповеди», в котором он так страстно запечатлел в образной поэтической форме свои детские воспоминания, было еще одно творение…
Как и положено мифу, создано оно было в устной форме, и рассказывалось в этой бесконечной поэме о всевозможных приключениях, связанных с отчим домом и родителями. Даже песни Гомера кто-то записывал, а в наш век диктофонов записана лишь ничтожная часть удивительно красочных притч и сказаний Параджанова, в которых кроме содержания не меньшей ценностью было само авторское исполнение.
Вновь и вновь всплывают в памяти веселые лица гостей, волна за волной набегающих в его гостеприимный дом, всегда открытый для всех без различия чинов и званий. Набеги эти всегда носили (как и положено набегу) потребительский характер. Скучное и строго «вегетарианское» меню Теократической империи вызывало огромное желание скоромного. И здесь они получали остро наперченное мясо по полной программе. Понять гостей можно…
Зато не понять этого их потребительского отношения. Творчество Высоцкого и Окуджавы сохранилось в основном благодаря любительским магнитофонам. Сохранилось, как выяснилось впоследствии, и множество любительских съемок.
Пребывая всю жизнь в кинематографической среде, Параджанов практически не заснят на пленку. Только пара кадров донесла до нас его молодым, энергичным, удивительно красивым. Почему-то больше стали снимать его, когда он уже был смертельно болен и слаб. В этих километрах пленки, увековечивших его старость, лишь малая часть его истинного портрета.
Здесь он — уже не он…
Обратиться к устному творчеству Параджанова призывает нас не только его безусловная художественная ценность, но и желание извлечь хоть какую-то информацию. Как говорится, «сказка ложь, да в ней намек». Постараемся, насколько это возможно, отделить семена от плевел и разобраться в некоторых семейных преданиях.
Начнем с фамилии. Одна из рассказываемых им красочных легенд гласила, что когда-то его предки умели так замечательно шить паранджу, что свои художественно оформленные изделия поставляли прямо в гарем султана, то есть являлись, так сказать, поставщиками его султанского величества. Вот и была пожалована им такая фамилия.
Сомнительная версия, скажем сразу, хотя творил ее Параджанов достаточно вдохновенно. Опровергает ее другая версия.
Прибегнем к свидетельству известного режиссера Георгия Шенгелая, к счастью, успевшему ее записать.
«Большая компания у Параджанова в его доме. Грузинское светское общество.
Параджанов в своем репертуаре, рассказывает: „Фамилия Параджанов происходит от грузинского слова ‘пари’ (то есть щит). Мои предки защищали грузинского царя Ираклия. Отсюда и моя фамилия“.
Из соседней комнаты слышится голос матери Сергея, Сирануш: „Чего ты трепешься? Наша фамилия от армянского слова ‘пара’. Пара — по-армянски деньги“».
Здесь необходимо уточнение: пара, то есть деньги, это не армянское, а турецкое слово. В многоязычном Тифлисе было много заимствований. И все же и эта версия при серьезном анализе маловероятна.
Зато у ереванской родни Параджанова, в которой, кстати, тоже много одаренных людей, достаточно вспомнить его двоюродного брата народного артиста Армении Оника Параджаняна, замечательного музыканта, преподавателя консерватории, совсем иная версия: корень родового слова выводится из армянского слова «параджа», что означает сутана.
В русской версии ею фамилия звучала бы Сутанов. Это явное свидетельство того, что в их родовом древе были люди духовного звания, оставившие в своем служении духу видный след.
То есть Параджаняны были не поставщиками гарема и не корыстными служителями мамоны, а служителями духа, облаченными в сутану.
К чести Параджанова надо сказать, что он никогда не старался, как нынче модно, «примкнуть к графьям», выдать себя за потомственного аристократа, а, наоборот, всегда подчеркивал свое простое «мокалакское» происхождение.
В этой связи вспоминаются детали одной из встреч Бунина с Чеховым. Увидев метрику Чехова, где были указаны одни мещане, купцы, священники, Бунин был так удивлен, что даже попросил у Чехова переписать ее. Дав согласие, Чехов заметил: «Вас крестил генерал Сипягин, а вот меня купеческий брат Спиридон Титов. Слыхали такое название?»
Свое простое происхождение Параджанов, как и Чехов, никогда не скрывал, зато всячески подчеркивал, насколько колоритными людьми были его отец и мать.
Тут вспоминается один из его рассказов, и если артистический блеск исполнения, конечно, не удастся передать, постараемся воспроизвести хотя бы его образность.
Но сначала надо сказать следующее: Параджанов безукоризненно разбирался в антиквариате, мог точно определить вес бриллианта или сапфира прямо на владельце, бросив мимолетный взгляд. Подойдя к горке со старинной посудой, даже не открывая, сразу называл фабричную марку и страну изготовления: это Саксония, а это Веджвуд, с легкостью отличал фарфоровую статуэтку датского королевского завода от аналогичных изделий дрезденских и петербургских мастеров.
Он вырос не в замке, а в обыкновенном тифлисском дворе. И хотя дом его отца не был украшен фамильным гербом, настоящих предметов искусства прошло через него немало. Ими занимался отец Параджанова, имевший до революции антикварный магазин. Но передать фамильный промысел наследнику не удалось…
В империи поднималась новая аристократия в тяжелой солдатской шинели, строгие нравы которой роскошь отвергали.
На драгоценности в те годы надели шапку-невидимку. Они, весьма подешевев, присутствовали… но их не было видно. Бывший антиквар превратился, по сути, в старьевщика и теперь уже в своей «нэпмановской» лавочке терпеливо перепродавал предметы ширпотреба.
Но страсть осталась… Это была тяжелая страсть бывшего курильщика, с наслаждением вдыхающего дым чужой папиросы. Он прятал свою страсть как мог… Прятал от себя, от соседей, от властей… Но красота уникальных старинных изделий продолжала ворожить над ним, сжигала сердце.
Страсть коллекционера бывает подчас горячее любовной. У него дрожали руки, его обдавало жаром, когда в лавку попадала настоящая вещь, настоящая красота. Он продолжал искать и находить ее, понимая, что все это ни к чему, но ничего не мог поделать с собой.
И однажды… Однажды бойкий «наследник» рода, настоящий резвый тифлисский мальчик, услышал в ночь на Рождество какой-то странный шорох.
Отец тащил мать в ночной сорочке на чердак. Сгорая от любопытства, он бесшумно последовал за ними. Тут перед ним открылось необычное зрелище. Это был тайный праздник, ночная ворожба, камлание!.. При свете мерцающей в старинном канделябре свечи отец торопливо украшал мать драгоценными камнями, старинными кружевами и тканями (здесь рассказчик называл их точные названия… увы мы такими знаниями не располагаем). На глазах мальчика мать превращалась в елку (к тому времени запрещенную). Она восхищенно вскрикивала: «Иосиф! Что ты делаешь, Иосиф!..» А он с такими же страстными стонами надевал на нее серьги, сияющие диадемы и подвески. Мерцали в пляшущем пламени свечи рубины, сапфиры, изумруды. Плотно и душно, как приближающаяся гроза, все обволакивала надвигающаяся страсть. Наконец, швырнув на пол котиковую шубу, отец уложил на нее мать. Он брал ее грубо и неистово, как брали маркиз санкюлоты, как, тяжело сопя, насиловали княгинь буденновцы… Самое грубое плебейство слилось с патрицианской красотой. Это сочетались Авлабар и Сололак, жесткая ковровая рукавица сливалась с белой нежной кожей, омытой в серных водах… бычьи копыта преображались в золотистом нектаре в нежнейшее нечто… Это бурлило, как кипящий серный источник все вожделение, весь экстракт, бульон этого города с его лукавой чертовщиной, закованной в бесчисленные табу, города, где слово «хабарда!» — «берегись!» — сопряжено со словом «хабар!» — «новость!», точнее — «слух»… или «весть». Ибо первое слово, которым обмениваются здесь поутру, это — «хабар»…
Какие новости на рынке? Какие слухи о соседской дочке, берут ее замуж или нет? Что новенького придумала власть? Что она снова учудила?
Хабар — любимое лакомство этого города, оно слаще меда и орехового варенья. Сейчас, в ночи, хабар и хабарда были единым целым — «берегись новостей!»
Никто не должен разнести весть, что скромный старьевщик скрывает на чердаке пещеру Али-Бабы. Никто не должен передать слух о том, какая опасная красота смущает его душу. Никто не должен знать, что мирные обыватели украшают запрещенные елки и устраивают в рождественскую ночь чуть ли не шабаш. А в их отмытых серными водами телах пылают темные языческие страсти.
Судя по разным версиям этого одного из его любимых рассказов, события той ночи сильно приукрашены, а может, их не было вообще…
И все же, все же… В каждой шутке, как говорится, только доля шутки. А в каждой сказке: намек, толчок, запускающий невероятные фантазии. Читая автобиографический сценарий «Исповеди», на самом деле погружаешься в сказочный мир.
Чего тут только нет! И петух, несущий розовые яйца, и летающий шкаф, и смех, рожденный в золотой пыли. Мир сказок и всевозможных причуд, рожденных его фантазией, настолько его самого волновал, что скорее всего был для него реален.
Говоря о творчестве Параджанова, нельзя обойти молчанием его почти не сохранившееся устное творчество, которое можно восстановить лишь через своеобразные «археологические раскопки».
Вот один из таких замечательных «черепков», сохраненный благодаря воспоминаниям Тонино Гуэрры.
«Приходишь к Сергею на Котэ Месхи, не ожидая ничего особенного. А он вдруг тащит из дома — пойдем на похороны булыжников!..
Параджанов не мог усидеть дома, когда выравнивали асфальтом родную улицу, мощенную булыжниками. А как он рассказывал об этих камнях-стариках! Мы там стояли словно на похоронах дорогого человека».
Все эти свидетельства позволяют нам воссоздать ту мозаику, из которой складывалось детство художника, давая начало его парадоксальному творчеству.
Приведем еще фрагмент из рассказов самого Параджанова, сохранившийся благодаря записи Коры Церетели:
«В наш дом приходили прелестные вещи. Приходили и потом… исчезали. Столы и кресла, комоды в стиле рококо, античные камеи, вазы, восхитительные восточные ковры. В дом приходили и уходили разные эпохи и стили. Отец торговал антиквариатом. Детство мое прошло среди этих вещей. Я очень привязывался к ним и, чем больше взрослел, тем больше хотел общаться с ними как с живыми существами. По ночам я тайком подолгу разглядывал и ласкал дорогую восточную ткань с ручной вышивкой невероятной красоты, прощаясь с ней, так как назавтра она уходила от меня навсегда…
Режиссер, как ни абсурдно это покажется, „рождается“ в детстве. Проявление его первых наблюдений, первых, хотя и патологических чувств — все это детство. Позже все это только расширяется, варьируется… Детство — это склад бесценных сокровищ…»
А вот воспоминания Елены Луниной:
«Утром он просыпается и тут же говорит: ты знаешь, я всю ночь не спал, я плакал; я проиграл весь фильм, всю свою „Исповедь“. Он действительно стоял всю ночь у окна, проигрывая фильм, пропуская через себя эпизод за эпизодом. Ту исповедь, что я слышала тогда, никто и никогда больше не услышит…»
Покидая — теперь уже надолго — страну детства, постараемся все же найти в этом сценарии несколько документальных свидетельств. При всей «сказочности» его рассказов они имеются. Вот что записано в сценарии «Исповеди» по поводу той самой шубы, что становилась в его устных рассказах то горностаем, то шиншиллой. Будем считать самым достоверным это свидетельство:
«Крашеный французский выхухоль назывался котиком. Мой папа в 1920 году купил для мамы шубу-клеш у Сейланова, владельца табачной лавки».
А вот еще одно красноречивое воспоминание из его детства… Пролетарская империя, взявшая торговлю антиквариатом в свои мозолистые руки и сама вывозившая бесценную красоту за рубеж, пресекла крамольную страсть классово чуждого «нэпмана», и отец Параджанова оказался в тюрьме.
«За решеткой стоит человек, которого я упрекал. Он улыбается мне и высоко поднимает над головой лошадку. Печального коня моего детства…»
Эта лошадка, вылепленная их хлебного мякиша, преобразится в его фильмах и возникнет еще много раз.
Я больше не верю в привидения: я видел их слишком много…
Есть основания предполагать, что имя Сергей — это второе имя Параджанова. А первое имя, задуманное в родительском доме, было — Саргис… И оно мистическим образом сопровождало его на всем жизненном пути.
Во-первых, начало его жизни было напрямую связано с зимним праздником Сурп Саргиса, то есть святого Саргиса. При том что это сугубо армянский праздник, отмечают его в Тифлисе все… И православные грузины, и греки, и лютеране немцы, и католики поляки, и исповедующие мусульманство кавказские татары и даже язычники курды-езиды. Ибо весь этот город в зимние дни охвачен ветром, который так и называется — ветер святого Саргиса… Ветер этот, как правило, налетает на город с северо-запада, из Европы, и, побушевав, уходит на юго-восток, в Азию.
В этот праздник в городе наступают самые холодные и ветреные дни. Прячьте лицо, берегите нос, закрывайте плотнее двери. Штормовой ветер сотрясает тонкие стены домов, не рассчитанных на холод, и дома раскачиваются, как корабли, ибо все широкие балконы-ложи сейчас — паруса, наполненные ветром. Если ветер очень сильный, значит, праздник Сурп Саргиса дошел в этом году до гиж марта, то есть безумного марта. Это предвестие того, что весна будет особенно бурной…
Сам Параджанов оставил такое свидетельство о своем первом имени: «В марте моего детства над городом летел сорванный купол церкви Сурп Саргиса — святого, в честь которого меня хотели назвать…»
Запомним этот летящий купол, он еще вернется к нам в фильме «Цвет граната». Так же как впоследствии возникнет на экране в картине «Ашик-Кериб» и всадник на белом коне.
А теперь постараемся понять, кто же этот загадочный святой, сыгравший весьма существенную роль в его судьбе и творчестве.
До того как стать признанным святым, Саргис был военачальником, точнее стратилатом, в армии римского императора Константина Великого. Карьера его была успешной, однако жил он, по сути, как двуликий Янус, так как верой и правдой служил язычникам и многое сделал для империи, многими военными победами укрепил ее, но… в душе был христианином, ибо уже много лет, как на его родине, в Армении, было узаконено христианство. Подпольная религия вышла из катакомб, и волей царя Тиграна Армения стала первым христианским государством в мире.
Как видим, первое имя сыграло в судьбе Параджанова мистическую роль, ибо и ему пришлось долгие годы служить империи и носить маску Януса, пребывая в душе диссидентом.
Но вот, наконец, был издан знаменитый Миланский эдикт Константина, по которому отменялись гонения на христиан, отныне можно было стянуть с себя ненавистную маску, вдохнуть воздух свободы и во весь голос сказать о своей вере и своих убеждениях. Но счастье было недолгим…
Вслед за Константином на трон империи поднялся Юлиан Отступник, гонения возобновились с новой силой, и одним из первых пострадал за веру Саргис. Поступили с ним «по-христиански», то есть бросили на арену цирка на растерзание хищным зверям и потеху широким массам демоса, то есть народа.
Но не эта обыкновенная судьба обыкновенного мученика сделала его столь любимым народом. Когда в вихрях метели в город влетает всадник на белом коне, это означает не только скорый приход весны, но и наступление дня любви, ибо святой Саргис в недолгие дни своей свободной христианской жизни занимался тем, что благословлял и соединял любящие сердца.
Судьба святого Саргиса, канонизированного Армянской апостольской церковью, во многом схожа с судьбой святого Валентина, канонизированного католической церковью. Оба они осуществляли миссию любви, и оба за это заплатили своей жизнью. Но если в День святого Валентина принято обмениваться сентиментальными открытками в виде красных сердечек, то на суровых, каменистых плоскогорьях Армении возник иной обычай. Юноши и девушки получают накануне праздника сухую и достаточно жесткую соленую лепешку. Этот хлеб любви полагается съесть на ночь, и тот, кто во сне утолит твою жажду, кто поднесет желанную чашу с водой, — тот твоя Судьба!
Вот почему так ждут этот день… Со свирепым и безумным ветром любви приходит ночь гаданий, когда, вкусив соленый жесткий хлеб любви, ты заглядываешь в свое будущее, узнаешь волю святого Саргиса — с кем он соединит твое сердце и к кому ты прикипишь душой.
При всей мистичности этого полюбившегося обряда отметим, что он весьма детерминирован и близок к психоанализу Фрейда, ибо сухая, твердая, соленая лепешка как грубый заступ врывается в самые дебри подсознания. И из его глубин неожиданно выплывает тот, кто твоя истинная судьба, кто связан с тобой тайными, не поддающимися рассудку нитями, кто твоя истинная — жажда! И в чьей сладостной чаше твое утоление…
Печать первого имени, так четко сказавшаяся в легенде о Лилит — первой женщине, сотворенной из огня и врывающейся снова и снова в судьбы и характер всех наследниц Евы, созданной, в отличие от нее, из мягкой и послушной глины, удивительно прослеживается и в судьбе Параджанова.
Он был, наверное, самым громким диссидентом и, подобно Саргису, не хотел прятать свое лицо под маской. Он никогда не держал «кукиш в кармане», не прилипал ухом к транзисторным приемникам, из которых хрипло доносился «Голос Америки», никогда не был послушной глиной в чужих руках, а всегда пугающе и обжигающе смело говорил о своих взглядах, за что был дважды брошен в тюрьму. При этом в своем творчестве всегда был и оставался Певцом любви…
Его фильмы — будь то на украинском, армянском, грузинском или персидском материале — всегда сага о Любви! Вечный источник его вдохновения, вечная жажда, о которой он говорил снова и снова.
Но в его судьбе есть и иные следы подков коня святого Саргиса, так как в последних кадрах своего последнего фильма он призвал именно его, святого Саргиса — всадника на белом коне… Он чудом переносит героя картины, влюбленного поэта, через горы и моря, чтобы соединить его с возлюбленной, которую уже собирались насильно венчать. Именно она, Магуль Мегери, то есть Луна Любви, была утолением его жажды, она была предначертана ему… И завет этот должен был осуществиться!
Мы еще будем говорить об этом фильме подробно, сейчас же только отметим, что жизнь Параджанова началась под звон копыт коня покровителя влюбленных — святого Саргиса, и творческий путь он завершил, создав образ того, кто незримо пронес над ним его первое имя…
Что остается добавить? Покинул страну детства Параджанов зимой, точной даты его отъезда не сохранилось, но, как всегда, остался рассказ о полученном тулупе: «Министерство культуры Грузии выдало мне примус, валенки и сторожевой тулуп… Это была дань государства моей судьбе».
Конечно, все было проще: родители снабдили отбывающего в дальние края единственного сына всем, чем могли, и вместе с теплым тулупом в чемодане были и обязательная тогда «дорожная» курица, и десяток сваренных вкрутую яиц. Не останавливаясь на этих бытовых подробностях, отметим интересную деталь: первый раз в жизни покидая отчий дом, Сергей Параджанов взял курс на северо-запад. Там, далеко-далеко, уже вилась белая поземка, и получалось, что он ехал навстречу тому самому ветру Сурп Саргиса, свирепому Ветру любви, который несся ему в лицо в самой середине зимы еще военного 1945 года, через три года после окончания школы.
Спустя годы он напишет: «Я умер в детстве!»
…Скачу, на запад обратив свой взгляд,
Но очи чувств — на восток глядят.
Подведем итоги и еще раз взглянем в скупые биографические данные.
Итак, закончив школу в 1942 году и получив аттестат зрелости, Параджанов устраивается на работу на тбилисскую фабрику, которая до войны называлась «Советская игрушка», но и теперь, несмотря на перепрофилирование в связи с военным положением, имеет небольшой цех по производству игрушек. Времена были трудные, военные, а рабочие получали хлебные карточки. Вот и пошел Сергей «в люди»… Кстати, умение делать игрушки он в свои уже зрелые годы доведет до совершенства и страсть эта не оставит его никогда.
Летом 1942 года Гитлер отдал приказ о начале операции «Эдельвейс», выбрав главным стратегическим направлением Кавказ. Шла первая в истории война моторов, и немецкая военная машина двинулась сюда, чтобы одним махом вырубить моторы нашей армии. Напомним: 82 процента нефти тогда добывалось на Кавказе. Перед группой армий «А» была поставлена именно эта задача. Группа армий «Б» должна была согласно плану начать отвлекающий маневр и пошла к Сталинграду. На 6 сентября 1942 года Гитлер назначил парад в Баку.
Война была рядом, за снежными вершинами гор, и уже прилетали и кружили над городом немецкие разведывательные самолеты, а город был наглухо затемнен. В это время Параджанов делает первые шаги к получению высшего образования и, не оставляя работу на фабрике, поступает на вечерний факультет Тбилисского института железнодорожного транспорта. Учитывая явное отсутствие интереса к техническим наукам, решение странное… Параджанов настолько не любил цифры, что испытывал отвращение даже к телефону, потому, путаясь в наборе номеров, поручал это кому-нибудь из присутствующих. Это когда жил в гостиницах, а дома телефона не имел принципиально.
Промаявшись полгода в техническом братстве, Параджанов срочно его покинул. Возможно, такое недолгое затмение ума объяснялось полным затемнением в городе.
Стоит еще раз вспомнить, в какое тревожное время делал он свои первые шаги после окончания школы.
Во всей остроте снова стал вопрос «большой резни». К тому времени специальная альпинистская дивизия «Эдельвейс», отлично вооруженная и с отличными картами, уже оседлала главные перевалы Кавказского хребта и навела пулеметные прицелы на цветущие долины Грузии. Стоило первому же батальону двинуться вниз, как братская Турция, подогнавшая полтора миллиона аскяров к границе, начала бы марш на Тбилиси и Ереван, стараясь повторить и умножить страшные «достижения» похода Магомед-хана по вразумлению гяуров. Как выглядела бы демографическая и картографическая картина этих небольших закавказских республик после такого похода, не хочется даже представлять. И еще вопрос, были бы такие независимые республики в XXI веке…
Но парад в Баку не состоялся, затемнение отменили, сняли тяжелые шторы, и вместе со светом в город вернулись смех и прежняя безалаберность.
Следующий шаг Параджанова — серьезное увлечение музыкой. Он поступает на вокальное отделение Тбилисской консерватории и одновременно берет уроки танца в хореографическом училище при Тбилисском оперном театре имени Захария Палиашвили.
И даже спустя годы, давно потеряв юношескую стройность, он по-прежнему будет поражать актеров на съемочной площадке и своей удивительной пластикой, и своей музыкальностью.
Обратимся к свидетельствам, подтверждающим его действительно уникальную музыкальную одаренность. Вот рассказ одного из ближайших друзей Параджанова Левона Бояхчяна:
«Мы ехали в машине, но приемник хрипел. Параджанов выключил его и сказал: „Хочешь музыку — будет тебе музыка. Сейчас я тебе спою оперу Чайковского „Евгений Онегин““. Он спел увертюру, показывая, как мелодию начинают скрипки, а потом вступает оркестр. Затем стал петь за всех — за Онегина, за Ленского, за Татьяну, Ольгу и даже за старую няню Татьяны. До сих пор не могу понять, как это у него получалось — то мужским, то женским голосом, а то голосом совсем старой женщины. При этом он пел и за оркестр и ни разу ничего не забыл. Потом я узнал, что он знает наизусть все оперы, которые слышал в детстве. И помнит все — от начала до конца и никогда не забывает слова.
А любимой оперой его была „Травиата“. Когда за год до смерти ему в Америке предложили снять фильм, он ответил: „Вы помните оперу Верди ‘Травиата’? Там Виолетта кашляет и отвечает на предложение Альфреда: „Поздно, Альфред, поздно…“ Так и мне… Уже поздно. Поздно…“»
А вот что рассказывает замечательная художница Гаяне Хачатурян. Как-то, сопровождая московских друзей Параджанова, они вместе поехали показывать гостям Мцхету, затем поднялись в древний Джвари — храм, описанный Лермонтовым в поэме «Мцыри». Здесь Параджанов исполнил гостям целый концерт: пел партии Альфреда и Виолетты из «Травиаты», арию Каварадосси из «Тоски», а когда своим удивительно звучным голосом пропел прощальный дуэт Аиды и Радамеса, у гостей мороз по коже пробежал, настолько вся таинственная атмосфера храма и пение Параджанова сливались в едином потрясающем воображение эффекте.
Заметим, все это было спустя десятки лет после недолгого обучения в консерватории, без всяких репетиций и повторения партий, в чем нуждаются даже профессиональные певцы.
Что касается дружбы с музой танцев Терпсихорой, то здесь я буду свидетелем. Все разнообразные танцы в фильме «Цвет граната», в том числе и замечательный танец персидских масок, поставил сам Параджанов, что, кстати, указано и в титрах. Это было настолько завораживающее зрелище, что, не зная, на что смотреть — на то, что происходит перед камерой или за ней, я решил смотреть на Параджанова. И оказался прав: зрелище было незабываемое.
Съемочная камера оставила нам поставленный им танец персидских масок, но танец самого Параджанова исчез навсегда…
Танцы, поставленные им, можно увидеть в «Легенде о Сурамской крепости», это в первую очередь мистический, колдовской танец Дурмишхана и Вардо, танец — предопределение судеб, в «Ашик-Керибе» — это характерные восточные танцы. Даже приглашая профессиональных балетмейстеров в картину, он все равно затем все делал по-своему, находил свое решение, свой образ.
А вот красноречивый рассказ известного режиссера Василия Катаняна, одного из его ближайших друзей.
«В 53-м году я приехал в Киев, где тогда работал Параджанов. Отмечая мой день рождения, мы поднялись с друзьями в гостиничный номер, где Сергей в зеленых шерстяных носках станцевал вариацию Пана из „Вальпургиевой ночи“, чем страшно удивил меня. Я тогда не знал, что после железнодорожного института он учился в хореографическом училище».
Увидеть и оценить его пластическую одаренность можно в нескольких фрагментах дипломного фильма Аллы Барабадзе, посвященных съемкам фильма «Легенда о Сурамской крепости». Именно благодаря этой студенческой работе сохранены редчайшие кадры, на которых Параджанов запечатлен именно в работе на съемочной площадке… Не балагурит, не развлекает очередных гостей, не устраивает свое очередное шоу — а именно творит, создает…
Казалось бы, выбор сделан: Параджанов нашел свои заветные острова и с первых жизненных шагов определил свое призвание, свой дар. Ведь правильно определенное призвание — один из самых главных факторов человеческой жизни. Услышать свой истинный голос, а не погнаться за зовом химер — одно из существенных условий для счастливо сложившейся судьбы.
А теперь нам предстоит задуматься над одной из многих загадок Параджанова…
Почему, так удачно определив свое призвание, обладая несомненными способностями к музыке и пластике, юноша покинул эти прекрасные, столь заманчивые острова, чтобы плыть дальше?
Почему, изменив Мельпомене и Терпсихоре, он бросился в стихийные воды Ахелоя и поплыл к новой, десятой музе — Кино… Какая сила влекла его? Почему он посвятил свою жизнь этой новой музе, принесшей ему так много испытаний и лишь изредка ронявшей в его ладонь скупые зерна радости?
Когда он впервые покинул отчий дом, то ехал продолжать именно свое музыкальное образование. И все было задумано правильно…
Проучившись с 1943 по 1945 год в Тбилисской консерватории, он перевелся в Московскую консерваторию, учится у такого замечательного педагога, как Нина Дорлиак, и всё обещает ему судьбу великого певца. Как бы сложилась его жизнь, если бы он остался верен своим первым музам? Думаю, цветов и славы выпало бы на его долю гораздо больше.
Найдя себя на музыкальном поприще, оставался он среди любимых муз недолго. И потому драматическая встреча с теми самыми сиренами, что поджидали Одиссея на скалистых островах, усыпанных обглоданными костями, все же состоялась, это мифическое видение возникло и в его судьбе… Маршрут был расписан богом судьбы Писателем-Грохом, и, видно, он когда-то вывел ему на лбу знак прибытия на остров Кино.
В тот морозный день, отбывая из отчего дома, он и не знал, что поезд везет его совсем не туда, что прибудет он на другую станцию, что билет для этого памятного путешествия ему на самом деле купил — Грох!
Конечно, в далекие античные времена еще не знали, что в талантливом семействе муз родится самая неистовая дочь, десятая муза, которую назовут Кино… А вернее, помня тайную власть ее первого имени, — Иллюзион!
…И паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.
Плывет. Куда ж нам плыть?..
Итак, зима 1945 года, поезд… В тесном купе, набитом в основном людьми в военной форме, едет восторженный юноша — Сержик Параджанов (так его будут называть долгие годы). Сам он никогда еще не надевал военной формы и не наденет ее никогда. Единственной формой, которую его заставят носить, будет черная роба зэка, но до этого еще далеко-далеко…
И не догадываясь об этом, он горячо рассказывает, что и у него есть скромный вклад в дело победы: артистическая бригада, в которой он участвовал, дала 200 концертов в военных госпиталях (анкетные данные), и потому тоже имеет право поднять алюминиевую кружку с чачей за близкую уже победу. Юноша едет не на войну, но за окном поезда видны ее страшные шрамы — покореженные танки, разбитые пушки, разрушенные дома. Еще не наступил победный май, не взвилось знамя над рейхстагом, но сладостный воздух победы уже радостно опьяняет. Он щедро угощает попутчиков снедью, что положила ему в дорогу мать, он полон радостных ожиданий… Сидя в тесном купе, он не ведает, что не только окружающий мир переживет удивительные метаморфозы, но и его маршрут вскоре круто изменится и приведет его в совершенно иную точку, которая определит всю его последующую жизнь.
Почему он изменил музыке? Откуда пришел соблазн? Можно вновь и вновь стучаться в эти глухие ворота. Ответа мы не получим никогда. Остается развести руками: Грох попутал! Сам Параджанов так и не объяснил свое неожиданное решение. Он был и остается сфинксом… Правда, не глубокомысленным, а насмешливым, спрятавшимся под маской балагура. Оставив после себя сотни занимательных баек, он не оставил ни одного свидетельства, где открыл бы тайны своих зачастую парадоксальных решений. А тайн впереди у нас еще много…
Он написал сценарий фильма «Исповедь», но не оставил ни одной исповеди в дневниках, не пожелав ни разу исповедаться даже самому себе.
Даже такой глубоко замкнутый в себе по характеру, подлинный интроверт, как Тарковский оставил свои удивительные откровения в дневниках. Дневники Довженко и Эйзенштейна позволяют нам разделить с ними многие горькие дни и проникнуть в лабораторию творческих решений.
А у Параджанова при всей его коммуникабельности и даже легкомысленности — всё глухо…
Говоря о его решении избрать себе кинематографическую судьбу, необходимо уточнить, что этот выбор был сделан в крайне неподходящее время. Именно в те годы наступила так называемая «эпоха малокартинья», когда даже многие состоявшиеся мастера остались без работы, а молодым кинематографистам и вовсе ничего не светило. В лучшем случае, если повезет, работа ассистентом. Именно тогда многие молодые режиссеры занялись документальным кино. Именно тогда, когда Параджанов захотел стать кинорежиссером, был запрещен и осужден шедевр Эйзенштейна «Иван Грозный», подвергся гонениям Довженко, ошельмованы Ахматова и Зощенко, вышли знаменитые постановления по журналам «Звезда» и «Ленинград». Идеологический пресс подмял под себя всю культуру, но кинематографу досталось более всего.
Казалось, вся логика предлагала ему не экспериментировать, а тихо-мирно, спрятавшись за надежными классическими стенами консерватории, распевать любимого «Евгения Онегина».
Однако произошло то, что произошло… И хотя его учеба в Московской консерватории началась вполне успешно, он скоро оказывается студентом института кинематографии. Что это было — могучий зов истинного призвания? Есть сомнения…
Конечно, победителей не судят. И Параджанов, став режиссером мирового класса, доказал, что это неожиданное решение было правильным. Но был ли он создан для этой профессии?..
Кино — самое «производственное» из всех искусств. Кроме полета фантазии оно требует и точного дара инженера, проектировщика, умения все заранее рассчитать и спланировать. То есть всего того, от чего он бежал, оставив первый институт, а в результате уже в третьем своем учебном заведении снова пришел к той же, во многом «инженерной», профессии теперь уже навсегда… И надо откровенно сказать, что производственные вопросы, без которых кино невозможно, напрягали его всю жизнь и занимался он ими через «не хочу».
В единственных съемках Аллы Барабадзе, показавших нам Параджанова в работе, есть любопытный кадр: мы видим ноги Параджанова на съемочной площадке, на них — разные ботинки: на одной ноге — черный, а на другой — коричневый.
Красноречивая деталь… Да, художнику в его вдохновенном порыве зачастую не важно, как он выглядит. Но то, что позволительно поэту, не всегда простительно кинорежиссеру, не имеющему права на небрежность даже в деталях. Речь не о его внешнем виде, речь о строгой продуманности, собранности, железной воле в осуществлении расписанного во всех деталях проекта. О том, чем в полной мере обладал его ближайший друг по миру кино Тарковский. Эту небрежность, случайность, вольное отношение к деталям Параджанов переносил и на то, что в конечном итоге оставалось на экране. Инстинктивная нелюбовь к сложным производственным задачам многое затем определяла и в его чисто художественных решениях.
Не случайно, наверное, что его самый производственно сложный фильм «Тени забытых предков» возник в содружестве с оператором Юрием Ильенко, и стихия Параджанова здесь во многом корректировалась твердой волей стоящего рядом Ильенко.
Подводя итоги, констатируем, что его столь серьезное решение уйти в мир кино произошло в самый сложный момент и выбор им своего призвания был далеко не идеален. Единственное объяснение этому неожиданному решению заключено в слове, вынесенном в название этой главы, — «хсмат».
Когда в День святого Саргиса смущенный отрок или отроковица под настойчивым родительским взглядом признаются, кто же возник в смутных видениях сна, кто утолил вызванную соленым хлебом любви жажду, то… родители, разводя руками, говорят одно слово: «хсмат!» И слово это означает — предопределение, судьба, карма…
Не всегда дано нам быть хозяевами своей судьбы, своего предопределения, своей кармы… Ибо недаром сказано: не человек идет по дороге, а дорога ведет человека…
И потому будь благословен, хсмат Параджанова, подаривший нам удивительный мир его исполненных сновидений, чудесный мир его видений. Он пройдет дорогу, предназначенную ему, до конца, до последних кадров своего последнего фильма…
…У меня еще есть адреса,
по которым найду мертвецов голоса…
Итак, в 1945 году Параджанов стал студентом Всесоюзного государственного института кинематографии. Тогда это было довольно скромное учебное заведение, свою громкую славу оно приобрело позже.
В эпоху «застоя» было две волшебные для студенческого сердца аббревиатуры — ВГИК и МГИМО, то есть Московский государственный институт международных отношений. Но если в МГИМО тянулись отпрыски привилегированных семей, то ВГИК и в долгие советские годы сохранял демократизм и принимал в свои стены людей одаренных независимо от кошелька и социального статуса родителей. Секрет повышенной популярности прост — и в одном, и в другом случае это было своеобразное «окно в Европу», в иной мир, так манящий юные сердца. Это была возможность приподняться над буднями и не только посвятить всю последующую жизнь строительству коммунизма, но и вдохнуть волнующий ветер иных страстей, иного расклада человеческих судеб, возникающих в смутном и завораживающем свете экрана. Короче говоря, всего того зловредного космополитизма, с которым еще в свое время начал беспощадную войну товарищ Жданов.
В годы учебы Параджанова ВГИК еще не имел больших производственных возможностей, но зато имел иное бесспорное преимущество: необычайно высокий уровень преподавательского состава. В институте преподавали такие высокие мастера и эрудиты, как Сергей Михайлович Эйзенштейн, Григорий Михайлович Козинцев, Михаил Ильич Ромм и другие замечательные педагоги.
Преподавание — особый дар… Не случайно сегодня ВГИК носит имя Сергея Герасимова, оставившего после себя целую плеяду учеников, ставших подлинными мастерами кино. Параджанову повезло — его мастером был Игорь Андреевич Савченко, и курс, на котором он учился, до сих пор считается одним из самых звездных: Марлен Хуциев, Владимир Наумов, Александр Алов, Юрий Озеров, Генрих Габай, Григорий Мелик-Аваков и другие давно состоявшиеся в кино режиссеры были его однокурсниками. По «звездности» режиссерский курс Савченко остался такой же легендой ВГИКа, как и актерский «молодогвардейский» курс Герасимова, выведшего на экран Нонну Мордюкову, Инну Макарову, Клару Лучко, Вячеслава Тихонова и других замечательных актеров.
Сам Параджанов, обычно игнорировавший все признанные авторитеты, произносил имя Савченко всегда с глубоким уважением, с гордостью указывая, что прошел школу этого мастера. Ученики Савченко приняли самое активное участие сначала в создании фильма своего учителя «Третий удар», а затем и в работе над его последним фильмом «Тарас Шевченко». Сам Савченко, к сожалению, скончался и не смог довести до конца работу над этим фильмом, который закончили его ученики. Курс возглавил после него Александр Довженко, еще один из признанных мастеров нашего кино, о котором Параджанов также всегда отзывался с благодарностью и помнил как общение с ним, так и его уроки.
Получилось так, что еще в годы учебы в Москве у Параджанова выстраивается «украинский след», ставший затем столь судьбоносным в его жизни…
Но давайте кроме этих основных вех маршрута его студенческой жизни попробуем заглянуть в реальные будни тех лет. Если начальные годы жизни Параджанова мало изучены или лежат в области догадок, то дальнейшие события можно проследить, во многом благодаря Коре Церетели, собравшей уникальный сборник воспоминаний о нем. Подобно тому, как небольшой фильм Аллы Барабадзе дал нам возможность увидеть Параджанова в работе, так и в книге Коры Церетели «Коллаж на фоне автопортрета» перед нами предстает наконец живой Параджанов во всей уникальности своего характера, своих неординарных поступков и зигзагов судьбы. Здесь и многие биографические свидетельства, и признания самого Параджанова, и рассказы его друзей. По ходу нашего повествования будем обращаться к этим и другим документальным свидетельствам.
Вот что рассказывает известный режиссер Владимир Наумов:
«В 1948-м году мы: Хуциев, Алов, Озеров, Мелик-Аваков, Параджанов и я работали практикантами у нашего мастера. У Алова был день рождения, и мы решили отметить его всем курсом. Параджанов принес пыльный мешок, достает из него немецкую каску и говорит: „Вот тебе мой подарок“. Мы были разочарованы. Немецкая каска, эка невидаль в те годы. Но, конечно, мы недооценили Сергея…
Когда он перевернул ее — все так и ахнули. Только Параджанов мог найти такую каску. По-моему, другой такой каски и не существовало в мире. Мы увидели потрясающее зрелище. Внутри каска была расписана, как церковный купол. Видимо, солдат, который расписал ее, надеялся, что этот купол защитит его. Но каска была пробита. Саша Алов надел ее на голову, просунул палец в дырку и говорит: „Вот сюда попало!“ Отверстие приходилось как раз на лоб. Впоследствии Саша тяжело болел, и неудивительно ли, что, жалуясь на постоянные боли, показывал именно на то место, куда пришлось пулевое отверстие на каске…
К Параджанову всегда прилипали всякие мистические невероятности. Это был совершенно мистический человек. Он жил в контакте с тенями, невероятностями, с параллельным миром. И из огромного варева серятины и повседневности, в котором мы существовали, непонятно как умудрялся вытягивать нужную ему карту…»
А вот воспоминания режиссера Григория Мелик-Авакова:
«Мы сидим с Сережой в нашей вгиковской столовой и едим мерзкий капустный салат с черным хлебом. Во ВГИКе было удивительное братство в те годы, которое шло от педагогов. На курсе нас было трое армян: Марлен Хуциев, Сережа и я. И вот в эту столовую заходит совсем еще тогда молодой Бондарчук, и Сережа говорит нам: „Смотри-ка, вот вылитый Шевченко“… Мы сделали потрясающую фотопробу Бондарчука, заказали пластический грим. Очень дорогой — восемьдесят рублей стоил. Собирали для этого наши стипендии. И не зря… Савченко был в восторге: „Да-а, это Тарас!..“
Когда Савченко, не докончив картины, внезапно умер, больше всех плакал Сережа. Рыдал в голос. И говорил: „Меня ждет то же самое“…»
Именно в годы учебы во ВГИКе над Параджановым пронеслась первая гроза, а точнее — первый арест…
История эта смутная, почти не оставившая подлинных свидетельств, и одно из них — рассказ Григория Мелик-Авакова. Но прежде чем привести его, скажем, что было это связано с «делом ГОКСа», то есть Грузинским обществом культурных связей. В те годы развернулась широкая кампания борьбы за мир, именно тогда начали проводиться Всемирные фестивали молодежи, был создан знаменитый Гимн демократической молодежи.
Для налаживания культурных связей с зарубежными странами требовалась не партийная, а общественная организация, а чтобы подчеркнуть интернационализм движения за мир, организации такого рода были созданы во всех союзных республиках. Скажем сразу: работали они под строгой опекой КГБ (тогда еще МГБ), но, с другой стороны, в них допускались и многие непривычные вольности — все-таки культурные связи с заграницей. Вот к этим небольшим вольностям и потянулась жадно «продвинутая» молодежь. Здесь можно было послушать джазовые пластинки (невиданная редкость), иногда посмотреть зарубежный фильм, не идущий в прокате, услышать рассказ о зарубежной поездке из первых уст и т. д.
Это было даже не окошечко, а всего лишь крохотная форточка в глухом «железном занавесе», опустившемся на страну. Но из него тянуло «тлетворным влиянием запада» и к нему тянулись все те, кто позже были заклеймены как «отбросы общества», — стиляги, фарцовщики и прочие «чуждые элементы» нашей в целом здоровой молодежи, возжелавшие подражать в одежде и музыкальных пристрастиях классовому врагу. Разумеется, эти «ошибки» в идеологической работе были скоро исправлены и в дальнейшем общества культурных связей с заграницей вели свою работу тихо-мирно, перейдя на строго диетическое меню, но поначалу кое-кто попал под горячую руку. Но давайте послушаем редкое свидетельство очевидца. Вот что рассказывает об этой первой жизненной грозе Параджанова его товарищ по учебе Григорий Мелик-Аваков…
«На съемках „Тараса Шевченко“ с Сережей случилось такое… Снимался эпизод — вечер накануне Ивана Купалы, и Сережа предложил:
— Давайте сделаем тыквы с „глазами“, внутри свечи зажжем!
Идея Савченко понравилась. Но вот беда — ни в одной деревне рядом нет ни одной тыквы, годы послевоенные, голодные — все съели. Сережа говорит: „Давайте поеду в Тбилиси, там достану…“ Послали… Но вот проходит пять дней, две недели, месяц — Сережи нет. Поехал за ним Мераб Шенгелия — художник. Приходит от него телеграмма: „Сережа арестован. Приезжайте спасать“. Был 1950 год. Как телеграф пропустил такую телеграмму, непонятно…
И вот Савченко берет с собой Корнейчука, Ванду Василевскую, Натана Рыбака и едет в Тбилиси. Причина для выезда столь мощной делегации была веская. Оказалось, что Сережа в КГБ… Тень на всю съемочную группу! И вот как все обстояло. Сережа, приехав в Тбилиси и зайдя в ГОКС, предложил разрисовать стены фресками и… изобразил на них святых. И они сидели здесь, как в церкви, и слушали иностранную музыку — вот такие культурные связи с заграницей. Ну, и всех, естественно, забрали…»
Такая мощная и представительная делегация Сергея спасла, и он был выпущен на поруки. Напомним, что Савченко в эпоху «малокартинья» был, наряду с Роммом, Райзманом, Герасимовым и другими, включен в ту самую заветную десятку режиссеров, которым высочайшим указом разрешалось снимать фильмы и развивать «важнейшее из искусств». Здесь хочется обратить внимание, с какой редкой для того времени смелостью Савченко бросился спасать своего «блудного сына». Не отмахнулся от него, не оставил в беде, не дал исковеркать судьбу молодого человека.
Занесенный меч просвистел над самой его головой.
И все же не будем нашего героя записывать в ряды борцов с тоталитаризмом. Это, разумеется, не так… И время, в которое он пришел в кино, было, конечно, сложное, но в то же время не однозначное. Мазать те годы дегтем, что с таким смаком и зачастую весьма невежественно любят сейчас делать многие, будет несправедливо. Не будем забывать, что это были годы великого энтузиазма всего общества и самых радостных надежд. Мы победили в величайшей войне, на наших глазах из пепла и руин поднимались села и города, расцветала новая жизнь… Если еще в 30-е годы мы покупали тракторы за границей, то всего десять лет спустя у нас была своя атомная промышленность, своя реактивная авиация и самая передовая ракетная техника, самые высокие достижения на самых передовых рубежах науки. Тесты по определению коэффициента интеллекта показывали, что у нас самая образованная молодежь и уровень преподавания не уступает лучшим университетам мира. И успехи культуры были тогда не только в области балета, но и на лучших мировых кинофестивалях.
Не случайно вся левая интеллигенция мира так тянулась к нам. Тогда стал коммунистом Пабло Пикассо, а Чарли Чаплин был изгнан из Америки за просоветские взгляды. Тогда советская разведка стала самой успешной, ибо ей готовы были помогать не за деньги, а по убеждениям.
Казалось: «еще немного, еще чуть-чуть…» и завтра наступит рай, он же обещанный коммунизм… До воцарения всеобщего братства, казалось, рукой подать, и студент Параджанов, как и все, гордо выходил Первого мая на пролетарские демонстрации и нес портрет Сталина, о чем сам с улыбкой рассказывал.
Для чего нам эта благостная картина всеобщего счастья? А для того, чтобы лучше передать ту восторженную (и инфантильную) атмосферу, в которой пришла к нему первая любовь.
Но давайте снова дадим слово свидетелю — тогда просто Грише Мелик-Авакову:
«В один прекрасный день Сережа сообщил нам, что женится.
— На ком?
— Пойдем покажу.
И повел меня в ЦУМ, в отдел обуви. Показал издалека. Я посмотрел и обомлел…
Неземное создание! Такого лица я не видел…
— Я ее люблю, — говорит. — Я на ней женюсь!
Они ни о чем не разговаривали. Только смотрели друг на друга. Потом была свадьба, которую мы устроили всем курсом в подвале у комендантши общежития. Никто так и не услышал голоса невесты…
Потом некоторое время Сережа не появлялся на занятиях. И вдруг пришел однажды и сказал: „Ее убили… Отец и братья… Связали и положили на рельсы…“
Что было с Сережей — описать невозможно! И во сне она ему являлась в самых необычных обличиях…»
Первую любовь Параджанова звали Нигяр Сераева… Как тут не вспомнить ставшие классикой слова великого иранского поэта Хафиза: «Когда ширазскую тюрчанку своим кумиром изберу — за родинку ее отдам я и Самарканд и Бухару…» Слова, за которые Хафизу чуть не отсекли голову, ибо они вызвали гнев грозного Тимура, оскорбленного этим поэтическим признанием.
То, что Сергея закружила именно такая любовь, сомневаться не приходится. Нигяр была не только его первой любовью, но и первой женой.
Воспитанная в патриархальной семье, молчаливая, скромная девушка не могла, конечно, завести легкий студенческий роман. Увы, даже узаконенный, их союз не спас Нигяр от жестокого суда татарской родни, не простившей, что мужем она избрала неверного.
Стоит ли удивляться, что спустя годы Параджанов так проникновенно рассказал об Иване и Маричке, этих гуцульских Ромео и Джульетте, полюбивших друг друга, несмотря на смертельную, кровную вражду их родов. Только художник, через свое сердце пропустивший такую страсть, мог передать то, что знал и ощутил сам. И не здесь ли объяснение тому, что уже на склоне лет он смог так вдохновенно рассказать восточную сказку о любви. О страсти Ашик-Кериба и Магуль-Магари. Не далекие ли сны о Нигяр, приходившие к нему как видения из глубоких вод памяти, помогли так вдохновенно погрузиться в мир ислама, понять и передать все оттенки такой страсти, такой любви…
Не далекое ли эхо его первой любви прозвучало в его последнем фильме?
Давно уже нет на свете ни Нигяр, ни Сергея, давно уже улетела история их трагической любви в звездные дали, но странное дело… При воспоминании о ней увлажняются глаза у немногих оставшихся свидетелей их любви. И Марлен Хуциев и Владимир Наумов не могут без боли вспоминать эти далекие события их далекой юности. Боль, пережитая тогда Сергеем, звучит в их голосах и сегодня…
Сам Параджанов никогда и никому о Нигяр не рассказывал. Эта тема всегда была для него табу.
Говоря о мозаике его студенческих лет, мы подошли к еще одной драме. Драме всего их замечательного и незабываемого студенческого братства. Речь идет о внезапной смерти их духовного отца, их учителя Игоря Андреевича Савченко. Спустя годы Параджанов повторял: «Я всегда думал о нем как о старом, умудренном человеке, а он, оказывается, был так молод…»
Савченко ушел из жизни, не успев закончить фильм «Тарас Шевченко». Но его содружество с учениками было так велико, что было принято неожиданное решение: доверить закончить фильм студентам. Для того чтобы в полной мере оценить такое решение, надо вспомнить, что в то время снимать фильмы разрешалось только идеологически проверенным классикам, а тут еще совсем зеленые юнцы…
Сейчас уже невозможно определить, кто внес последнюю лепту в завершение этой работы: даже давно ставшие седыми мастера со студенческим задором готовы утверждать свой приоритет. Но, судя по рассказу Мелик-Авакова, именно Параджанов предложил Бондарчука на роль Шевченко, и это было, конечно, весомым вкладом в общее дело.
Сталин, посмотрев фильм, сказал об исполнителе главной роли: «Такой молодой, а играет как народный артист…» и вышел из зала. Так это было или нет, но то, что молодому Сергею Бондарчуку было присвоено звание народного артиста СССР, исторический факт.
Вот чем иногда заканчивается поедание кислой капусты в студенческой столовой…
Активное участие студентов в работе над фильмом «Тарас Шевченко» было им зачтено, и они в отличие от многих других выпускников ВГИКа смогли раньше приступить к самостоятельной работе.
А пока курс возглавил такой известный мастер, как Александр Довженко. Именно он предложил Сергею в качестве дипломной работы молдавскую сказку «Андриеш», интуитивно уловив его интерес к этнографическим и декоративным деталям. И то, что Параджанов в конечном итоге оказался не бытописателем, не мастером, исследующим проблемы реальной жизни, во многом определил именно совет Довженко. В мистическом и условном мире сказок и легенд Сергей всегда чувствовал себя в родной стихии.
Послушаем еще один голос из тех уже далеких лет — свидетельство известного киноведа Юренева.
«Влюбленный в народное творчество, Параджанов лучшие свои фильмы строил на прямых фольклорных реминисценциях. Еще заканчивая ВГИК, он сам соорудил большую куклу — мальчика Андриеша, героя молдавской сказки про пастушка, мечтающего стать витязем, и снимал эту куклу на натуре, достигая удивительной естественности движений и сочетания живой природы с бутафорией. Позднее Параджанов повторил сюжет про Андриеша уже с живым актером».
Вот где, как видим, пригодилась ему работа на фабрике «Советская игрушка». Любовь к куклам, пронесенная через долгие годы…
А то, что Юренев углядел даже в этой студенческой работе умение сочетать живую природу с кукольными искусственными героями, добиваясь при этом кинематографической органики, мы увидим и в его последней сказке «Ашик-Кериб», где ему удалось такое же сочетание бутафорских персонажей с действием в реальных интерьерах.
Дипломная работа Параджанова не сохранилась, и судить сейчас о ней спустя пропасть лет, конечно, невозможно. Во всяком случае, за эту свою первую самостоятельную работу он получил диплом с отличием.
Учеба была завершена… Начиналось новое плавание. Корабль «Жизнь» стоял с поднятыми парусами…
Древний город словно вымер.
Странен мой приезд.
Над рекой своей Владимир
Поднял черный крест.
После Тбилиси, где прошло его детство, после Москвы, где прошла его юность, в биографии Параджанова возникает новый город — Киев, высоко поднявший свои древние колокольни, сияющий золотом куполов. Параджанов, полный надежд и дерзких прожектов, прибывает сюда, даже не подозревая, какой крест его здесь ждет.
По сути, он именно «варяг» — так на артистическом жаргоне и сейчас называют всевозможных заезжих гостей, проталкивающихся к сытным кормушкам, которые давно уже все заняты и поделены.
Молодой кинорежиссер, завершивший образование, мальчик, ставший мужем, успевший увидеть и тюрьму, и трагический финал своей первой любви, и трудные полуголодные годы послевоенного студенчества, он теперь вступает в новую страну благодаря решению о дипломном распределении.
Этот «украинский след» прослеживается и в судьбе Алова и Наумова, и в судьбе Марлена Хуциева, также начинавших свой творческий путь на Украине. Возможно, это определялось тем, что их мастерами были Савченко и Довженко, возможно, сыграло роль их активное участие в завершении работы над «Тарасом Шевченко», но, так или иначе, в 1951 году Параджанов был послан в Гардарики.
Именно так называли Древнюю Русь авантюристы и неутомимые завоеватели норманны. И наш «варяг» теперь в самом сердце Гардарики — в Киеве.
Он вступает в этот город чужаком, и много воды утечет в Днепре, прежде чем он откроет для себя певучий язык этой страны, который станет для него родным. Именно здесь сформируется его творческая личность, именно здесь он станет художником с мировым именем, именно здесь услышит и звонкое пение труб победы, и ржавый скрип тюремных засовов, на долгие годы закрывших ему возможность снимать свое кино.
Наверное, впервые попав сюда, он с любопытством спрашивал: какой ты, Киев?
Если Тбилиси не скрывал своего лукавства и даже сделал его неотъемлемой частью своего театра, то Киев, будучи не менее лукавым, предпочитал прятать свое лицо под маской простака. Очень женственным и чарующим показался этот город Параджанову.
Впервые здесь опростоволосились именно властные варяги, не понявшие, что, пригласив в качестве хозяев, их сделали надежными слугами. Что, сказав «придите и владейте», на самом деле владеть стали ими — доверив самую тяжелую и опасную работу. А в щедро предложенной им чаше с медом находилось вино забвения, и потому никогда больше не довелось им увидеть ни своих родных фьордов, ни терпеливо ждущих верных Сольвейг.
Даже огненную, яростную Сицилию они, завоевав, сделали своей, подняли свои гордые норманнские замки и храмы. А где в Киеве их след… в Аскольдовой могиле?.. Символично…
Киев никогда не сжигал себя, подобно Москве. И сюда врывались степные орды, грабили, насиловали, уводили в полон, но столб пыли, поднятой ими, уносил ветер. Были да сгинули… Где теперь?
И Варшава посылала жестоких, не знавших пощады полковников с Запада, и тяжелой поступью вступали царские полки с Востока… А Киев всегда крутил свой длинный ус, и остался, и есть, и будет петь свои ласковые, завораживающие песни, посмеиваясь над покорителями в глубине своих прозрачных глаз. В прозрачности только призрачность… Призраки возникают и исчезают.
Не случайно главный храм в этом городе посвящен женскому божеству — святой Софии. Тут ее культ… И потому не властный повелитель мира, рожденный в имперский Византии вседержитель Христос Панкратор главный объект поклонения и не мистическая Троица, а мозаика Богоматери Одигитрии, украшая алтарь главного храма, подняла здесь свои руки.
Первым вступив в реку христианства, Киев долее других сохранял свою первую любовь — страсть к язычеству. Оно в верности этой щедрой плодоносящей земли к своеобразному культу Деметры, принимающей самые разные, сохранившиеся до наших дней обряды. Язычество возникает в вышивках, гончарных изделиях, росписи. Язычество в необъяснимой любви к бесчисленным глиняным чертям да и вообще ко всякой чертовщине, так явно выразившейся и в творчестве Гоголя, и в произведениях Булгакова. Здесь, в этой земле, эти корни… Отсюда черти носили и Вакулу за заветными черевичками, и Маргариту на метле… Тут начало их полета… Язычество напоминает о себе бесчисленными каменными бабами, стоящими на этих скифских просторах со своими плодоносящими большими животами, они беременны все от той же страсти, хранят и передают однажды принявшее семье. Не здесь ли, в таинственно качающихся серебристыми ковылями степях, нашел Врубель своего голубоглазого Пана, также прячущего лукавство в глубине своих прозрачных глаз?
Во всяком случае, Параджанов видел в нем типично «хохла», мужичка, вышедшего из соседней хаты. Врубель, по его определению, «глазной мастер». Ибо ему принадлежит удивительная галерея взглядов: изгляд Демона, взгляд Царевны-Лебедь, взгляд испанки, взгляд девушки в кустах сирени и т. д. Но, возможно, самый выразительный взгляд у его Пана, ибо здесь только на первый взгляд все просто… У этого «простака» столько усмешки, столько тайны, столько мудрости и столько демонической силы, что грустному Демону об этом только мечтать.
Именно такой характер носит в себе «гений места», куда прибыл Параджанов, и скоро именно это место, этот город стал его второй родиной.
Здесь не было знакомого аромата серных бань, но был другой, особый дух, он почувствовал его в удивительной энергии, идущей от этой древней земли, в самобытной культуре, любящей лукавинку и чертовщину. Украинский гранит спрятан в мягкой земле, но по твердости он не уступает обнаженному граниту скандинавских фьордов, откуда прибыли покорители-варяги. Он мягко постелен, но на нем жестко спать. Эту кажущуюся мягкость, оборачивающуюся тяжелой силой, ощутили многие покорители, в том числе и наш «варяг».
Долгие годы он пытался понять и покорить эту на первый взгляд такую ясную, цветущую красавицу страну. Все было напрасно…
Когда он пытался воспроизвести это плещущее море поэтики, охватившей его, речь его скорее напоминала беспомощное мычание глухонемого, а подражание выглядело грубой, безвкусной подделкой.
Именно такой возникала Украина в его первых фильмах. Похожая, но придуманная. Не истинная, не прочувствованная… лукаво прячущая себя.
И все же он победил! Он ее покорил… И, проникнув в прозрачные глубины ее тайных вод и смеющихся глаз, нашел наконец заветную жемчужину, подарил ее миру — это был шедевр украинского кино «Тени забытых предков». И удалось ему это только тогда, когда он ощутил ее языческие, плодоносящие силы, ее тайные импульсы. Но для этого понадобились долгие годы.
А точнее, б
Судьба — это ряд причин.
Снова откроем анкетные данные: с чем приехал молодой выпускник к месту своего назначения? Вместе с дипломом, который был защищен на «отлично», сохранилась и зачетная книжка. Заглянем в нее.
Режиссура — отлично (а то!); движение — отлично (еще бы, недаром учился в хореографическом училище); рисунок — хорошо (вот это странно, могло быть и лучше); иностранный — зачет (и слава богу, с этим всегда обстояло неважно); художественная речь — зачет (здесь должно было быть «отлично»!).
Как видим, успехи по сравнению со школьными оценками весьма значительны. Нашел наконец себя. Ну, а дальше… А дальше все как у других: впрягайся в ассистентскую лямку и тащи, бегай как ошпаренный, осуществляй чужие замыслы, терпи вечное недовольство режиссера. Ну и так далее…
Это сейчас проводятся фестивали студенческих работ, начинающие режиссеры выезжают с дипломными работами на престижные фестивали, просыпаются утром знаменитыми и ошарашенно дают интервью.
А вот Параджанова первым делом отправили работать на галеры, ну, не совсем на галеры, но на парусный корабль уж точно. Речь о фильме «Максимка», снятом по рассказу К. Станюковича режиссером Владимиром Брауном.
Напомним сюжет. Дело происходит в XIX веке на русском военном корабле. Наши матросы подбирают в море после крушения пиратского судна маленького негритенка, дают ему имя Максимка, и он становится «сыном полка», то есть команды. Разумеется, в духе борьбы с космополитизмом и тлетворным влиянием Запада в киноварианте возникли злобные персонажи с лютыми лицами рабовладельцев, рвущиеся вернуть Максимку в лоно колониализма и снова заковать его в цепи, но «наши» победили, и все кончилось хорошо.
Кстати, отметим, что в фильме собрался замечательный актерский состав: Борис Андреев, Вячеслав Тихонов, Николай Крючков, Михаил Пуговкин, Марк Бернес, Михаил Астангов. Такой звездный состав произвел большое впечатление на молодого ассистента.
О своей работе на этом фильме Параджанов любил рассказывать на съемочной площадке бесконечные назидательные байки: мол, вот как следует работать истинно преданным ассистентам, не щадящим живота своего. Он ведь Максимку и в туалет на руках носил, и с ложечки кормил, и вместе с матросами тянул канат, поднимая паруса. Вот с какой «галерной» работы начался его путь в кино.
Полагаю, часть правды в его рассказах есть. Но то, что этими назидательными историями он всех доставал, тоже факт. Интересно здесь другое. Крепко врезались в память ему эти ассистентские годы, если так живо остались они в памяти своими деталями и подробностями.
Ну, а дальше то ли ходатайство Довженко помогло, запомнившего яркого, неординарного студента, то ли действительно он так замечательно работал ассистентом, но только на студии вдруг вспомнили, что он снял короткометражку «Андриеш», и в порядке помощи только возрождающейся молдавской кинематографии было решено снять полнометражную сказку. Тогда такая помощь национальным культурам со стороны центральных студий часто практиковалась.
Вот и приступил Параджанов, правда, не один, а вместе с режиссером Яковом Базеляном к первой самостоятельной большой работе. Над «Андриешем» он работал с 1954 по 1955 год, то есть по тем временам относительно быстро стал режиссером-постановщиком. Приводим эти данные по киноэнциклопедии 1986 года, поскольку с датами жизни Параджанова в разных, даже серьезных изданиях, а тем более в Интернете полная путаница.
Самое полное исследование его жизни на сегодняшний день существует только на английском языке и осуществлено Джеймсом Стефаном.
Чтобы иметь представление о сюжете его первой картины, обратимся к официальной аннотации кинопроката:
«Пастушок Андриеш пас овец на широком лугу. Однажды к нему явился сказочный богатырь — покровитель пастухов Вайнован — и подарил мальчику свою волшебную свирель. Андриеш научился играть на свирели. Звуки свирели пробуждали светлую радость в людях, вселяли в них надежду. Об этом прослышал злой волшебник — враг всего живого Черный Вихрь. Он поднял страшную бурю над деревней. На глазах у мальчика Вихрь закрутил и унес овец. Мальчик объявил войну злому волшебнику. Он пробрался водворен Вихря, чтобы звуками свирели разбудить окаменевших овец. Но Черный Вихрь обратил в камень и самого Андриеша. На помощь Андриешу поспешили Вайнован и его друзья. Они победили злого волшебника, который тут же обратился в черный камень».
Тут мы приступаем к одной из самых трудных страниц нашего повествования…
Придется с горестным вздохом разочаровать многих горячих поклонников творчества Параджанова. Увы, первый его дебют в кино оказался весьма заурядным. Более того, такими же «без божества, без вдохновенья» были и последующие работы: «Первый парень» (1959), «Украинская рапсодия» (1961), «Цветок на камне» (1962).
Если смотреть эти картины сегодня, неизбежно возникает ощущение, что снимал их другой человек, что это фальсификация, это не Параджанов.
К сожалению, снимал именно он, и как бы ни упорствовали почитатели его таланта, как бы ни размахивали руками: «А вот в том кадре… в том фрагменте… что-то все же есть, что-то проглядывает…» — надо признать, что не проглядывает ничего. Нив одном кадре и ни в одном фрагменте.
Чтобы в полной мере оценить драматизм этой ситуации, напомним, что дела его сокурсников в то же время складывались весьма успешно. Рядом с ним, на Киевской студии, в те же годы возникло содружество Александра Алова и Владимира Наумова, также направленных после окончания ВГИКа в Киев.
Их романтичные и страстные фильмы «Тревожная молодость» — вышел одновременно с «Андриешем» в 1955 году — и «Павел Корчагин» (1957) сразу стали событиями советского кинематографа. О них не только сразу заговорила вся пресса, своим ярким экспрессионизмом они завоевали миллионы зрительских сердец, стали символом обновления нашего кино. Очень патриотичные, они в то же время были очень молодыми и зажигательными по своему духу и темпераменту.
Приходило время новой творческой молодежи, голос которой скоро громко прозвучит и в первых стихах Евтушенко, и в первых песнях Окуджавы, воспевавших романтику комсомольцев Гражданской войны.
Не менее ярким был дебют в украинском кино и других друзей Параджанова по студенческой молодости — Марлена Хуциева и Феликса Миронера. Также проработав ассистентами на Киевской студии, они были затем направлены на Одесскую киностудию, где сняли замечательный фильм «Весна на Заречной улице» (1956), ставший ярким событием в истории всего советского кино и подкупающий своей искренностью и свежестью и по сей день.
Напомним, что там же, на Одесской студии, Хуциев снял еще один замечательный фильм — «Два Федора» (1959), в котором дебютировал Василий Шукшин, а Миронер снял «Улицу молодости» (1958) по сценарию, написанному вместе с Хуциевым.
Все эти фильмы студенческих друзей выходили на Украине, как видим, почти одновременно с фильмами Параджанова, и сразу становились весьма приметными событиями в отличие от его собственных картин.
Конечно же его «Андриеш», перегруженный театральной бутафорией, пейзанскими плясками и прочим весьма обильным аляповатым молдавским декором по сравнению с их свежими, новаторскими фильмами выглядел архаичным, тяжеловесным, невнятно снятым по всем старым канонам.
Зная всю меру честолюбия режиссера, пронесенного до самых последних дней, можно только догадываться, что творилось в его душе. Еще вчера он был одним из самых ярких и любимых студентов их учителя Савченко, а тут…
Желание быть более идейными, чем вся партийная номенклатура в Москве, всегда отличало украинский официоз до самых последних дней его правления в лице товарища Щербицкого. Добавим: весьма невзлюбившего Параджанова и сыгравшего весьма драматическую роль в его судьбе, о чем скажем позднее.
Слово «батрак» в украинском языке не носит такого унизительного оттенка, как в русском. В батрачество можно было попасть не обязательно в принудительном порядке, а вполне добровольно. Захотел, скажем, парень жениться, а денег на свадьбу нет. Вот и наймется он батрачить к надменному польскому шляхтичу. Ну потаскает тот его за чуб, ну помордует опять же, зато, глядишь, от ясновельможного пана и польза есть: и работу даст и денег…
Вот и Параджанов оказался, как видим, на долгие годы в батраках у весьма строгого официоза, будучи прикован к галере своего не всегда благодарного и весьма малоуспешного труда.
Если действительно судьба — это ряд причин, то именно поэтому и получилось, что Параджанов оказался на службе у системы. Добавим, что это произошло не принудительно, а достаточно добровольно, по всем законам наемного батрачества.
Его фильм «Андриеш» — это только цветочки… Ягодки пошли потом. В своих последующих фильмах он уже выступал подлинным мастером соцреализма, но, увы, в них нет даже того блеска, который мы найдем в работах Пырьева, Александрова и других известных мэтров советского кино. Его соцреализм скорее «секонд хенд», ширпотреб из вторых рук…
Как же получилось, что один из самых дерзких экспериментаторов в истории советского и мирового кино оказался на столь долгие годы в услужении у надменных партийных панов? Ведь по дерзости и отваге он превосходил своих друзей студенческих лет. Все они испили горькую чашу зависимости и подневольного труда. Но откровенный и смелый вызов системе, как показали последующие годы, бросил именно Параджанов…
Все годы своей жизни в фильмах, сценариях, устном творчестве он творил мифологию, был мифотворцем, изобретал невероятные события. И рано или поздно мифология и необъяснимые события сами врывались в его жизнь…
И потому, возвращаясь к его первой картине «Андриеш», согласимся, что в ней «что-то есть»… Злой демон Черный Вихрь обратил в камень юного пастушка, и ждать доброго волшебника, пробудившего его от летаргии и расковавшего самого Параджанова, пришлось еще долго. Но прежде чем подробно рассматривать его дальнейшие работы, расскажем о весьма важном событии, произошедшем в его жизни. Ибо, пойдя в «батрачество» к надменным партийным панам, Параджанов испытал в Киеве и другой, на этот раз сладостный, плен.
В его жизнь вошла прекрасная панна!
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Невозможно, приступая к этой главе, не обратиться к классическим поэтическим строчкам, ибо без поэзии тут не обойтись. В жизнь Параджанова вошла женщина, которую он сам неоднократно сравнивал с образами Боттичелли, Луки Кранаха. Женщина, ставшая его женой, матерью желанного сына и, главное, самым близким другом на долгие годы, бывшая рядом и в годы тюремных испытаний, прошедшая с ним все пути-дороги, проводившая в последний путь…
История их необыкновенных отношений сама могла бы стать сюжетом интереснейшего фильма, столько в ней романтизма, удивительных поворотов, драматических зигзагов. Мы убедимся в этом лишь отчасти, пройдя основные порты странствий Параджанова, хотя история этого романа заслуживает отдельного повествования.
Без символики рассказывать о жизни Параджанова невозможно… Истинный мифотворец, как мы уже сказали, он снова и снова открывал все двери, чтобы впустить мифы, которые сами вторгались в свою жизнь. И потому не будем удивляться, что самая светлая в его жизни так и звалась — Светлана!
И вошла она в его жизнь со своими золотыми волосами, словно капелька золотой смальты из главного храма города, с мозаики Богоматери Одигитрии, ибо именно в этой женственной стране должна была произойти встреча с женщиной, ставшей его судьбой.
Зная Светлану Щербатюк долгие-долгие годы, могу только восхищаться и ее немеркнущей красотой, и ее умом, и ее удивительным благородством, и столь высокой степенью самоотверженного служения, что порой кажется, будто вся эта история произошла в какой-то средневековой поэме неизвестного менестреля.
Но как мы можем говорить об их любви, если сам Параджанов оставил в своей «Исповеди» замечательные поэтические признания:
«Боттичелли, Лукас Кранах, Доменико Венециано…
Волосы на ветру… золото на рапиде…
Потом волосы на моей подушке…
Из трех суток, которые меня приближали к городу, я запомнил только одни — последние…
За окнами Западная Грузия. Я пулей вылетел из вагона, пересек пути и взобрался вверх по железнодорожному столбу.
Большая благоухающая магнолия в руках моей жены. Она впервые видит море, магнолии. Впервые к ней тянется девочка-грузинка и жадно сосет через блузку грудь. Женщина в черном прозрачном платке отрывает девочку от груди, извиняется: девочка — искусственница.
Грудь жены… Сквозняки вагона, запах магнолий, лиловые волы на серой земле.
Потом все остановилось… Поезд опоздал. Мама в белом в большой луже около киоска с водой. Мама дожила до этого. Она гордится и объясняет всем, что это не иностранка, а ее невестка, что это я, ее сын, привез ей в подарок „Потерянный и возвращенный рай“ Мильтона и библию с иллюстрациями Доре.
Мама не пускает на порог… Обычай. Разбить тарелку.
Тарелку разбиваю я…
На этом самом месте первым разбил тарелку в 1917 папа…
Мама, я счастлив…
Я привез Ее издалека.
По утрам Она расчесывала свои золотистые волосы, а я, разбуженный и сонный, еле различал Ее контуры в первых лучах солнца. Вычесанный слиток золота небрежно наматывался на палец, снимался с пальца и летел в колодец моего трехэтажного дома. Жильцы провожали его взглядом. Слиток медленно опускался на ладонь дворничихи-айсорки в пестром атласном наряде.
Потом Она садилась за рояль, небрежно сняв с пальца золотой обруч, и пела „Аве Марию“. Мама открывала окна, поднимала крышку рояля, и в крышке вспыхивало золотое дно. На черной поверхности рояля лежало желтое счастье. Я жмурился от солнца.
Однажды мама услыхала, как в звуках рояля прозвучал удар металла о металл. И с тех пор по утрам не пели „Аве Марию“.
Пропало кольцо. Мама считала, что это к несчастью…»
Эти выдержки из его сценария как нельзя лучше показывают ту степень поэтичности, в которой проходило их «медовое путешествие». Рассказывая в основном о фильмах Параджанова, нельзя не упомянуть о почти забытой иной стороне его таланта — насколько он был незауряден и интересен как литератор.
В своем «устном творчестве» Параджанов и здесь не мог обойтись без «джигитовки» и красочно описывал, как выкрал несовершеннолетнюю Светлану, как ее отец, будучи послом в США, организовал погоню за ними чуть ли не объединенными силами ЦРУ и КГБ. Как влюбленные бежали и скрывались от жестокой погони, пока наконец не были прощены…
Такой «гонконгский» сюжет со смаком рассказывался до тех пор, пока в наш быт не вошли первые «видаки» и изобилие подобных сюжетов сделало его рассказ уже неактуальным.
Правда во всем одна: любовь их действительно была с первого взгляда и на всю жизнь!
Параджанов увидел Светлану в театре… и восторженно замер. Она и в самом деле тогда была еще школьницей, и внимание взрослого мужчины, да еще кавказца с горящим взглядом, ее, конечно, смутило.
Отец Светланы действительно принадлежал к дипломатическому корпусу, но только был не послом, а начальником протокольной службы в нашем посольстве в США. Кражи невесты и погони не было, но родители Светланы, безусловно, были не в восторге от этого романа их юной дочери и потребовали, чтобы она сначала окончила школу. Кроме всех мало вдохновляющих обстоятельств смущала их и существенная разница в возрасте: ему — 31 год, ей — 17… Но давайте предоставим слово самой Светлане.
«Мы начинаем встречаться. Я оканчиваю десятый класс как в тумане. И вот в руках у меня аттестат зрелости. Небольшая передышка — и нужно готовиться к поступлению в университет. Сергей ухаживает за мной красиво и изобретательно. Встречает меня с огромными букетами белых пионов и осыпает цветами прямо на улице на глазах у изумленных прохожих. А однажды он с таинственным видом и радостно сверкающими глазами преподнес мне изящный футляр. На черном бархатном ложе покоилось аметистовое ожерелье и изумительной красоты браслет с тремя огромными камнями. Я ахнула и вопросительно посмотрела на Сергея. „Это вам!“… Я вежливо поблагодарила и, закрыв футляр, вернула подарок. Мои родители с детства внушали мне, что принимать дорогие подарки неприлично. Откуда мне, семнадцатилетней девочке, было знать, что по законам Кавказа отказаться от подарка значило нанести оскорбление?
Возмущенный Сергей подбежал к ближайшей урне и бросил в нее бесценное сокровище. Я заплакала и убежала домой. Потом, когда мы уже были женаты, Сергей снова преподнес все тот же футляр и, смеясь, рассказал о том, как он потом долго и лихорадочно шарил руками в урне среди мусора в поисках футляра с аметистовым чудом…»
Со стороны их роман действительно выглядел странно. Взрослый мужчина, переступивший третий десяток, уже режиссер-постановщик, «лицо кавказской национальности»… И очаровательная скромная девочка в школьной форме с портфелем и бантами.
Чем не Лаура и Петрарка! Можно представить, какой ажиотаж возникал в школе, когда «дяденька» с букетом нетерпеливо ходил по школьному двору в ожидании звонка. Если добавить к тому же, что Светлана как дочь кадрового дипломата, занимавшего ряд весьма ответственных постов, провела свои детские годы в Канаде и Америке, да еще в 50-е годы при наглухо закрытом «железном занавесе», комментарии, как говорится, излишни.
Но давайте еще раз погрузимся в достоверность документа, ибо что, как не документы, позволяет нам представить реалии тех дней. Итак, снова воспоминания Светланы:
«Я всегда любила свой город, но по-настоящему узнала его благодаря Сергею. Каждая прогулка с ним была откровением. Архитектурные стили, поверхностно представленные в школьных учебниках по истории, оживали воочию. И уж конечно ничего не говорилось в них о замечательных домах, построенных в стиле модерн начала прошлого века. Их так много в моем городе! О каждом доме Сергей рассказывал как о живом существе. И как только он успел узнать этот город, в котором никогда раньше не бывал!..
Сережа не только рассказывал мне о моем городе, он ненавязчиво контролировал знания, которые вкладывал не столько в мою голову, сколько в душу. Гуляя по городу, мы часто забредали на старые улочки с полуразвалившимися деревянными домами. Сережа внезапно останавливался и, указывая на плетень и высокие мальвы, столь характерные для деревенских пейзажей Украины, быстро задавал мне вопрос, как бы не давая времени на размышление: „На что это похоже?“
И я столь же быстро, боясь оплошать перед учителем, отвечала: „На картины Катерины Белокур“. И как он радовался: ученица оказалась способной!»
Как многое позволяют нам прояснить эти, к сожалению немногие, записи. И мир школьницы, получившей замечательного учителя. А то, что школьницы часто влюбляются в учителей, давно известно… И то, что именно он, чужестранец с Кавказа, открывал ей Украину с плетнями и мальвами и вводил ее в мир красоты заново открываемого Киева, сохранившего в себе целые пласты разных культур. И то, как он успел глубоко узнать и полюбить эту страну, которая стала его второй родиной и которую он так вдохновенно открывал юной украинской девочке.
История о том, насколько зрелость и юность тянутся друг к другу, давно описана и Шекспиром, и Хемингуэем, потому не стоит так уж удивляться, что юная киевлянка смогла пойти против воли родителей, подобно юной венецианке, объяснившей дожам, что полюбить можно и смуглое «лицо маврской национальности». В конечном итоге скрепя сердце родители дали свое благословение.
Не стоит удивляться, что, описывая любовь Параджанова, мы прибегаем к щедрой палитре эпохи Ренессанса. Было бы удивительно, если бы все у него было просто и прозаично. Ну не жил он в нашем веке! И в этом мы убедимся еще неоднократно. Такой характер, такая шкала ценностей…
И именно эти слагаемые сыграли роль в дальнейшем развитии событий. Но сначала еще раз послушаем Светлану.
Итак, сдав экзамены на аттестат зрелости, окончив школу и став женой Параджанова в 1955 году, она поступает в институт и успешно завершает первую зимнюю сессию. Теперь юная жена и юная студентка едет с Параджановым в Москву.
«Это наше свадебное путешествие. Я понимаю: Сергей хочет показать меня своим друзьям, знакомым, сестре Рузанне, которая жила неподалеку от Москвы (она уже работала на космос и жила в подмосковном Калининграде — ныне Королев).
Попутно „ликбез“ продолжается. На этот раз запланировано знакомство с живописью французских импрессионистов, о которых я, воспитанная на искусстве передвижников, опять-таки ничего не знала. Несмотря на страшный мороз, мой муж заставлял меня выходить на улицу в тонких нейлоновых чулках и изящных замшевых туфельках. Пока он ловил такси, я страдала от холода. И вот мы должны встретится в Музее изобразительных искусств им. Пушкина. Сережа был у кого-то в гостях без меня, и я самостоятельно должна была приехать в музей. На сей раз я взбунтовалась и оделась так, чтобы не испытывать муки холода. Мы встретились в вестибюле. Сережа окинул меня взглядом и с возмущением и некоторой брезгливостью воскликнул, глядя на мою утепленную экипировку: „Как? Вот ЭТО!.. И французские импрессионисты?!.“
Я заплакала. Знакомство с французской живописью состоялось через пелену слез».
Как много ценнейших подробностей в этом коротком свидетельстве. Шли не в гости, не ради эффектного выхода, но «выйти» к импрессионистам, обвязавшись шалями и чуть ли не в валенках?! В этом весь Параджанов, человек, живущий в своем измерении, в своем религиозном отношении к красоте.
Стоит ли удивляться, что при всей искренности их большого чувства далеко не все гладко складывалось в совместном быту. Давайте задумаемся, а легко ли было еще вчерашней школьнице, а теперь уже прилежной студентке (иначе не позволяло строгое домашнее воспитание) взвалить на свои плечи ведение хозяйства в доме, с утра до вечера переполненном гостями. Да, среди них были яркие, интересные личности, замечательные собеседники, но вся эта интеллектуальная элита Киева оставляла после себя гору посуды, мыть которую приходилось Светлане.
Благодаря демократическому кодексу Параджанова в его дом можно было войти в любое время дня и ночи. И всю эту блестящую (но нежданную) публику надо было принять с артистическим блеском (хотя средства на этот интеллектуальный салон были скудные).
В домашней режиссуре Параджанова родилась новая замечательная идея — красавица жена, напоминающая полотна Боттичелли, должна развлекать гостей игрой на арфе. Искали подходящую старинную арфу долго, иные высокому эстетическому чувству Параджанова не подходили. К счастью (для Светланы), арфы не нашлось. Зато при всем ограниченном семейном бюджете был приобретен огромный старинный рояль. И теперь в обязанность Светланы входило встречать гостей пением — исполнялась «Аве Мария»… Любительская ее игра возмущала музыкально одаренного Параджанова до глубины души, и каждый раз он громогласно указывал на неправильно взятую ноту, доводя Светлану до слез. Великий демократ, как уже говорилось, замечательно сочетал в себе черты типичного деспота, а то и просто самодура. Если приготовленная долма оказывалась хуже маминой, то немедленно летела в унитаз.
И все же она успела родить мужу сына и еще не один год провела с ним рядом, пока наконец в 1962 году не оформила давно назревавший развод.
И… осталась ему верна всю жизнь. При всей своей замечательной красоте, жизнелюбии и уме Светлана так и не вышла замуж и, как мы уже сказали, прошла все зигзаги его драматической судьбы до гробовой доски.
И Сергей тоже не нашел ей замены…
Вот интересное свидетельство близкого друга Сергея режиссера Василия Катаняна, посетившего спустя 20 лет его дом в Тбилиси:
«Даже днем горит керосиновая лампа, украшенная цветами и лентами. В церковных окладах и рамах сусального золота — фотопортреты Светланы, как две капли воды похожей на Роми Шнайдер…»
Он заключал ее портреты в оклады от икон, он снова и снова делал замечательные коллажи, включая в них портреты Светланы, писал самые откровенные исповеди в письмах, с которыми мы познакомимся, продолжив рассказ об их удивительных отношениях. И оставил спустя годы удивительное поэтическое признание киевским друзьям. Послушаем подругу Светланы по университету:
«Это было в канун первомайских праздников. Город был украшен гирляндами электрических лампочек, которые, чередуясь, менялись цветами. Сергей вдруг остановился и сказал: „Знаешь, на что это похоже? Это Светлана… Это она собирается в театр, примеривает бусы!“»
На мой взгляд, это признание не менее сильно, чем неожиданно брызнувшие слезы Дзампано в финале замечательного фильма Феллини «Дорога». Так может видеть и чувствовать только режиссер от Бога.
Свет ее глаз и водопад золотых волос, вошедших в его жизнь, остались навсегда.
Вспоминая такое известное выражение, как «красная нить», можно сказать, что красной нитью в судьбе и жизни Параджанова прошел — золотой волос…
Приведем еще один, весьма о многом говорящий отрывок.
«Они текут, затекают… запутываются и также рапидом распутываются…
Потом ускользают… навсегда…
Спустя десять лет золотой волос во рту.
Человек встает, ищет на голой стене гвоздь… наматывает волос, наматывает…
Утро — голая стена, торчит голый гвоздь…»
Это опять его «Исповедь»…
Обожая мифологию и «джигитовку», он в своих рассказах представлял брак со Светланой как дерзкое «похищение Персефоны». Он ее выкрал и чуть ли не изнасиловал. Такие кавказские страсти…
(А кто-то другой смиренно носил букеты, осыпал на улице цветами школьницу и устраивал долгие экскурсии по Киеву.)
Зато мифология, сама вторгающаяся в его жизнь, распорядилась так, что проводила его в царство Персефоны женщина, рожденная не в Армении, не в Грузии, а выросшая на золотых полях страны, ставшей воплощением плодоносящей Деметры, матери Персефоны…
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины…
Вот и нам придется в этой главе пройти по списку фильмов Параджанова до середины его творческого пути. Под тугими парусами этих кораблей — своих картин он проплыл большую часть жизни, а у нас при рассмотрении их маршрута будет если не бессонница, то головная боль, ибо великая загадка — эти плавания при всей их простоте.
Сознательно ли он служил системе или вынужденно — в силу каких-то серьезных причин? Ответа на этот вопрос никто не дал, а сам мэтр, по своему обыкновению, такого тумана всегда напускал, что пробиваться через его густую завесу будет весьма тяжело.
Итак, для начала обратимся к человеку, близко знавшему Параджанова еще по ВГИКу, киноведу Владимиру Шалуновскому. Перед нами одна из немногих попыток ответить на вопрос: кто вы, маэстро Параджанов? Своеобразный творческий портрет в форме беседы с самим собой…
«— Кто такой Параджанов? Много ли у него фильмов?
— Немного, но фильмов пять есть.
— Какие?
— Разные…
— А точнее…
— Ну, например, „Первый парень“, „Украинская рапсодия“, „Цветок на камне“.
— Да, но ведь это такие… как бы сказать…
— Что ж, можно не стесняться, можно прямо сказать, что это действительно „такие“… не лучшие наши фильмы, что это слабые, неудачные работы. Но тем-то и дорог, тем-то и радостен успех картины „Тени забытых предков“, что появился у нас в кино новый мастер, новый талантливый режиссер».
К статье Шалуновского мы еще вернемся. А теперь подумаем: что же это получается? Жил-был режиссер, снял уже пять больших картин, о которых и сказать-то нечего, и вдруг как черт из табакерки выпрыгнул «новый мастер, новый талантливый режиссер».
Снова у Параджанова сказка… Тридцать лет сидел как Илья Муромец на печи, а потом слез и выяснилось, что это богатырь каких мало…
Чтобы понять, что же произошло, в чем эта оглушительная разница, нам надо сначала вникнуть в эти фильмы. Их никогда не показывают по телевизору, о них не говорят, редко и глухо упоминают… Но они есть! Они существуют… Иногда их смотрят редкие фанаты на редких ретроспективах. Потом растерянно спорят или глубокомысленно молчат. Из песни, как говорится, слов не выкинешь.
Вот и мы не в праве выкинуть из жизни Параджанова сложенные им песни, отснятые им фильмы. То, чего лишен широкий зритель, пусть получит читатель.
Итак, после весьма бутафорского сказочного «Андриеша» Параджанов обращается к современной действительности и снимает фильм «Первый парень» (1958).
В начальных кадрах диктор радостно сообщает, что фильм этот «о комсомольской дружбе, о месте в коллективе». На экране — широкое море подсолнухов. Бескрайние колхозные поля. Радостно кипит работа. Весело поют девчата, богатый выдался урожай.
Следующий эпизод переносит нас в сельский магазин, где происходит знакомство с продавцом Сидором. Какое изобилие товаров, чего тут только нет! Сидор перебирает ткани, называет артикулы. А вот и новинка — капрон! «Дарницкий», — отмечает Сидор. Вот будут рады девчата. Всем есть наряды — на любой вкус.
Коллизия фильма в следующем. Робкий Сидор влюблен во Фросю и приглашает ее послушать соловьев, пение которых вдохновит и его на любовное признание, но главные герои фильма не они, а Одарка и Юшка (первый парень на деревне), их роман развивается гораздо сложней, и именно он стержень картины.
Одарка передовая работница, она выращивает племенных поросят, она же комсорг, спортсменка и студентка-заочница.
Все это всерьез и это не комедия Гайдая: «комсомолка, спортсменка, красавица».
А вот Юшко, хоть и отличный механизатор, но в отличие от Одарки совершенно игнорирует занятия спортом. А ведь какой отличный стадион построил колхоз для своей молодежи! Председатель колхоза дает строгое задание секретарю комсомольской организации Одарке: всем сдать нормы ГТО! Приводим цитату из фильма: «Ты понимаешь, вся молодежь должна быть готова к труду и обороне. Последнее особенно важно».
А вот в этом вопросе молодежь явно хромает. Когда в колхоз из армии возвращается Данило, обученный приемам самбо, то лидерство первого парня переходит к нему. Юшко жестоко наказан за свое невнимание к спорту, но из гордости гнет свое.
Девчата, начав приобщаться к спорту, так и кружатся вокруг Данилы на велосипедах.
Образец диалога:
«Данило (
Председатель (
Воскресный день. Ярмарка. Лихой гопак. Председатели колхоза «Заря» и колхоза «Победа» спорят, у кого арбузы лучше. Пробуют — боевая ничья.
Но тут Одарка поднимает своего племенного поросенка: «— А зато наши поросята лучше!»
Полная победа «Победы», и вдруг поросенок, вырвавшись из рук, мчится прямо на стадион, где проходят соревнования по бегу. Одарка, устремившись за племенным поросенком, обгоняет всех и первой рвет финишную ленту. Все поздравляют ее с очередной победой, но председатель опять недоволен.
«— В футболе отстаем… „Заря“ нас на товарищеский матч вызвала. А у нас хлопцы плохо тренируются. Боюсь, оскандалимся. Футбол поднимай!»
Трудное дело поручили Одарке, а тут еще несознательный Юшко продолжает озорничать. Заревновав Одарку, разговаривающую с Данилой, он выключает свет на танцплощадке и этим окончательно подрывает свой авторитет. Хлопцы, возмущенные его поступком, пригоняют тракторы и, включив фары, дают полный свет для танцев.
Юшка, собрав дружбанов, пытается разобраться с Данилой, но пренебрежение спортом подводит их. Данило, демонстрируя приемы самбо, с легкостью раскидывает их. Ребята поражены.
«Данило (
Следующая встреча Данилы с председателем.
Председатель, одобряя инициативу Данилы:
«— Работаем мы весело, а отдыхаем скучно. Надо их за что-то живое зацепить!»
Если кто-то думает, что все это пересказывается сугубо иронично, тот глубоко ошибается. Это все верность подлиннику и только малая часть того, что предстает на экране. А какие цветущие колхозные поля развернуты перед нами, как весело собирается богатый урожай, какие распрекрасные пейзажи в наших цветущих деревнях, как вьют гнезда аисты. Что касается диалогов, они переданы буквально. Перед нами все та же цветущая витрина счастливой жизни, где у прекрасного конфликт с распрекрасным. И это все уже не сталинские «Кубанские казаки», а еще более цветущая хрущевская колхозная жизнь. Спутники уже в небе, а спорт игнорируем… Нет, много у нас еще недостатков.
Вот только вопрос: строго выговаривая жене, пришедшей знакомиться с импрессионистами в некрасивых теплых ботах, зачем он сам развел такие лактионовско-герасимовские красоты? Как же с тонким чувством эстета? Но давайте дальше проследим, что происходит в фильме.
Одумавшаяся молодежь начинает активно заниматься спортом. На колхозном стадионе закипает такая же бурная жизнь, как и на колхозных полях. Комсомольцы Одарка и Данило показывают пример. Данило даже устанавливает радио на столбе.
Диктор объявляет: «Начинаем концерт по заявкам наших слушателей. По просьбе Данилы Кожемяки передаем адажио из балета „Лебединое озеро“».
Звучит прекрасная классическая музыка, еще более вдохновляющая молодежь на трудовые и спортивные подвиги. Ничего не скажешь, у нашей молодежи замечательный вкус. А как хорошо, с огоньком идет сбор урожая под музыку Чайковского. Снова идут под музыку прекрасные кадры родных просторов.
Эх, хорошо жить и трудиться в стране с прекрасными стадионами, богатыми колхозными магазинами, где чего только нет! Тут, кстати, выясняется, что Сидор умеет замечательно прыгать. Одним прыжком он ловит улетевший воздушный шарик. Фрося в восторге: «Да ты же талант!» И тащит его к председателю колхоза.
Футбольная команда спасена. Можно смело выходить на матч с «Зарей»…
Один только Юшко огорчает своей несознательностью Одарку. Ни «Лебединое озеро» не хочет слушать, ни к футбольному матчу готовиться. Не знает Одарка, что он, талантливый механизатор, придумал специальное устройство, кидающее мячи, и сейчас, запершись у себя в сарае, отрабатывает технику бросков вратаря.
Но вот настает решающий день матча. Гордыня подвела Юшко: не зная, какой он классный вратарь, колхоз «Победа» выходит на поле без него. И ужас: Сидор, оказывается, хорошо ловил воздушные шарики, а футбольные мячи ловит плохо. Напрасно стыдит и взывает к нему Фрося. Гол следует за голом, и «Победа» явно проигрывает. Хотя спортивный парень Данило снова и снова прорывается к воротам противника, но вратарь «Зари» ловит все мячи.
Дальше начинается нечто непонятное… В перерыве Юшко, мечтая наконец показать Одарке, какой он классный спортсмен, незаметно обмазывает майку вратаря «Зари» медом. Во втором тайме на него налетают пчелы. Вратарь соперника таким некрасивым способом выведен из строя, и… Юшко предлагает свои услуги «Заре». Став в воротах, он лихо отбивает все удары Данилы, и «Победа» проигрывает с крупным счетом.
Одарка ранена в самое сердце… Юшко не только перекинулся к «врагам», но и ни разу не помог своим. Что ему стоило пару мячей пропустить…
Все подробно описывать нет смысла… Юшко в конечном итоге оказался не так плох, подогнал трактор и вытащил застрявший грузовик Данилы, хотя и отчаянно ревновал его к Одарке, но, как выяснилось, зря. Данило готовится к свадьбе, но с другой невестой. А Одарка, мечтая помириться с Юшко, ищет повод и, откручивая гайки на свиноферме, вновь и вновь вызывает его для ремонта поильной установки.
«Да что же эти поросята все время дефицитные гайки откручивают!» — удивляется Юшко. (Все есть, но с гайками дефицит.)
Но вот, как-то случайно попав в дом Одарки, Юшко выясняет следующее…
В коробке, где хранятся «сердечные» таблетки, он обнаруживает целый комплект дефицитных гаек и, радостно выбежав на улицу, кричит на всю деревню: «Любит! Она меня любит!»
Так гордая Одарка разоблачила себя…
Урожай собран. Все влюбленные парни: Юшко, Данило, Сидор нашли себе передовых подруг. Спорт поднят теперь на должную высоту.
Дело за щедрыми колхозными свадьбами. И они играются одна за другой…
Вот такой весьма любопытный фильм. Стоит его посмотреть…
Как же получилось, что режиссер, обретший в дальнейших работах яркий, выразительный, сугубо индивидуальный язык, столь последовательно воплощал на экране все постановления товарища Жданова, став типичным представителем соцреализма с его плакатными решениями и откровенной агитационностью? Певцом того, что уже даже в его время было названо «лакировкой действительности»: богатых деревенских магазинов, где прилавки ломятся от товаров, сытых, довольных колхозников, весело собирающих обильный урожай, и прочая и прочая. В какой сказке он все это видел? В каком селе все это снимал? И как получилось, что он так откровенно стал петь хвалебные гимны системе? Той самой системе, с которой затем всю оставшуюся жизнь вел отчаянное сражение?
Все близко знавшие Параджанова на протяжении всей его жизни отмечают, что с годами он практически не изменился, всегда был эстетом, необыкновенным выдумщиком, обладал удивительным чувством красоты.
Откроем еще раз воспоминания Шалуновского, оставившего интересный портрет Параджанова-студента.
«Когда во ВГИКе близилось время показа курсовых работ, когда готовились дипломные работы, студента Параджанова чуть ли не одновременно можно было увидеть сразу в нескольких местах. За день он ухитрялся побывать в Пушкинском, Историческом музеях, в библиотеке, на выставке, в антикварном магазине, на нескольких частных квартирах. Он уточнял, какой должна быть прическа у героини, какой перстень и на каком пальце она его носит, какой цвет и фасон платья.
В одном доме он выпрашивал на пару дней кусок парчи, из другого, оставив что-то в залог, приносил статуэтку. Он старался не только для себя. Его энергии, его энтузиазма хватало и на товарищей по курсу.
Когда появились картины, созданные Параджановым в Киеве, картины, далекие от совершенства, то никто и не пытался выдать их за шедевры. Да этого и при желании невозможно было сделать. Слишком очевидными оказались их слабые стороны».
Вот и гадай, почему у яркого и явно неординарного студента оказались такие фильмы. Мистика… Черный Вихрь заколдовал…
Даже еще во многом незрелом дебюте Тарковского «Каток и скрипка» угадывается почерк интересного режиссера. Еще интересней его курсовая работа «Сегодня увольнений не будет», рассказывающая, как в мирное время саперы обезвредили неожиданно обнаруженный в подвале склад со снарядами, который мог разнести целый квартал.
Лаконизм, сдержанность решений, отсутствие малейшей плакатности и в то же время через точные детали переданный драматизм происходящего позволяют обнаружить здесь все то, что потом развернулось в полную силу в «Ивановом детстве». Да, это еще явно ученическая работа, но в ней уже чувствуется художник, который спустя годы снял «Сталкера». В главном герое, которого замечательно сыграл Олег Борисов, передано такое же удивительное и экзистенциальное одиночество, какое мы ощутим в созданном спустя годы герое Кайдановского.
Неуловимое родство почерка позволяет сказать, что его сталкер вышел из аскетизма той самой саперной шинели, с которой Тарковский впервые предстал на экране.
В случае Параджанова не удается обнаружить ни одной молекулы, ни одного гена, позволяющих идентифицировать его ранние и поздние фильмы… Парадоксальная личность с парадоксальной биографией.
В подтверждение попытаемся рассмотреть его следующую работу.
Итак, «Украинская рапсодия» (1961).
Молодая украинская певица Оксана едет на международный конкурс.
Вокруг нее типичный злобный Запад со звериным оскалом капитализма. Дети, вынужденные для прокорма торговать газетами, кричат о грядущей сенсации: «Певица из Советского Союза выступает в театре „Капитоль“!» Полицейский безжалостно гонит безработного, прилегшего на скамью.
Чужой город, чужие лица, все чужое… Шикарные лимузины подъезжают к театру, из них выходят роскошные надменные дамы. Сноб недовольно бросает: «В музыке я предпочитаю военные марши!» Его слышит инвалид в кресле (мечтает о концерте, но слишком дорогие билеты) и отвечает: «Вы ничему не научились!»
Строгому жюри не нравится ни одна из певиц. Но вот запевает Оксана. Воспоминания… Родные просторы. Девчата плывут на плотах, поют лирические песни. Естественно, опять подсолнухи и опять аисты вьют гнездо. Возлюбленный Оксаны, Антон, сорвав кувшинку, гребет ей навстречу.
«— Ох и хорошо ты поешь, Оксана.
Слушают соловья.
Оксана. А все же у него выходит лучше.
Антон. Нет, Оксана, когда ты поешь, все вокруг замирает, слушает тебя. (
Диалоги приведены дословно…
Оксана после стыдливого поцелуя (на дальнем плане) убегает и пускает венок плыть по речке. Бежит через желтые гречишные поля. Очень красиво…
Слушают выступление Оксаны простые труженики Запада. Светлеют лица классово солидарных слушателей. Нарушив регламент, ей дают петь три песни подряд: как народные, так и из классического репертуара. Заслушалось даже строгое жюри. Победа! Первую награду, несмотря на недовольство снобов, получила советская певица!
Оксана едет домой.
«Оксана (
На экране возникает Антон в изодранной майке:
«— Три года я ждал этого дня! Я возвращаюсь будто с того света. Оксана, наверное, не узнала бы меня».
Оказывается, Антона держали в тюрьме подлые американские оккупанты. Они встречают его у ворот тюрьмы со злобно рычащими овчарками.
Вокруг развалины. Оккупанты мародерствуют, тащат вещи, мебель из немецких домов. Есть что ободрать в Германии, есть что вывезти в Штаты.
Антон: «Прощай, Германия. Жестоким огнем обожгла ты юность мою. И сама обгорела в этом огне. Но души ты моей не смогла растоптать. Она вновь расцветает мечтами». Скупая улыбка освещает лицо Антона. Приятные воспоминания.
В кадре снова плывет венок, пущенный Оксаной. Хор сельских девушек. Впереди Оксана. Сельчане аплодируют.
«— Продолжаем концерт. Романс Римского-Корсакова. Исполняет наша землячка, студентка Киевской консерватории».
Поет Оксана романс. Внимательно слушают ее колхозники. Очень любят они классическую музыку, ценят… Не могут без нее.
Вечер. Оксана, прощаясь с Антоном, дарит ему яблоко.
«Оксана. Только прощаясь с Антоном, я поняла, как мы любим друг друга».
А дальше тревожно качаются березки. На фоне грозового неба идет Антон.
Начинается война. Вернее, оперное действо. Наступают немцы с карикатурно злобными гримасами. Бутафорский танк давит бутафорскую хату. Огонь…
Все это описать невозможно. Изложим основной сюжет. Антон на фронте. Оксана вместе с консерваторией оказалась в глубоком тылу.
«Украина в огне! Разве сейчас время для песен?» — заявляет она педагогам и уходит работать медсестрой в госпиталь. В нее влюблен красивый талантливый певец Вадим, но, хотя от Антона нет никаких вестей, Оксана сурово отвергает все знаки внимания с его стороны.
А Антон попал в плен. Эшелон с пленными. Тихо поют народную лирическую песню. Уходят в воспоминания.
Злобный немец (как и положено типичному фашисту) кричит: «Не сметь!» Стреляет в живот поющему. Поднимается другой. Запевает: «Распрягайте, хлопцы, конив!» Немец стреляет и ему в живот. Пленные в вагоне набрасываются на него, отнимают автомат и, пробив дырку в полу вагона прикладом, начинают тикать в пробитую дыру. Немец бессильно плачет.
Антон под колеса не попал, он жив и бежит к разрушенному костелу. Здесь уже добрый немец на органе играет Баха. Любовь к классической музыке объединяет их, и немец прячет Антона в подвале.
Оксана поняла, что она как артистка на фронте нужней, чем как медсестра в тылу, и начинает снова петь. Звучит «Песня Сольвейг», почему-то ее выступление сопровождается балетом. Зато как светлеют суровые лица бойцов, ведь каждого из них ждет своя Сольвейг. Оксана дарит им надежду.
Благодарные бойцы дарят Оксане парашют: «Сшейте из этого шелка себе концертное платье».
Серия взрывов. Война окончена. Теперь и Антон может выйти из подвала. Радостно бежит он навстречу вошедшим в город американцам и первым делом бросается к классово близкому солдату-негру. Негр, конечно, радостно обнимает его. Зато это очень не нравится белому злобному сержанту. Он яростно хватает Антона и ведет его в комендатуру. Хитро кривя рот, офицер в комендатуре снова арестовывает Антона:
«Будем соблюдать некоторые юридические формальности». С зловещим скрипом закрываются за Антоном двери мрачной тюрьмы. Три года — больше, чем в немецком плену, — пробыл Антон в американской неволе.
Параджанов идейно правильно реагирует на обострение «холодной войны»: как раз к тому времени разыгрался Карибский кризис.
И вот, в разорванной майке, вконец измученный, Антон выходит на свободу. Добрый немецкий друг (реверанс в сторону ГДР), так любящий Баха и Бетховена, заботливо одев его, провожает на вокзал.
И вот на случайном полустанке возвращающиеся на родину Антон и Оксана встречаются и бегут навстречу друг другу. Объятия, поцелуи… Выходят на берег Днепра (он тут рядом).
«Здравствуй, Днепр, мы пришли поклониться тебе. Днепр! Еще вчера над тобой царила ночь. Как изранены твои берега. Теперь над тобой сияет солнце. И твои могучие волны звенят как музыка».
Звучит музыка. Текст дословный. На высоком берегу стоят счастливые Антон и Оксана и уверенно смотрят в светлую даль.
Вот такое интересное творение. Советую разыскать и посмотреть этот фильм. Красочных деталей в нем гораздо больше, чем в нашем беглом пересказе.
Ну а теперь для полной картины творчества Параджанова тех лет продолжим наши изыскания и копнем поглубже. Найдем совсем уже забытые и малоизвестные работы. Это документальные фильмы «Думка», «Наталия Ужвий», «Золотые руки».
Почему-то и Музей Параджанова, и даже такой серьезно работающий с архивами киновед, как Джеймс Стефан, указывают, что все они сняты в 1957 году. Получается, что в этот год Параджанов с головой ушел в документалистику.
Это лишнее подтверждение тому, что фильмы эти давно никто не видел. За один год даже документальные фильмы с такой разной тематикой и разными героями снять невозможно.
Внесем ясность.
Итак: «Думка» — 1957 год, «Наталья Ужвий» — 1959-й, «Золотые руки» — 1960 год. Все фильмы сняты на Студии художественных фильмов имени Довженко для Украинского телевидения. После весьма скромного успеха «Андриеша» и «Первого парня» у Параджанова наступила долгая пауза в игровом кино, и тогда возникли эти, по сути заказные, телевизионные фильмы. Надо же было на что-то жить. Тем более что он теперь имел семью.
Что же перед нами на экране?
«Думка» — 26 минут.
Фильм посвящен Государственной заслуженной академической капелле Украинской ССР «Думка». Музыкальный фильм, но, выражаясь современным языком, можно сказать, что это клип. На экране музыка с разными иллюстрациями. Картинки под песни возникают самые разнообразные. Начинается фильм с революционной песни, и на экране — различные героические скульптуры: рабочие, рвущие цепи, есть и знаменитая работа Шадра «Булыжник — оружие пролетариата» и так далее.
Зато в песне «Над Днепром» вместе с плывущими парусниками снова и снова бегут влюбленные: по мосту, под мостом и т. д.
В песне «Соловейко» солирует Бэла Руденко и снова плывут цветущие сады, красивые закаты и разные лирические пейзажи. Есть и народные песни, иллюстрированные рисунками с бандуристами, едущими казаками, разными жанровыми деревенскими зарисовками.
Сам хор снят исключительно фронтально, с дородными хористками на первом плане. Заканчивается фильм кантатой во славу коммунистической партии с торжественно наплывающим во всю ширь экрана барельефом Ленина.
«Наталья Ужвий» — 36 минут.
Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, трижды удостоенная ордена Ленина и дважды лауреат Сталинской премии, Наталья Ужвий создала много интересных ролей. В кино ее главная роль в фильме «Радуга» М. Донского, в театре — образ Кручининой. На Украине ее популярность была чрезвычайно высока. Мастерство и богатый жизненный опыт помогали ей создавать полнокровные, яркие, полные драматизма образы.
Но портрет известной актрисы у Параджанова получился сугубо парадный. Ужвий с цветами подходит к Вечному огню. Принимает экзамены у студентов. С колхозниками сажает в селе дерево. Как депутат участвует в работе съездов партии.
Эти немногие документальные кадры сопровождаются огромными фрагментами из фильмов «Выборгская сторона», «Богдан Хмельницкий», «Радуга» и других. Так же скучно показана ее работа в театре. Снова длинные фрагменты из спектаклей, и в конце фильма — торжественный юбилейный вечер.
Актриса, сидя в кресле, принимает поздравления и потом торжественно обещает и дальше служить партии и народу.
В этой работе нет ни малейшего желания заглянуть в непростой внутренний мир яркой актрисы, рассказать что-то личное, индивидуальное. Перед нами не портрет, а фотография на анкете с перечислением официальных данных.
Где фантазия Параджанова, где его яркая индивидуальность? Одно рабское стремление услужить системе и сделать фильм по всем официальным установкам и правилам, не отходя ни на шаг в сторону от принятых канонов.
«Золотые руки» — 34 минуты.
Об этой работе тоже говорили, что Параджанов в ней наконец блеснул талантом и, погрузившись в столь любимый им мир народного творчества, подготовил площадку для будущего взлета. Увы, даже погружение в мир действительно любимых им народных умельцев — гончаров, резчиков по дереву, стеклодувов — дает все тот же скучный и банальный результат. Казалось, тут не официальные, удостоенные государственного статуса герои, да и на дворе все-таки уже 60-й год. Блесни наконец…
Нет, не блещет, и здесь старательно поет оду партии. Отмечает ее трогательную заботу о народных мастерах и то, как они в ответ благодарно вышивают образ Ленина на ковре, воспевают дружбу народов и даже в своих скромных работах идут в ногу со временем и создают идейно верные работы.
Под революционную музыку «Варшавянки» возникают вылепленные и вырезанные из дерева буденновцы, несущаяся тачанка и т. д. Зато в разговоре о тяжелом прошлом возникают под зловещую музыку вырезанные из дерева кресты. Вот как раньше измывались над народными умельцами, вот что попы заставляли их вырезать. Из какого мрака наконец вышли…
Фильм снова завершает торжественная кантата во славу партии родной, принесшей счастье и освобождение от ига и мракобесия.
Все это, повторюсь еще раз, рассказывается бегло, в самых общих чертах. Невозможно описать кондовый, патетический дикторский текст, всех карикатурных, грубо обрисованных злодеев, вызывающих сегодня недоумение, омерзительных американских оккупантов, гримасничающих фашистов или грубого царского городового, ожесточенно преследующего народных мастеров и злобно топчущего их прекрасные изделия.
Но посмотреть эти фильмы или хотя бы получить представление о них необходимо. Без этого невозможно понять и представить метаморфозы Параджанова. Тот разительный контраст между ранними и последующими его работами.
А ведь все это создавалось уже не в условиях сталинского диктата. Не из-под палки, не в зоне и не в «шарашке»…
В эти годы в советском кино начался один из самых ярких и интересных периодов. Уже вышли на экран «Летят журавли» Калатозова (1957), «Дом, в котором я живу» Кулиджанова и Сегеля (1957), «Баллада о солдате» Чухрая (1959), «Судьба человека» Бондарчука (1959), «Дама с собачкой» Хейфица (1960), «Мир входящему» Алова и Наумова (1961) и множество других интересных картин. В этих фильмах не было ни плакатности, ни одиозного служения партийным установкам. Они демонстрировали не только реальность и жизненность своих героев, но и яркий режиссерский почерк, интересные свежие решения. Все то, чего нет в удивительно трафаретных решениях фильмов Параджанова.
Но в нашем «списке кораблей» мы еще не дошли и до середины…
Впереди один из самых неудачных его фильмов — «Цветок на камне» (1962).
На этот раз, преданно выполняя приказ системы, Параджанов бросился искоренять баптистов, против которых в эти годы развернулась яростная идеологическая война.
Среди всех художественных фильмов Параджанова «Цветок на камне» единственный черно-белый. Это решение было принято не случайно. С одной стороны, врагов надо было представить в черном цвете. С другой стороны, Параджанов не мог не замечать, какие интересные изобразительные решения возникают в фильмах его студенческих друзей и других режиссеров нового поколения. Вспомним, что в эти годы появились замечательные фильмы Феллини, Антониони, первые фильмы режиссеров «новой волны», снятые в черно-белом изображении.
Сразу скажем, что черно-белые поиски Параджанова закончились ничем и в дальнейшем он снимал только в цвете.
О чем же рассказывается в этом фильме?
На давно обжитой донбасской земле, но в голой степи (?) высаживается отряд молодежи. Здесь явный привет от популярных в те годы целинников. Молодежь осваивает «новые» земли. Огромный плакат «Здесь будет построена шахта „Комсомольская“» объясняет, чего ради они сейчас будут ставить палатки, организовывать полевые кухни и так далее, хотя давно обжитой поселок стоит тут же рядом.
Гроза, молния, под потоками дождя молодежь продолжает свой ударный труд. Все эти сцены явно повторяют многие подобные фильмы, воплощавшие энтузиазм 30-х годов. Тащат рельсы, укладывают шпалы… Ощущение, что еще раз снимают «Как закалялась сталь»… Но то, что было органично для эпохи Гражданской войны, сейчас, в 60-е, воспринимается, прямо скажем, неестественно. Что за дикий энтузиазм, что за пожар?
А враг, конечно, не дремлет… Сцена в черной зловещей графике показывает нам «резидента», дающего задание неопытной девушке Христине. Приводим дословный текст:
«— В Донбасс поедешь. Шахту строить будешь. Там трудно… Но где трудно, там к Богу тянутся. Хорошо будешь работать. Примером будешь. Друзьями обрастешь. Через год я приеду…»
Последний штрих: Христине вручается крест, она благодарно целует его и готова на любые жертвы ради правого дела.
Картинка ясна… Пока советская молодежь не щадя живота своего строит коммунизм, черные силы религии плетут свои мрачные сети. Зловещая музыка красноречиво ставит акценты, доводя до непонимающих кто есть кто. Где наши, а где враги…
Пройдет всего несколько лет, и Параджанов будет вдохновенно воспевать средневековые храмы и духовные университеты. С трепетом и восторгом раскрывать древние манускрипты с евангельскими текстами…
Зато сейчас он недрогнувшей рукой поднимает разящий меч ради близкой победы коммунизма, который совсем уже рядом, и подтверждением этому — мигом выросшая шахта «Комсомольская», где закипает ударная работа.
Основная сюжетная линия фильма бесхитростно повторяет «находки» из «Первого парня». Снова положительная светлая героиня — блондинка Люда, комсорг, отличница, скромница, красавица. Снова непутевый, нагловатый, порой выпивающий, но хорошо работающий и весь в душе положительный красавец брюнет Гриша (его, как и в «Первом парне», играет Г. Карпов), добивающийся любви положительной героини.
Рядом тоже страдает, но так же ударно работает другая любовная пара: заблудившаяся во Христе Христина, направленная для вредительства на стройку, и Арсен Загорный — передовик производства, любитель классической музыки, активный комсомолец, мечтающий вырвать Христину из секты и привести ее в комсомол. Эти сердца четырех мечтают, любят, страдают под бдительным, но чутким оком мудрого и строгого парторга, отечески исправляющего их отдельные ошибки. Все действие развивается на фоне ударно работающей шахты.
Через 25 лет, в 1988 году, Параджанов приедет в Мюнхен с фильмом «Ашик-Кериб». В своем интервью под общий восторг и аплодисменты он с присущим ему мастерством будет рассказывать, как ему чуть ли не выламывали руки, заставляя снимать соцреалистистические фильмы.
Ну, здесь мэтр опять явно лукавит…
Посмотрим несколько «насильно» снятых им эпизодов…
Истово молятся сектанты, бьются лбами о пол, вздымают руки: «Господи! Дай дух! Дай дух!» Хитрый глава секты напоминает им, чтобы не забывали о приношениях, и одурманенный народ несет ему свои трудовые заработки.
А на шахте кипит работа. Комсорг Люда лично спускается в шахту, чтобы проверить, насколько ударными темпами идет трудовое соревнование. Зато Гриша продолжает вести свой баламутный образ жизни: устроил большую пьянку по поводу успешного выполнения плана своей бригадой.
«— Хлопцы знамя завоевали, а им даже сто грамм не выставили… Вот я и угостил.
— Зато сегодня тридцать два человека на работу не вышли! — укоряет его Люда.
— Тридцать два! Вот слабаки… Мамзель комсорг, что вы этих слабаков жалеете».
Люда принимает жесткое решение: опубликовать в стенгазете карикатуру на Гришу. Назавтра вся шахта обсуждает карикатуру, и Гриша наконец задумывается и делает первые выводы. Положительное влияние Люды начинает давать плоды.
Параллельно с их трудным романом, где два передовика пытаются, переступив гордость, найти путь друг к другу, развивается роман Христины и Арсена. Постараемся достаточно точно воспроизвести сцену их объяснения.
Арсен. Я люблю тебя! Люблю…
Христина. Вы не должны любить меня. Нет!
Красиво убегает на фоне индустриального пейзажа. Съемки с острых ракурсов и музыка подчеркивают драматизм сложившейся ситуации. Арсен догоняет ее, обнимает, и Христина в слезах открывает наконец страшную тайну…
— Я хожу в секту! Я верю в Бога и люблю его больше жизни…
Вздымает высоко руки к небу на фоне высоковольтных электромачт. Модные острые ракурсы и строгая черно-белая графика кадра подчеркивают дикость ее слов на фоне успешно развивающегося научно-технического прогресса.
Арсен. Я все о тебе знаю.
Христина (
Арсен в сомнениях.
Христина (
Арсен (
Музыка. Идут на фоне высоченных терриконов, этих рукотворных гор, созданных благодаря человеческому разуму. Неужели коварный план резидента удался, и Христина смогла завербовать одного из самых передовых и образованных комсомольцев?
Секта. Сестры во Христе, стоя на коленях, по-рабски моют ноги главе секты.
Довольно оглядев Арсена, он кивает головой:
— Бог привел к нам нового брата. Как зовут?
— Арсен Загорный.
В следующей сцене глава секты приступает к работе. Сейчас он уже в кавалерийских сапогах, военизированная одежда подчеркивает, что здесь шуточки плохи. А сектанты, высоко подняв руки, по-прежнему шепчут:
— Господи! Дай дух… дай дух…
Глава секты. Попросим Бога, чтобы с нашей безграничной любовью он принял от нас и наши скромные дары.
Вся секта, продолжая стоять на коленях, рабски повторяет за ним:
— Наши скромные дары… Прими, Господи, наши дары.
Глава секты испытующе смотрит на Арсена. В его руках теперь Библия.
Наезд… Крупными буквами надпись: «Американское Библейское Общество, Нью-Йорк»… Вот, оказывается, чье задание он выполняет. Вот куда они прокрались. А бедная Христинка даже не догадывается…
Глава секты театрально падает на колени, истерично…
— Открылась мне истина с приходом брата нашего новоявленного! Бог жаждет веры! Согласен ли ты отдать свою кровь?
Арсен (
Глава секты (
Арсен и Христина возвращаются на фоне индустриального пейзажа.
Христина. Мне страшно…
Арсен молчит.
Оставшись один, глава секты условным стуком вызывает своего агента. Тот возникает, отодвинув доску в стене. Оказывается, он все время вел тайное наблюдение.
Глава секты. Кто такой этот Арсен Загорный?
Агент. Член комитета комсомола. (
Глава секты. А что ему от нас надо? Боюсь, не придет завтра…
Агент (
Подтверждая свою интеллигентность, Арсен играет в клубе на скрипке. Внимательно слушают его шахтеры, светлеют, добреют их суровые лица.
Музыка перебрасывается на стройку. Сварка, балки, металлические конструкции — все снято лихо, ракурсно, стильно, в духе передовых фильмов своего времени. Зрителю ясно, как музыка Чайковского повышает производительность труда.
Снова клуб. Христина зачарованно слушает Арсена. Она привыкла видеть его с отбойным молотком, а он в свободное от работы время покорил скрипку и сейчас явно покоряет ее сердце.
И вдруг перед ее глазами возникает огромное блестящее лезвие топора! Завтра глава секты этим топором отрубит палец Арсена!
Вдохновенно играет Арсен. Забыл, какое страшное испытание ждет его завтра…
Под взмахи смычка сменяются крупные планы. Глаза Христины… Зловеще блестит лезвие топора.
Огни сварки на ночной стройке добавляют драматизма.
С завтрашнего дня не будет музыки Чайковского… Арсен больше никогда не возьмет в руки скрипку. Перед глазами Христины возникает еще одно зловещее видение: сектанты, стоя на коленях, снова протягивают руки. Но теперь они хотят схватить Арсена, хищно тянутся к нему.
— Я буду просить Бога, чтобы он не требовал от тебя такой жертвы, — шепчет она.
На следующий день Арсен, конечно, не идет на заклание. Это все была разведка… Вместо отсечения пальца он, просвещая Христину, ведет ее в краеведческий музей и показывает происхождение угольных пластов. На одном из них отпечатался древний папоротник — тот самый цветок на камне, который и дал название фильму. С высоко поднятыми комсомольскими знаменами мчится грузовик с молодежью, среди них — счастливая Христина.
Дальше начинаются непонятные экскурсы в историю Донбасса.
Рассказ о том, как доставили царю Петру первый уголь и как он сразу оценил эту находку. Горит уголь — аристократы, все в черной саже, жутко недовольны, а Петр в отличие от них счастлив и звонко смеется.
Потом по такой же невнятной логике следует еще одна историческая картина.
Рассказ: какие горькие дни были в Донбассе, когда хоронили «нашего Ильича». Скорбно воют гудки, застывшие в горе лица, рабочие снимают траурно шапки. И наш ответ на эту тяжелую потерю — самозабвенный труд и так далее.
Прямо скажем, все эти исторические экскурсы сняты, смонтированы и включены в ткань фильма довольно топорно, не говоря уже о том, что их возникновение весьма непонятно. Остается предполагать, что исторические картинки возникли в рассказах Арсена, наверное, он занялся просвещением Христины, но монтажной связи нет.
Одновременно со всем этим развивается трудная любовь Гриши и Люды. В порыве нежных чувств Гриша дарит Люде кусок угля. Люда возмущена до глубины души этой его очередной грубостью и в слезах убегает.
Но мудрый парторг в ответ на ее жалобу, покачав головой, объясняет, какой бесценный подарок сделал ей Гриша:
— Этот камень срочно в музей надо нести — на нем же отпечаток папоротника! Миллион лет этому цветку, — указывает он ей. — Гриша поэт! А ты не поняла…
Оскорбленный в лучших чувствах Гриша затеял новое дело. Он больше не пьет и гонит прочь всех корешей-алкашей. Придя в общежитие и собрав всяких шахматистов и прочих интеллектуалов — «ботаников», как сказали бы сейчас, — он решил создать из них новую бригаду. Смеется братва: как же ты с такими работать будешь?
Но Гриша упрямо ведет новую бригаду в шахту.
— Вся красота на земле от человека. Гагарин в небо поднялся, а мы под землю уйдем. Главное — поверить в свои силы!
И ведь действительно добился своего. Бригада, набранная из «ботаников», становится передовой. Сцена в душе после трудовой смены.
— Как же вы нас обогнали? — спрашивает удивленно один из шахтеров.
— Не слышу! — довольно смеется Гриша. — Повтори еще раз… Повтори громче!
Парторг, заметив положительные перемены в Грише, вызывает его к себе.
Ночь. Бьют куранты. Но парторг, как всегда, бодрствует. Гриша после трудовой смены заходит к нему.
Парторг откладывает книгу — Стендаль, «Красное и черное»:
— Обязательно прочти… Очень рекомендую. Возьми ручку — пиши заявление.
— Зачем? — удивлен Гриша.
— Пора тебе свою квартиру иметь. О семье задуматься надо.
Так ненавязчиво и тактично парторг ведет к тому, чтобы Гриша и Люда создали наконец счастливую и здоровую семью. Давно уже пора двум гордецам объясниться. Знает парторг, что большое у них и светлое чувство. Вот и проявляет настоящую отеческую заботу. Именно так партия должна воспитывать горячие комсомольские сердца.
Не только Стендалем, но и классическим балетом наполнен культурный досуг шахтеров. На выстроенной прямо перед шахтой сцене, почти как фронте, но на этот раз трудовом, танцует балерина. Христина и Арсен с наслаждением слушают знакомую музыку Чайковского. Потом продолжают диспут.
— Жертвы-то ваши даром несете, — объясняет Арсен.
— Остановись! Это неправда! — возмущена Христина.
Желая укрепиться духовно и отогнать сомнения, она бежит к главе секты.
— Хорошо, что вернулась, — радуется он ей. Затем, плотоядно обняв, ведет в заднюю комнату. — Женой моей станешь. Уедем отсюда. Счастливы будем. Смотри…
Здесь, в задней комнате, у него настоящая пещера Али-Ба-бы. Чего только нет в набитых сундуках! Серебряные чаши, золотые цепи, драгоценные камни.
Христина потрясена! Так вот где собраны поднесенные от чистого сердца дары. Не для Бога, оказывается, их собирали… Правду говорил Арсен!
— О каком счастье говорите! — возмущенно кричит она старому развратнику и, оттолкнув его, убегает, поняв наконец, как жестоко ее обманывали.
Гриша получил новую квартиру. Застенчиво несет он купленный абажур в новую квартиру. Но для кого этот абажур, если рядом нет любимой? Вокруг обживают выстроенные дома счастливые новоселы. Целые кварталы ждут новых жильцов. Жилищная проблема успешно разрешена. Но и враг по-прежнему не дремлет… Снова плетет черные сети заговоров. Глава секты задумал жестоко наказать Арсена.
Купив ящик водки, он щедро раздает бутылки алкашам и подговаривает их избить Арсена, отнявшего у него Христину.
— Действуйте, но осторожно, — предупреждает он.
Пьяные наймиты, подкараулив ночью Арсена, набрасываются на него. Христина зовет на помощь Гришу. Но что он может один против целой банды? Забыв почему-то Арсена, алкаши начинают мутузить невинного Гришу.
На шахте тревога! Воют, завывают гудки. Беда! Бегут на помощь шахтеры. Выбегают из новеньких домов новоселы. Все спешат на помощь. Бежит взволнованная Люда. «Отобьем Гришу, не дадим в обиду!»
Сектанты и их главарь наконец разоблачены и арестованы. Жестоко избитый Гриша, весь в бинтах, лежит в больнице. Смущенная Люда приносит ему молоко. Но гордячка по-прежнему не хочет признаться ему в своей любви.
А вот и Арсен с Христиной. Они тоже принесли больному молоко. И даже целую банку дефицитной сгущенки.
Заключительные кадры. По дороге идет гордая, не признавшаяся в своей тайной любви Люда. Ее догоняет на мотоцикле выздоровевший Гриша, кружит возле нее. Наконец мы видим, что Люда садится на его мотоцикл. И они устремляются вдаль по светлой дороге… И все у них есть теперь для счастья: и любовь, и новая квартира.
Мы постарались передать основной событийный ряд и многие эпизоды в довольно беглом пересказе. На самом деле любовно и весьма сочно выписанных деталей в этом вдохновенном сказании о светлой любви и черных делах баптистских секций гораздо больше.
Вряд ли такое можно было снять насильно, с выкручиванием рук…
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу.
И вновь обратимся к классике… Гоголь, задав вопрос, вошедший во все хрестоматии — «Знаете ли вы украинскую ночь?» — сам же дал ответ: «Нет, вы не знаете украинской ночи…»
Вот мы в своем путешествии и оказались в самом сердце этой загадочной ночи, где так много чудес и тайн. Прикоснулись к парадоксам одного из интереснейших режиссеров XX века, заглянули в фильмы, которые заняли большую половину его «земной жизни».
Как же они возникли и почему удивительным образом исчезли, не оставив в дальнейшем его творчестве ни малейшего следа? Ни одного похожего кадра, ни одного сходного эпизода?
Если для появления этих фильмов можно найти какие-то поводы, причины и логические объяснения, то, возможно, исчезновение их тоже имеет свое обоснование.
Просмотрев его картины разных лет даже через лупу монтажного стола, замедляя или останавливая любой кадр словно для криминалистической экспертизы, мы не сможем установить никакого генезиса, ни малейшего следа, подтверждающего единство авторской руки. Был содеявший их, был сотворивший и… исчез! В одной (большей) половине жизни их снимал один человек; в другой — иная рука. Поставить эти фильмы рядом могут только титры… И в первой, и во второй половине списка его картин указана одна и та же фамилия — Сергей Параджанов! Это все он… Это его непостижимые метаморфозы!
Как же нам выбраться из лабиринта, в который нас завел Параджанов? Как нам разобраться в этой его (далеко не единственной) мистификации? Где та нить Ариадны, которая поможет нам выйти из его поистине иррациональных жизненных лабиринтов? Нет ни Ариадны, ни ее заботливо протянутого клубка, но есть пароль… И был он произнесен в начале нашего повествования — хаш\ Истина трансформированного мяса…
Подобно тому, как твердые бычьи копыта не имеют ничего общего с тем нежным «нечто», что плавает в золотистом бульоне, который с наслаждением проглатывается по утрам, неся облегчение от похмельной «ломки», так и мы через это превращение найдем спасение.
Попробуем с помощью этого «пароля» избавиться от «головоломки», которую нам преподнес улыбчивый мэтр.
Приходится констатировать: Параджанов владел секретами перевоплощения. И это доказано и его необыкновенными переходами от одной национальной культуры к другой. И тем, что он мог снимать фильмы и на христианские, и на языческие, и на исламские сюжеты.
Стоит ли тогда удивляться, что, выступая как ярый атеист и обрушиваясь на несчастных баптистов, он в дальнейшем смог так виртуозно перевоплотиться и начать снимать вдохновенные фильмы про монахов и поэтов.
Итак, движение по лабиринту Параджанова начато…
Но неужели вместе с трансформацией творческой он так же лихо перевоплощался духовно? И чем тогда это оплачено?
Но здесь мы можем привести в его оправдание многочисленные свидетельства. Как было уже сказано, на самых разных этапах своей жизни — будь то годы студенчества, годы зрелости или годы заключения — он всегда оставался самим собой. И не было никаких духовных трансформаций, не было никогда двуличности. Просто он всегда был
Вспомним его самую первую профессию — он начинал как кукольник, мастер, делающий игрушки. Он делал куклы всю жизнь… Делал куклы, приступая к первой своей дипломной работе, делал куклы в лагере строгого режима, делал куклы в долгих годы простоя, когда не снимал фильмы. Начал свой творческий путь со сказки, сняв «Андриеша», и закончил сказкой «Ашик-Кериб», а посередине пути были запущенные в производство, но так и не снятые сказки Андерсена — замечательный сценарий «Чудо в Оденсе», для которого он также делал эскизы и куклы.
И, пытаясь воссоздать его портрет, мы найдем в нем удивительное сочетание двух образов — стойкого оловянного солдатика и хрупкой картонной балерины, которых он запечатлел и в своих рисунках.
Неизменные
И потому, переплавляя в огне, трансформируя свое творчество, он все же оставался тем же стойким оловянным солдатиком, не превращался ни в пепел, ни в тяжелый свинец, ни в двуличное золото, равнодушно меняющее своих хозяев.
Не случайно на одном из лучших фотопортретов, снятом его любимым фотографом Юрием Мечетовым, он запечатлен в прыжке.
И именно миг, перелитый в бронзу, застыл сейчас на Хлебной площади в Тбилиси. Сравнивая этот памятник с другими, установленными в Киеве и в Ереване, нельзя не признать именно его лучшим и наиболее точным, ибо именно в прыжке его суть!
Фильмы, которые сняты в первой половине его жизни и в которых так много кадров, воспевающих красоты поэтической украинской ночи, принято называть слабыми, но на самом деле это крепыши, возможно, даже чересчур и подозрительно здоровые.
Их нездоровье в сверхздоровой идеологической правильности. В них благостная картинка: художник и система идут, дружески обнявшись, рука в руке, нога в ногу по светлой дороге к будущему. Эту идиллию нарушает только — будущее… Продолжение этого маршрута оказалось совершенно иным.
Вспомним, и то, что Параджанов никогда не ходил на партсобрания и ни одной минуты не состоял в партии, чтобы подозревать его в старательном и усердном холуйстве. В чем-чем, а в карьеризме его нельзя обвинить.
Так в чем же тогда секрет?
Параджанов играл в куклы! Всегда… Сказочный мир завораживал его, и он не покидал его
Ирреальный, сказочный, условный мир манил его всегда. Другое дело, что поначалу он создавал его сугубо бутафорскими средствами в фанерных и картонных декорациях. Даже натурные съемки, поддерживая единство стиля, получались у него похожими на театральные задники.
Верил ли он сам в тот мир, который создавал на экране? Или работал, как говорится, прокорма ради? Наемный батрак советской киноиндустрии, усердный верноподданный служака, один из винтиков идеологической машины.
Безусловно, верил… И не было никакой двуличности. Очередная его байка о выкручивании рук возникла много лет спустя. Верил, как верили в те годы многие… Перелистаем известные стихи тех лет из сборников Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы. Вспомним наполненные таким патриотическим накалом песни Высоцкого, посвященные военной тематике. Так страстно можно творить, только страстно веря.
А фильмы? «Коммунист» Райзмана, «Отец солдата» Чхеидзе, «Чистое небо» Чухрая, «Ветер» Алова и Наумова и многие, многие другие творения тех лет. Пьесы Розова, Шатрова, Арбузова и т. д.
Ходкая мифологема, запущенная Хрущевым: вот вернемся к ленинским нормам, и все у нас пойдет замечательно, действовала почти безотказно. И действительно завоевала сердца. Отрезвление пришло опять же с «легкой руки» Хрущева. Знаменитое его посещение выставки в Манеже и последующее закручивание идеологических гаек провели ту грань, за которой и возникла «фрондирующая» интеллигенция.
Именно главенство для Параджанова формы и равнодушие к содержанию (в том числе и социалистическому) объединяет столь разных персонажей и объясняет, почему злой волшебник Черный Вихрь, зачаровавший и превративший в камень Андриеша, так напоминает баптистского «злого волшебника», зачаровавшего наивную Христину. Он упрямо продолжал создавать этот свой условный, придуманный кукольный мир и переставлял, как кукол, своих придуманных картонных героев, не замечая до поры до времени, что мир вокруг уже претерпел значительные изменения.
Но пробуждение наступило!..
И специально прибегая к гротесковой сказочности (он это любил), можно сказать, что чары «злого волшебника» Жданова, по рецептам которого он творил столько лет (национальное по форме, социалистическое по содержанию), наконец-то растаяли и сон кончился.
И случилось это, когда он подошел к своему
В 1964 году Параджанов подошел к критическому для мужчины возрасту — 40-летию! Об этом весьма непростом для мужчин рубеже сказано, написано да и снято много. Можно вспомнить «Осенний марафон» Данелия, «Неоконченную пьесу для механического пианино» Михалкова, «Полеты во сне и наяву» Балаяна.
Для Параджанова рубежом 40-летия стали его «Тени забытых предков». Этот фильм в его судьбе сыграл весьма символическую роль. Сохранилось красноречивое свидетельство друга Параджанова, известного поэта Ивана Драча:
«Во время съемок „Теней…“ Сергей вдруг сорвался и истерично зарыдал: „Я ничтожество! Мне сорок лет, а я ничего не сделал! Я бездарь“».
Тогда он еще не знал, какой фильм будет создан, но создан он был, наверное, именно потому, что кризис этих лет ощущался им действительно очень драматично, оттого и крик его души столь пронзителен.
А вот еще один весьма любопытный факт. На стадии подготовки фильма, выбирая натуру, Параджанов поднялся на высочайшую вершину Карпат — Говерлу, даже не догадываясь еще, что это восхождение так символично совпадет с подъемом на свою жизненную вершину — акме, на ту самую высоту, которая означает пик расцвета творческих и жизненных сил.
Как непросто происходила эта его трансформация, это полное перевоплощение творческой плоти, можно только догадываться. Послушаем интересное свидетельство человека, стоявшего тогда с ним рядом, — оператора фильма Юрия Ильенко.
«До „Теней…“ он снял несколько просто пугающих фильмов. Он был невероятно талантливым человеком, но чувствовал, что погибает как художник, искренне желая вписаться в мертвую атмосферу студии…
И тогда по совету своего друга, художника Гавриленко, взял „Тени забытых предков“ Коцюбинского. И вырвался из пут киностудии со всей ее эстетикой, со всеми уровнями, связями… И собрал новых людей, которые до того вообще на студии не работали».
Эти свидетельства Ивана Драча и Юрия Ильенко многое объясняют. И насколько остро на рубеже своего сорокалетия он понял, что дальше так творить (и жить) нельзя… И то, насколько решительно, обрывая все старые связи, он начал обновлять и себя, и всю свою творческую команду.
Мы еще вернемся к теме этого его поразительного обновления, этой удивительной трансформации, к выходу из лабиринта, а сейчас, чтобы лучше осознать то его состояние, в котором он находился, «земную жизнь, пройдя до половины», закончим главу словами Данте:
Каков он был, о, как произнесу,
Тот страшный лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!
Так горек он, что смерть едва ль не слаще…
Тогда вздохнула более свободной
И долгий страх превозмогла душа,
Измученная ночью безысходной…
На экране лес… Густой, дремучий, скованный морозом. Через этот сказочный лес идет мальчик. В тишине звонко скрипит морозный снег под его ногами.
Это Иван… Он окликает брата, не зная еще, что над ним уже занесена рука рока. И отныне во все дни его жизни определять, куда он сделает следующий шаг, будет именно эта неведомая рука.
Внезапно замерзший лес оживает! То ли от мороза, то ли от неведомого ветра, а может, и от толчка тайной руки огромная корабельная сосна начинает свое, поначалу тихое, движение и, набрав силу, несется на мальчика, чтобы вдавить его навсегда в морозный снег и оборвать его еще только начавшуюся жизнь. Но брат, успевший в последний миг подскочить к Ивану, отталкивает его и сам принимает страшный удар!
Так символично — с жертвоприношения — начинается фильм, который будет на всем протяжении исследовать тему, волновавшую человека еще со времен античности: что на своем пути определяет сам человек, а что решает за него Рок.
Этот мощный, с первых минут иррациональный запев, обратившийся к мифическим силам, будет с такой же мощью выдержан до последнего кадра.
Боже правый, неужели это Параджанов?.. Тот, который прежде снимал словно не по сценарию, а по газетной передовице?
Что произошло? Какое сказочное превращение? Есть ли аналоги?
На рубеже своего сорокалетия мирный буржуа Гоген, забросив свою коммерцию, стал гениальным художником. Но здесь есть хоть какое-то объяснение. Не знал он, подобно Илье Муромцу, какие у него силы богатырские. Вот и дремал до поры до времени. Но Параджанов-то не спал, а все время снимал…
Невозможно найти в истории кино другого режиссера, снявшего сначала четыре плохих фильма, а затем четыре гениальных. Бывают провалы, неудачи, которые сменяются оглушительным успехом. Зигзаги судьбы — неотъемлемая составляющая творчества. Но чтобы такое четкое деление? До сорока лет — и после…
Вот почему нам понадобился акцент на акме, на столь символичное восхождение на Говерлу, после которой началась, снова вспоминая Данте, — Vita Nuova…
Но продолжим просмотр.
Таинственно, неисповедимо, под раздирающий душу вой длинных гуцульских труб начинается это повествование, словно взывая к воскрешению тени давно ушедших предков. Зачем потревожены их души? Кому нужна эта ворожба?
Непросто будить давно ушедшие тени. Трудно их возвращение к плоти. Из далекого царства они держат свой путь, и потому тема смерти и тема ворожбы постоянным лейтмотивом звучит снова и снова.
Начиная с трагического эпизода в прологе, мотив судьбы органично перерастает в основную тему фильма — роковую любовь Ивана и Марички. Разные истории любви поведал нам экран. Версий и решений множество… Здесь с самого начала перед нами предстает форма эпического сказа, одного из древнейших в истории поэтики. Начавшееся с мощно взятой темы рока, с пронесшейся рядом с Иваном — без повода и объяснения ее тайного движения — сосны, так зримо обозначившей границу между смертью и жизнью, действие продолжается на шумной ярмарке.
На фоне белого снега горят пурпуром хоругви, красные гуцульские платки и кафтаны. Все буйство красок как бы взывает сейчас, в разгар зимы, к теплу, к солнцевороту. Здесь, в этом глухом горном селении, традиционный христианский праздник Крещения предстает в древнем языческом обличье — празднике взывания к солнцу.
Но что это за искаженное гримасой полубезумное старушечье лицо мелькнуло в толпе? Кто это: колдунья, ворожея, ведьма? А может, в ее чертах промелькнуло то самое неведомое лицо рока? Не ее ли ворожба вызвала внезапное движение векового застывшего древа?
Лейтмотив старухи-провидицы с ее страшным смехом еще не раз возникнет в фильме. Она всегда рядом с надвигающимися событиями. А они разворачиваются на этом празднике со всей драматической неотвратимостью.
Сходятся в боевом поединке в чистом белом поле два враждебных рода — отцы Ивана и Марички. Занесены над головами трудовые гуцульские топоры, так легко становящиеся боевыми. Схватка короткая, кровавая, беспощадная…
Перед глазами раненого отца Ивана, схватившегося за голову, струйки крови преображаются в иное предсмертное видение… Огненные кони они теперь… Медленно и неотвратимо летят в небе, уносят, влекут его за собой в иные миры. Туда, на встречу с далекими предками.
Ужасно и одновременно завораживающе их обжигающее внезапное появление. В этом роковом полете какая-то необъяснимая магия, словно в завораживающем полете валькирий, уносящих павшего в сражении.
Этот один из самых потрясающих кадров фильма вписан в историю кино. Став визитной карточкой фильма, в западном прокате он дал ему новое название — «Огненные кони».
Иван и Маричка не видели их полета. Но зато этот роковой полет видели мы… Он обжег нас, вызвал и чувство тревоги, и настороженное внимание к грядущим событиям.
Дети двух враждующих родов — что ждет их? А пока лишь короткая, чисто детская ссора: толкнула Ивана Маричка — сорвал он с нее бусы. Но не заплакала она, не обиделась, словно имел он на это право.
С первых кадров фильм очаровывает не только пластикой. Да, интересные изобразительные решения очевидны настолько, что на долгие годы после этого фильма за Параджановым закрепилось слава живописного режиссера, мастера создавать красивые картинки. Но сейчас он удивительно точно передает (впервые) тончайшие психологические детали, которые ощущаются даже в первых, детских взаимоотношениях Ивана и Марички. Их детская дружба естественна и не менее органична, чем последующие взрослые взаимоотношения. И все детские сцены — убедительное доказательство его резко возросшего мастерства. Красивую поэтику он умел создавать и раньше, а вот психологические сцены редко когда получались естественными, тем более детские (в кино самые трудные).
Вот и лето настало. Зазеленел заповедный лес. Бегут через него Иван и Маричка, сбегают к горной речке и, раздевшись, бросаются в нее. В их смелой и откровенной наготе — вспомним, насколько пуританскими были тогда детские фильмы, — снова чувствуется легкое дыхание язычества, не боящегося природного естества. И вместе с тем как точна эта деталь, как многое говорит — именно в психологическом плане — о чистоте их отношений, об откровенности их детской, ничем не омраченной дружбы.
Но вот через несколько таких же простых и ясных в своей поэтике сцен на экране перед нами уже выросшие Иван и Мария. Как безумные, они кружатся в танце среди цветущих лугов, одержимо катятся с высокого холма. В этих таких пантеистических по своей поэтике сценах лаконично и образно сказано о взрослении наших героев, о чудесном превращении, вызванном зовом плоти.
Их тянет друг к другу уже не дружба, а страсть… Выросший из тех откровенных детских купаний зов жизни, переполняющий теперь их юные прекрасные тела.
Сколько раз уже Параджанов показывал молодую сельскую любовь. Но теперь это другое кино. И каждый кадр, каждая мизансцена, как точно найденное слово, рождает ощущение сложившейся песни, описать которую невозможно. Это надо видеть… Это лаконичная и удивительно емкая поэма о пришедшей страсти.
Почему же ни в рассказе о любви Одарки и Юшко («Первый парень»), ни в романе Оксаны и Антона («Украинская рапсодия») не сложилось того, что захватывает нас в истории Ивана и Марички? Все те же красивые украинские пейзажи, такие же лирические мелодии. Ответ, наверное, в том, что в прежних фильмах была взятая напрокат «украинщина» с давно уже использованной образностью. И только на своем пятом (к сожалению, последнем) украинском фильме Параджанов передал не только краски и звуки, но и густой аромат этой яркой, наполненной жизнью земли. Только обратившись к образности язычества, он проник в тайные глубины этой страны, наполненной живительными соками Деметры. Нашел заветный ключ и к ней, и к себе…
Но что происходит, почему так тревожно стало лицо Марички? Почему плетень, через который она напряженно смотрит, вызывает — не в сознании даже, а в подсознании, — тревожные ассоциации? Нет, не гроб это, а всего лишь обыкновенный забор, и не ему обозначить грань между жизнью и смертью. И все же, возникнув как рамка вокруг ее прекрасного лица, он что-то очертил… На что-то зловеще намекнул и определил какую-то границу. Удастся ли ее переступить?
Параджанов и Ильенко виртуозно используют самые разные фактуры дерева и, пристально вглядываясь, словно проникая в какую-то тайную сущность, создают непонятную, но тем сильнее воздействующую на воображение магию.
Стена, лестница, длинная скамья — самые обыденные в крестьянском обиходе предметы. Но стоит, приникнув к ним, услышать неведомую параллельную жизнь, возникает новая завораживающая образность. Это желание вглядываться в фактуру дерева, камня, шерсти он в дальнейшем будет использовать еще более откровенно, создавая обертоны и параллельные лейтмотивы, дополняющие основное действие. Эта страсть роднит Параджанова с Тарковским, также обожавшим вглядываться в фактуру: в тайные знаки воды, ободранной штукатурки, мокрых стен и т. д., создавая свой язык, свою режиссуру.
Нет, не забылась старая вражда двух родов, и далекое дыхание той жестокой, кровавой зимы донеслось снова, словно именно деревянные предметы вобрали и сохранили в себе память о пролитой крови. Трудно, почти невозможно этим карпатским Ромео и Джульетте дать выход своей страсти, назвать Друг друга мужем и женой, соединить свою горячую молодую плоть. Ушло безвозвратно время откровенных детских купаний. Вместе со страстью пришли к ним теперь и законы целомудрия.
— А быть ли нам вместе? — задумчиво спрашивает Иван грустно приникшую к нему Маричку. — Большая вражда пролегла между нами.
Мало слов говорит в фильме Иван, немногословна и Маричка. Но даже без яркости шекспировских диалогов захватывает нас эта пронзительная история любви.
Прервемся ненадолго и поговорим об актерах, ибо их работа в этой картине того заслуживает, а сложившийся ансамбль возник далеко не просто.
Безусловно, одно из достижений картины — образ Ивана, созданный Иваном Миколайчуком, ставшим после этого фильма одним из ведущих актеров украинского кино. Не известный еще никому студент был утвержден не сразу. Фильм был запущен к юбилею Михаила Коцюбинского, одного из самых интересных писателей украинской литературы, и потому требование Госкино Украины, чтобы в фильме снимались известные актеры, было принято без обсуждения.
Далеко не сразу Параджанов начал осваивать принципы своей новой режиссуры и пошел на эксперименты. Поэтому на роль Ивана был сначала приглашен из Москвы Геннадий Юхтин. Кандидатуру Миколайчука Параджанов даже не стал обсуждать, ассистенты без его участия отсняли небольшую сцену, и скромный тихий студент был отправлен обратно в Карпаты. И только потом, уже на худсовете, просмотрев снятую и вставленную без его участия сцену, Параджанов задумался серьезно.
Так же не сразу он поверил в Спартака Багашвили и утвердил его на роль Мольфара — соперника Ивана. Этот яркий и колоритный образ стал одним из украшений картины. Зато сразу была утверждена на роль Марички Лариса Кадочникова, в то время работавшая в Москве в театре «Современник».
Послушаем ее рассказ.
«Москва. Улица Горького. Мы с Юрой Ильенко идем на встречу с Параджановым. Я как жена сопровождаю его. Вдруг вижу: на чемоданчике сидит человек в черной шляпе и черном костюме. А дело было летом. Что-то в нем было странное, цыганское, не похожее ни на кого. Мы подходим, а он вскакивает с чемоданчика, указывает на меня пальцем и кричит Юре:
— Вот я и нашел Маричку!
Так состоялось наше знакомство…»
Не только актерский коллектив, но и язык фильма складывался далеко не просто, во многих сомнениях и тревогах. Не сразу постигал Параджанов язык своей новой режиссуры. Долго варится хаш, трансформируя свою грубую плоть в новую субстанцию. Послушаем еще одно свидетельство Кадочниковой:
«Помню первое впечатление от просмотренного материала. Ничего не понятно… Просто красивые картинки. Я в отчаянии… Юра тоже. Мы вдвоем, безумцы, решаем уйти с картины. Сергей уговаривает нас остаться. И мы остаемся… До следующего просмотра материала. И вдруг ошеломляющее впечатление от второго просмотра материала. Как удар молнии! Такого мы не видели и не ощущали еще никогда.
Фильм был напоен дыханием, звуками природы. И человек был неотъемлемой частью ее. Все было слито воедино — чарующие звуки удивительного гуцульского говора, стон падающего дерева, запах травы и грибов. Это была поэма…
Такого Киевская студия не видела много лет после Довженко…»
Новая новелла фильма — «Полонина»[1].
Несмотря на драматический конфликт враждебных родов, Иван решает готовиться к свадьбе и отправляется на заработки — идет в горы к пастухам.
— Жди, жена, до зимы вернусь, — говорит он, именно так обращаясь к Маричке.
И вновь рядом со своей зловещей маской проходит, смеясь, старуха-ведунья. Ей многое известно наперед, быть может, даже то, чего еще не знает Маричка, — что носит она под сердцем дитя, зачатое от Ивана.
Широкая панорама Карпатских гор. Белые стада овец, белая головка сыра, возникающая из белой чистоты молока.
— Он один? — спрашивает знаками глухонемой пастух у товарища, указывая на Ивана.
— Не знаю, — отвечает тот.
Глухонемого пастуха замечательно сыграл Леонид Енгибаров, а его старшего товарища — Николай Гринько, один из самых любимых актеров Тарковского, участвовавший во всех его фильмах. Все это необходимо напомнить, чтобы подчеркнуть, что не только замечательные пластические решения, но и совершенно иной подход к раскрытию психологических деталей привел к успеху фильма. Это обстоятельство зачастую забывается и отодвигается на второй план. «Тени забытых предков» занимает особое место в творчестве Параджанова во многом потому, что здесь был собран совершенно иной по уровню актерский состав. Приходится констатировать, что такого сильного актерского ансамбля у Параджанова не было, к сожалению, ни до, ни после этой картины.
Иван один и не один. Один, потому что сейчас он вдали от родной деревни, вдали от Марички. И в то же время не один, потому что одна и та же звезда загорается перед ними в этот ночной час.
Заблудились овцы в тумане, и тревожно воют пастушьи длинные трубы.
Звезда любви, звезда судьбы, куда ты зовешь?
Встает Маричка, видит странно мигающую звезду — что за знак? Почему позвала?
И пред Иваном тоже она — эта странно вспыхивающая звезда.
Оба, будучи сейчас так далеко, идут на ее зов, словно навстречу друг другу, еще не зная, что под воющий звук труб они идут на другую встречу. На встречу с роком…
Белых овец, заблудившихся в горном тумане, ищет Иван. Черную овцу потеряла Маричка.
Не знают они еще, что в этих черно-белых поисках, так неожиданно перекрестивших их пути, они найдут совсем иное… Потерю друг друга! Навсегда…
Замерла на узкой горной тропе черная овца. Тянется к ней Маричка. Но сорвался камень из-под ног, и скользит медленно, уходит Маричка в воды горной реки. И красивое ее лицо так много говорит… Так много на нем беззвучных прощаний… И с жизнью, и с Иваном, которого не увидит уже никогда, и с ребенком от него, которого не дано ей обнять…
Эти два параллельных поиска, эти две резко вклинившиеся друг в друга сцены, как и возникновение огненных коней в начале фильма, поднимают режиссуру Параджанова на совершенно иной уровень. И уровень этот мирового класса. Сегодня это настолько бесспорно, что даже не нужно что-то доказывать. Волшебство и удивительная магия, развернутые на экране, очаровывают снова и снова, как очаровали они зрительские сердца сорок лет назад во многих странах мира. Сейчас, когда стали снимать много разных волшебных фильмов и всевозможных волшебных мальчиков и девочек, стоит вспомнить эту ворожбу, эту магию. Здесь не было компьютерных средств и всевозможных технических эффектов, все было заснято на довольно посредственной пленке Шосткинской фабрики, но по уровню изображения было изумительно, ибо здесь истинная магия кино, говорящая на языке античной трагедии.
Кто-то решает за нас, кто-то приводит в движение сосну или на горной тропе заставляет скользить камень под ногой. Встреча человека с роком всегда будет волновать наше воображение и заставлять учащенно биться сердце.
Здесь стоит вспомнить рассказ ассистента Параджанова Владимира Луговского. Когда члены съемочной группы после долгого восхождения устало улеглись на траву, Параджанов вдруг заявил, что поскольку поднять технику сюда не удастся, то подъем этот был не нужен.
Бессмысленность восхождения была и так всем очевидна. Но, значит, оно было нужно ему…
Бегут стремительно горные реки. Несутся по ним огромные гуцульские плоты. И на одном из них лежит, распластавшись, Иван, несет его река судьбы.
Словно зверь, жадно втягивая наполнивший его ноздри резкий запах беды, он выходит на берег.
Женский плач, горестные восклицания, тело под накинутым покрывалом. Вот куда вынесли воды Маричку… Здесь она, рядом, но уже на далеком-далеком берегу.
А река несет и несет длинные плоты. Многое можно сделать из этого дерева: и всякую полезную утварь, и добротные стены для дома, готового принять в себя детские голоса, и гробы…
Иван сам строгает гроб, и сам могилу выкопал, сам и крест поставил на горе. Один теперь Иван на белом свете. Один со своей памятью…
И потому гаснут краски, глохнут звуки, уходят запахи.
Через раскрытую настежь дверь камера внезапно выводит нас в черно-белый мир. Цветное кино неожиданно, но весьма эффектно теряет краски.
Черную землю из черных могил выбрасывает Иван. Бывший пастух стал могильщиком. В этом новом ремесле он находит утешение. Приобщаясь к чужому горю, он лечит свою беду. Тяжелей той сосны, что упала вместо него на брата, постигший его удар Рока. И потому он на этом свете и… на том. Среди живых… но бродит среди мертвых. Строгает им гробы, провожает в последнюю дорогу. Нет больше для него ни красок, ни звуков на этой земле. И потому мир мертвых стал теперь и его миром.
Миколайчук при всей скупости красок, при всей сдержанности чувств поражает пронзительностью своего внутреннего, эмоционального состояния. Это удивительная, пусть и безмолвная, исповедь, рассказ о беде…
И просто поразительно, что до таких высот актерского мастерства поднялся молодой студент, дебютирующий в кино. Это было абсолютное попадание карпатского парня в своего героя, в его чувства. Но и роль Параджанова, сумевшего так точно определить рисунок этого образа, несомненна.
Вот и Рождество! Среди долгой горной зимы снова буйствует красочный праздник. Великое чудо — рождение дитя, главный инстинкт жизни — заставило и Ивана обнять нежного новорожденного ягненка. Он качает его на руках и что-то напевает про себя, этот полуюродивый бродяга-могильщик.
«Родился Сын Божий! Радуйтесь!» — поют детские голоса, и радуется с ними Иван, качает на руках ягненка, свою неисполненную мечту о сыне. И кто-то из веселых прохожих подносит оборванному бродяге чарку водки. И горячий ожог ее снова возвращает ему краски, вкус и запахи мира…
Какая точная и интересная детализация, какие необычные, на первый взгляд случайные мизансцены, через которые идет рассказ о тончайших переживаниях души, о спрятанной и в то же время кричащей боли. Какой мощный прорыв не просто в интересную изобразительную пластику, но и в такую скупую и одновременно выразительную историю об эволюции страдания. Такое ощущение, что фильм этот, и сегодня поражающий своей сопричастностью к самым интимным человеческим чувствам, был снят по наитию, благодаря внезапно открывшемуся автору выходу в другие сферы сознания.
В картину вновь приходит цвет. Снова на дворе весна. Расцвели деревья, девушки плетут венки. И снова так ощутим властный зов земли. Она требует свое, она велит жить!
Жарко пылает огонь. Красивая женская нога давит на мехи, раздувает пламя.
Иван, стоя на коленях, подковывает коня. Бродяга-батрак нанялся на случайную работу. Во рту у него зажаты ржавые гвозди, неуловимо, по воле режиссера, вызывающие ассоциацию с терновым венцом.
Путем тончайших, неуловимых ассоциаций выстраивает режиссер свой изобразительный ряд, как бы подталкивая, провоцируя наше воображение.
Нет хозяина в этом доме, одинока эта горячая, как и полыхающий огонь в горниле, женщина. Иван поднимает растерянный, смущенный взгляд. Страдание, отрешенность в его глазах. Но властен языческий зов земли, пробуждающий голос плоти.
Хозяйка этого дома Палагна раздувает огонь, или сама жизнь своим страстным дыханием весны пробуждает Ивана?
Одна за другой разные темы, разные лейтмотивы возникают и сменяют друг друга в этой своеобразной симфонии чувств, развернутой Параджановым.
Языческая ода Любви, скорбная песнь Смерти, трагические аккорды Рока, и вновь пришедшая тема Страсти… зов Жизни…
Неуклюжи движения Ивана, он словно только что вылепленный из глины Адам, в котором просыпается жизнь. Неуверенно протягивает он руки, неловко пытается обнять…
И здесь Параджанов находит еще одну замечательную деталь. В руках у Палагны, победно оседлавшей подкованного жеребца, возникает большой алый зонт. Вряд ли такой зонт мог оказаться в деревенской горной глуши… Но зато он рождает поэтическую ассоциацию. Это распустился алый цветок страсти. В человеке, бродящем в царстве мертвых, возникло — Желание… И это значит, что он хочет и жить, и продолжаться в этой женщине, так образно принесшей Огонь в его жизнь, в его умершую плоть.
Рассказ выстраивается через необыкновенно образные детали, сочетая высокую поэтику с удивительными пластическими находками. С одной стороны, удовлетворяя самые взыскательные вкусы и в то же время говоря абсолютно ясным языком для самого обыкновенного зрителя.
Впрочем, таково это «легкое дыхание» на экране. Но зато на съемочной площадке все рождалось в муках, спорах, а порой и в серьезных конфликтах, принимающих зачастую драматический характер.
Приведем еще один рассказ Юрия Ильенко.
«Я решил уйти с картины и вызвал Сергея на дуэль… Просто хотел убить его… За все. Это была идейная ссора. По творческим мотивам.
У меня секундантом был директор студии Цвиркунов. А у него режиссерская группа. Шел дождь. Я шел по высокому берегу. Он — по противоположному. Мы должны были встретиться на мосту и стреляться на гуцульских боевых пистолетах.
Был будний день. Я вышел к мосту. Но Черемыш вздулся так, что мост снесло, а с тридцати метров я никак не мог стрелять. Но мы точно шли на дуэль. Помешала только механическая преграда…
А вечером привезли новую партию материала. Мы пришли в зал. Сели по разным углам. Просмотрели… вышли… И обнялись. Я понял, что никуда не уеду…
И… продолжили опять биться.
Потом я ушел в самостоятельное кино. После него ни с одним режиссером работать уже не смог бы. А с ним тоже не мог…»
Застывшему, ушедшему в далекие сны Адаму нужна Ева. И яблоко, которое в следующем кадре с хрустом разгрызает Иван, воспринимается как классическая точка в этой старой, как мир, притче. В Еве искус, но в ней и зов жизни, она возвращает Ивана из потустороннего мира на землю, дает ему типично женское чувство реальности. Хватит ему блуждать с юродивой улыбкой в грезах своей платонической, бестелесной любви.
«Иван женился, надо было хозяйствовать» — кратко сообщают титры, лаконично определяя начало новой жизни. Пробудившийся Иван возвращается на землю людей. Начинается эта новая реальность с омовения Ивана. Все старое должно быть смыто и забыто. Прочь рубище отшельника — в красную мирскую одежду нарядили Ивана.
И вновь серия замечательных деталей… Как истинный жених с гордо развевающимися петушиными перьями на шляпе переплывает он на плоту реку, пересекая этим движением бег иных плотов, которые несла река в тот черный день на мертвых волнах, ассоциирующихся с водами Стикса.
Уплыли те плоты, пронеслись навсегда… Теперь он на новом берегу своей жизни. Вместе с темой дерева, тема воды возникает рефреном в фильме снова и снова, принимая разные смысловые оттенки, словно напоминая, что река жизни ведет героев фильма все дальше и дальше…
Подчеркивая характер этой новой жизни, куда теперь привели ее воды Ивана, Параджанов сам придумывает свадебный обряд. Жениху и невесте завязывают глаза и надевают на шею тяжелое ярмо. Теперь они супруги, и идти им дальше вместе в одной упряжке. Разумеется, такого обряда не существует, но эта придумка так точна, так органично вплетена в различные этнографические детали, что воспринимается вполне естественно, рисуя точную психологическую картину происходящего. Этих, в сущности так мало знающих друг друга, мужчину и женщину, сидящих с закрытыми глазами, свела не любовь, а реальность бытия со всей логикой своих естественных желаний.
Ни человеку, ни зверю нельзя жить одиноким. Неестественно это, противоречит всем законам природы.
Пришло время и Ивану с Палагной обзаводиться своим хозяйством. Улыбается под платком, закрывшим ее глаза, Палагна… Нашла она свое женское счастье, верно несет ее река жизни. Задумчив Иван… Куда он вступает с закрытыми глазами, к каким берегам вынесло его?
Развернув историю Ивана и Марички среди поэтических лугов и цветов, фильм приводит сейчас зрителя на крестьянский двор. Иная здесь логика чувств. Тяжеловесно, словно глиняный ком, разминается начало их жизни.
Палагна, не спеша, чуть кося настороженным, взволнованным взглядом, готовит постель для их первой супружеской ночи. Раздвинут, как занавес, ее нарядный гуцульский фартук. Подробно, неспешно идет рассказ, в каждой детали открывая новые краски. Сброшено одно одеяние, другое. Иван медленно протягивает руку к нитке красных бус на обнаженной шее Палагны и неожиданно рвет их. Что это? Хозяйский жест, подчеркивающий права на нее? Сомнение в ее непорочности?
Удивленно, чуть обиженно смотрит Палагна, как рвутся красные бусы, как падают каплями одна за другой красные бусины. А может, это летят, падают тяжелыми градинками воспоминания?.. Не так ли когда то в далеком детстве он порвал ожерелье Марички?
Тонкие, легкие ассоциации возникают снова и снова вместе с красочными деталями, удивительно обогащая психологически все повествование.
Вот и будни пришли. Душное, жаркое лето. Растет высокая скирда сена, заготавливаемого для долгой зимы. Надежное, крепкое у них хозяйство, ладно, умеючи работает Иван. Неутомимо, сноровисто уминает сено Палагна, стоя на высоком стоге. Привычна и дружна их работа, все правильно, все как у людей в этом созданном супружеском союзе. Но когда напоенная солнцем и любовным желанием Палагна скользит вниз к Ивану и со страстным шепотом раскрывает горячие объятия, он, холодно оттолкнув ее, уходит. И горек взгляд этой красивой, но отвергнутой женщины. Не нашла она свое женское счастье, не туда несет ее река… Есть достаток и здоровье, но что же мешает им жить счастливо?
Вода! Ее прозрачное стекло, отразившее, как в зеркале, лицо Ивана в следующем кадре; и выплывающее ему навстречу из вод лицо Марички.
Мучительная память о первой любви, приходящая из унесших ее вод снова и снова… Не зарыл он ее в черных могилах, что копал одну за другой. И тянет его к этим холодным ледяным ключам. Душно ему в жарких объятиях Палагны, к холоду приковано его замерзшее сердце. Мертвое оно, на том свете его страсть… Не в земном он, а в небесном царстве…
Возникшая в «Тенях забытых предков» тема Любви и Смерти пройдет затем через все творчество Параджанова. Через разные человеческие судьбы и истории он будет вновь и вновь исследовать их вечный диалог.
Жизнь и смерть, душа и плоть, царство земное и небесное будут встречаться на разных перекрестках в его фильмах. И герои его картин будут снова и снова ощущать на себе яростное дыхание и могучую энергетику этих вечных спутников человеческой судьбы. Эта вечная тема придаст всем его фильмам особую эмоциональность и поможет найти множество новых красок.
И словно позванная мертвым сердцем вновь приходит зима и укрывает все своим снежным покровом. Древней традицией, возникшей еще в языческом детстве человечества, пытаются жители горного селения разогнать ее химеры, надевают разные веселые маски. Карнавальное шествие — любимый праздник и здесь, в глуши Карпатских гор. Разный этнос этого перекрестка народов накопил в их памяти целую галерею масок. Лихой венгерский гусар в ярком мундире. Важный польский пан с длинными усами.
А вот маска, знакомая всем народам, — маска смерти с косой. Она задерживается, задумалась о чем-то, потом рука сдергивает ее и мы видим лицо Ивана. Зачем из всех масок веселого карнавального шествия он выбрал самую зловещую? Что за жажду свою он подсознательно удовлетворяет сейчас?
Долго следует камера за задумчивым взглядом Ивана, помогая снять маску и с его души…
Там вдали, на горе, в холодном сумраке зимнего дня — тонкий силуэт креста. Там могила Марички… Его крест… Возвратившийся к нему, обернувшийся столь тяжелой ношей маленький крестик, сорванный когда-то его рукой с девичьей груди.
Медленно выплывает зловещий, леденящий душу силуэт косы в воротах их двора, останавливается, не спешит… Видно, не пришло еще время. Иван входит в дом. «Где мои козы? — напевает он детскую песенку. — Где мои дети?»
Молчит Палагна. Бесплоден их брак. И в этом, наверное, истина. Ибо не от соприкосновений плоти, а от любви должны рождаться дети! Не только земное желание, но и душа должна участвовать в зачатии. А сердце Ивана мертво… Оно не в этой — земной жизни, а в том, другом, — могильном мире.
Здесь мы соприкасаемся с одной из основных мыслей фильма. В этом прекрасном и яростном мире, где в человеческую судьбу грозно вторгаются неведомые силы рока, где ведут непрекращающуюся борьбу Жизнь и Смерть, человеческая жизнь освящена присутствием Любви. Смысл существования всякой плоти — испытывать на себе ее живое дыхание.
Тяжелый ком глины оживает лишь тогда, когда его любовно касается рука мастера. Именно так, на вечном гончарном круге бытия, в поисках совершенства и красоты рождается сосуд истины. И предназначение его — не только утолять жажду. В темной глубине его и вечный зов к насыщению той духовности, что создала его.
Нет, не погасла та удивительная звезда, что повела, позвала когда-то Ивана и Маричку. Не упала она тяжелым камнем с неба, горит ее свет, смущает душу.
А Палагна в доме красиво и щедро накрыла праздничный стол. Тут есть все, что добыто трудами долгих летних дней. Все, кроме желания есть, пить, ощущать радость и желание бытия. И потому не ладится праздничная трапеза. То ли отдавая дань обычаю, то ли из желания утолить свой подлинный голод, Иван ставит еду и питье к окну.
И из синей глади стекла приходит, является, как из прозрачных вод, Маричка. Горят страстно ее глаза… Смотрит из бесплотного мира на Ивана, пожирает глазами вкусную еду.
Так тонка сейчас грань между двумя разными мирами… Хрупка, как стекло, но нет силы, нет власти, нет мочи переступить ее. Так просто, зримо и так волнующе вновь в удивительно образной поэтике возникает у Параджанова это столкновение антимиров.
— Пришла… — шепчет Иван.
— Иван, пора спать! — окликает его сонным голосом Палагна, отрывая его от волнующих видений и возвращая на землю. И, сняв тяжелый красный фартук с бедер, завешивает им синее стекло.
Так в красноречивых режиссерских деталях Параджанов отделяет мир телесный от бестелесного. У каждого из этих миров своя правда, свои желания и свой голод…
Говоря о своеобразной магии, которой объята вся картина, нельзя не отметить мастерство актрисы Бестаевой, воплотившей образ Палагны. Если в Маричке нас очаровывает прежде всего девичье начало, то, обращаясь к Палагне, мы оказываемся в плену истинно женского характера.
Работящая крестьянка, стыдливая невеста, откровенно жаждущая зачатия женщина проходит перед нами в удивительной органике.
Перед нами точно и тонко разворачивается психологическая драма женской души, полной таких разных желаний: и жены, и матери, и любовницы.
В фильме словно раскачивается маятник, а река жизни бросает героев к разным берегам: Жизнь — Смерть, Лето — Зима. На первый взгляд — неторопливое действие, череда дней, а по сути — страстный, завораживающий своей откровенностью рассказ о человеческих судьбах.
Два таких разных человека перед нами.
Иван, обращенный в своих грезах к потустороннему миру, и так же страдающая, но при этом реально живущая Палагна, воспринимающая свою бездетность как тяжелый грех, оскверняющий ее красивое, сильное тело. Может, в том, что не ладится у них с Иваном жизнь, ее вина? Может, в ней причина, что никак не расцветет новая жизнь у их очага?
Обычная на первый взгляд бытовая история бездетной семьи вырастает у Параджанова в захватывающую драму благодаря удивительной полнокровности чувств и замечательным образным решениям.
Это столкновение любви платонической и любви плотской, представленных в образах Марички и Палагны.
Любовь земная имеет свою правду и активно отстаивает себя…
В темной и теплой украинской ночи идет совершенно нагая женщина. Она сбросила дома одежды и вышла обнаженной не ради любовного свидания. Другая страсть сжигает и тело, и чрево ее. Женщина идет ворожить… женщина хочет зачать…
Она хочет ощутить в себе плод, шевеление новой жизни в своем чреве. Ее муж, ее Адам — словно мертвая глина. В нем много силы, но нет жизни. Он хорошо вспахивает поле, кидает в них семена и получает щедрый урожай. Но он не вспахивает ее, и от его семени не всходит в ней новая жизнь.
И женщина решает этой ночью встать на путь колдовства. Палагна идет к древним языческим богам… Она зовет Мать-сырую землю, хочет прижаться к ней обнаженным телом, чтобы получить то, чего не может дать ей Иван. Она хочет впитать ее могучие силы. Сейчас языческие боги ближе ей, нежели христианские святые, призывающие в первую очередь думать о душе.
Тяжелым плотским желанием веет от нее. Зато у Ивана все чисто и возвышенно. Он предан всей душой своей первой, единственной любви. И приходящее из холодного омута ее лицо — единственное желанное в этом мире.
Дерзок и бесстыден вызов Палагны в откровенной жажде зачатия. Чистота инстинкта материнства или жадный зов плоти направляет ее?
Темная украинская ночь, полная лукавства и чертовщины, привела ее к совсем иному… К Матери-Земле хотела припасть Палагна, ощутить густой возбуждающий запах ее трав, вдохнуть сильный запах черной земли. Но на страстный ее зов отозвались — силы Мрака…
Словно из черного пепла возникает чернобровый, горбоносый деревенский колдун Мольфар, весь облик его не оставляет сомнений, с какими силами он связан. На языческих капищах его храм. Здесь он творит свою ворожбу, свои заговоры и заклятия. Жадно протягивает он руки к обнаженному телу Палагны, жаждет наполнить ее сосуд своим горячим семенем. Он готов дать ей жизнь…
Яростно проклинает его Палагна. Вырывается, испуганно бежит домой. Не за этим шла, не его вызывала…
Но ответ уже получен. И не уйти теперь от него…
Забегая вперед, надо сказать, что эта весьма откровенная сцена стала сенсацией при сдаче фильма в Госкино. Известное всем кинематографистам здание Госкино СССР сам Параджанов со свойственным ему остроумием называл «Вилла Кафки», утверждая, что лучшего места для съемок фильмов по рассказам этого писателя не найти.
И действительно, за красивым старинным фасадом царила классическая казенная атмосфера бюрократизма, которую подчеркивали бесконечные сейфы и всевозможные шкафы, стоящие прямо в запутанных коридорах.
Все классики нашего кино от Эйзенштейна до Тарковского прошли через этот поистине кафкианский лабиринт. Сколько страхов, надежд, тревог помнят эти мертвые коридоры. Сколько сердец мастеров экрана замирало в холодных кинозалах при показе своих выстраданных творений.
Когда «Тени забытых предков» впервые возникли на официальном экране этого замка, на дворе еще только набирали силу бурные шестидесятые, до грядущей относительной свободы еще было далеко.
И вдруг такая неслыханная «обнаженка» в советском кино! Смущал и метраж этой сцены. Столько голого женского тела чиновники не видели даже на закрытых просмотрах зарубежных фильмов. Перезвон чиновничьих телефонных аппаратов стоял еще долго: разрешить или запретить? Вырезать полностью или ограничиться сокращением?
Стоит напомнить, что даже невинные по сравнению со сценой обнаженной Палагны кадры купания в фонтане вполне одетой Аниты Экберг в «Сладкой жизни» Феллини вызвало в те годы возмущение и призыв к запрету фильма самого Ватикана.
Каким чудом эта сцена в фильме Параджанова не оказалась вырезанной жесткой советской цензурой, остается загадкой.
Больше всего смущало, что такой неожиданный сюрприз им преподнес вернейший и преданнейший соцреализму режиссер, никогда до сих пор ни в какой крамоле не замеченный. Нормальный средний режиссер, знакомый как пять пальцев, вдруг показал такую откровенную языческую картину. Что за бунт, чем объяснить это преображение?
Не иначе как мистика, что ворвалась в его картину с пепелища древних дремлющих богов. Взывала к ним Палагна, а услышали они Параджанова и, наполнив его могучими силами земли, оставили его на долгие годы омертвевшее творческое чрево.
Логического ответа на это ничем не объяснимое решение, принятое на «Вилла Кафка», нет. Факт… проскочило.
И созданный им фильм потряс своим откровением и очаровал своей красотой и страстностью весь мир.
Медленно, словно томясь и жалея свою чистоту, выплескивается из кувшина молоко. Большой ветер набирает силу…
Это начал свою ворожбу черный колдун Мольфар. Сильной рукой выбрасывая из гнезда черных воронят, он приказывает им:
— Летите, летите! Зовите черный ветер… Нагоните тьму.
Летят, вьются по ветру черные перья (знает магию Параджанов!), и небо обволакивают темные тучи. Бегут испуганные кони. Мечутся коровы. Пытается их загнать в дом растерянная Палагна.
Но поздно! Гром ударил, и молния сверкнула. Пригвоздила она в стоп-кадре бегущих коней. Остановила ужас на лице Палагны.
И снова она пытается бежать, и снова останавливает ее в стоп-кадре блеск молнии.
Вот чем обернулась ее ворожба! Вот какие силы она пробудила…
Что сейчас на испуганном женском лице, на что она оглядывается? Страх лишь один или любопытство извечное, тайное, полное сладкого ужаса? Со стоном, полным муки и восторга, сожаления и нескрываемой радости, раскрывает она объятия настигшему ее деревенскому колдуну.
Загорелся, занялся ее костер. Лишь малой искры хотела она, чтобы согреть свой семейный очаг. А вошла в нее испепеляющая молния!
Говоря о том, как неожиданно свежо и смело было появление этой картины, надо особо отметить целый ряд технических приемов, использованных в этом и последующих эпизодах.
И смена цветных и черно-белых эпизодов (задолго до знаменитого фильма «Мужчина и женщина» Лелюша), и применение эффектов соляризации, и съемка на инфракрасной пленке, и многое другое, сегодня вошедшее в широкую практику, тогда производило взрывное, поистине мистическое воздействие. Эти изобразительные решения действовали даже не на сознание, а на подсознание, завораживая эмоциональностью неожиданных открытий. Словно внезапное озарение снисходило на зрителя благодаря фантазии режиссера и мастерству оператора.
Кино, к сожалению, стареет быстро… Многие замечательные эпизоды из фильмов Феллини сейчас воспринимаются несколько театрально, излишне стилизованными и искусственными кажутся и многие решения Антониони.
Безусловно, и фильм «Тени забытых предков» не может сейчас восприниматься с прежней эмоциональностью, но тогда он просто околдовывал, завораживал погружением в мифический мир, который технический прогресс, казалось, отменил навсегда.
К слову сказать, многие технические приемы: в сцене заклинания колдуна, в сцене в корчме и других позволяют картине и сейчас выглядеть намного современней, чем многие фильмы шестидесятых годов. Секрет прост: изобразительные приемы именно этой картины используют бесчисленные клипмейкеры, не ведая, кто и когда их придумал.
В густом пурпуре и киновари возникает следующая после налетевшей грозы сцена в корчме. Это какое-то тревожное, инфернальное видение, словно знак, предупреждение о беде…
Сцена снята на особой технической инфракрасной пленке, предназначенной для фиксации тепловых лучей (решение, предложенное Ю. Ильенко), и удивительно точно передает атмосферу горячего, хмельного веселья, в которой разворачиваются последующие драматические события.
Сюда на праздник приходят и Иван с Палагной. За длинным столом в настороженном одиночестве сидит соперник Ивана — рослый, кряжистый Мольфар, блестяще сыгранный Спартаком Багашвили.
Мрачно и решительно сейчас лицо ведуна, словно черты самого рока запечатлены на нем. Неужели мы наконец увидели его?.. Того, кто присутствовал незримо с первых кадров, кто выносил свои приговоры и обдавал леденящим дыханием смерти…
Бочком, оглядываясь, с извечным женским лукавством в косящих глазах, садится ближе к своему любовнику Палагна. Берет трубку из его губ, с наслаждением втягивает в себя его дым. Такая тривиальная сцена женской измены становится и в пластике своей необычно яркой и красноречивой.
Глухонемой пастух хочет предотвратить несчастье, мычит, чует горе., пытается оттащить Палагну. Отброшен он грубой рукой Мольфара.
Оглянулся, увидел их Иван, хватает топор… Чтобы заступиться за друга, покарать за предательство жену, которую сейчас так по-хозяйски на глазах у всех прижал к себе Мольфар.
Глухо, грозно звучат удары ведуна по столу — словно в гроб заколачивают гвозди. Неумолимо нарастают они, как шквал, что обрушится сейчас на Ивана. И вот он, удар рока, что ждал его с первых кадров. Давно обещанный, давно предрешенный. Долго шел к нему Иван, многое довелось ему пережить, но настиг он его все-таки…
Что за густое горячее вино обагрило белые стены? В ужасе вскидывает руки хмельная толпа. И так же, как когда-то отец, зажав руками окровавленную голову, качается, идет куда-то в неведомое Иван. Оседлал теперь Иван своих красных коней смерти, скачут, уносят они его… Горит, исходит дымом сожженный лес. Зачем именно в этот мертвый лес привели его шатающиеся ноги?
Капля за каплей уходит из него жизнь. Успеть бы, успеть… Но куда? Куда стремится этот окровавленный, смертельно раненный человек? Чей голос зовет его так сладостно?
Успел… Вот оно, исцеление! Сквозь красно-пурпурные окровавленные ветки деревьев протягивается желанной прохладой синяя рука. Она… Маричка… настигла, нашла его!
Длинен же был этот путь, как долго шли они к назначенной встрече.
Как понять этот финал? Сбылось предначертанное, победила истинная любовь? Не носила земля Ивана, не было ему места в нашем людском, земном мире?
Не ставя последнюю точку в этой завершающей рассказ сцене, Параджанов тут же разворачивает еще один финал.
Обмывают Ивана. Стонет, всячески демонстрирует свое горе овдовевшая Палагна: «Помер наш Иванку, помер…»
И вдруг еще одна парадоксальная режиссерская находка. Поминки сменяются неистовой пляской. Пляшут так, что дрожит и подпрыгивает даже гроб с телом Ивана.
Это снова бросает свой вызов смерти — Жизнь!
А заключительный кадр фильма, его последняя точка — четкие рамки окна, к которому прильнули детские лица. Среди них, наверное, и Иваны, и Марички, и Палагны. Конца нет, начинается новый круг жизни. Вечный круговорот, вслед за зимой приходит весна… А за любовью ступает бесшумно смерть, у каждого свой час и своя власть…
Жертвуя обстоятельствами, мы выигрываем судьбу.
Заканчивая разговор об этом удивительно органичном и точном в каждом кадре, в каждой мизансцене фильме, рождающем ощущение, что снят он был легко, на одном дыхании, фильме, который остался в истории мирового кино как один из самых страстных и образных, хочется привести замечательные слова французского актера и режиссера Робера Оссейна, сказанные спустя уже многие годы после состоявшейся премьеры: «Если бы планете Земля было предложено послать од-но-единственное кинопроизведение в другую цивилизацию, то я предложил бы картину „Тени забытых предков“»…
Фильм этот стал пятым и последним в украинской эпопее Параджанова… Больше ему, несмотря на то, что он писал и предлагал новые сценарии, снимать не дали. Символично и то, что, сняв на Украине пять фильмов, один из которых стал классикой, здесь же он получил пять лет лагерей строгого режима.
Но, завершая рассказ о его последнем украинском фильме, есть искушение вернуться к первой его работе — «Андриешу»… Описав финал последнего фильма, вспомним финал первого…
Итак, пастушок Андриеш попадает в замок злого волшебника и хочет вернуть своих овец, превращенных в камень. Черный Вихрь, типичный злодей с выпученными глазами и злобной усмешкой, пытается отобрать у Андриеша его волшебную свирель. Но смелый мальчик не отдает ее, и злой волшебник превращает его в камень. Но тут в каменный лабиринт врывается целая ватага «наших»… Это народно-освободительное движение взбунтовавшегося трудового народа возглавил добрый волшебник Вайнован. Массовка, вооруженная чудовищными, но на вид легче пера дубинками, благо сделаны они из картона, бестолково мечется по такому же чудовищно бутафорскому павильону и наконец среди картонных глыб и скал находит злодея.
Черный Вихрь схвачен, суд над ним короток, приговор моментально приведен в исполнение. Рушится дворец насилия и зла, падают огромные каменные глыбы из картона и папье-маше. Оживают пленные, оживают овцы и бараны, оживает и Андриеш. Прижимает к груди заветную свирель…
Последний кадр фильма можно тиражировать как идиллический лубок.
На зеленый лужок вышел пастушок. Овечки радостно щиплют травку. Пастушок так же радостно играет на свирели…
Вот такая эволюция от первого фильма до последнего, с чего начал и чем закончил он свою деятельность на Киностудии имени Довженко.
Вновь и вновь мучает все тот же вопрос…
Как не в сказке, а наяву ожил герой нашего повествования и из творца бутафории превратился в живого человека, творца, как было сказано, удивительных посланий всему человечеству.
Здесь стоит вспомнить, что фильм его, повторив рекорд «Дороги» Феллини, шел в Париже в одном из кинотеатров ровно год.
Но если Феллини шел к этому успеху шаг за шагом, поднимая выше и выше планку своего творчества, то Параджанов добился его в одночасье. И это, конечно, настолько феноменальный факт, что стоит еще раз к нему вернуться и еще раз проанализировать, как это все случилось.
В его первом фильме не только плохие декорации и плохие актеры. Здесь вообще нет кино, такое ощущение, что снимал его не профессиональный кинорежиссер, а любитель, причем весьма посредственный.
Разумеется, его чудесное преображение произошло без добрых волшебников, не ходил он и к модным ныне «потомственным ведьмам» или снимающим «любые наговоры» колдунам в третьем поколении, чьими объявлениями пестрят ныне газетные страницы. И как бы ни одолевало нас желание свалить все на мистику, вряд ли это получится.
Зато было новогоднее утро, знакомое зеркало, отразившее знакомое лицо, и обжигающая мысль: «Я бездарь, через девять дней мне сорок лет, но я ничего не сделал»…
Какое лицо взглянуло на него в этот миг из зеркала и взглянуло ли, мы, конечно, установить не можем. Но зато в нашем распоряжении есть фотографии тех лет. Вглядимся в них…
Вот Параджанов еще на подходе к своему сорокалетию, к своему рубежу. Исчезла чрезмерная возбужденность, красив, ярок, импозантен, еще бы — режиссер-постановщик студии имени Довженко, снимает фильмы один за другим.
Правда, он не в списке первых трубачей империи, его не выбирают в депутаты, не посылают в загранпоездки, не дают персональной машины. Но и он в оркестре… подпевает со своей дудкой что-то не очень громкое. Служивых режиссеров не обижают: дали квартиру в центре Киева, у него красивый дом, рояль, за которым сидит красавица жена, в колыбели спит здоровый, красивый сын. Вообще-то эти годы были самыми благополучными в его жизни.
Он катает один за другим свои гладкие фильмы без всяких проблем с цензурой, как опытный бильярдист лихо вгоняет эти обкатанные, стандартные шары в лузу кинопроката. Удовлетворяя унаследованную от отца страсть, собирает антиквариат, превращая квартиру в небольшой музей. Благодаря богатому опыту и тому, что жизнь тогда была дешевой, а труд кинорежиссеров оплачивался достаточно высоко, в его собрании есть весьма ценные вещи. Это уже потом, в 80-х, когда жизнь резко вздорожала, а гонорары остались на уровне 60-х, обнищавшие киношники возглавили на 5-м съезде кинематографистов первый бунт творческой интеллигенции.
Сейчас у Параджанова нет никаких поводов для бунта. У него есть все. У него нет ничего! Он ноль… он ничтожество, бездарь, подпевала. Его маленький гнусавый рожок, исправно воспевающий империю, тонет в вое звонкой меди главных трубачей.
Через девять дней ему сорок!
Он поднялся на свой жизненный перевал, но приполз сюда на коленях…
И вдруг в новогоднее утро, когда в зеркале отразилась его первая седина, происходит — Чудо… Пронзивший его ток высокого напряжения поднимает с колен. Стандартный бильярдный шар приобретает индивидуальные черты. Манкурт сдирает с головы мертвую хватку иссохшей кожи… Художник выкупает заложенную душу.
Перед проводами под током высокого напряжения есть честное предупреждение: «Не влезай — убьет!» Но он делает свой выбор и… лезет!
Что ему мешало продолжать тихо-мирно снимать свои круглые фильмы, пополнять свою антикварную коллекцию? Зачем в тихое пение его непритязательного рожка ворвалось оглушительное, страстное и столь честолюбивое пение огромных гуцульских труб? И если символом его первого фильма стала пастушеская дудочка, то закончил он свою украинскую эпопею именно под этот переворачивающий душу грозный вой, поднявший его и погнавший в стремительную горную реку. И все закружится, убыстрится, приобретет драматический характер.
И поднимется ветер… и закружит его смерч событий.
Но сейчас, пока его квартира еще не реквизирована, коллекция не раздарена и не продана… Пока он еще сидит не на тюремных нарах, а в квартире 54 на бульваре Шевченко, в старинном кресле — трофей, оставшийся от фильма «Тарас Шевченко», попробуем не в красочных домыслах, а через детали и подробности понять, что произошло… И как поднялся ветер?
Возможно, одним из первых звонков для него стал развод со Светланой. Трудно, да и не нужно искать причины того, что произошло. Для любителей желтой прессы и жареных фактов — здесь вообще полная диета. Ни одной скандальной подробности.
Светлана, декабристка нашего века, прошла рядом с ним весь его тернистый путь, даже уже не будучи женой. Первая, кто поддержал его в годы лагерных и тюремных заключений и последующих шельмований. Наконец, просто красивая, умная женщина, имеющая все возможности создать новую семью и жертвенно не создавшая ее, человек, достойный только самого высокого уважения.
Ну, а что наш герой? С ним сложней, но то, что он считал именно Светлану самым дорогим и близким человеком, безусловно. Ее золотой волос, как мы уже говорили, прошел красной нитью через всю его жизнь. При этом есть, конечно, некоторые подробности. Рассмотрим их, прежде чем продолжить наше повествование.
Как говорится: подробность есть Бог, но дьявол также таится в мелочах…
Знаменитый вопрос «Тварь я дрожащая или право имею?» — это не про Параджанова. Для него этого вопроса никогда не существовало. Он всегда гордо заявлял: «Я гений», еще не имея никаких прав на это, еще снимая свои гладкие фильмы.
Быть женой гения весьма непросто, но быть женой непризнанного гения просто невыносимо! Высокие амбиции душили и его, и их брак, созданный по любви. Не умея выразить себя в кино, он яростно режиссировал свой быт, превращая семейную жизнь в безостановочное театральное действо. Зрителей хватало.
В один день Светлана, смертельно устав, ушла от него, сказав на прощанье великие слова: «Прелестен, но невыносим!» Собственно говоря, этим все про Параджанова сказано…
Ради точности добавим, что произошло это за несколько лет до того, как он начал снимать «Тени забытых предков». Ветер еще не поднялся…
То, что случившееся было для него мучительно и вызвало в дальнейшем его творчестве многие отзвуки, мы увидим еще не раз.
Такие переживания даром не проходят, и, перебродив, эта сублимированная энергия затем начинает искать выход через парадоксальные превращения.
А вот еще одна деталь… В то самое время, когда Параджанов срывал маски с баптистов и воспевал шахтерскую любовь, умудрившись сохранить бутафорские краски даже в реальных угольных шахтах, где добывают «цветок на камне», в Киеве начал демонстрироваться фильм молодого режиссера Тарковского «Иваново детство». Послушаем рассказ друга Параджанова известного оператора Александра Антипенко.
«В первый раз я услышал о Тарковском в Киеве, в доме Параджанова. Дом, как известно, находился на площади у цирка. Дверь в квартиру никогда не закрывалась и была открыта для самых ранних гостей. Можно было по дороге на работу, начиная с восьми утра, обсудить все студийные и прочие новости.
И вот в одно такое прекрасное утро (это было в 1962 году) Параджанов объявляет своим весьма именитым посетителям прямо на пороге квартиры:
— Не пускаю никого в дом, кто не посмотрел „Иваново детство“ Тарковского! Пусть это будет вашим пропуском!
И сует всем расписание сеансов кинотеатра „Киев“, где шла эта картина.
— В мире кино родился гений! — говорил он о никому тогда еще не известном режиссере… И оказался прав».
Действительно, нелегко быть женой и хозяйкой в доме, где незваные гости являются, как видим, с восьми утра. И если в цирке, что напротив домашнего окна, случаются перерывы и гаснет свет, то в доме, превращенном в цирк, представления никогда не кончаются… Напомним, что именно в 1962 году супруги официально развелись.
Снова забегая вперед, скажем несколько слов о дружбе Тарковского и Параджанова, начавшейся с такого «заочного» знакомства, но продолжавшейся затем всю жизнь. Именно парадоксы этой дружбы дали мне тему для документального фильма «Андрей и Сергей». Рассказывать о судьбе Параджанова, не сказав о дружбе с Тарковским, невозможно. Пересечений и фактов множество. Великие современники, как правило, не стремятся к дружеским отношениям, но Параджанов и Тарковский интересовали друг друга всегда.
В письмах из зоны Параджанов спрашивает: «Видели ли вы „Зеркало“ Тарковского?» А Тарковский был одним из немногих режиссеров, который снова и снова пишет опальному коллеге, помогая ему пройти круги Ana. Именно памяти Тарковского посвятит Параджанов свой последний фильм…
А сейчас о том, как произошло их знакомство, об очередной режиссуре Параджанова… Желая поразить воображение Тарковского, приехавшего вскоре в Киев, он придумал «гениальную мизансцену»: решил его встретить конем… у лифта!
Удивительные кони из «Иванова детства» не давали ему покоя. Подходящего коня не нашли и потому на седьмой этаж с великим трудом втащили осла, взятого напрокат из цирка, благо он находился рядом. Гениальная «находка» эффект произвела… Обалдевшего Тарковского встретил на лестничной клетке громко кричащий осел, привязанный к радиатору.
Произвести впечатление Параджанов мог только такой режиссурой, не показывать же Тарковскому «Первого парня»… Цену своим фильмам он хорошо знал. Когда во время выбора натуры в Карпатах, в глухом селе, кто-то из съемочной группы указал ему на афишу на двери клуба — «Цветок на камне», вот мол, и здесь твои фильмы показывают, Параджанов, скривившись, бросил «Дерьмо на камне»…
Вакуум, который образовался в доме после ухода Светланы и который не могли заполнить никакие ватаги бесконечных гостей, ощутимое психологическое давление замечательных фильмов, выходящих на экраны, и мировое, и наше кино тогда вступило в эпоху расцвета, — и его единственный беспомощный ответ на этот вызов — бытовая, цирковая режиссура подводили к выводу: так дальше жить нельзя.
Котел закипал… манкуртство кончалось.
Но нам пора вернуться к «забытым» «Теням…» …А что было потом?
Остановись, мгновенье! Ты не столь
прекрасно, сколько ты неповторимо.
Итак, долгая и мучительная работа над созданием «Теней…» была завершена. Ушли в прошлое бурные споры, скандалы, взаимные обвинения и оскорбления. Даже знаменитая чуть было не состоявшаяся дуэль между Параджановым и Ильенко сейчас уже вспоминалась с юмором. Они снова были друзьями, а ощущение сложившейся картины еще больше сблизило их.
Но на студии отношение к фильму было настороженное. Уж очень эта картина выбивалась из обычного потока продукции студии имени Довженко.
Нарицания были и в Москве. Особенное недовольство вызвало решение Параджанова не дублировать картину и выпустить ее на украинском языке. Случай в те годы беспрецедентный: первый советский фильм не на русском языке!
И хотя решение это было продиктовано исключительно художественными соображениями, чтобы не потерять своеобразие гуцульского говора, придававшее картине особую атмосферу подлинности, поскольку в картине активное участие принимали жители карпатских селений, Параджанову приписали политические мотивы. Так армянин Параджанов был причислен к украинским националистам, что годы спустя ему припомнили на судебном процессе.
И все же, как мы уже говорили, судьба фильма сложилась благополучно, его не порезали.
Кстати, забавный факт: уже в демократические девяностые, когда к 70-летию Параджанова картину показали на Первом канале в Москве — дубляж был срочно сделан, несмотря на то, что юбиляр решительно в свое время возражал. Зато выход первого фильма на «ридна мови» был с невиданным энтузиазмом принят всей оппозиционной интеллигенцией в Киеве. Поток гостей в доме принял характер наводнения, каждый патриот считал честью пожать руку этому смелому армянину. Дом на площади Победы превратился в майдан, пламенные речи не прекращались день и ночь. Счастье, что в доме уже не было Светланы, зато Параджанов впервые для себя испытал сладкий хмель политической популярности. Чего, думаю, даже не предполагал, снимая свою сагу о любви. Такова была его судьба, он был мифом и мифотворцем одновременно…
При всех политических спекуляциях фильм был, конечно, в первую очередь художественным событием. Это был праздник, картина встряхнула всю духовную атмосферу республики.
Послушаем некоторые свидетельства.
Режиссер Леонид Осыка:
«Когда я первый раз увидел „Тени…“, меня потряс звук, такой внятный, объемный, наполненный. Я просто обалдел… Этой картиной он раскрепостил наши мозги — всех, кто его окружал… Помогал каждому быть творцом. Каждому, кто имел Для этого малейшие основания».
Художник Георгий Якутович:
«И вдруг „Тени…“. Фантастика… Сразу, без перехода от предыдущих картин… К нему тянуло многих — Драча, Дзюбу… Я после фильма просто заболел комплексом неполноценности, понимая, что рядом с Параджановым мне делать нечего».
Оператор Юрий Ильенко:
«Он создал вокруг себя целое направление, которое было колоссальным инакомыслием, не политическим, но инакомыслием в искусстве, что было гораздо плодотворнее, сложнее и богаче, потому что оно не было так однозначно, как просто непризнание неких политических нормативов».
Наконец «Тени забытых предков» решились выпустить и в зарубежный прокат, и тут началась подлинная сенсация… «Огненные кони», так они были названы в зарубежном прокате, пронеслись по всему миру, вызывая восторг.
Вот некоторые из отзывов[2].
«Это больше, чем фильм, это праздник… „Огненные кони“ Сергея Параджанова не похожи ни на какой другой фильм. Он никому не подражает, никого не копирует. Фильм с тысячью ослепительных, тщательно отделанных граней, неистовый. Это фильм вчера еще неизвестного режиссера, создавшего свой стиль. Принадлежащий ему одному» (Самюэль Лашиз).
«Полный драматических ситуаций, красочных костюмов, фильм о любви, уносящий нас далеко от Советской России в Россию классическую» (Париж. «Фигаро»).
«Любовь Ивана и Марички — это погибшая мечта. Почему Иван не мог полюбить Палагну и умер из-за своей мечты? Это загадка этого фильма-сфинкса. Сможете ли вы ответить на этот вопрос?» (Париж. «Нувель литтерер»).
«Тщательный анализ фильма позволяет сделать вывод, что Параджанов создал великолепную поэму в стиле барокко, которую будут очень хвалить или очень ругать» («Экспресс»).
«Это один из удивительных и изящнейших фильмов, какие случалось нам увидеть в течение последних лет. Поэтическая повесть на грани реальности и сказки, действительности и привиденного, достоверности и фантазии… Воображению Параджанова, кажется, нет границ. Единственная граница — это эстетическая дисциплина и гармония этой ни с чем не сравнимой баллады». (Польша. «Экран»).
И наконец, приведем цитату из авторитетного международного кинематографического журнала «Сайт энд саунд»:
«Никогда со времен триумфа Эйзенштейна не получал советский режиссер такого международного признания».
Картина начала собирать награды разных фестивалей. Самого автора, однако, за рубеж не выпускали. Роковую роль сыграло его неумение держать язык за зубами. Шутка «Купите мне билет только до Парижа. Обратно не надо» была воспринята чиновниками абсолютно всерьез. Параджанова не выпустили даже в социалистическую Польшу.
Зато сама чиновничья братия наездилась с его фильмом по всему миру, пересекая даже океаны. На фестивале в Мардель-Плата (Аргентина) картина получила одну из главных наград. Фильм Параджанова добрался и до далекой Аргентины, покорил зрителей латиноамериканских стран, очаровав таким близким им миром языческих страстей, подлинностью чувств, яркостью этнографических деталей. Карпатские горцы — гуцулы, умеющие слушать природу, вести с ней тайный и страстный диалог, сохранившие органику и верность первоосновам бытия, оказались созвучны жителям такой далекой Латинской Америки.
Фильм привлек внимание взыскательной интеллектуальной элиты разных стран мира не только потому, что был очередной новинкой. Напомним: это были 60-е годы, и яркие творческие находки рождались со всех сторон.
Это сейчас мы в лучшем случае имеем невнятные потуги молодой режиссуры создать что-то новое и необычное или «утешаемся» оригинальными «находками» Тарантино, тут и гангстеры-идиоты, и бесконечные приключения неумолимо мстительных дам, и прочий набор китча и стеба. В то время, в середине шестидесятых, был самый расцвет «новой волны». Шедевры Трюффо, Годара, Шаброля, Алена Рене рождались один за другим. Не говоря о премьерах таких мастеров, как Бергман, Феллини, Антониони, Куросава.
Фильм Параджанова привлек внимание не только своей новизной, но и своей неожиданной актуальностью. Именно тогда не только стала популярной проза латиноамериканских авторов, но и произошла новая вспышка интереса к мифу, своеобразная реинкарнация его проблематики.
Сейчас, спустя годы, можно констатировать: достойных экранизаций мифологической литературы, не считая шедевров Пазолини «Царь Эдип» и «Медея», было мало. И тем, наверное, ценен фильм Параджанова, что он в полной мере решил эту трудную для кинематографа задачу и далеко не случайно привлек к себе такой интерес.
Незамысловатая история, рассказанная Параджановым, перекликается со знаменитыми словами из Евангелия: «…Вы — соль земли. Если же соль потеряет свою силу, то чем сделаешь ее соленую». На экране неспешная череда крестьянских будней. Но в них «соль земли», ибо в этих буднях идет поиск смысла жизни — поиск любви.
Любовь — стержень картины, ведущий события сюжет. Любовь — основа человеческого существования, она нужна Ивану как хлеб, как вода. К той роковой финальной сцене в корчме Ивана привела не яростная ревность и не жажда мести за измену жены. Он входит сюда как
Интересно в этом плане сравнение фильма с романом М. Коцюбинского, к юбилею которого и была приурочена экранизация. Очень поэтичная книга, полная лирических описаний, но при этом почти не дающая таких сочных, ярких, драматургически развернутых сцен, какие мы видим в фильме.
Смерть Марички в романе происходит почти случайно, а не трагически, как показано в фильме. Намного заурядней описан и образ Палагны. Сцена схватки Мольфара с Иваном также выглядит как обычная драка в корчме, а не встреча с роком, как показано это у Параджанова.
Остается удивляться, как щедро развернулась здесь фантазия Параджанова, какие лаконичные и в то же время выразительные кинематографические решения были найдены им в ключевых событиях повествования.
Возвращаясь еще раз к «рождению» Параджанова, нельзя забывать, что одним из условий успеха стало то обстоятельство, что в процессе создания этого фильма сложился коллектив единомышленников. В союзе с оператором Ильенко и художником Якутовичем Параджанов получил мощный импульс к творческим поискам, смог расширить границы изобразительных экспериментов. Тут действовал эффект усиления единых амплитуд.
Анализируя «формулу успеха», в числе несомненных достоинств нужно отметить удивительно полнокровно действующий второй план картины. Трудно переоценить то непередаваемое ощущение подлинности, которое принесли в картину жители закарпатских селений со своими лицами, песнями, костюмами и т. д. Именно благодаря крестьянам — участникам массовых сцен в картину мощно ворвалось свежее, естественное дыхание. Это были уже не «пейзанские» кадры, разыгранные статистами в «Первом парне». Впервые на экране у Параджанова была не бутафорская, а подлинная жизнь.
Принципиально отличаясь от всех предыдущих работ, эта картина помогла Параджанову вступить в новую жизнь. Далеко не простую, полную серьезных испытаний и то же время позволившую ему максимально раскрыть свою яркую индивидуальность.
Снова перебирая множество связей и параллелей в судьбе Параджанова и Тарковского, нельзя не вспомнить эпизод из фильма «Зеркало», когда мучительно заикающийся юноша наконец ясно и четко произносит: «Я могу говорить!»
Лучше вовсе не начинать,
Чем остановиться на полпути.
Желанные слова для всех творцов независимо от века и национальности — «На следующее утро проснулся знаменитым»… Эти слова смущенно произнес в Венеции Тарковский, когда после показа «Иванова детства» получил «Золотого льва». Эти слова удивленно записал в своем дневнике Эйзенштейн, когда обнаружил, что заказной фильм «Броненосец „Потемкин“», снятый среди прочих к 10-летию Октябрьской революции, оказался мировым шедевром.
Эти слова не смущенно и не растерянно, а наоборот, зычно и громко выкрикивают сами про себя сотни современных творцов, ибо «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», а самореклама и творчество сегодня в эпоху масс-медиа и пиара это как: «Партия и Ленин близнецы-братья»…
В желании этих слов не только честолюбие, хотя какой художник без честолюбия! Каждое произведение искусства, по сути, послание, и когда оно доходит до тех, кому адресовано, для кого предназначено, это Счастье! Значит, тебя услышали, тебя поняли — диалог состоялся. «Я могу говорить!»
Вот и герой нашего повествования в одно прекрасное утро проснулся знаменитым. Нет, он и раньше утверждал: «Я гений!» Но для доказательства своей незаурядности тащил осла на седьмой этаж.
Великая разница — быть гением и… не состоявшимся гением. Каждый день и час доказывать свою незаурядную индивидуальность: меткими словечками, смелыми советами, неожиданными придумками, экспериментами в оформлении комнат и т. д. и т. п. — словом, всем, что проделывал Параджанов, снимая свои заурядные фильмы до первой седины, до сорока лет. Не блистая режиссурой на экране, добивался успеха режиссурой в быту.
Но вот вопрос: как быть, когда в одно заветное утро наконец слышишь долгожданные заветные слова? Что должен делать художник, добившийся мирового признания? Наверное, первое желание — удержать высокую планку, повторить и улучшить найденное. Но затеять нечто неожиданное, приступить к смутным экспериментам и делать то, что никогда не делал, — это вряд ли…
А вот Параджанов почему-то категорически отказался продолжать то, что с таким трудом наконец освоил и с великими муками достиг. Еще одна загадка… Очередная, но не последняя.
И вот, приступая к своему следующему фильму — «Киевские фрески», он решает снимать его совершенно в ином, полностью противоположном стиле. Принцип один — все наоборот! Была динамичная, живая камера — будет статичная, стоящая на треноге, как фотоаппарат. Были различные эксперименты с цветом, с фильтрами, с пленками, различные эффекты с соляризацией, со стоп-кадрами, эксперименты при проявке и печатании — не будет этого!.. Только голый ровный свет. Грамотно, без теней. И уж боже упаси без игры светотени.
Были артисты, блестяще умеющие донести текст, передать тончайшие оттенки чувств, переживаний — не будет вам никакого текста! Молчите, как в немом кино, но без всякой мимики и бурного выражения чувств. И вообще, актеры — это хорошо, но можно обходиться и натурщиками. Если выразить все эти новые принципы одним словом — антикино!
Да здравствует кино, отвергающее все принципы кино. Новое кино будет чуть шевелящейся фреской. Зашел — вышел. Обернулся — отвернулся.
Что за бред, скажет возмущенный читатель, разве такое возможно? А в том-то и дело, что оказалось — возможно…
Новая задумка так и была названа — «Киевские фрески». Но прежде несколько слов об атмосфере, в которой возник этот замысел, и как он возник.
Параджанов любил Украину, более того, он влюбился в нее сразу и чувствовал себя здесь как дома. Эта страна пришлась ему впору… Ее готовность мечтать, фантазировать, выдавать желаемое за действительное была близка его душе. Ее яркий и веселый фольклор, красивые обычаи и древние традиции возбуждали его фантазию. Певучая речь ласкала слух.
После того как он так сочно воспел гуцулыцину, от него ждали, его просили воспеть Украину, сложить сагу о Киеве. Просить долго не пришлось. Он знал Киев, все его закоулки, как мало кто знал, и потрясал своим знанием коренных киевлян.
Вот так весьма скоро в вихре победной скачки «Огненных коней» возник замысел создания современного фильма о Киеве. Правда, заказчик и исполнитель, как выяснилось весьма скоро, сильно расходились во взглядах на этот новый замысел. Сценарий, написанный Параджановым, был смутен, непонятен. На недоуменные вопросы, а как это снимать и насколько возможно такое необычное кино, следовал ответ: «Я так вижу!» Друзья пожимали плечами. Чиновники разводили руками.
Но «Огненные кони» неслись по миру, и весь Киев знал, что на площади Победы, напротив цирка, живет гений!
Старт! Запуск…
«В квартире горит свет…
— Аппарат, стоп!
Уберите из кадра цветы, снимите шторы…
Вынесите из декорации лишнюю мебель…
Оставьте три кресла…
Оставьте на столе яблоки…
И только так…
Эхо… Тишина в павильоне…
— Внимание! Начали! Мотор!..»
Это фрагмент сценария «Киевские фрески». Все команды дает один из главных героев фильма — Человек. В одном из черновиков сначала обозначенный как Кинорежиссер. Затем Параджанов решил, что этим чересчур откровенно говорит об автобиографичности своего героя. Таким образом, уже в сценарии, через своего героя, он ясно описал и сказал, в какой непривычной манере будет снимать фильм.
Вместо прежней языческой щедрости, ошеломительного богатства красок необычный аскетизм, статичность, скудность изобразительных средств.
Кто знает, во что бы вылился в конечном счете этот весьма необычный и безусловно интересный замысел, но сняты были всего десять минут актерских проб, чудом сохраненные оператором «Киевских фресок» Александром Антипенко. Именно благодаря ему мы можем заглянуть в лабораторию Параджанова в один из самых интересных моментов его творческого пути.
Фреска первая.
К красивой одинокой Вдове (Вия Артмане) является здоровенный, неуклюжий Грузчик в рабочем халате (Афанасий Кочетков) с большим букетом цветов от Человека (Тенгиз Арчвадзе).
Грузчик перепутал адрес, но Вдова, не догадываясь об этом, любезно принимает и букет, и гостя. Встреча их затем приобретает интимный характер. Долгие годы хранившая верность мужу, погибшему на войне, она не устояла перед большим сильным мужчиной, неожиданно вошедшим и в ее дом, и в ее жизнь. Мощный грузчик в черном фартуке и нежная блондинка сидят за столом.
Говорить, судя по всему, им не о чем — слишком они разные люди. Оба смущены…
Зато говорит о многом разогретый чугунный утюг. Воплощение их страсти, охватившего их чувства. Тяжелого, горячего, давящего.
Здесь нет и грамма любви, нежности, понимания, есть только необходимость. Встреча с этим молчаливым сильным мужчиной на время решила ее женскую проблему, но… что делать с памятью?
Снова встреча любви и смерти… Вдова и Грузчик лежат в одной постели, а рядом, на другой кровати возникает мужчина в военной форме и с автоматом в руке. Судя по всему, это погибший муж. Словно почувствовав ее измену, он тяжело и мучительно стонет. Женщина в ужасе вскакивает. Как она могла! Столько лет хранить верность и теперь без любви отдаться тяжелой, как чугун, страсти?
На первый взгляд разница между Иваном, после стольких лет скитаний оказавшимся в доме Палагны, и Вдовой, принявшей в свой дом мускулистого крепкого мужчину, очень велика. Но суть едина… Голос плоти есть и всегда пребудет в этом мире.
Помнит Иван свою Маричку, помнит Вдова погибшего на войне мужа… Что делать с памятью, если она жива? Но что делать с плотью, если и она жива?
Параджанов, возвращаясь к знакомой теме, ищет совершенно иной метод, иные краски…
Следующий кадр. Женщина в страхе наклеивает на окна крест-накрест белые полоски бинтов. Тревога! Воздушное нападение!
Что это — память о войне, о том, как она потеряла мужа? Нет, это не путешествие в прошлое — рядом Грузчик натягивает свои тяжелые ботинки.
А может, тут другое… Женщина пытается спрятаться, заслониться белыми чистыми бинтами от своего стыда, от содеянного греха. Хочет выставить хрупкую защиту от этого горячего чувства, ворвавшегося в ее жизнь. Или хочет отгородиться, откреститься от прошлого, мешающего ей сейчас полноценно чувствовать вновь пробудившуюся жизнь.
Конечно, описать все мельчайшие детали этой новеллы невозможно, хотя автор, сжав до предельного аскетизма режиссерские средства, пытается сказать о многом. Перед нами целый рассказ об этой странной и страстной встрече, о мертвых и живых, о любви и смерти.
Все это показано удивительно, завораживающе, за какие-то минуты экранного времени, в белой, голой декорации, без малейшего движения камеры, дающей только статичные кадры. Объяснить логически представленное на экране невозможно. Но перед нами именно кино, непостижимым образом доносящее с экрана массу психологических подробностей и интересных деталей.
И смущение Грузчика, помимо своей воли оказавшегося в роли соблазнителя. И его странно-нежная улыбка, и удивительная экзистенциальность этой грустной встречи, не имеющей будущего, — случайная встреча двух одиноких людей… И наконец, множество оттенков переживаний одинокой красивой женщины, получившей от этого случайного пересечения и счастье, и горе… Стыд, сомнение и принятие рока — так случилось… Не мы идем по тропе, а тропа ведет нас…
История мужчины и женщины, встретившихся без любви и не желающих изобразить, сыграть, имитировать любовь. Оставшихся честными перед зовом плоти, бросившим их друг к другу.
История эта показана удивительно целомудренно. Ни малейшего намека на эротику, без какой-либо эксплуатации обнаженных тел и прочих соблазнов. Лаконично и просто — так случилось… Чувственно и стыдливо — многое в малом…
Фреска вторая.
Здесь выступает главный герой, обозначенный в сценарии как Мужчина (Тенгиз Арчвадзе).
Разложенный на полу рояль. Раскрыты его струны. Человек трогает струны. Нет мелодии — есть отдельные звуки. Здесь же на полу, рядом с разложенным роялем, сидит Женщина (Антонина Лефтий), она перебирает разные нити, пытаясь сложить их в гармонию кружева.
Что это? Поиск друг друга? Попытка найти лад в их непростых отношениях?
Наконец звуки отдельных струн начинают складываться в какую-то мелодию. А у женщины из нитей возникает узор. Они нашли путь друг к другу?
Словно в подтверждение этой догадки Мужчина протягивает кольцо. И женщина в ответ поднимает свое кольцо.
Родилась мелодия… Они теперь едины. Они слиты в один союз, в одном кольце понимания друг друга…
Смена композиции. Мужчина теперь в торжественном черном фраке. Женщина в свадебном белом платье. Он раскрывает объятия. Она, раскинув руки, словно белые крылья, приближается, подплывает к нему. Родившаяся мелодия подтверждает — это счастье… Они нашли друг друга!
Все это очень символично, условно. Но и удивительно понятно. Перед нами поэтика в чистом виде. Немое статичное кино, вдруг заговорившее стихами. И снова так много сказано скупым, аскетическим языком. Если это и стихи, то скорее японские… Намек, недосказанность, сдержанность, но и завораживающая образность…
Но что это? Откуда пришла печаль?
Женщина уходит, покидает Мужчину. Он обреченно разводит руками. Что им помешало? Что поломало эти сложившиеся на наших глазах отношения между прекрасной нежной женщиной и красивым сильным мужчиной?
Ответ в следующем кадре. Вслед за уходящей женщиной сама по себе движется пустая детская коляска. Женщина в печали накрывает колыбель черными траурными кружевами. Уходит…Чего-то не произошло… Что-то не состоялось… Конечно — это исповедь… В немоте выкрикнуто что-то очень личное…
Не будем искать прямой связи с жизнью самого Параджанова, но от биографических ассоциаций нам не уйти…Возможно, обратившись к немым «Киевским фрескам», отказавшись от всех слов, он в первую очередь хотел рассказать о своей боли, выразить ту тишину, что образовалась в его шумном доме после того, как в нем не стало семьи…
Возникает еще целый ряд таких же символических кадров. Не будем сейчас все их описывать. Выделим лишь один эпизод.
Фаэтон. На месте возницы сидит смуглый мальчик. Мужчина в коляске, отодвинув закрывающую его мозаику, показывает печальное лицо. Мальчик прощально машет рукой. Они уезжают…
Куда? (Фантастическое предвидение, но об этом позже.)
Фреска третья.
Новый мир, новая мелодия. Стройная девушка (Зоя Недбай, рассказ о ней еще впереди) в красном гимнастическом трико крутит хулахуп.
Мужчина лежит на узкой жесткой медицинской кушетке. Девушка в красном трико и белой маске медсестры гибкой походкой подходит к нему со шприцом в руке.
На черном ренгеновском снимке видна разлившаяся белая жидкость, проникшая от грудной клетки до самого чрева. Укол, направленный в самую суть боли? Лечение это было тайное или зачатие откровенное? Что уложило его на это узкое ложе? Болезнь или жажда? Чего он ищет? В чем его спасение?
Раскачиваются под музыку, как маятник, золотые тяжелые рамы… задают свои вопросы, не получая ответа. Возникают в золотых рамах разные картины. Вот золотоволосый мальчик запускает белых бумажных голубей. Они летят, попадают в лицо Мужчины, лежащего на узкой медицинской кушетке. Что за послание получил он? Рецепт? Диагноз?
А вот новое видение. Рядом с ним возникает обнаженный женский торс. Голая женщина, напоминающая скульптуры Коненкова, Майоля, мощные изображения «степных баб». Удивительная сила исходит от нее и… страх. Это сама Жизнь! Прекрасный Ужас бытия… О чем говорит ее мощная сила, к чему взывает? Чего требует ее бронзовая, загорелая, сильная плоть? Крепкие бедра. Полуопущенный призывный взгляд.
Не в силах понять ее, не умея дать ответ, Мужчина корчится, извивается на узком ложе. Наконец, схватив топор, вонзает его в березовое полено. Но лежащие рядом палки и поленья, устилающие дорогу к ней, говорят о безуспешности его усилий. Она сильнее… Он беспомощен…
В этом вихре видений, композиций, символов уловить логику невозможно. Ее и нет… Есть поэтика автора, тревожный и прекрасный мир, мир очарований и грозных вызовов, о котором он страстно хочет рассказать. Рассказать — ветер… А точнее, показать, передать этот захватывающий смерч экранными средствами.
В относительно благополучном и оптимистичном 1965 году, еще полном надежд, Параджанов почувствовал, что в мире назревают решительные перемены. Разумеется, в «видениях» Параджанова нет конкретных предвидений и прогнозов, но о приближении тревожных перемен сказано явно. Кадры его фильма статичны, зато представший мир зыбок и горек.
Гусеница превращается в кокон, из которого вылетает бабочка. В дальнейшем мы увидим, как Параджанов снова и снова возвращается к этой метаморфозе, почувствуем, как мучают его эти тайные процессы.
А теперь, в «Киевских фресках», перед нами метаморфоза, происшедшая с ним, желание полностью изменить себя, выйти на экран в новом обличье.
Хотя статичность этих новых решений очевидна, фильм можно было бы назвать не «Киевские фрески», а «Киевские сны». Хотя Киева как такого на экране нет, но смутные сюрреалистические картины явно напоминают сны — тревожные, сумбурные, полные предчувствий…
«Киевские фрески» оказались пророческими, жизнь его после них решительно переменилась. Он вышел из кокона и оказался в новом мире. На Украине он успел снять семь с половиной картин: пять художественных, три документальных и полфильма, точнее эскизы к нему. На этом украинский период его творчества кончился. В этом коконе он жил относительно благополучно: дом, семья, постоянная работа…
«Киевские фрески» стали в его биографии первым закрытым проектом. Зато в «новом мире» закрытия станут постоянными. Он сам согласно всем экзистенциальным законам выбрал новый путь. Если вчера по коридорам студии шествовал Гений, то теперь по ее запутанным коридорам шел Изгой…
Разумеется, и речи не было, чтобы продолжать эти непонятные эксперименты, снимать такую сюрреалистическую картину, когда даже в сценарии не было прописано, о чем он будет рассказывать. Гордое «я так вижу» уже не убеждало…
Стоп-кадр, застывшие карусели Сорочинской ярмарки. Фильм закрыт.
Тогда и родился новый план. Параджанов последовал совету своего старого мудрого друга Виктора Шкловского. Приведем выдержки из его письма: «У тебя почерк и мысли великого человека. Я знал Хлебникова, Маяковского, Пастернака, Малевича, Эйзенштейна и многих других. Я очень тебе верю! Не задирай людей. Они не виноваты. У тебя еще есть годы… Опоры нам нет, кроме ветра в парусе. Время идет навстречу. Нужно терпение. Терпение творца…»
Так вот, уже не в письме, а в беседе он предложил Параджанову конкретный план действий. Суть его совета в изложении Параджанова выглядела примерно так:
«Если ты действительно решил говорить на экране скупым языком фресок, если тебя завораживает статичная выразительность египетских барельефов, то тогда передвинь временные рамки своего рассказа. На современном материале, перекликающемся с нашими реалиями, тебе такой фильм не разрешат снимать. Попробуй продолжить свои поиски, прибегнув к архаике. А если сделать не киевские, а армянские фрески? Великолепного материала в армянском средневековье множество. Взять хотя бы фигуру Саят-Новы, стихами которого восхищался и неоднократно переводил их такой знаток поэзии, как Брюсов. Это же уникальный случай в мировой поэзии — поэт одинаково замечательно творил на трех языках: армянском, грузинском, тюркском. Хотя за дружбу народов, заметь, тогда никто не агитировал».
Параджанов неоднократно повторял, что именно совет Шкловского помог ему найти выход из непростого положения, сложившегося после первого в его жизни закрытия фильма.
В Ереване о шумном мировом успехе «Огненных коней» знали хорошо, а о закрытии каких-то кинопроб — ничего. Предложение Параджанова снять фильм о Саят-Нове было принято с восторгом, официальное приглашение последовало сразу.
Так был куплен билет в Ереван. Впереди его ждала — страна забытых предков…
Будем верить в чутье больших птиц, которые летят на родину…
Итак, местом назначения, означенным в билете, был Ереван. И мы, начав говорить о новом месте обитания Параджанова, вспомним мудрый совет Петра Вайля: разговор о творчестве начинать с анализа и определения места, где впитывается тайная энергетика и столь же тайные соки.
Что за место — Армения? И что за «място» — Ереван…
Армения — одна из немногих стран мира, отмеченная на всех древнейших картах и дожившая до третьего тысячелетия новой эры. Исчезли, ушли в небытие многие известные государства. И близкие соседи, и весьма отдаленные империи, и многие великие царства. В отличие от них Армения выжила и не дала потушить ни огонь в своем очаге, ни факел своего духа.
Сама Армения в армянском языке называется Айастан, то есть страна, основанная прародителем Айком. Но принято и третье ее название — Карастан. То есть страна каров — камней. По-русски — Камнестан.
Здесь все покрыто камнями — карами и здесь обитают твердые, молчаливые и горячие, как камни этой страны, люди. И камни, и люди согреты как жарким солнцем, так и внутренним вулканическим теплом. Вулканов тут много: Арарат, Арагац, Немрут — всех не перечислишь. Известные и неизвестные, они порой создают подобие лунного ландшафта, это особенно хорошо видно, когда первое открытие Армении совершаешь, прилетая сюда на самолете.
Армения расположена в одном из интереснейших регионов на земле, который геополитиками не случайно назван Пятиморьем. Это географическое название принято, чтобы обозначить территорию, четко взятую в рамки пяти морей — Красного, Средиземного, Черного, Каспийского и Персидского залива, который порой называют Арабским морем. На древней земле Пятиморья зародились многие религии мира. Здесь написаны многие выдающиеся книги в истории человеческой цивилизации, построены знаменитые храмы, созданы изумительные поэтические строки. Здесь вели свои сражения хетты, ассирийцы, персы. Именно со снежных гор Армении, с ее родников, начинают свой бег Тигр и Евфрат. Армения, этническая наследница шумеров и хеттов, участвовала практически и во всех войнах, и во всех культурных процессах мировой истории, накопив колоссальный опыт существования. Ее язык, принадлежа к индоевропейской группе, не входит ни в германскую, ни в славянскую, ни в романскую, ни в иранскую группу. Свой язык, своя самостоятельная ветвь.
Исповедуя христианство, армяне не примыкают ни к католикам, ни к православным, ни к лютеранам. У них своя вера, своя Армянская апостольская церковь. Армения — первая страна, принявшая новую религию на государственном уровне. Армения — это свой алфавит, не имеющий аналогов, своя архитектура, не имеющая ничего общего с мировыми стилями и направлениями, свой хлеб — лаваш, свой дом — ердик, имеющий достаточно непривычную конструкцию — с одним вертикальным окном…
Приехав искать страну забытых предков, что знал Параджанов об Армении? Да, пожалуй, ничего… Имел, конечно, самые общие представления об истории и культуре. Плохое знание родного языка (научится). Немногое число родственников и друзей (найдет). И здесь он должен был создать фильм о ее самом любимом поэте, стихи которого, спустя века, поют, читают, чтят.
Все то, что так легко и свободно позволило ему полюбить Украину, здесь отсутствовало напрочь.
Ночи Армении с ее резко континентальным климатом даже летом прохладны. Ночи хрустальные, ясные, без загадочных туманов, без лукавой теплой истомы. Ночи без смутных видений, желаний и гуляний. Здесь ночь скорее перекур, перерыв в работе.
С чертями тоже напряженка… Есть, конечно, всякая мелочь, но армянский черт существо забитое, что-то вроде мыши — шуршит себе, ну и пусть… Это не украинский жирный и властный, как пан, черт… Потому и ночи здесь не загадочные, без мистики, без полетов и прочих невероятных чудес.
Армянский храм строг и суров. Никаких украшений, разноцветных витражей, фресок, золотых иконостасов… Входящего обступает суровый черный камень.
Близкая восточная традиция соседей не изображать Бога нашла здесь свое решение. Бога изображают в основном в книгах — древние манускрипты украшены великолепными миниатюрами.
Когда ты читаешь — Бог рядом, заглядывает в глаза. У вас беседа… Здесь портрет собеседника необходим. А в храме другое — здесь ты в гостях, пришел к Нему, в Его дом… Здесь уже не беседа, а постижение Его тайны…
Украшение армянского храма — эффект чуда.
Неожиданное потрясение ждет вас, если вы зайдете в кафедральный собор в Ани, построенный великим армянским зодчим Трдатом.
Относительно небольшой снаружи, храм ошеломляет неожиданно огромным внутренним пространством, и удержаться от восхищенного «ах» невозможно.
И входящий издает вздох: «Ах!» И ничего не отвлекает его, уводя в рассматривание фресок, витражей, иконостасов. Ты пришел сюда услышать Бога! Его совет…Ты приобщился к Тайне…
Слова Мандельштама: «…мужицких бычачьих церквей…», найденные им в Армении, вспоминаются невольно, когда подходишь к храму Святой Рипсиме.
С виду относительно небольшое, крепко стоящее на земле здание, ни шпилей, ни устремленных вверх линий.
Зов внутри!.. Над головой парит огромный купол, зовет, втягивает в себя, отрывает от земли…
Армянские храмы сыграют огромную роль в возникшем как неожиданный вздох фильме Параджанова.
Вся эта особенность армянского зодчества чисто функциональна. Расчет на неожиданный пространственный эффект нужен для главного, для того, чтобы раздвинуть стены, в которых оказался вошедший… Ему нужна надежда!..
Канонические слова: вера, надежда, любовь в армянском быту произносятся в другой очередности: надежда, любовь, вера… Ибо здесь входят в храм, чтобы получить надежду… вдохнуть любовь… А выйти, укрепившись в вере…
Из всех «открытий», сделанных Параджановым в Армении, именно архитектура произвела на него неизгладимое впечатление. Подобно тому, как он в свое время досконально изучил Киев, исходив его вдоль и поперек, сейчас он носился по всей Армении, замирая в восторге при виде Ахпата, Санаина, Сагмосаванка и других шедевров средневекового зодчества, стоящих вдали от обычных туристских маршрутов. Так он «открыл» стоящий неподалеку от Еревана храм в селе Бжни. Не относясь к знаменитым шедеврам армянской архитектуры, храм подкупал своей «домашней» атмосферой. Священник и его семья стали для Параджанова близкими людьми, сюда он приводил новых армянских друзей. Именно здесь, как и в Ахпате и Санаине, развернулось основное действие будущего фильма…
Придворный поэт грузинского царя Ираклия, обласканный и любимый им, затем был сослан в горный Ахпатский монастырь. Поэт, воспевший земную, чувственную любовь по всем традициям восточной поэзии, теперь стал монахом, умерщвляющим плоть.
Тема эта была близка Параджанову еще при работе над «Тенями забытых предков».
Если открытие культурных ценностей страны забытых предков сразу наполнило его восторгом, то знакомство с живыми наследниками этой культуры происходило гораздо сложней.
Весь образ жизни людей, предпочитающих сдержанность, замкнутость, не любящих публичного обнажения чувств и шумных восторгов, весьма отличался от того, к чему привык Параджанов.
В отличие от Тбилиси и Киева здесь не спешили сразу подхватывать его фантазии и придумки, не включались с легкостью в его игры и ко многому относились с сомнением.
Уважение и интерес, безусловно, были… Но была и изрядная доля скепсиса, и сдержанность в оценках. Спустя годы, приехав в Венецию на премьеру своего фильма, Параджанов сделал удивительное признание: «Я хотел создать персидскую шкатулку, в которой, наподобие китайской, вырезана другая шкатулка».
Если это так, то трудно найти что-либо столь же далекое от традиций армянской культуры, не приемлющей таких декоративных, хитроумных и бесполезных восточных забав.
Это запоздалое признание не случайно… Декоративность бесполезной шкатулки, созданной только ради того, чтобы поразить воображение, в фильме наличествует. Но фильм его в то же время и замечательное открытие Армении, проникновение в потаенные уголки ее закрытой души.
Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.
Ему удалось найти — армянские ключи, как удалось когда-то обладающему такой поразительной поэтической интуицией Мандельштаму, стихи которого мы приводим, чтобы лучше понять своеобразный процесс «открытия» Армении.
Не сразу и не просто открылась Параджанову страна его предков, но он прочел тайные страницы Армянской книги…
Над книгой звонких глин, над книжною землей,
Над гнойной книгою, над глиной дорогой,
Которой мучимся, как музыкой и словом…
Более того, отказавшись от того яркого барочного стиля, который так удался ему в «Тенях забытых предков», и вступив на поиски аскетического минимализма, напоминающего в своей выразительности лаконичность японских стихов, он, возможно, сам того не предполагая, прибыл в «страну назначения» как письмо с точно выписанным адресом.
Именно Армения со своей сдержанностью, немногословностью, строгостью и суровостью была нужна ему сейчас как целебное зелье, как найденная случайно целительная трава, как живая вода, утолившая жажду.
Хорошая, колючая, сухая
И самая правдивая вода.
Возмущаясь, ругаясь, споря, он жадно при этом утолялся этой «колючей, сухой» водой.
Не всем мой ключ гремучий пить:
Особый вкус у вод моих.
Не всем мои писанья чтить:
Особый смысл у слов моих.
Фильм начинается с символов: книга, распахнутая, как окно в мир; сочащиеся алым соком тяжелые плоды граната на белом холсте; кинжал, обагренный кровью и тревожно окрашивающий этой кровью такой же ослепительно белый холст.
Уже эти на первый взгляд простые символы вовлекают нас в сложный духовный процесс.
Сок граната и алая кровь, обагрившая кинжал, одного цвета. Но если алый цвет сока — это цвет Жизни, то кровь, залившая кинжал, — это знак Смерти… Жизнь и Смерть — две основы бытия — сроднились цветом, бросая друг другу вызов.
Вспомним, что Персефона перед возвращением к Деметре съела зернышко граната, чтобы не забывать темное царство Аида. Как увидим в дальнейшем, эта деталь из мифологического сказания удивительным образом отзовется в судьбе Параджанова.
Но до этого перед нами предстает — Книга. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… Все через него начало быть… В нем была жизнь…» Именно с этих известных слов начинает Параджанов свой рассказ о детских годах поэта, ибо что, как не Слово и Книга, стало смыслом его прихода в мир и существования в нем?
А дальше Жизнь и Смерть будут заполнять страницы книги его бытия. И поэт увидит на ее страницах и время любви… и час смерти…
Но все это на экране возникнет позже, сейчас перед нами только пролог, но скоро поднимется занавес и начнется основное действие.
Вот камень с высеченными надписями, на нем — крупная гроздь винограда, чья-то босая нога тяжело наступает на нее, выдавливая сок, которому суждена метаморфоза — превращение в вино…
Вот хлеб, напоминающий своей формой ладью, рядом с ним бьется рыба. Один из ранних символов христианства. Затем вторая, третья. И кажется, что плывут и плывут среди них корабли хлебов.
Вот роза и кяманча (восточная скрипка). Символы вечного поэтического вдохновения. А вот еще один вечный спутник поэтов — терновая ветка…
Но вот поднимается занавес… Начало фильма возникает в громе и молнии.
Событийный ряд начинается с грозы, потопа. Маленький Арутин, прислушиваясь, наклонил голову к земле, словно она, а не небо, родила эти грозные звуки. На лице его не страх, а любопытство.
Мать и отец в своем вечном родительском служении, словно пытаясь (напрасно) оградить его от всех будущих гроз, накрывают его одним ковром, затем вторым, третьим… Увы, гроз в его жизни будет гораздо больше…
Ослепительная вспышка молнии показывает каменный лик запитого дождем льва. Потоки воды текут по искусно вырезанным из камня крестам на монастырских стенах. Действие происходит в Санаинской духовной академии, где прошло детство поэта. И через это неистовство стихии дальним речитативом звучат слова библейского предания о том, как из хаоса, из первоначальной тьмы и бездны возник свет: «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы».
В эти атеистические годы, ведь тот же «Цветок на камне» был снят всего несколько лет назад, фильм с такими обширными библейскими цитатами воспринимался как весьма смелый.
Но какие метаморфозы произошли с Параджановым! Робко ползущая гусеница теперь летит, взмахивая яркими крыльями бабочки… Более того, как изменился его язык по сравнению не только с «Цветком на камне», но и с «Тенями забытых предков»! Тот самый лаконизм, скупость средств, которые в «Киевских фресках» раздражали своей необычностью и вызовом («Я так вижу»), теперь получили свое оправдание.
Он наконец снимал фильм по законам своего языка, своей грамматики. Он писал свои «японские стихи», вернее, армянские, удивительно органичные здесь, в стенах Ахпата и Санаина, где развернулось основное действие.
Утро после ночной грозы. Монахи выносят из храма залитые водой книги. Горестно разводят руками, раскладывают на солнце, сушат. И маленький Арутин, будущий известный поэт Саят-Нова, взяв одну из книг, поднимается с ней на крышу монастыря. Отсюда, с высоты храма, перед ним открывается прекрасная, словно омытая водами потопа земля. Зеленые долины, снежные горы. На крутых скатах кровли разложены десятки и сотни книг. Они как волны набегают на него со всех сторон. Мальчик ложится на крутой скат кровли, раскидывает руки, отдаваясь влекущим его беззвучным волнам. Тишина, только загадочно шелестят под ветром тысячи страниц, вобравшие в себя слова мудрости, страсти, надежды, любви, веры…
(Эту сцену, имеющую биографическую основу, мы описали, говоря о детских годах Параджанова.)
Но вот мальчик с трудом открывает тяжелый переплет огромного манускрипта. Яркие краски прекрасных миниатюр: строгие глаза пророков, лица крестьян, рыбаков, ремесленников, внимательно слушающих слово Христа…
Следующий кадр словно символизирует непредсказуемость мира, в который мы приходим.
Мальчик, схватившись за цепь, свисающую с купола, начинает раскачиваться как маятник. Пронзительный, резкий стон ржавой цепи — первый громкий звук в этом загадочно шелестящем мире книг — врывается резким диссонансом, будто призывая спуститься на землю. Этим кончается новелла о Санаинском монастыре.
Здесь нет никакого быта. Здесь царство книг, слова, духа…
Именно таким и было детство Саят-Новы согласно немногим сохранившимся свидетельствам.
Зато следующая новелла раскрывает перед нами другие страницы его жизни.
Движение раскачивающейся цепи привело его в город Тифлис…
Детство поэта прошло не только в Санаинском монастыре, но в Авлабаре, армянском квартале, где, как мы уже говорили, находились мастерские ремесленников. Теперь в фильме возникают сугубо бытовые сцены: красят шерсть, ткут ковры, делают музыкальные инструменты…
Все это тоже своеобразное продолжение учебы.
Пурпур крашеной шерсти в этих мастерских словно перекликается с киноварью миниатюр в старинных книгах. После магии открытого им слова мальчик открывает магию звуков, стон натянутых струн…
О таком же открытии мира мы уже рассказывали, проводя параллели с детством Арутина Саядяна и Сергея Параджанова. То, что в этом фильме неоднократно будут возникать автобиографические параллели, мы увидим еще не раз. А сейчас, следуя монтажному ряду Параджанова, перейдем с юным Арутином на следующую ступень познания мира…
Чья-то сильная и властная рука проводит по белому петуху, оставляя на нем алую полосу крови, зримо перекликающейся и с киноварью миниатюр, и с пурпуром ковров, и с алым цветом граната.
Это матах — обряд жертвоприношения… Бытовая сцена, столь обычная в армянском быту, приобретает особый смысл. Мальчику показали — жертву! Открыв красоту слова, звука, цвета, он приходит в мир, где есть еще один цвет — цвет жертвы…
Истина жертвы и зов ее прозвучат в фильме не раз. И закончится он кадрами, в которых десятки белых жертвенных петушков слетят с неба к умирающему поэту, ибо сама его жизнь была своеобразным жертвоприношением красоте.
Именно в детстве он открыл, что мир невозможен без жертвы, она — составная часть мира, важнейшая из его красок. Мальчик перешел на следующую ступень познания.
У белых стен храма (запомним эти стены) отец Арутина, закончив традиционный обряд, наносит освященной кровью красный крест на лоб мальчика.
Что в этой сцене? Знак судьбы, который нести ему до конца дней?
Очень лаконичен Параджанов в своей новой режиссуре, но как много граней и значений в этих сценах, сыгранных без единого слова. Они точны и предельно выверены, и при всей немоте предельно выразительны и полны глубокого смысла. А мальчика теперь ждет следующий класс… Удивительное и захватывающее познание мира продолжается. Но здесь нам снова нужна пауза.
Приводя многочисленные воспоминания, дополняющие наш рассказ, считаю необходимым тоже выступить в роли очевидца.
Я никогда не был в числе ближайших друзей Параджанова, но получилось так, что стал свидетелем и участником многих важнейших событий в его жизни — от первых дней его приезда в Армению весной 1966 года, когда организовывал на киностудии его поездки и присутствовал при его первых восторженных открытиях новой для него страны, до последних его часов на армянской земле в июне 1990 года, когда провожал к вырытой в этой каменистой земле могиле.
Оглядываясь на эти годы и события, с горечью констатирую, что людей, которые были рядом, практически не осталось…
Но это не книга воспоминаний, и паузу я вынужден взять совсем по иным причинам. Сама история создания этого фильма, получившего два названия, настолько удивительна, что требует отдельного разговора.
Итак, сценарий был написан и утвержден в 1966 году. В Госкино СССР хорошо знали о рискованном эксперименте с «Киевскими фресками» и потому новый сценарий Параджанова приняли настороженно. Но было время высшей точки «оттепели», после отставки Хрущева в конце 1964 года было разрешено все, что он запретил. В стране шла так называемая экономическая реформа Косыгина, и роль идеологического аппарата на какое-то время отошла на второй план. В этой либеральной атмосфере сценарий фильма о великом поэте, воплотившем в своем творчестве «братскую дружбу народов Закавказья», был хоть и со скрипом, но все же утвержден и запущен в производство.
Снималась картина долго и трудно, привезли ее сдавать в 1968 году, когда советские танки вошли в Прагу и вслед за «Пражской весной» кончилась и наша «оттепель». И услышал тогда Параджанов вопрос: «А кто вам это разрешил снимать? Кто это запустил?» Фильм был обвинен в самых страшных грехах: от эротики до мистики включительно, порезан и разрешен для выпуска только на армянский экран под новым названием «Цвет граната».
Подобно тому, как многие представители русской интеллигенции, включая даже Солженицына, обвинили Тарковского в том, что «Андрей Рублев» это антирусский фильм, так и Параджанова многие в Армении обвиняли в том, что он исказил образ Саят-Новы. Тогда опытный аппаратчик, председатель Госкино Армении Геворк Айриян предложил: а давайте, от греха подальше, дадим фильму новое название — «Цвет граната»; никакой тут не Саят-Нова, о нем фильм мы и не думали снимать, просто рассказ о каком-то средневековом поэте.
Было сделано всего пять копий фильма. Одна уехала на хранение в Госфильмофонд СССР, другая осталась на киностудии «Арменфильм», оставшиеся три копии были выпущены в прокат только в Ереване, их подержали пару дней на экране, а затем просто смыли.
Прямо скажем, долгожданный фильм зритель принял весьма прохладно. Сенсации не состоялось, восторгов не было, люди выходили из зала с весьма озадаченным видом. Красивые, но мало понятные картинки о чем-то говорили, но трудно было понять, о чем.
Судьба новорождённого «Цвета граната» разительно отличалась от огненного полета его предыдущей картины. Ни на какие фестивали картина не была представлена, и мировая общественность узнала о ней только годы спустя.
Решение выпустить картину только на местный экран было тяжелым ударом и для Параджанова, и для студии «Арменфильм». Студия оказалась в большом долгу перед государством, несколько месяцев люди не получали зарплату. Все это сказалось на моральном состоянии Параджанова, он чувствовал свою вину перед водителями, осветителями и другими служащими, с которыми всегда поддерживал дружеские отношения.
Наконец в Москве пошли навстречу и поручили перемонтировать картину Сергею Юткевичу, известному своей Ленинианой — «Человек с ружьем», «Ленин в Польше» и другими идейно правильными фильмами.
Юткевич несколько сократил фильм, переставил некоторые эпизоды и сделал более простые, поясняющие действие титры. В начало фильма также было поставлено пространное объяснение, о чем рассказывает картина, а в конце возникла замечательная концовка: «Поэт умер, но дело его живет». Поэт воскресал и шел по светлой дороге к будущему.
Зато в этой версии фильм был принят на союзный экран и долги студии были списаны. Впрочем, такая легализация носила чисто формальный характер. Фильм был и не был, его не показывали, о нем не говорили…
Авторский вариант картины существовал только десять дней. Среди немногих счастливчиков, успевших посмотреть фильм таким, каким его задумал Параджанов, оказался и я. Картина тогда называлась «Саят-Нова», она была еще не озвучена, местами растянута, не очень точно смонтирована, но… она потрясала! Это было удивительный рассказ о поэте, ищущем смысл жизни. Для чего мы приходим в этот мир? Что хотим услышать от Бога? Как и почему запутываются наши дороги?
Именно потому, что мне удалось посмотреть картину до того, как ее жестоко порезала цензура, после долгожданной премьеры осталось чувство разочарования. То, что задумывалось в первых поездках по Армении, читалось в дружеском кругу в первых версиях сценария, что представало потом в процессе работы на съемочной площадке, было ярче, страстней и намного глубже того, что возникло в конечном счете на экране.
Так в памяти надолго осталось видение о несостоявшемся фильме, со временем превратившееся в сон, химеру: то ли видел его, то ли показалось…
И вдруг, спустя годы…
Уже после смерти Параджанова, после развала империи, после эйфории перестроечных лет, в конце 90-х я узнаю о чуде! Узнаю о том, что не поддается объяснению, чего не бывает никогда, потому что так не может быть! Нашелся рабочий материал фильма «Саят-Нова»! Весь или почти весь…
Чтобы представить и оценить этот невероятный факт, нужны объяснения.
Наша пленка буквально заливалась солями серебра, и именно поэтому после сдачи картины весь рабочий материал в обязательном порядке шел на переработку, после которой серебро извлекалось. Исключений не было, контроль был строгий. Каким же образом почти 65 тысяч метров пленки не пошли на переработку и невероятным образом возникли из небытия? Мистика… Так не бывает! Знаменитые слова Булгакова «Рукописи не горят…» оказались справедливы и по отношению к фильму. Он возник через годы, через запреты, через политические и экономические потрясения.
По всей вероятности, решения о сохранении рабочего материала никто не принимал. Хранились эти металлические коробки в заброшенном подвале студии, без соблюдения каких-либо правил. Ясно одно: к этому решению не причастен никто из руководства киностудии или Госкино Армении, иначе чиновники давно бы растрезвонили, что именно они, рискуя карьерой, пошли когда-то на этот смелый шаг.
Скорее всего того, кто действительно отважился спрятать такое количество пленки, давно уже нет в живых. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем его имя… Осталось только его святое дело — сохранен весь рабочий материал одного из шедевров мирового кино!
Как только я узнал об этом чуде, сразу родилась мечта увидеть на экране уничтоженные, вырезанные цензурой эпизоды. У советской цензуры был хороший вкус, вырезанные эпизоды были действительно лучшими.
Так началась эпопея по восстановлению фильма «Саят-Нова», занявшая почти десять лет! Тоже удивительно, но тоже факт… Об этой эпопее можно было бы написать отдельную книгу, ибо здесь в полной мере отразились все корыстолюбие и чиновничий беспредел, который принесли «новые времена». Скажем кратко: долгие годы поиска спонсоров, затем долгие годы ожесточенного сопротивления «параджановедов», сделавших все, чтобы проект не состоялся…
Не будем отвлекаться и описывать эту постыдную возню.
В один прекрасный день материал наконец был извлечен из подвалов, и хотя находился в ужасном состоянии, можно было приступать к работе. Но как? Как отобрать нужное из 65 тысяч метров материала?
Если сначала задача казалось простой — найти то, что было вырезано, и вставить в картину, то скоро стало ясно, что это нереально. Огромное количество дублей, хаос эпизодов, отдельных кадров. Ни одного указания, каким образом все это хотел собрать сам Параджанов. Ведь множество эпизодов рождались экспромтом, из импровизаций на съемочной площадке и даже не были нигде записаны. Наконец, как все это озвучить?
Единственный ориентир — созданный 40 лет назад авторский вариант фильма «Саят-Нова», просуществовавший дней десять и канувший навсегда в пропасть минувших лет.
Собрав, наконец, из вырезанных фрагментов фильм, я так и назвал его: «Воспоминания о „Саят-Нове“». Трижды — по-русски, по-армянски, по-английски — повторив: «Если…» Если бы это случилось, если бы это состоялось… Фильм версия…
Вот, собственно, и все… Весь этот разговор понадобился, чтобы в дальнейшем рассказе о фильме четко отделять те эпизоды, которые известны зрителю, от тех, которые так и не вышли на экран…
Итак, вместе с героем фильма зритель переходит на следующую ступень познания мира. И снова перед нами кровля… Но это уже не крыша храма, где мальчик открывал красоту слова и духа, теперь он поднялся на крыши восточных бань.
Именуются эти бани хамам, суть их — чувственный языческий культ плоти. И сейчас перед нами разворачивается литургия плоти. Мальчик, приникнув к узкому окну царских бань, видит царя Ираклия. Медленно — в неге ли? в печали? — закрывает Ираклий глаза. Турецкий терщик ходит по нему, пляшет, сгибает ему колени.
Украшенные перламутром сандалии, персидские вазы с длинными, изогнутыми павлиньими перьями вместо цветов. Мир ислама во всем своем горячем культе услады.
Сноровист турецкий терщик, хорошо знает свое дело, и потому именно он колдует над Ираклием, бьет твердыми пятками ему в ребра, размягчает тело.
Высока крыша царских бань. Герой наш открывает для себя новые понятия… Жертва… Родина… Любовь.
Она рядом, стоит сделать лишь пару шагов к обдающему горячим паром узкому окну. Мальчик заглядывает в него.
И… ни он, ни зритель не видят ничего. Цензура защитила строго воспитанного советского зрителя. Конечно, ничего антисоветского в узком оконце не было. Была красота, красота обнаженного женского тела. Кстати, этот эпизод, так и названный в сценарии — «Женские бани», был записан в утвержденном сценарии. Но кто ждал, что Параджанов покажет, как и в «Тенях забытых предков», такое… Эпизод, разумеется, был вырезан.
Впрочем, давайте посмотрим, что возникло сорок лет спустя из глухих подвалов. Что же происходит «такое», запретное…
А собственно говоря, ничего и не происходит. Женщины купаются, расчесывают длинные волосы, возможно, сплетничают или обсуждают последние новости. У них другая вина — они обнажены и прекрасны… Они ничего не скрывают! А такая откровенная нагота, признаемся, даже в современном кино редко встречается.
И снова вокруг роскошь ковров, изящных туфелек, красивых ваз.
Вся эта новелла словно повторение мотивов известной работы Энгра «Женщины, купающиеся в хамаме» и других работ европейских мастеров, увлеченных восточной тематикой и показавших в своих картинах целую серию обнаженных восточных красавиц.
Параджанов оживил на экране эти работы, и, развернув перед мальчиком, открывающим мир, это видение, добился иных, гораздо более глубоких задач. Здесь не просто красота женского тела, здесь приобщение, великая тайна, чарующая ворожба, великий зов!
Где истоки Любви? Как происходит ее открытие? Ответы на эти вопросы, а вернее, мучительная работа души, ищущей ответов, пройдет через весь фильм.
А сейчас другое. Две кровли показаны в фильме. С них открылись две красоты: красота духа, воплощенного в слове, и красота чувства, воплощенная в плоти. Две параллели, с которых он начал свой фильм: любовь плотская и любовь платоническая — спор, начатый еще в «Тенях забытых предков», тема, волнующая Параджанова во всех его работах.
Кадры, следующие за этим эпизодом, показывают, что первое познание мира на двух разных крышах, с которых мальчику открылась столь разная красота, завершено. Перед нами возникает юноша, взявший в руки лиру-кяманчу, чтобы воспевать открывшуюся ему красоту. И мальчик Арутин уходит, отступает шаг за шагом, еще видны детские ручонки, обнимающие стан юноши, еще живет, дышит детство, цепляется руками, но через мгновение исчезло безвозвратно. В кадре лишь возмужавший Арутин Саядян — будущий всемирно известный поэт Саят-Нова. И лира в его поднятой руке — его окончательный выбор.
Непрост язык этого фильма и далеко не сразу понятен. Множество символов, лаконизм композиций, этнографические детали затрудняют восприятие. Принимая решение прийти к новому изобразительному языку, Параджанов этим, возможно даже помимо своей воли, сжег все мосты.
Не только широкому зрителю, но и профессионалам нелегко адаптироваться в сложном языке поэтических метафор, предложенных автором. Интересно мнение Микеланджело Антониони, высказанное по поводу этой картины:
«Когда вы смотрите какой-нибудь фильм, между вами и им возникает тесная взаимосвязь. Сначала вы просто вглядываетесь в образ на экране, затем вы его либо воспринимаете, либо отторгаете. Есть фильмы, которые я не понял до конца. Могу только сказать, что они меня притягивают своей красотой.
Ведь красота и простота — часто не одно и то же. Например, „Цвет граната“ Параджанова (на мой взгляд, одного из лучших режиссеров современности) поражает совершенством красоты. Но красота этого фильма, который захватывает нас, поглотает целиком, — отнюдь не простота».
Здесь естественно возникают вопросы: насколько правомочен в искусстве столь сложный язык; к чему подобные поэтические ребусы, которые можно отгадывать только после специального изучения?
Думаю, ответ будет неоднозначен. «Божественную комедию» Данте, к примеру, сегодня невозможно читать без специальных комментариев, настолько она связана с политическими страстями и символикой своей эпохи. Однако никто не собирается изъять ее из мировой поэзии, и мы вновь и вновь открываем эту великую книгу, притягиваемые ее красотой. Вспомним и то, что такой «трудный фильм», как «Восемь с половиной», сегодня предстает с почти моцартовской ясностью.
Примеров такого рода можно привести множество, и потому, возвращаясь к «Цвету граната», напомним еще раз: речь здесь идет о поэте и, естественно, о поэтическом и сугубо авторском осмыслении им окружающего мира.
Попробуем вникнуть в некоторые поэтические метафоры, развернутые на экране.
Ладони Саят-Новы окрашены хной, это как бы дань персидским традициям, и в то же время цвет хны подчеркивает тепло рук, взявших лиру. Огненный цвет хны символизирует любовь. Острая выпуклость кяманчи ассоциируется у поэта с женской грудью, и он ласково и нежно проводит по ней своими теплыми руками, впитавшими рыжий жар любви.
На шее Саят-Новы, одетого в строгую темную одежду в традициях мастеровых своего времени, небольшая коралловая веточка, ее цвет перекликается с цветом хны. Украшение, быть может, не очень типичное для мужчины, но колючая ветка коралла, ассоциируясь с терновым кустом, возникает как своеобразное предупреждение, как знак того сложного пути, на который вступает он сейчас.
Зачерпнув полную пригоршню перламутровых осколков, он в томлении высыпает этот дождь на кяманчу. Это напоминание о его первом детском волнении, о врезавшемся в память видении и первом томлении плоти.
Ассоциация с молочными брызгами, увиденными сквозь горячие серные пары. Сложная система извечных знаков женственности — раковина в форме груди, горячая рыжая ладонь, молочный дождь, острая грудь кяманчи — все это словно вехи на пути к его возмужанию.
Время открывать мир сменяется временем творить, создавать, обогащать мир…
Коллаж из ниток, всевозможных крючков и прочих принадлежностей для плетения кружев — своеобразная заставка для одной из главных новелл картины, рассказывающей о любви поэта.
Через белую полоску кружев смутно вырисовываются черты красивого, одухотворенного женского лица — избранницы Арутина. Встречаются, разлетаются, переплетаются в причудливой игре нити кружев…
То замирая, то нарастая, громко, требовательно рокочут струны настраиваемой кяманчи в руках поэта.
Игра нитей в руках женщины — робость, лукавство, смутность желаний.
Игра струн под пальцами мужчин — нетерпение, стон отчаяния, настойчивый призыв.
Влюбленные еще не обрели друг друга, это всего лишь начало любви.
Смысловое решение сцены достигается через ее музыкальную тему (настройка инструмента — начало любви), постепенно из хаоса смятенных звуков начинает складываться гармония: чувства героев, их взаимный интерес крепнут и развиваются. Из разлетающихся, мечущихся нитей сплетается нежный узор кружев, из нестройных тревожных звуков складывается мелодия.
Кто же она — избранница поэта? Из биографии Саят-Но-вы известно, что у него был роман с дамой из высшего света. Некоторые источники указывают на сестру царя Ираклия — великую княжну Анну. Во всяком случае, в фильме Параджанова разрабатывается именно эта версия.
И тут мы подошли к одному из наиболее оригинальных решений фильма: молодого поэта и княжну Анну играет актриса Софико Чиаурели. Такое более чем смелое решение может показаться парадоксальным, если его не рассматривать в контексте параджановской символики.
Вспомним начало фильма, когда один и тот же алый цвет говорил соком граната о Жизни и кровью на кинжале — о Смерти. Система бинарности, расщепленности, возникающей из единого корня, используется в фильме неоднократно.
Параджанов обращается к ней в поисках создания трагического диссонанса, говоря о стремления единого к антагонистической разобщенности, разрыву, распаду.
У истинных влюбленных единая душа и единая страсть, но не слиться им в целое никогда… Это снова столь типичное для Параджанова экзистенциальное восприятие бытия.
Юноша Саят-Нова стоит с пером в одной руке и раскрытой книгой в другой (присяга своему выбору, своему призванию). Снова и снова в смятении как белые крылья взлетают белые кружева, сплетают сети (сладостные). Набирает силу, вырывается из хаоса мелодия, найденная наконец на заветных струнах.
В руках Саят-Новы золотая чаша, полная спелых теплых зерен. Из чаши в чашу, а может из груди в грудь, льется золотой оплодотворяющий дождь семян.
А после такого и эротического, и поэтического предложения любви — другая клятва.
Наполнив чашу черной землей, поэт сыплет ее на белый лаваш… Соединяя истину хлеба и праха… Жизнь и смерть — хлеб бытия!.. Потом стоит рядом с мечом в одной руке и белым жертвенным петухом в другой. Его присяга на жертвенность своего чувства, готовность отдать саму жизнь… Здесь вспоминается одно из самых известных стихотворений Саят-Новы: «Я в жизни вздоха не издам, доколе джан ты для меня. Наполненный живой водой златой пинджан ты для меня…»
Методом повтора, нагнетаемого рефрена автор усиливает одну поэтическую метафору другой. Главное здесь то, что перед нами показана (и исследована) анатомия возникающего чувства, удивительный в своей пластике анализ того, что известно всем живущим, но мало кем так образно выведено на экран.
Откинулась в томлении голова Саят-Новы, растерянно замерла Анна, сама запутавшись в своем колдовстве. И как естественная развязка, как выход из скрещенья столь разных судеб, нитей, параллелей — сняла в знак клятвы кольцо с руки Анна, и снял кольцо Саят…
Где мы все это уже видели? И женщина ворожила, и сама запутывалась в своей ворожбе… в своих нитях. И мужчина страстно искал у струн ответа. Звал в хаосе звуков мелодию и сам запутывался в своих поисках. И снимала кольцо женщина, и присягал своему найденному чувству, своей найденной заветной мелодии мужчина, протягивая ей свое кольцо…
Это же «Киевские фрески»! Анатомия разложенного на полу рояля, женщина, как бы ушедшая в свою вышивку, в вязь своих нитей.
Вот как удивительно точно был осуществлен совет Шкловского. То, что вызывало обвинения в сюрреализме, теперь обрело органику в этом рассказе о любви средневекового поэта. Во всяком случае, эта новелла избежала вмешательства цензуры и сохранилась полностью, как ее задумал и снял Параджанов.
А было ли что-то, что зритель так и не увидел? Было…
Обратимся к кадрам фильма «Воспоминания о „Саят-Нове“».
Раскачивается большая золотая рама. Оседлала ее плутовато озирающаяся обезьянка. Раскачивается на этом своеобразном маятнике, отсчитывающем время. Застыл Саят-Нова, выставив, словно защищаясь, свои ладони. И золотая рама то застывает перед ним, словно показывая его портрет, то раскачивается вновь, словно подчеркивая его растерянность.
После белой пустой комнаты сейчас в кадре перед нами богатый дворцовый интерьер, и Анна поливает из дорогих персидских сосудов мертвые фарфоровые цветы.
Все стало очень красивым и… декоративным.
Эти кадры — связка, переход к следующей сцене — «Персидские маски», возникающей в резком диссонансе с предыдущей новеллой о возникновении любви, столь трепетной и лиричной в своих образах.
«Персидские маски» Юткевич разрезал и расставил в разных местах. Что же здесь происходит, если собрать эту новеллу полностью, как ее задумал Параджанов? Бьют призывно барабаны страсти. Бьют громко, гулко, властно. На экране маски, играется пантомима…
Козлорогий барабанщик, выставив зажатый между ног красный барабан, неистовствует в лихорадочном ритме. Горит, обдает жаром пестрый наряд персиянки, выглянувшей из-за занавеса, — нарумяненные щеки, чрезмерно подведенные глаза свидетельствуют, что перед нами не лицо, это маска. Она в томлении своего откровенно эротического танца заглядывает в зеркальце, трет его об отставленный зад, исчезает…
Ее сменяет новая маска — танцующий перс. Тот же яркий грим, та же багрово-красная одежда. Лукаво подмигнув (запрет, действующий в Иране по сей день), он льет невидимое вино в чашу. Пьет, хмелеет…
Снова из-за занавеса появляется танцующая персиянка. Теперь она осушает до дна чашу с запретным вином, качается, пьянеет на глазах.
Неистовствует козлорогий демон, искажены в безумном азарте его черты, стонет, бьется, изнемогает алый барабан.
А вот и итог этой запретной страсти — пляшет, прыгает, как прирученная обезьяна, нарумяненный, насурьмленный мальчик с длинными павлиньими перьями в руках.
Плод этих тайных декоративно-эротичных утех.
В контексте сложных поэтических метафор Параджанова эта притча прочитывается как раз более чем ясно.
Красное, обжигающее, плотское чувство нахлынуло на вчера еще робко ищущих друг друга влюбленных. Емок смысл этой притчи, отголоски многих исторических и культурных наслоений звучат в ней. Памятник персидской литературы — книга о любовно-авантюрных приключениях Вис и Рамина была хорошо известна при грузинском дворе и даже получила свою литературную версию. Быт и нравы могущественных исламских столиц и их дворов с воспеваемым культом гедонизма и эротики всегда оказывал влияние и на культурные традиции соседних стран.
Абсолютное большинство мнений (упреков?) об этом фильме Параджанова сводится к тому, что он развернул на экране красочный декоративный мир. Он замечателен, но понять его трудно. Смысла нет — есть красота…
Это не так. И ценность этого уникального эксперимента прежде всего в сочетании декоративных элементов с удивительными психологическими откровениями.
Как бы ни было театрализованно и условно действо «Персидских масок», на самом деле эта новелла несет большую психологическую нагрузку. На первый взгляд ее вторжение в рассказ о судьбе поэта чисто декоративное, но на самом деле она очень логична и говорит о сложных внутренних процессах.
Поговорим об этом позже, ибо эта тема получит в фильме свое интереснейшее развитие. Сейчас отметим, что роли Перса и Персиянки, как и роль Анны и Саята, исполнила замечательная актриса Софико Чиаурели. Таким образом, это уже четыре ее роли в картине, но далеко не последние. Обо всем этом стоит поговорить отдельно, и потому прервем на время просмотр фильма и возьмем еще раз авторскую паузу.
Понятие «персидская живопись» на первый взгляд звучит как нонсенс. Ислам не разрешает рисовать портреты. Но у художников накоплен вековой опыт борьбы за красоту и каким-то чудом замечательные персидские холсты все же рождались на свет. Одним из первых в нашей стране открыл их и пленился ими Александр Грибоедов и, собрав замечательную коллекцию, привез ее в Тифлис. Параджанов специально заснял ее для фильма, но в «Цвете граната» этих работ нет. Зато эти портреты вновь много раз встречались в рабочем материале, что обязывало показать их в «Воспоминаниях о „Саят-Нове“».
В этой галерее лиц особенно привлекает внимание одна работа — Он и Она…
Явно влюбленные и… явно одноликие!
Кто был этот неизвестный персидский художник, сделавший такое поразительное открытие, неизвестно. Но как же это точно, ибо в любви уже нет: я и ты, есть — мы!
Мы — одна душа, мы — одна слившаяся воедино плоть, создающая новую жизнь…
Именно эта гениальная подсказка помогла Параджанову найти уникальное в истории кино решение: одноликие влюбленные! Решение, прямо скажем, возмутившее многих: ах как это декоративно, ах как это надуманно и искусственно, что за блажь, что за прихоть.
Много крови попортило ему тогда это его решение. Но дальше — больше. В результате этого решения известного армянского поэта играла женщина. Это было в 60-х, но представьте, если бы в наши дни в фильме о Есенине поэта сыграла бы известная польская актриса!
Бурное возмущение и ожесточенные споры были бы обеспечены.
И все же это необычное решение утвердить Параджанову удалось.
Ну, а дальше уже без официального утверждения на съемочной площадке родились и другие роли — в общей сложности Софико сыграла в картине семь ролей. Тоже уникальный случай в истории кино.
Как же родилось это «возмутительное» решение — доверить роль известного армянского поэта грузинской актрисе? Далеко не просто…
Это решение рождалось на моих глазах.
Бережно сохраненная в архиве мятая бумажка. Из уличного плаката вырезано лицо актрисы. Красивое, умное, одухотворенное. Тайно вырезал из афиши и под большим секретом показал ее мне Параджанов. До сих пор в памяти испуганный шепот: «Я нашел Саят-Нову…» Чтобы оправдать доверие, я тут же спрятал бумажку: было велено никому пока не говорить.
На клочке афиши было лицо Софико Чиаурели, молодой, еще только начинающей актрисы. Театральная афиша — «Жаворонок» Ануя. Софико играла Жанну д’Арк. Именно это сочетание мужественности и одухотворенности и подсказало Параджанову его «сумасшедшее» решение.
Вот так из Жанны д’Арк родился Саят-Нова. Поэт, о котором Брюсов написал: «Поистине, Саят-Нову можно назвать „поэтом оттенков“. Он уже в 18-м веке как бы исполнил завет, столетием позже данный Верленом».
Забыв о клочке афиши, сначала честно искали актеров-мужчин. А коварная бумажка шептала: «Не то, не тянет, я лучше». Как найти в одном лице сочетание лиричности и смелости, одухотворенности и обреченности, желание сгореть, принести себя в жертву?
Кстати, жизнь Саят-Новы завершилась не менее трагически. Узнав о нашествии Магомед-хана, он, покинув горный монастырь, бросился в Тифлис и принял смерть от ятагана на пороге храма Святого Саргиса.
Наконец Параджанов, убедившись, что дальнейшие поиски актеров бесполезны, выдохнул свое знаменитое «Я так вижу!». Дальнейшее известно: шквал, буря и натиск, победа!
О, если бы на этом все кончилось! Вскоре Параджанов поделился со мной еще одним замыслом: ушедшего в монастырь Саят-Нову сыграет Георгий Гегечкори (прекрасный, тонкий актер).
Скоро это решение стало известно всем и переполнило чашу терпения не только на студии. Почему известного армянского поэта должны изображать одни грузинские актеры? А где армянские?
Взбудоражен был теперь весь город. Особенно яростно знакомцы и незнакомцы на улицах пытали меня: ты ассистент, ты должен найти ему армянских актеров. Напрасно пытался я объяснить, что Арутина в детстве играет чисто армянский мальчик. «Какой еще мальчик! Зачем нам мальчик?»
И вот меня вызывают к директору студии. Великое счастье для Параджанова, что директором студии был тогда интеллигентный Лаэрт Вагаршян — сам кинорежиссер, снявший до и после своего административного поста немало хороших картин.
Вспоминая тех директоров, которые после Вагаршяна пересаживались в его директорское кресло из райкомов и прочих партийных учреждений, еще раз облегченно вздыхаю: надо же, пронесло…
Кстати, в перестроечные годы эти «товарищи» принялись строчить пространные мемуары, в которых описывали, как они заботились о Мастере и как бережно лелеяли его. В качестве последнего оставшегося в живых свидетеля хочу, слегка изменив известную фразу Станиславского, тоже крикнуть: «Не верьте!»
С вымученной улыбкой Лаэрт вздохнул: «Дело серьезное. Только что из ЦК. Грузины, конечно, братский народ, но неужели армяне так бездарны, что нельзя найти хотя бы одного актера, который воплотит достойного сына своего народа? Что-то надо придумать. Иначе фильм закроют».
Так родился наш тайный заговор. Долго перебирали актеров, симпатичных Параджанову, а надо сказать, их было много, все вторые роли уже были распределены, их играли представители армянской интеллигенции: художники, поэты, скульптуры. К сожалению, доверить главную роль непрофессионалу было невозможно.
— Подумай, еще раз подумай, — призывал Вагаршян.
— Ему нравится Вилен Галстян. Но как он справится с драматической ролью?
Галстян был главным солистом армянского балета, завоевал ряд международных премий, был известен и за пределами Армении. Красивый, обаятельный, тонкий, безусловно талантливый актер, но, увы, другого амплуа.
Предложение заменить Гегечкори Параджанов отверг категорически, решил, что в крайнем случае он сыграет монаха Саят-Нову уже в старости, а роль молодого монаха можно доверить Галстяну, да и слов там немного…
Так родилась авантюрная идея предложить Параджанову четвертого Саят-Нову. Мальчик, юноша-поэт, молодой монах, старый поэт.
— Срочно найди Галстяна, — загорелся Вагаршян, — это наш последний шанс. Иначе фильм закроют без разговоров! В ЦК уже в курсе, что на Украине Параджанов всех достал своими экспериментами.
Но Галстяна в городе не было, он уехал в отпуск в Сочи…
— Езжай немедленно в Сочи, — приказал на следующий день Вагаршян, — уговори его приехать любой ценой. Если фильм закроют, студия вылетит в трубу. Сколько уже денег потрачено!
Легко сказать привези. Это значит, что он без проб утвержден на главную роль. А если Параджанов не согласится? С Виленом мы были в приятельских отношениях, как мне тогда смотреть ему в глаза?
Я вылетел в Сочи. Дальше началась и вовсе фантастика. Адреса его в Ереване никто не знал, отдыхал он «дикарем», то есть снимали комнату в каком-нибудь доме. Где же этот заветный дом?
И вот начался долгий изнурительный путь по всем опаленным солнцем пляжам. Путь начался с Адлера, дальше Хоста, Сочи, Дагомыс. На всех пляжах я давал по радио объявление о приглашение Галстяна к радиорубке и, подождав, шел дальше. Километр за километром горячего песка, а в голове страшные мысли: «Не найду — фильм закроют… Найду — не утвердят!..»
Нашел — уже в Лоо. Правда, не на пляже, а в лесу — шашлык делал. Привез.
Четвертого Саят-Нову утвердили. Фильм начали снимать и Галстян действительно существенно обогатил картину и в процессе работы стал близким другом Параджанова.
Но не все было сразу гладко. После первой репетиции — дело было в храме Бжни — Галстяна отправили на грим, а Параджанов схватился за голову:
— Кого ты мне привез? Ужас! Саят-Нова стоит в «третьей позиции».
К счастью, Галстян как действительно талантливый человек быстро понял, что приглашен не для демонстрации своей балетной пластики, и в дальнейшем точно выполнял все указания режиссера.
Так непросто собирался актерский состав. К слову, такое же возмущение, теперь уже у грузинской интеллигенции, вызвало решение Параджанова доверить роль царя Ираклия армянскому художнику Онику Минасяну. Вот такая была идиллическая дружба народов еще в идиллические 60-е годы.
Следующая новелла, «Царская охота», одна из немногих, точно следующая сценарию. Восстанавливая архивные материалы, пришлось добавить лишь некоторые выразительные кадры.
Из крепостных ворот выходит пышно разодетая царская свита. Егеря с соколами. Волнуется дрессированный гепард. Светские, причудливо одетые дамы выделывают сложные па, танцуя с золотым шаром. Воинственные всадники, включившись в игру, выхватывают золотой шар друг у друга.
Мотив золотого шара в этой сцене — одна из замечательных находок Параджанова. Снова и снова с ним танцуют, его ловят, передают друг другу. Весь двор играет с золотым шаром, все, кроме Саят-Новы, в качестве придворного поэта приглашенного на царскую охоту. (Слова «гламур» тогда не было и в помине, зато пустые, тщеславные игры были всегда.)
Здесь Анна уже не робкая возлюбленная, здесь она в своей стихии, идет ее игра. В роскошном охотничьем наряде (какие только меха не искали для этой сцены!) она поднимает пистолет, лихо стреляет. Достойный участник развернувшейся вокруг джигитовки, соревнования в удали, отличном владении конем и оружием.
В этой веселой толпе лишь одна белая ворона — поэт, не обученный джигитовке. И оружие его не пистолет, а лира, но здесь она явно не нужна…
Придворные услужливо сажают Анну на коня. Она снова лихо стреляет. Подан конь и поэту, и, взяв из его рук кяманчу, ему вручают саблю и пистолет. Но как нелепо они выглядят в его руках, как чужды они ему…
Можно написать целые тома, исследующие извечный конфликт между поэтом и двором, вспоминать, сколь ненавистен был Пушкину камер-юнкерский мундир, а можно и одним кадром показать разделяющую их пропасть.
И хотя Анну и Саята воплотила одна Софико Чиаурели, какие разные они на экране! И хотя придворный поэт тоже наряжен в дорогой черный каракуль, он все равно — белая ворона. Параджанов при помощи этих деталей разворачивает лаконичную и емкую новеллу о том, как протекала жизнь поэта, облагодетельствованного царской милостью. Без лишних слов и объяснений нам все рассказано в этой его новой режиссуре.
Унеслась, разбежалась царская охота, а влюбленные — Анна на белом коне и Саят на черном, — заблудившись, оказались у стен старого заброшенного мавзолея. Тучами черного, оставшегося от какого-то неистового пожара пепла встречает их эта старая могила. Разгоняя руками вьющийся в воздухе пепел, проходят они в глубину мавзолея. Но целы стены и цело все, ибо горел здесь пожар страстей!.. Языки невидимого огня бушевали здесь.
Но кто эта женщина с пепельным лицом и в пепельном одеянии, возникшая как видение из кружащегося пепла, стоит перед ними?
Это уже пятая роль Софико в фильме, и появляется она со скорбным ликом сгоревшей любви… Является как предзнаменование… как свидетельство того, что всякая страсть станет пеплом!..
А сходство в чертах лица этой рано состарившейся женщины с чертами лица юной Анны не случайно. В глубине мавзолея лежит обернутая в красивые ткани мумия.
И долгим эхом звучат под гулкими сводами мавзолея слова, вышитые жемчугом: «Ты отошла в мир иной, и мы, живущие под солнцем, сделали кокон, чтобы вылетела ты на том свете бабочкой».
После лихой джигитовки, после упоения молодостью, ловкостью, силой, после суетных игрищ с золотым шаром они вошли в мавзолей Сгоревшей Страсти. «Все проходит» — эти знаменитые слова не произносятся, но ощутимо витают в воздухе вместе с пеплом былых страстей…
Какое же перерождение ждет этих еще таких молодых и прекрасных влюбленных? Что зреет тайно в коконе их страсти, и какой преображенной бабочкой им вылететь в мир, пройдя путем неисповедимых метаморфоз?
Ответ на эти вопросы мы получаем в следующей новелле. И предстает он в драматическом противопоставлении двух цветов — красного и черного, и героям надо сделать свой выбор. В красном мире человеческих страстей развернуть свои радужные крылья или вылететь, преобразившись, из своего кокона, выбрав черный, духовный мир…
Но прежде нам надо ответить на отложенный вопрос: почему в рассказ об Анне и Саяте ворвались маски? Что говорили нам они, при том что не проронили ни слова? А сказали они о многом…
Какое продолжение могла получить любовь, возникшая на наших глазах? Да, родство душ, так символично обозначенное через родство лиц, определилось. А дальше? В какой церкви освятить брак простолюдину из Авлабара и сестре царя?
И потому чувство молодых влюбленных имеет лишь один выход — сублимироваться в чувственную, запретную, закрытую масками страсть. И неистовый ритм алого барабана, так откровенно зажатого между ног торжествующего сатира, дает точную картину того, во что преобразились трепет ищущих друг друга нитей и пение струн…
Но страсть, не имеющая продолжения, страсть бесплодная рано или поздно сожжет всё и всё превратит в пепел.
Вот почему охота привела их в мавзолей, в гробницу, полную пепла. Смертельно усталое лицо-маска, украшенное пепельными перьями, должно было рано или поздно возникнуть в их судьбе. Лихорадочный румянец персидских масок превращает лицо любви в пепельный лик… Вот что предрекала похотливая обезьяна, раскачивающаяся на золотой раме.
При всем активном использовании декоративных средств Параджанов точен в этой «анатомии страсти». И завораживают нас не просто красивые картинки, а именно психологизм его рассказа, не внешний, а внутренний рисунок.
И наступает час выбора. Красное или черное? В каком из миров им дальше жить?
Лицо Саята на фоне золотого оклада с темным ликом Бога. Лицо Анны на фоне другого золотого оклада. Он пуст…
Снова золото дворцовых палат, но теперь они покрыты не белыми, а черными кружевами. Снова настраивает свою кяманчу Саят-Нова.
Печальные глаза Анны, закрывающей лицо красными кружевами, ее выбор. В этой маске она прекрасна, как никогда. Словно стон звучит одна из лучших песен поэта: «Ты огонь, огонь наряд твой, как вытерпеть огонь мне этот». А в глубине кружится в пустой раме золотой ангел — дитя, которое им не дано прижать к груди.
В руках Саята черные кружева — он сделал свой выбор.
Так просто, в изысканных пластических решениях складывает Параджанов свой рассказ об извечном столкновении мирского и духовного.
Нет, никогда не насытят сердце художника мирские, светские игры в золотой шар, дорогие наряды и любовные услады. В загадку, в тайны Бога, в черную бездну вечных исканий устремлен его дух. Не утоление и не удовлетворение смысл его жизни, а вечный поиск — вот ради чего приходит в мир поэт.
«Черная дыра» — этот термин современной астрофизики как нельзя лучше подходит к определению черной двери, возникающей внезапно на золотой стене дворцовых палат. Именно туда, в черноту, уходит Саят-Нова. Исходит в раздирающем душу крике пара павлинов, распустивших здесь, в золотых палатах, свои хвосты. Растерянно разводя руками, словно сам не понимая, куда его влечет, делает шаг к черной двери Саят-Нова, все сильнее увлекаемый мощным притяжением этой таинственной звезды, властно зовущей его.
И так же растерянно, в печали, разводит руками Анна, не пытаясь его удержать, понимая, что в страсти не бывает обратного шага — есть движение только вперед.
И пришел час, и вышли они из убежища. Из ласкового любовного кокона и, покинув его, разлетаются в разные стороны. И женщина, так похожая на Анну, в бледной пепельной маске сгоревшей страсти возникает снова. И, подтверждая сделанный выбор, стреляет из пистолета. Салют тебе, Любовь, как хорошо, что ты была! Была…
То, что мы называем «поиском истины», человеком XVIII века, в котором жил Саят-Нова, воспринималось и определялось как «поиск Бога»… Для чего мы созданы волей Творца — Стехцарара? Какой маршрут, какое плавание истинно? В чем наша миссия… к чему зовет эта таинственная темная звезда?
Отныне новая страсть зовет его, новая мелодия волнует душу. В бесконечные глубины духа лежит путь бывшего поэта, принявшего решение стать монахом. Но как непросто дается уход из мирской жизни… И еще обращенный к ней лицом, он продолжает пятиться по улицам покидаемого им города. Красные ковры, свисающие с балконов, словно воплощают оставляемый им мир, полный чувственных радостей и пиров. Из-за них снова под гремящие барабаны возникают, как воспоминание, маски танцующих перса и персиянки. Что это? Искус? Зов вернуться?.. Но страсть не знает обратного шага.
Позади все сожжено… Он выпил протянутую ему чашу любви до дна. Красные ковры закрываются, как тяжелый занавес, поглощают его и встают стеной.
Красная, мирская жизнь завершена…
Известно, что поэт был сослан в Ахпатский монастырь, который в холоде горных высей давал возможность остудить воспаленную душу. Что послужило поводом для этого, почему царская милость сменилась на гнев, за что сослали Саят-Нову — ответа в сохранившихся документах нет. Возможно, причиной стал именно тайный роман с сестрой царя.
Но Параджанов в своем фильме находит замечательное решение, дающее повод наполнить картину гораздо большим содержанием, чем очередной рассказ о горестных днях и страданиях поэта, преследуемого властью. По его драматургии, уход был добровольным. Не тяжелый крест преследуемого художника в центре внимания, а начало нового пути.
И остроконечные купола Ахпата, так близко в горах подошедшие к небу, возникают в фильме словно ракета, стартующая в бесконечные дали космоса. Может, поэтому столь ирреально первое видение Ахпата в картине. Все дальнейшее действие фильма развивается в его реальных стенах, но в первый раз Ах-пат показан чисто условно, причем в рабочем материале сохранились разные версии.
В одном варианте возникает лишь его силуэт — черный абрис. Здесь остроконечные купола храма вызывают ассоциацию с громадным космическим кораблем. Он возникает в четкой, черной графике в едином пластическом родстве с внезапно появившейся в царских палатах черной дверью, позвавшей поэта в новое путешествие…
В другой версии Ахпат возникает в золотом нимбе, как икона в золотом окладе. Здесь явно подчеркнут сакральный момент выбора поэта.
Но в обеих версиях происходящее показано на общем плане. И в одном и в другом случае перед нами театральная сцена. Мы не в кино, мы сейчас в театре. Действие зафиксировано аппаратом, стоящим на треноге, таким, каким оно обычно предстает перед зрителем, сидящим в зале.
Новый Саят-Нова принимает эстафету. Если придворного поэта сыграла Софико Чиаурели, то выход из шелкового кокона, перерождение его в монаха воплощено уже Виленом Галстяном.
Саят-Нова меняет красные мирские одежды на черное монашеское одеяние. Отныне вся его жизнь пройдет в черной сутане монаха. Обнаженный торс Галстяна, напоминающий античную статую (одной из лучших партий в его репертуаре был Спартак в одноименном балете А. Хачатуряна), словно подчеркивает его инородность в том мире, в который он сейчас вступает.
Праздник плоти завершен, а с ним вместе закончились и всевозможные соблазны — поэт отказывается и от своей кяманчи, песен больше не будет, поэт смиренно вручает лиру настоятелю храма.
Поэта отмывают от всяческой мирской грязи. Снова перед нами его обнаженная сильная плоть, но рядом уже развевается черная сутана.
Строгая одежда обнимает его грешное тело. Отныне он уже не поэт Саят-Нова, а монах Степанос — служитель веры, и не будет у него больше никакой любви, кроме любви к истине Божьей.
Что же нашел он, удалившись в эти горные, холодные выси, где нет, конечно, ни серных бань с их праздником горячего тела, ни смущающих душу трепетных песен любви?
Параджанов снова, как в новелле «Царская охота», находит выразительный кадр, сразу все объясняющий: красивое, одухотворенное лицо Галстяна. Обняв книгу — память о первом детском открытии, как бы присягая ей, он прижался к кресту, вырезанному на стене храма. А рядом красной россыпью, словно знак мира, от которого он отрекся, алеют на фоне черных сутан монахов, заполнивших пространство кадра, яркие пятнышки гранатов, которые с удовольствием едят монахи.
Рядом с ними, снова чужаком, как когда-то на царской охоте, стоит новообращённый монах Степанос. Он снова — белая ворона! Чужой там — в дорогих каракулевых мехах. Чужой здесь — в простой черной сутане. Мало что меняет одежда, не так-то прост побег от плоти, ибо плоть всегда с нами.
Подобно тому, как Иван пытается найти забвение в черных могилах, которые копает снова и снова, так и Саят-Нова, отрекаясь от земных страстей, пытается найти утоление в аскетичном мире храма…
А вокруг будни монастыря, наполненные вполне земными заботами. Тщательно вымыв ноги, монахи давят виноград, сильные мужицкие ступни основательно и привычно выполняют хорошо знакомое дело. Знатное вино будет в монастыре.
Братья по духу мелют зерно, гонят быков по гумну с золотистыми колосьями. Бережно пересыпаются семена подсолнухов, выдавливается под тяжелыми жерновами масло, осторожно, сберегая каждую каплю, переливают его в кувшины. Крестьянская страна — крестьянские монахи…
Параллельно с этими кадрами новообращённого Степаноса учат новой работе: крестить детей, отпевать покойников, венчать молодых.
Удивительно точно Параджанов проник в самую суть армянского христианства, где главное не схоластические споры и соревнования в красноречии, а желание крутить жернова Господни, вносить дух в деяния мирские…
Потому далеко не прост и не однозначен смысл плода граната, под знаком которого герой вступил в Ахпат. Ведь под твердой горькой оболочкой заключен целый мир, каждое зернышко граната — свой плод, свое семя, своя жизнь, свое единственное продолжение, начало нового древа.
Ару-у-тин! — долгим эхом звучит под куполом храма его имя.
Не себя ли самого он сейчас, овладевая новой профессией, крестит, венчает, отпевает и приобщает к новому витку познания? Ведь имя Арутин, данное ему при рождении, означает — воскрешение! Может, под именем монаха Степаноса он сейчас подошел к истинному своему призванию? Случайно ли так близко стоят два монастыря — Санаин и Ахпат? В одном он делал открытия в детстве, в другом совершал открытия в зрелости.
Но все гораздо сложней в сложном действии этого сложного фильма….
Параджанов приступил к этому фильму, находясь в самом расцвете сил. И при всем том, что многое не сложилось и не получилось, что не было у этого его творения столь блистательной и успешной судьбы, как у «Теней забытых предков», полнокровность и ощущение его самого насыщенного творческого периода выступает снова и снова в блестящих находках этого фильма, безусловно, ставшего вершиной его творчества.
О том, какими сложными путями ведет он своего героя, как непросто складывался уход от мира новообращённого монаха, говорит эпизод, поразивший меня еще на съемочной площадке и найденный спустя годы в обрывках архивных материалов.
Назовем его условно «Ночное видение». Цензура его вырезала сразу. К сожалению, в архиве он сохранился не полностью. Что же здесь происходит?
В выпущенном фильме «Цвет граната» есть кадры с загадочной золотой рукой. Она ложится налицо Саят-Новы, а затем куда-то манит. Сложный язык фильма еще более усложняется этими кадрами.
На самом деле у Параджанова было потрясающее и ясное решение…
Итак, ночь… спит Степанос… То ли во сне, то ли наяву его будит и манит золотая рука. Открывает он глаза, удивленно приподнимается на своем жестком монашеском ложе.
А рука зовет его, рука указывает дорогу.
Как это видение из золотого светского мира проникло через каменные стены монастыря? Что за знак?
Вокруг него призраки в белых кружевах. На спинах вместо крыльев рога.
Кто это — ангелы или демоны? Один из них что-то шепчет ему на ухо узкими недобрыми губами.
Степанос идет по ночным пустым коридорам, а вокруг снова призраки в белых кружевных одеяниям. И вдруг перед ним странный зверь… Лама!
Явный знак сна, ибо лама, живущая в Андах, вряд ли могла оказаться в горах Кавказа.
Саят-Нова доит ламу, наполняет большую серебряную чашу ее молоком, идет дальше по темным коридорам.
И… не может быть! Анна!.. Здесь, в стенах монастыря?
Она в непривычном одеянии: черное трико соблазнительно подчеркивает ее стройное тело, облаченное в черные кружева. Она вся в истоме медленных движений, страстного зова.
И Саят-Нова, подойдя сзади, вдруг выплескивает на нее всю чашу белого молока.
И внезапно между ними возникает белая стена!
Терпеливым трудом ассистентов в дверном проеме было установлено абсолютно прозрачное стекло, протертое до зеркального блеска, без малейшего пятнышка. «Языками будете лизать!» — дал строгую команду мэтр. Именно это прозрачное стекло и стало белой стеной между героями.
Саят-Нова бросается на эту белую стену, размазывает ладонями белое молоко, пытается достать желанные бедра, знакомую грудь…
Увы… его страстный порыв напрасен! Прозрачна стена, сквозь нее виден его страстный лик, но желанное видение Анны — там, в зазеркалье… за стеклом. Ни одной капли его желания не проникло к ней, ни одного белого пятнышка на черном соблазнительном трико, на прозрачных черных кружевах. Анна там, в его снах… в его ночных соблазнах…
Вот куда манила его золотая рука из того, прошлого, мира. Вот чем соблазнял монаха узкогубый демон, возникший из темных коридоров сна.
Организуя эту съемку, не записанную в сценарии, я и понятия не имел, для чего мы стараемся и что перед нами возникнет. Потому эффект этого видения был неожиданным, как взрыв.
— Что это, Сергей Иосифович?
— Поллюция… — рассмеялся мэтр. — Мало ли что может присниться?
Эта самостоятельно возникшая новелла удивительно совершенна по изобразительной пластике, по точности кинематографического языка, но главное в ней не форма. Она очень психологична и предельно точна. Неужели молодой, сильный, прекрасно сложенный монах мог бы так легко и сразу забыть голос плоти?
Параджанов с присущей ему дерзостью бросает вызов ханжеству. Не уходит в благостное фарисейство. Говорит откровенно о тех страстях и искушениях, с какими встретился молодой монах.
К сожалению, не все фрагменты из архивов попали ко мне, и в работе над фильмом «Воспоминание о „Саят-Нове“» я постарался из обрывков с трудом полученного материала восстановить это видение, которое когда-то так поразило меня. Своеобразное доказательство того, что кино может превращать даже быт в поэзию и при этом так тактично и тонко, как это умел Параджанов. Новелла эта — одна из самых ярких по своей образности и артистичности в его творчестве.
Вскоре Параджанов вслед за темой Эроса вводит тему Танатоса.
В монастырь приходит горестная весть: умер католикос Лазарь. Последняя воля умершего патриарха — быть похороненным в стенах Ахпата, и Степаносу как новообращённому монаху вручаются кирка и лопата. Вырыть могилу поручено ему.
Перенасыщенная ассоциациями, на первый взгляд даже сумбурная поэтика Параджанова и тут удивительно верна в своем стремлении к истине.
Рассмотрим эту новеллу внимательно — она также одна из самых значимых и интересных в его творчестве.
Долбит черную землю, роет могилу Саят-Нова, а на фоне строгих очертаний базальтового храма возникает, переливаясь золотом и пурпуром, патриаршая тиара. Ее сменяет другая, третья… Хотя они и призваны украсить главу церкви, но по богатству убранства и ярким краскам — те же царские короны. Сильны мирские желания и здесь в царстве духа.
«Власть, власть…» — как бы говорят драгоценные посохи, возникающие вслед за тиарами на фоне храма.
Детский хор, отпевающий католикоса, — в руках одного из мальчиков уже знакомый нам золотой шар. Его возникновение далеко не случайно — и здесь все те же суетные тщеславные игры.
То, от чего он бежал, настигло и тут. Плоть продолжает тешить себя и в далеком, поднявшемся к самому небу горном монастыре.
В темном провале черной двери, прямо перед ним, заслонив темные духовные глубины храма, стоит как истукан важный церковный чин. И алые рубиновые кресты на его широком золотом плаще готовы соперничать в роскоши со всеми атрибутами светской власти.
Могилу копает или жажду свою утоляет Саят-Нова, исступленно погружая заступ в черную землю? Антитеза между поэтом и неподвижно стоящим перед ним сановным лицом очевидна даже при отсутствии их прямого диалога. Не туда ли — в глубины божественной истины, заслоненной помпезными ритуалами, рвется он, осознав истину: «не сотвори себе кумира». Пусть кумир облечен регалиями «князя церкви», но духа здесь как раз и нет… Обряд, традиция, освященные игрища заменили его.
С высоких крыш открывал мальчик Арутин первые истины; в темной глубине храма продолжает он теперь тяжкий труд познания…
В новеллу, повествующую о смерти патриарха, органично включены рассказы о выборе плащаницы для похорон и о белой монахине.
Новообращённому монаху поручено найти достойную для патриарха плащаницу, и Саят-Нова отправляется в соседний женский монастырь. Но перед тем как он вступит сюда, перед зрителем возникает рассказ о белой монахине и истории ее безумства…
На фоне серой, унылой монастырской стены вышивают плащаницы и заунывно поют монахини в строгих черных одеяниях. Одна из них — уже шестая роль Софико Чиаурели — подходит к пасущемуся здесь же черному ослу и гладит его. И вдруг — о чудо! — черный осел на ее глазах превращается в белого!
Это неожиданное превращение вызывает у нее ужас, она испуганно пятится, прижимается к стене. Но беда еще и в том, что никто этого не заметил!.. Для других монахинь все по-прежнему.
Она одна вступила в зазеркалье. Этот воочию увиденный перевернутый мир, дав резкий толчок сознанию, превращает все то, что было столь незыблемым для нее, в абсурд… И отныне она останется там… в перевернутом мире.
На наших глазах выстраивается еще один парадоксальный кадр…
Прижалась монахиня испуганно к стене, раскинула крестом руки. И вдруг из этого своеобразного черного кокона появляется другая монахиня — белая! Черная монахиня, вырвавшись внезапно из своего кокона и переродившись в белую, почувствовала, увидела вдруг иное понимание вещей. Противоположное… А если все не так, как утверждают? Если все наоборот…
В растерянности кружится бедняжка, не в силах справиться с охватившими ее сомнениями, протягивает сестрам новую — белую плащаницу: не то вышиваете… не так молитесь…
Строг уклад женской обители, суровы сердца сестер. Жестокое наказание ждет усомнившуюся еретичку. Будь как мы, вышивай, как мы, молись, как мы!
Несчастную женщину вздергивают на дыбе. Мукой искажено ее лицо, в немом крике широко раскрыт рот. Но можно ли физической болью лечить боль души? Познав обратную сторону вещей, она с той стороны зеркала видит иной мир.
А сестры неумолимы — вновь и вновь взлетает она на дыбе и все же продолжает упрямо держать свою плащаницу, свое видение мира.
В следующем эпизоде мы видим приход Саят-Новы в женский монастырь.
С тихим загадочным шелестом выходят ему навстречу закутанные в черное монахини, показывают свои вышитые красные плащаницы. Тело Христа изображено на них, но в этом обнаженном мужском теле воплощен их тайный голод. Стыдливо и страстно, прикрываясь алой парчой, предлагают, стелят под ноги молодому статному монаху эту свою сублимированную страсть. Шепот и шелест гулким эхом отдаются под каменными сводами, смущен и растерян Саят-Нова, вступивший в это царство тайных женских желаний. Испуганно отшатывается он от их красных плащаниц, от их тайных признаний.
Из дверей храма выходит белая монахиня, несет в руках свою плащаницу. Именно ее выбирает Саят-Нова, почувствовав родство душ, родство исканий в перевернутом мире. Ибо здесь они оба — белые вороны, оба, не удовлетворившись принятыми правилами, продолжают поиск истины в таинственных безднах «черной дыры».
В каком-то смысле оба они художники, оба поэты, не принимающие лицемерных правил, оба томимы одной жаждой: «дойти до сути»… Увидеть истинное…
Именно с этой «истинной» плащаницей, принятой из глубин зазеркалья, он возвращается в Ахпат и покрывает ею тело патриарха.
И с гулким эхом, словно некий тайный знак свыше, подтверждающий ненапрасность этих упорных духовных поисков, падает патриарший посох, чтобы из раззолоченного и суетного светского знака власти обратиться в камень — последний знак бренности жизни и власти, запечатленный отныне на надгробной плите…
При всем активном использовании музыки и звуков эстетика картины напоминает немое кино. Нет ни диалогов, ни монологов. Короткие объяснения в титрах. Выразительными средствами здесь служат жест, мимика, пантомима. В структуре картины, в языке ее существенное место занимает специфическое наследие культуры Востока с вековыми традициями языка символов в искусстве.
Этот прием нередко можно встретить и в культурных традициях Армении. И Параджанов в новых поисках минималистской выразительности очень интересно использует свои пластические находки. Поэтому и родилось мнение, что эта картина получилась у него как фильм-фреска, как своеобразный фильм-балет, но выразительные изобразительные решения призваны подчеркнуть глубокий смысл фильма — судьба художника, его духовные искания.
Одним из основных лейтмотивов картины становится тема плода. Вновь и вновь в различных образных вариациях возникает эта тема. В чем плод наших исканий? Когда мы оказываемся на бесплодном пути? Каков конечный смысл — плод жизни человеческой?
Фильм выстраивается как своеобразная лестница познания, по которой поднимается поэт, пожиная плоды своих открытий.
Во дворце он познал любовные наслаждения, но плод этой любви возник в образе декоративного мальчика с накрашенными глазами — мертвый кокон, из которого не появится новая жизнь.
В монастыре, во многом напоминающем большой крестьянский двор, он приобщался к добытым трудом плодам: зерну, подсолнуху, винограду, превращавшимся в хлеб, масло, вино.
С чем шел поэт в Ахпат? Рассчитывал найти здесь братьев по духу, погруженных в изучение мудрых книг, каким вошел в его детство Санаинский монастырь?
Неуверенно и смятенно войдя в монастырские стены уже в зрелые годы, он и здесь пытается отыскать заветный плод — он жаждет познать Истину!
В этом поиске, в жажде открытия пусть самой жестокой правды, одной из важнейших является новелла «Рождество», от которой в выпущенном в прокат фильме осталось только несколько кадров.
Основные претензии Госкино СССР были к тому, что в фильме много эротики и мистики. Кто бы рискнул в 1969 году выпустить на экран фильм с откровенно обнаженными женскими телами в банях или ночными эротическими видениями в монастыре? Можно только удивляться смелости Параджанова.
Точно такое же возмущение чиновников вызвал «крамольный» показ Рождества.
Напомним, что даже в 1980-е годы в дни религиозных праздников — Рождества, Крещения, Пасхи — телевидение специально запускало в эфир концерты зарубежной эстрады и лучшие фильмы, чтобы этим отвлечь от посещения храмов.
К счастью, в рабочем материале эти эпизоды сохранились, и в работе над фильмом «Воспоминания о „Саят-Нове“» я постарался их собрать, хотя это было довольно сложно, потому что в сценарии эта новелла почти не прописана. Все имеющиеся кадры рождались на съемочной площадке. Рассмотрим, что есть в сценарии.
Есть сны поэта, в которых он возвращается в Тифлис и узнает, что Анна родила. Приведем этот фрагмент сценария.
«Он подошел ко дворцу…
У входа горели костры, пели ашуги, воспевали Анну — сестру царя.
Сегодня в ночь родился мальчик…
Царевна сына родила…
Проскочил всадник в белой бурке, сияла золоченая колыбель.
Саят-Нова трезвел на морозе…
Фальшивили ашуги…
Саят-Нова запел…
Скажу, ты шелк, но ткань года погубят,
Скажу ты тополь, тополь люди срубят…
Как петь? Слова со мной в раздоре, прелесть!
Медленно приоткрылось окно царевны…
Царевна слушала и металась в горячке.
Пел Саят-Нова…
Плакала царевна.
Молчали ашуги».
Вот и всё. Как видим, в сценарии нет и намека на Рождество. И возникновение эпизодов, не записанных в сценарии, вызвало особое возмущение. Есть, правда, еще эпиграф к задуманной новелле. Красивый, но тоже достаточно загадочный:
«В тебе родится сын… Иль мать вторично дочь родит в тебе».
Зато на съемочной площадке Параджанов развернул интересное действие. Оно достойно того, чтобы рассмотреть его подробно, но прежде небольшая подсказка из сценария:
«Саят-Нова проснулся в ознобе… Было очень тихо.
Замер родник… Должно быть, потому так тихо.
Саят-Нова вошел в трапезную и разрыл пол…
Отрыл сосуд в полу и жадно пил вино…»
Вот с этого кадра начинаются его сны. Попробуем восстановить то, что было вырезано цензурой и дошло до нас лишь в отдельных кадрах.
Богатые золотые рамы. В их обрамлении смертельно бледное лицо Анны. Жизнь еле теплится в ней. Затем, также в золотых рамах, профиль царя Ираклия. Он в тревоге, явно взволнован. Играют три музыканта (ашуги?). Затем появляются три волхва с дарами, один из них явно африканец (согласно библейской традиции). Снова три других музыканта. Опять волхвы — уже в другой композиции.
В следующем кадре — все вместе. В царских палатах на постели лежит Анна, поднимает в руках куклу (в фильме это современная целлулоидная кукла). Здесь же и царь Ираклий. Судя по смене настроения присутствующих, роды закончилось благополучно. Тут же, рядом с лежащей Анной, стоит Саят-Нова с колыбелью в руках. Звенят цимбалы. Тревоги позади…
Как видим, в отличие от сцены, записанной в сценарии, Параджанов накладывает сон Саят-Новы на знакомые рождественские картины и привычные ассоциации с приходом волхвов.
Получается, что Анна родила в ночь на Рождество.
Кстати, этот общий план со всей рождественской массовкой — единственный оставшийся в фильме, но, возникая вне всякого контекста, он только затрудняет понимание действия.
В процессе съемок родился очень интересный и важный по смыслу рассказ, подтверждающий, что у Параджанова многое выстроено очень точно.
Восстановим и остальные кадры этой уничтоженной новеллы.
Снова и снова возникают кадры Саят-Новы с колыбелью в руках.
Он идет с ней в черной сутане монаха. Идет в золотых дворцовых одеждах. Лицо его печально. Колыбель пуста! Нет в ней плода… Не случайно Анна поднимала в руках куклу.
Снова над пустой колыбелью беспомощно крутится золотой ангел. Не может помочь… Этот настойчивый повтор словно взывает: где плод любви? почему пуста колыбель?
Зато следующий кадр дает ясный ответ.
Снова возникает рогатый сатир из «Персидских масок». Сейчас он явно ёрничает: хватается за живот, изображая схватки беременной женщины. Затем глумливо баюкает в пустых объятиях несуществующее дитя. Грубо выставляет зад белой стене, на которой видны грустные детские лица.
Следующий кадр: дети в белых кружевных одеяниях, печально склонившие головы. Саят-Нова извлекает из-под белой сутаны и с горечью показывает крохотные детские носочки.
При всей условности и декоративности этих кадров Параджанов замечательно точно выстраивает психологическую и жизненную драму своего героя. Старая боль терзает его и в снах, он вспоминает дитя, которое не родилось от его любви. А возможно, и было загублено… Не было у них права на семью, не было права на рождение! У них было одно право — на страсть… на обжигающие красные объятия. И не эти ли загубленные ими, не увидевшие свет детские лица возникли на белой стене в мучительном сне? Не об этом ли их страшном грехе напоминал, издеваясь над новообращённым монахом, демон страсти?..
То, что в сценарии было лишь смутно намечено, обрело затем форму трагедии. Пустые объятия, любовь без плода, без своего естественного продолжения подтолкнула Саят-Нову оборвать эту страсть.
Разные мучительные сны приходят к бывшему поэту, воспоминания не дают ему покоя в тишине и строгости монашеской кельи. Большая работа души разворачивается перед нами.
Гораздо глубже и значительнее разворачивает Параджанов на съемочной площадке свое повествование, увы, так и не дошедшее до зрителя…
Но где мы уже видели пустую колыбель? И печальные лица явно любящих друг друга мужчины и женщины?
«Киевские фрески»! Вот где впервые возникла пустая коляска, покрытая черными траурными кружевами. Вот где мы видели это печальное расставание, эту любовь без естественного продолжения…
Вот какое развитие получила эта тема, уйдя из голого белого павильона в суровый средневековый монастырь, в армянские фрески. Почему же она так волновала Параджанова? Почему тема бесплодной любви постоянно возникает в его фильмах? Их брак со Светланой имел замечательное продолжение — золотоволосого сына. Нет ответа на этот вопрос, есть лишь странные авторские признания.
Возможно, один из ответов — в следующем монтажном стыке из тех же «Киевских фресок». Помните девушку в красном трико?
Но, чтобы рассказать об этой версии, придется снова взять авторскую паузу, тем более что и на съемочной площадке возникла пауза именно из-за нее — девушки в красном трико…
Был месяц октябрь, лучшая пора в Армении — золотая осень. Спала невыносимая жара, но холода еще не наступили.
Уже в ноябре в горах ляжет снег, завоет вьюга, а сейчас только снимать и снимать, ибо в Армении осень чаще всего без дождей. По сути, это долгое бабье лето…
Именно в дни ласкового бабьего лета и произошли неожиданные события.
Параджанов, игнорируя производственный график, объявил перерыв в работе. Повод — отсмотреть материал (его и так смотрели в Ахпате — в сельском клубе). Но вскоре выяснилась и истинная причина остановки съемок: Параджанов собрался жениться! Внезапное это решение поразило всех. Но… «шах» так решил… Решения «шаха» не обсуждаются. Великого демократа он обычно изображал для публики, зато в семье и на съемочной площадке это был Великий Диктатор (а часто и просто самодур). Что Людовик Солнце с его изречением «Государство — это я!», что Надир-шах или Иосиф Джугашвили с его внешней видимостью суда! Здесь судил и мгновенно карал (иногда весьма несправедливо) сам «шах-ин-шах».
Собрав директора группы Александр Мелик-Саркисяна, оператора Сурена Шахбазяна, художника Степана Андраникяна, Параджанов объявил, что они едут вместе с ним в Киев — исполнять роль сватов.
Итак, начальство уехало, а починенные остались греться под ласковым солнцем и любоваться богатством красок армянской осени.
И отойдя наконец от лихорадочной беготни, отогревшись душой и телом, надумали члены съемочной группы достойно встретить Мастера, ибо искренне преклонялись перед ним. Раскрыты были все сундуки, и строгий монастырь начал преображаться в настоящий дворец…
Извлечены были дорогие меха, купленные по специальному разрешению из фондов Союзпушнины. На стенах монастырской трапезной развесили бесценный каракуль, лошадиные шкуры, яркие персидские шали, вязанные еще в прошлом веке. Расстелили на полу ковры. Так на наших глазах стала возникать пещера Аладдина, достойная сказок «Тысячи и одной ночи».
Из богатейшего реквизита фильма, его костюмов, можно было бы собрать уникальный этнографический музей. Ну, а про серебро отдельный разговор.
С администратором и ассистентом художника мы поехали тогда в горы Зангезура, скупили в деревнях столько серебряных поясов, браслетов, ожерелий и украшений, что встал вопрос: как все это везти? Зашли в хозяйственный магазин, купили два цинковых ведра и, загрузив в них бесценное старинное серебро, сели в рейсовый автобус до Еревана.
Что и говорить, мирные были когда-то времена, весьма идеалистические и не алчные. Кому нужно было серебро, которое доставали из дедовских сундуков и продавали за бесценок, если партия торжественно обещала, что уже нынешнее поколение будет жить при коммунизме? Кому тогда нужно будет серебро, зато сейчас детям штаны обновить будет кстати. Вот и я привез сестре сувенир — серебряный пояс за 20 рублей, ну и себе кинжал старинный прикупил за 5 рублей. Зато любимому учителю перед отъездом в Киев сделал более дорогой свадебный подарок для невесты: чтобы не ударил он перед ней лицом в грязь, купил в деревушке, что рядом с Ахпатом, дорогущий пояс аж за 40 рублей. Килограмма три серебра в том поясе было, может, и больше. Такой не стыдно невесте дарить… Подарок «шахом» был принят милостиво…
А пока съемочная группа готовила торжественную встречу, основные события разворачивались в Тбилиси, куда молодая чета явилась за родительским благословением.
Кто же стала третьей избранницей Параджанова? В отличие от других его жен она запечатлена на экране в «Киевских фресках». Возникший на наших глазах союз между мужчиной и женщиной, так красиво представленный Тенгизом Арчвадзе и Антониной Лефти, не состоялся — пустая колыбель, покрытая черными кружевами, увела их любовь в небытие.
Именно тогда возникает стройная девушка в красном соблазнительном трико, крутящая кольцо хулахупа, а затем в белой маске медсестры делающая укол распростертому на медицинской кушетке мужчине. В таком откровенно эротически-сюрреалистическом видении запечатлел Параджанов в своих эскизах к фильму Зою Недбай…
Итак, по рассказам очевидцев, все было более чем серьезно. В присутствии сватов, встав на колени, Параджанов торжественно просил у Зои руки и сердца. Неулыбчивая красавица, типичная представительница молодежи 60-х, дала согласие, в котором не было никакого восторга, что признанный классик кино делает предложение ей, молодой начинающей актрисе. Зоя сантиментов не любила и была в духе своего поколения весьма малословна и сдержанна.
Затем отправились в Тбилиси.
Вот тут и наступила неожиданная развязка. Когда торжественный свадебный кортеж вступил в старый тбилисский двор, все жильцы высыпали на балконы — смотреть дивный спектакль. А смотреть было на что.
Невеста была в красной, весьма экстремальной мини-юбке, тогда только начавшей свое победное шествие по миру, но в патриархальном Тбилиси произведшей впечатление взорвавшейся гранаты.
Этот красный взрыв, обнаживший ноги удивительной длины и красоты, звучал затем еще долгим эхом в потрясенных рассказах, но он же стал поводом для сурового вердикта мамы Сиран.
«Кого ты мне привел! — закричала она без всяких церемоний. — Где Светлана? Давай ее сюда!»
Смущенный свадебный кортеж быстро вбежал в дом. Невеста, принесшая последние достижения цивилизации в дикие горы, хранила гордое молчание, зато Сиран показывала свой огненный темперамент (его я хорошо знал).
На том все и кончилось. Невеста была через день отправлена в Киев, кортеж вернулся в Ахпат, пышное свадебное убранство было снято и возвращено в реквизит. Овечки, купленные для свадебного шашлыка, остались живы, а операция «Царская невеста» ироничным оператором Суреном Шахбазяном была переименована в «Зоя, гуд-бай»…
Параджанов ни тогда, ни годы спустя не дал никаких объяснений. Эта история осталась навсегда такой же загадочной, как и его киноновелла. Но все-таки спустя годы Зоя Недбай возникнет в письмах Параджанова из зоны. Рассказывая о скудных тюремных харчах, он писал, что так похудел, что стал стройным, как Зоя Недбай. Значит, она продолжала жить в его памяти, раз ее образ возник снова. Это тем более примечательно, что осужден он был, как известно, совсем за иные сексуальные пристрастия.
Мне же, заканчивая эту авторскую паузу, остается добавить, что красивый серебряный пояс так и не дошел до невесты и был подарен кому-то чисто случайно. Привычка Параджанова, знакомая всем его друзьям. Мне, откровенно говоря, было бы гораздо приятней, чтобы женщина, хоть и не надолго ставшая его женой, сохранила этот брачный пояс.
Зоя Недбай, будучи намного моложе, ушла из жизни в один год с Мастером. Да и свидетелей этой странной истории уже почти не осталось…
Вот такая история произошла в золотисто-пепельных горах, согретых последним теплом бабьего лета.
Гиж-март… Гиж — безумный, сумасшедший, так одинаково называют армяне и грузины первый весенний месяц. Природа, словно сбивается с толку, не знает, чего хочет. Безумно несутся по небу облака, то открывая неожиданно жаркое солнце, то яростно швыряя в лицо колючий снег припозднившейся метели. В марте дичает кровь, воют дурными голосами коты и появляются первые цветы. Если в России март — это надежда, долгожданная оттепель, трогается лед на реках, то здесь — это сумбур в природе и в душе. Сумбур в природе и в душе. Месяц неожиданных безумных ветров и неожиданных безумных снов. Что-то очень хочешь, но что?.. Месяц химер, иллюзий и кривых, обманных зеркал, в которых отражается запутанный мир непонятных желаний. Жить, как жил, или что-нибудь учудить? Словом — Гиж!
Перед мартом бессильны даже крепкие стены монастыря, выстоявшие не одно землетрясение. Март врывается и сюда, срывая с губ привычные молитвы, прерывая ход привычных работ. Выстроились, прижались к стене монахи, ветер треплет их сутаны, и начинает задыхаться в кашле рыжий монах, бьет себя изо всех сил в грудь. Протест? Невысказанная боль? Что хочет выговорить он через душащий его кашель?
И неожиданно, обнажив свой сильный торс, раскачивается в своей келье Саят-Нова. Во сне это или наяву? В прошлом он сейчас или в настоящем? Почему рядом с ним раскачивается маленький монах — первый учитель в Санаинском монастыре? Поет ему знакомую детскую песенку, уводит в далекие, сладостные воспоминания.
Теперь в Ахпате уже не юноша Арутин, а зрелый муж Саят-Нова, ухватившись за плечи своего первого учителя, раскачивается как маятник, отсчитывая пробежавшие годы. Пытается вернуться к истокам, вновь почувствовать тот первый толчок, что запустил маятник его сознания.
И возникает в ритме этого двойного маятника дом детства, где так правильно и разумно начиналось все. Мать и отец, улыбаясь ему, протягивают теплый хлеб — лаваш. Он словно белый пергаментный лист, на котором так много можно записать, высказать. Положив на плечи белые крылья лаваша, мальчик Арутин танцует под детскую песенку, что поет ему маленький монах, и дом сейчас весь в белых теплых крыльях лаваша, зовущего его в жизнь, в полет!
И вместе с этими воспоминаниями о первом хлебе детства дом наполняется такой же чистой и такой же теплой шерстью. Бабушка, разложив на ковре шерсть, взбивает ее. В доме целые облака шерсти, белые охапки шерсти в руках отца и матери. Они протягивают мальчику это тепло… И он берет в руки целые охапки этого тепла. И кружится с ним в этих белых облаках воспоминаний его детская колыбель.
Рефрен, проходящий через все творчество Параджанова…
Но воют ветры безумного марта и разносят эти теплые облака. Мальчик Арутин напрасно тащит в прошлое свое будущее — монаха в черной сутане, ибо тащит в разрушенный дом. Нет больше дома детства! Снесена его крыша…
Отец, мать, бабушка стоят на кладбище в вихрях этой фантастической метели и не могут помочь ему связать оборвавшуюся нить времени. В раскрытой могиле стоят музыканты. Воет пронзительно зурна, плачет дудук… Отец, мать, бабушка стоят в белых развевающихся саванах. Несутся клубы шерсти. Неистовствует, кличет бурю зурна. Ветер рвет саваны, сдувает шерсть с могил. Налетевшая страшная буря, разрушив дом, срывает даже купол с храма!
Таков этот страшный сон, от которого нет счастливого пробуждения.
Вернее, оно есть в «Цвете граната». Растерянный Саят-Нова стоит в воротах Ахпата, пытаясь завернуться, спрятаться в черную сутану от мучительных снов.
Теперь попробуем еще раз восстановить подлинный авторский замысел, вернуться к тому, чего нет в выпущенном фильме. Итак, версия, собранная из архивного материала… «Воспоминания о „Саят-Нове“».
Что на экране… Мистический кадр с летящим куполом весьма не случаен, а развернут в целое действо. Дальше Саят-Нова продолжает свой путь через кладбище. А сорванный купол преследует его, вновь и вновь пролетает рядом. Зачем все это? Что за химера?.. Откуда возникло кладбище мучительных снов?
Кружится Саят-Нова в воронке мартовской бури, не знает, куда идти… И кружится с ним рядом сорванный безумным ветром купол, ищет свой потерянный храм. И ищет свою дорогу Саят-Нова. Куда идти? В прошлое? Нет туда дороги.
И, продолжая путь через бурю, он снова вступает в Тифлис. Как странен он в этом сне… Надсадный звук пилы обступает со всех сторон. Что пилят эти молчаливые пильщики? Дрова? Или это образ мучительных воспоминаний, что пилят его самого снова и снова?
Внезапно его окружает толпа кричащих старух. К чему они взывают? Зачем протягивают к нему горячий хлеб, прижимают к его груди? Может, это хлеб истины, которой он так и не обрел?
Он искал этот заветный хлеб в красных дворцах, страстно воспевая любовь. И не нашел… Любовь тленна. Рано или поздно она превращается в пепел.
Нет истины в красочном театре любви… Он искал хлеб истины, придя в монастырь. Но не нашел его ни в обрядах, ни в соблюдении ритуалов. Все это тоже игра… Для этого человек приходит в мир? Нет утоления и в этом патетическом театре служения духу…
Куда теперь идти? Как дальше жить человеку, обуреваемому жаждой истины? Кто утолит эту мучительную жажду?
Прижимая к груди теплый хлеб, что дали ему кричащие старухи, он даже не пытается вкусить этот хлеб теплых воспоминаний.
А купол, сорванный, как и он, безумными мартовскими ветрами, кружит и кружит вокруг него. Вместе ищут они дорогу к заветному храму…
Внезапно, как своеобразный символ его поисков, возникает слепец, бредущий среди могил. Он заворачивает черный хлеб в белый лаваш, но не знает, кому его отдать, тычет его в пустоту. Нет никого, кто бы принял его горький хлеб…
Эта новелла, так и не дошедшая до экрана, ушедшая в заточение на сорок лет в глухом подвале, — одна из вершин творчества Параджанова. То, что обычно решала литература, обращаясь к глобальным вопросам бытия, было сделано языком кино.
Не будет преувеличением сказать, что это одна из самых интересных сцен в истории мирового кинематографа. Это сердце картины, ее эпицентр. Через мартовскую бурю передано все смятение героя, вся глубина его отчаяния и горечи. Он не знает, как дальше жить, если всё зря… Где путь? Если тычешься в пустоту…
И не находит вместе с ним путь и потерявший свой храм сорванный купол. И, устав кружить, падает, разбивается, превращается в прах.
Удивительно горький, поражающий своей образностью финал.
И все же, пройдя через бури безумного марта, приходит весна! Но приходит она через отсчет не календарных дней, а календарных лет.
Для того чтобы улеглась душевная буря, нужны годы… И они делают свое дело.
Перед нами в следующей новелле возникает новый Саят-Нова. О том, что он прошел через многие бури и многие годы, говорит его лицо. На этом лице шрамы-морщины, на этом обветренном лице следы прожитых лет и горечи приобретенных знаний, «ибо во многих знаниях много печали».
Напряженного, настойчиво ищущего истину, полного сил и мощи мужа, которого убедительно воплотил Вилен Галстян, сменяет спокойная и терпеливая доброжелательность Георгия Гегечкори. Это уже четвертый лик героя.
Лицо переменилось, а душа?..
Осень жизни, пришедшую к его герою, Параджанов разворачивает… через весну! Таково его замечательное решение, позволяющее вести рассказ не через прямые иллюстрации, а через парадоксальные.
Весна! Снимают черные сутаны монахи, всем телом блаженно впитывая ласку солнечных лучей. Обнажены их крепкие крестьянские тела. Охваченные необъяснимым порывом, становятся они на колени, поднимают руки к солнцу, не осознавая, что творят этим ересь, и язычники они сейчас, и благословляют Солнце, а не Слово.
Но что поделать, если Слово пришло позже, а вначале была земля, глина, из которой мы сотворены.
И снова Параджанов делает свой любимый шаг в зазеркалье, и снова у него все наоборот, и снова, как в эпизоде с Безумной монахиней, черное становится белым, а правда — это ложь. И потому в эти первые дни весны он разворачивает осенний сенокос. И снова это его парадоксальное решение имеет логику.
Если бушует весна и в крови, и на дворе, если первые буйные травы потянулись навстречу солнцу и покрыли даже купол храма, значит, надо косить по весне…
Опять это неожиданное прочтение, эта весна по-параджановски магически очаровывает нас.
И, обвязав себя цепями, чтобы не сорваться, вышли косари на крутые купола. Машут косами, срезают траву. Еще одно неожиданное видение с высоты куполов, уже не в первый раз возникшее в картине.
Пролог к разворачивающимся страстям, которые не заставят себя ждать. И летит с куполов дождь трав, и, подставив им свое обнаженное тело, блаженно принимает на себя этот ласковый дождь старый Саят-Нова. Впитывает в себя, в свою судьбу эту странную весеннюю осень.
А дальше в картине предстает Пасха. Древний языческий праздник весны, давно принявший канонические христианские формы. В монастырь прибывают богомольцы. Кончился долгий весенний пост, пора разговляться.
И в картине разворачивается праздник мяса. Режут баранов, варят в котлах мясо. Это сюда, в храм духа, опять ворвалась Плоть. Что делать, если она всегда рядом с нами, если рядом ее дыхание и наше желание жить не духом единым.
Воспев с первых куполов книгу, создав ей торжественную оду, режиссер теперь с этих весенне-осенних куполов разворачивает не менее красочный гимн мясу. Перед нами освобожденная от всех покровов — кожи, шерсти — голая истина мяса. Огромные медные котлы, наполненные едой, словно своеобразные идолы, истуканы плоти.
Грубы и примитивны эти идолища, как и все кровавое, откровенно языческое действие, развернувшееся перед нами. Кажется, что дух сейчас изгнан, сметен этим нашествием плоти.
И все же не все так просто в возникшем перед нами театре мяса… Резок на первый взгляд контраст между одой книге и одой мясу. Открыв вначале истину Книги, лишь после долгих поисков приходит герой к пониманию истины Мяса. Ведь мясо в этих котлах не просто еда. Это матах — жертвоприношение! Не для насыщения, а для раздачи всем нуждающимся варили его у стен монастыря. Не обед здесь кипит, а утверждается высокая идея жертвенности. Отдай ближнему самое дорогое, что в доме твоем.
И потому громко кричат, перебивая друг друга, празднично одетые старухи, — им, их опыту доверены сегодня большие котлы, потому отступили от котлов по-весеннему красивые молодухи. В этот весенний день — праздник их осени, праздник обветренных многими бурями старух. В их узловатых руках найденная истина. «Возьми мое мясо! Подойди к моему огню! Я зачерпну от души!»
Матах — жертва, Плоть, трансформированная в Дух!.. Мясо, зачерпнутое от души для ближнего своего, — вот еще одна ступень в долгом восхождении к куполам истины, к которой приходит уже в дни весенней осени поэт. Как долго он шел к этой истине, которая все же открылась ему. И плоть становится духовной, когда приносится ближнему своему. С мольбой за его исцеление, высвобождение, свершение его надежд… Когда начался долгий путь к этой истине? Может, в детстве, когда отец кровью и плотью принесенного в жертву петуха поставил на его лбу знак духа — крест?
Осень пришла к Саят-Нове, но продолжается его путь, новые земли открываются перед ним, новые искушения и новые испытания.
Богомольцы принесли с собой в горный монастырь городские новости. В городе теперь славят нового ашуга и поют теперь его песни.
Померкла слава Саят-Новы, забыты его строки, рожденные в сердце. И тогда возникает далеким видением — золотой шар, и приходит еще одно искушение…
Шепчутся об этой вести за его спиной монахи. Спускается по лестнице его детство — маленький Арутин, протягивает ему его лиру, его кяманчу:
— Вернись в город… Разве нет у тебя больше песен? Разве не цветет весна? Разве ты сухое древо, которому не зеленеть больше никогда?
В смятении Саят-Нова. Осень легла сединой на его голову. Но разве поседело сердце? Разве не рождаются в нем новые слова?
И седой монах принимает решение… В тихий вечерний час он бежит из монастыря, прижав к груди лиру.
Что же было задумано Параджановым и что предстало в конечном итоге на экране?
По возвращении в город Саят-Нова встречает похоронную процессию. Сыновья и дочери хоронят мать, лицо которой напоминает лик Ахтальской богородицы. Так написано в сценарии. Возникает новелла о том, как была уничтожена фреска с ее изображением. Один рассказ вплетается в другой, что во многом затрудняет понимание происходящего.
К сожалению, если первая часть фильма, повествующая о днях, когда герой был придворным поэтом, подверглась относительно небольшим поправкам, то вторая часть, рассказывающая о его монастырской жизни, была порезана весьма существенно.
Если некоторые новеллы изымались целыми блоками, то в этой осталась нарезка, сбивающая зрителя, вынужденного разгадывать сложные сюжеты, сумбурно составленные из нарезанных кадров.
Отсюда возникло расхожее мнение, что «Цвет граната» — это набор красивых, но ничего не говорящих эпизодов. И в самом деле, в этом калейдоскопе кадров из разных эпизодов разобраться очень сложно.
Понять эту замечательную новеллу снова помогли архивные кадры, возникшие из небытия. Чем же закончился этот побег?
По пути в город Саят-Нова направляется сначала к животворному роднику, чтобы испить его воды и набраться сил.
Он входит в храм. Но родник замолк! Почему высох животворный родник? Откуда теперь почерпнуть вдохновение?
И тогда перед ним возникает сцена: как расстреливали Богоматерь. Налитые кровью глаза турецкого всадника. Мохнатая шапка надвинута по самые брови, ужасны черты его лица. Турецкий всадник въехал на коне в храм, смотрит на Богоматерь. Натягивает лук, летят одна за другой его стрелы, вонзаются в ее лицо…
И потемневший лик, не выдержав надругательства, внезапно отделяется от стены и падает вниз! Это неожиданное, почти сюрреалистическое решение производит потрясающее впечатление.
Выплывает из волн забвения уже не лицо, а маска.
И неожиданным видением появляется лицо матери Саят-Новы. Вокруг него — терновый венец вонзившихся стрел.
Но ушли страшные видения. И Саят-Нова, стоя в пустом разрушенном храме, в котором совершилось это надругательство, постигает еще одну горькую истину: Бог больше не смотрит на мир и потому отныне все дозволено!
Слово — «Наглый», «бесстыдный» по-армянски звучит очень образно — «анерес», что означает «человек без лица». Бесстыдный человек — это безликий человек. Человек, не имеющий лица.
Подняв голову к разрушенному куполу храма, он видит Бога с отнятым лицом. Победное торжество бесстыдства и вседозволенности. Как петь, какие песни слагать, если в мире высохли родники, если настало время бесстыдных и безликих…
И тогда он принимает решение вернуться в монастырь. Суетно желание вступить в поэтические игрища, сомнительно творчество в мире, потерявшем лик Бога!..
И снова в монастырь влетает монах на черном коне, и снова бьет себя в грудь, рот его раскрыт в немом крике. На этот раз он принес еще более страшную весть: война! Мухаммед хан начал свой страшный набег, который потопил Армению и Грузию в крови.
И горят священные камни с изображением креста, горят могилы патриархов. Обнаженные всадники ворвались в храм, пляшут их кони. Простерли руки к небу монахи, взывают к справедливости. Но нет ее! Лишь черные клубы дыма от горящего храма поднимаются к небу.
И возникает еще один страшный по своей выразительности кадр-метафора: рука вонзает в стены храма ятаган, режет его как живую плоть. И брызнули стены горячей красной кровью! Храм живой, его плоть кровоточит…
Всего этого в вышедшем в прокат «Цвете граната» нет. Кадры нашествия, осквернения храма и его кровоточащих стен также оказались заперты на долгие годы в подвале. Как много в истории кино кадров войны, набегов, развернутых батальных сцен. У Параджанова они решены, как и было задумано, предельно минималистскими средствами, переданы очень лаконично. Может, поэтому так выразительно выглядит этот «забытый эпизод».
Но чем же заканчивает Параджанов свое повествование? Где ставит точку в долгой одиссее своего героя? К счастью, этот финал в «Цвете граната» сохранен.
Готовясь к смерти, Саят-Нова снимает черную сутану и остается в белой рубашке.
И в эту минуту поэт видит того, кого искал всю жизнь! Высоко-высоко, под самым куполом храма, узрел он наконец заветный лик… Но кто он?.. К кому вывел Параджанов своего героя, проведя через все испытания? Кто тот, кого он искал? Там, под куполом, он видит каменщика. С мужицкой основательностью замешивая раствор, он продолжает строительство.
Вокруг война, насилие, смерть, истекают стены храма живой кровью, а он работает!
Внезапно каменщик, протянув к нему руку, приказывает: «Пой!»
Поднимается с каменных плит Саят-Нова, поет одну из своих любимых песен. А каменщик, держа большой кувшин, ловит в него песню Саят-Новы и затем вмуровывает в стены храма. Так усиливаются звуки, громче резонанс под куполом. И снова, протянув руку, приказывает: «Пой!» И снова из последних сил поднимается умирающий Саят-Нова и поет. Летит его голос высоко, под самый купол.
И снова каменщик крутит широкое горло кувшина, снова вбирает в него звук, чтобы лег кувшин в стены храма, чтобы подхватывал малейший шепот, чтобы даже самая тихая молитва была услышана под самым куполом. Убедившись, что полон кувшин, что вобрал, принял в себя и стих, и лад, и вздох, каменщик закладывает кувшин с голосом поэта в кладку стены, дабы вошел дух в мертвую глину и живым стал храм. Затем, убедившись, что песня поэта, подобно кирпичу, навсегда впечатана в стены храма, подняв руку, приказывает: «Умри!» Но может ли человек отдать такой приказ? Нет, перед нами иная сила, иная власть! Это — Божественная Воля.
Первые слова, прозвучавшие в фильме, — библейское предание о том, как Бог в трудах создал мир.
Теперь Параджанов заканчивает свою «стройку», свой фильм великолепной кодой: Бог продолжает работу, мир — его храм, и храм этот строится всегда. Строится, несмотря на войны, набеги, разрушения, насилие. Созидание — вечно.
Долго искал истину и смысл жизни Саят-Нова, запутывались его дороги. Не находил он ответа ни во дворцах, ни в монастырях. И все же в последнюю минуту нашел ответ.
Человек, сотворенный Богом по образу и подобию своему, приходит в этот мир, чтобы созидать. Бог открылся ему, но явился он не из горящего куста и не из облака в громе и молнии. Не могучий всевластный Царь Небесный предстал ему. Мужицкие, красивые в простоте своей черты Вечного Созидателя — Стехцарара увидел Саят-Нова.
Долгожданный ответ найден им уже в последние мгновения жизни. И, утолив наконец свою жажду, он, послушно следуя велению этой могучей длани, ложится на каменные плиты и принимает Смерть… Она слетает к нему в образе десятков белых жертвенных петушков. В образе высокой истины матаха!..
Именно жертвенность одухотворяет этот мир, и не было бы без нее ни одного великого деяния, и не было бы восхождения на Голгофу, ибо все великие деяния всегда и Жертва, и Созидание…
Трепеща крыльями, жертвенные петушки отдают жизнь вместе с Саят-Новой, тушат, гасят пламя десятков свечей, создавая одну из самых ярких и поэтических находок в истории кино.
Заключительным аккордом в белых стенах храма открыли широко, словно рты трагических масок, свои глубокие гортани вмурованные в стены поющие кувшины. Они вновь и вновь повторяют навсегда оставленную нам песнь поэта.
Человек смертен. Но вечен храм, вобравший в стены свои его душу, его песню.
Дальнейшее — молчанье…
Именно этими словами завершает свое повествование о Гамлете Шекспир, и именно они точнее всего выражают то, что последовало в судьбе Параджанова после завершения его самой сложной работы.
Закончив свое почти трехлетнее путешествие в страну забытых предков, он вернулся в Киев, где его кроме друзей и родных никто не ждал.
Начались долгие годы киномолчания…
Только спустя много-много лет после завершения работы над «Цветом граната» он выйдет на сцену московского Дома кино с премьерой нового фильма «Легенда о Сурамской крепости» и сделает удивительное признание: «Я не подходил к камере пятнадцать лет. Будьте снисходительны…»
Новый фильм был подтверждением тому, что созидание его парадоксального мира продолжается и новые поющие кувшины ложатся в возводимые им стены своего творческого храма.
Очень символично было и то, что в новом фильме рассказывалось теперь о строительстве крепости. И стены ее падали до той самой минуты, пока не приняли в себя матах — жертву.
Так спустя долгие годы от одного факела был зажжен другой. Удивительное родство волнующей его тематики. Пронесенная страсть. Но мы опережаем события. Об этой работе позже.
Героями фильмов Параджанова были разные люди: и советские колхозники, и передовики шахтеры. Затем пришли иные герои: гуцульский крестьянин, грузинский витязь, восточный ашуг. Отличие «Цвета граната» от его остальных фильмов в том, что его герой интеллектуал. Труден был сам материал фильма, и работа над ним складывалась весьма непросто. Чаще всего споры на съемочной площадке происходили из-за того, что Параджанов постоянно диктовал оператору свои изобразительные решения. У него не сложилась работа с сильным, умеющим настоять на своем оператором Юрием Ильенко, и на этот раз он обезопасил себя, пригласив опытного, но в то же время весьма интеллигентного мастера Сурена Шахбазяна, который хоть и высказывал свои критические замечания, но в конечном итоге уступал жесткому диктату режиссера. Поэтому операторское решение большинства кадров продиктовано Параджановым и снято так называемым «полтинником», то есть объективом, дающим усредненное и часто не самое выразительное изображение. Весь богатый арсенал изобразительных средств, развернутых в «Тенях забытых предков», здесь неоправданно забыт.
То действие, которое разворачивалось передо мной на съемочной площадке, было гораздо более интересным и эмоциональным, чем то, что предстало затем на экране. Ожиданий было, прямо скажем, больше. Только часть этих захватывающих сцен нашла свое адекватное выражение в собранном фильме.
Увлекающийся, категоричный, не терпящий критики, Параджанов в конечном счете во многих эпизодах не смог отделить главное от вторичного, отсюда и обилие лишних деталей и часто весьма умозрительных решений. Здесь невозможно не вспомнить самое его частое слово на съемочной площадке, ставшее своеобразным заклинанием, — фактуры…
Впрочем, слово это в кино тогда приобрело особую значимость. Интересно пишет об этом Андрей Кончаловский в статье «Мои шестидесятые»:
«На чем строилась новая режиссура? Прежде всего на фактуре. Первым и главным нашим желанием было добиться правды фактуры. Нас волновали трещины на асфальте, облупившаяся штукатурка, мы добивались, чтобы зритель не ощущал грима на лицах и видел грязь под ногтями героев. Тарковский на этом буквально повредился. Он в любом своем фильме добивался фактуры, никогда ее не выхолащивал… Запретили „Андрея Рублева“ потому, что он был неприятен с точки зрения фактуры, в нем не было привычного киноглянца…»
Сказанное во многом справедливо и для «Цвета граната». Параджанов так же страстно стремился к фактурной достоверности, но, к сожалению, не всегда получалось, что «овчинка стоила выделки». Многие абсолютно подлинные фактуры так и остались чисто умозрительными и не произвели того эффекта, ради которого прикладывались такие отчаянные усилия. Безусловно, это самый «трудный» фильм Параджанова. Понять его до конца весьма не просто. Тем более после того, как его основательно порезала и перемонтировала цензура. Ни один его фильм ни до, ни после не выходил столь далеким от авторского замысла, от того, что хотел сказать автор. И теперь, спустя годы, вновь возвращаясь к этой картине и анализируя ее, нельзя не признать, что и сам Параджанов в этой работе совершил ряд серьезных ошибок. Уйдя в поиск нового, не имеющего аналогов в практике не только отечественного, но и мирового кино, используя скупой, ограниченный в средствах минималистский язык, он многое не смог сделать органичным. Многие сцены, без всякого преувеличения, получились гениальными в своих поразительных находках. Но вместе с этим многое не выстроено до конца, многое интересно по замыслу, но не по результату. Возможно, по-другому и не могло быть… Слишком лабораторна по своему характеру эта картина, слишком увлеченно проведены многие эксперименты. А ведь не всякий эксперимент дает ожидаемый результат. Не все рождается на одном дыхании. Режиссер в отличие от писателя не имеет возможности отложить на время работу, переосмыслить ее, переписать сценарий или откорректировать свои находки. Он вынужден делать всё и сразу.
Здесь любопытно вспомнить, как непросто начались первые съемки. Но сначала приведем телеграмму, которую меня заставил отправить Параджанов:
«Шестнадцатого августа, после двухмесячной пролонгации, был назначен съемочный день, который клинически провалился. Настаиваю закрыть картину последующим уходом из кинематографа вообще. Достаточно мне „Киевских фресок“ и репрессий Тарковского».
Телеграмма была адресована заместителю председателя Госкино Баскакову и секретарю по идеологии в ЦК компартии Армении Хачатуряну. Ситуация после такого резкого послания сложилась весьма непростая и разрулить ее удалось с большим трудом.
Так в чем же была суть вопроса? Параджанов требовал, чтобы в новелле «Царские бани» (первый назначенный объект) на крыше, по которой бегает маленький Арутин, мыли ковры настоящие курдиянки, уверяя, что только так можно добиться подлинности фактуры.
Снова я был вызван в кабинет Вагаршяна и снова долго обсуждался вопрос, как спасти ситуацию и усмирить новый бунт Параджанова. На дворе 1960-е, курды сниматься в кино категорически не хотят.
К счастью, в Армении в те годы выходила единственная в мире газета на курдском языке «Рийа таза» («Новый путь») и шли на Ближний Восток передачи по радио на курдском языке. И вот, обойдя семьи журналистов, я смог уговорить почтенных отцов семейств разрешить своим дочерям сниматься в кино. Высокому начальству было доложено, что конфликт улажен, Параджанов приступил к съемкам.
Смотря сейчас на экран и вспоминая, как судьба фильма висела буквально на волоске, ибо начальство в Москве и Ереване было просто взбешено полученной телеграммой, я думаю совсем о другом…
Ни одна этнографическая или антропологическая экспертиза не установит, глядя на экран, что ковры моют именно курдиянки. Армянки моют ковры точно так же, и курдские пятки — а в кадре в основном видны именно они — по своей «фактуре» ничем не отличаются от армянских.
Удивительная красота старинного армянского серебра, персидских тканей, редких мехов и прочих этнографических богатств, собранных для фильма, к сожалению, лишь в малой степени засверкала на экране. И здесь нет вины оператора. Если режиссер требует снимать фильм при ровном плоском освещении, если всякой светописи объявлена война, если камера установлена на треноге как фотоаппарат и все снимается без трансфокатора, без широкого использования разных объективов и в основном одним средним планам, какое богатство фактур может быть выявлено?
Подобной «подлинности» можно было бы достичь даже с использованием бутафорского реквизита. Красота подлинных, с таким трудом собранных предметов в кадре не обыграна. Они только присутствуют.
Увлеченность, с какой Параджанов собирал все это богатство, скорее объясняется не режиссерскими задачами, а семейными традициями. Сын антиквара и сам страстный коллекционер, он самозабвенно погрузился в красоту Востока и отдал весь пыл души на сбор уникальных раритетов.
Завершая рассказ об этом этапном фильме в творчестве Параджанова, необходимо сказать о человеке, без которого этот замысел никогда бы не состоялся.
В те годы Госкино Армении возглавлял Сергей Гаспарян, роль которого в рождении этого шедевра сегодня незаслуженно забыта. Именно он решил пригласить Параджанова в Армению, именно он провел сценарий фильма через все преграды и возражения Госкино СССР и ЦК КП Армении и смог запустить в производство, именно он в результате этих баталий получил инфаркт и под благовидным предлогом был отстранен от должности.
Итак, Параджанов вернулся на Украину, по которой соскучился. И дело было не только в том, что ссоры и конфликты достигли критической массы. Это неизбежно при создании такого сложного фильма, и все это забывается, когда есть победа!
Увы, именно победы и не было… Был достаточно печальный результат: фильм получил самую низкую категорию — четвертую.
И все же он приехал с облегчением. Он устал в Армении, не вжился в менталитет, в ткань этой страны. Решив снимать такой аскетичный, такой строгий и суровый фильм, сам он ничуть не изменил свой характер. И потому возвращение в знакомую (и любимую), щедрую на слова и эмоции украинскую реальность воспринял с облегчением.
Ну а дальше…
В творческой жизни Параджанова была долгая, многолетняя пауза. Как жить, чем зарабатывать на жизнь?
Так наступил в его жизни сценарный период. Лишенный возможности снимать, он писал новые и новые сценарии. Бурлящая творческая энергия художника, находящегося в расцвете жизненных сил, изливалась в не исполняющиеся замыслы. Все это тоже оставалось лишь для прочтения и обсуждения в кругу друзей. Сценарии Параджанова редакторы обсуждали, высказывали умные предложения, но договор не заключали…
Еще переполненный впечатлениями об Армении, он пишет на материале древних преданий сценарий «Ара Прекрасный», в котором рассказывалось, как могущественная повелительница Ассирии Семирамида (Шамирам) воспылала страстью к царю Армении Аре, прозванному Прекрасный, как эта страсть кончилась великой войной. Ара пал в бою, его окровавленный труп был доставлен Шамирам. Оплакивая Ару, она продолжала объясняться в любви и любоваться его красотой.
Тема языческой культуры, всегда так вдохновлявшая Параджанова, получила на материале истории этой драматической любви свое красочное развитие. В результате получилась очень образная и поэтическая история, наполненная подлинно античной мощью. Приведем небольшой фрагмент сценария, позволяющий получить представление о поэтике Параджанова-литератора.
«Сиреневые скалы… Сиреневая дымка.
Сиреневые водопады сиреневых гор.
Караван царя Ара, прозванного Прекрасным.
Стада быков, овец… стада газелей.
Стада увенчаны гирляндами цветущего граната».
Так обрисована у Параджанова Армения, зато Ассирия возникает в других красках.
«Бежали бурые холмы, похожие на горбы…
В буграх-горбах бежали Артабан, Ассар, Нирар…
Смотрели в небо…
Подымали к небу свежую печень жертвенного бычка.
В дымке неба парил божественный орел.
Орел смотрел на бурую землю.
На бегущие холмы…
Мужи преследовали птицу…
Мужи кричали».
Даже из таких небольших фрагментов можно получить представление о стиле и слове Параджанова. К сожалению, его литературное наследие почти не известно, в основном широкая публика кроме фильмов Параджанова знает только выставки его коллажей, которые были для него скорее своеобразным хобби. Единственный сборник сценариев, вышедший в издательстве «Аврора» десять лет назад с подробными комментариями Коры Церетели, терпеливо собравшей и расшифровавшей многие записи, давно стал библиографической редкостью.
Но вернемся к сценарию «Ара Прекрасный», на который Параджанов серьезно рассчитывал. Увы, новое руководство армянского кино, испугавшись нового «вторжения» режиссера, довольно формально представило сценарий Госкино СССР, не выказав своей заинтересованности, и сценарий был отклонен.
В эти же годы были написаны и другие сценарии: «Исповедь», ставшая важным этапом в его творчестве; «Дремлющий дворец» — по мотивам «Бахчисарайского фонтана» Пушкина; «Давид Сасунский», на основе армянского эпоса рассказывающий о роде богатырей из Сасуна; «Демон», очень интересно интерпретирующий поэму Лермонтова; «Чудо в Оденсе» по мотивам сказок Андерсена и еще некоторые работы, также застрявшие на пути к экрану.
В сценарии «Интермеццо» он снова обратился к творчеству Коцюбинского. В этом случае все поначалу складывалось благополучно и замысел Параджанова, где он предложил совсем иную форму ведения рассказа, был близок к осуществлению. Здесь не было ни сказочности, ни язычества, ни мифологии. Это был не условный, а вполне реальный, узнаваемый мир начала века. Конечно, решенный в стиле авторской поэтики Параджанова.
Приведем несколько фрагментов.
«Стучали мокрые колеса, желающие высвободиться из клубов горячего пара.
Михаил Коцюбинский дремал в красном кресле, обитом ситцем.
Он улыбался во сне…Чему?
Ему показалось, что вороны высидели своих птенцов, цесарки ходили под сиденьями кресел, ведя за собой похожий на серую золу целый выводок.
Вороны садились на головы женщин…
Женщины спали… Они механически хотели пришпилить живых ворон длинными булавками к своим волосам.
Вороны кричали — шепотом…
А за окном в густом белом дыму паровоза парила голубая чайка и билась о запотевшие стекла салона.
Коцюбинский опустил на лицо свой котелок и улыбнулся во сне…»
В фильме неоднократно возникают монологи Коцюбинского, его интересные рассуждения. Приведем один из них.
«Однако там, за стеной, что-то есть. Я знаю, если войти внезапно в темные комнаты и чиркнуть спичкой, все сразу бы бросилось на свои места — стулья, кушетки, окна и даже корзины. Почем знать, не удалось ли бы моему взору уловить образы людей, бледные, неясные, как на гобеленах, всех тех, кто оставил свои отражения в зеркалах, свои голоса в щелях и закоулках, формы — в мягких волосяных матрасах, а тени — по стенам. Кто знает, что делается там, где человеку не дано видеть».
Все это могло найти свою замечательную экранную форму, но и в записи мы встречаем литературу самого высокого уровня.
Мечта Параджанова снять фильм на достоверном материале так и осталась мечтой. Фильмы, снятые на историческом, этнографическом, поэтическом материале, безусловно, интересны, но все же в какой-то мере сузили его возможности.
Вот еще один фрагмент, в котором Параджанов делает невольное признание:
«Три белые овчарки — как три белых медведя. Лязгает железная цепь, и неистово беснуются привязанные собаки…
Прыгают овчарки… Прыгает длинная косматая шерсть… Прыгают красные глаза… Прыгает собачий страх и собачья ненависть.
Должно быть, цепь! Должно быть, цепь обрекла собак хватать передними лапами воздух. Эта цепь душит собак за горло и накапливает огненную собачью ярость.
Голос Коцюбинского:
— Подожди немного… Сейчас будешь на воле. Ну, стой же спокойно… не беснуйся, пока я снимаю цепь. А теперь айда!..
Наступила тишина… Молчали цепи!
Испуганные освобожденные собаки, потеряв ощущение цепей на шее, прильнули к земле и не двигались… настороженно поджимали обрезанные уши.
Глаза застилал розовый туман».
Перед нами даже в коротких фрагментах целая россыпь замечательных литературных находок. Это и цесарки, у которых «похожий на серую золу выводок». И вороны, которые «кричали шепотом». И образы людей, «оставивших свои отражения в зеркалах…», и «тени по стенам, а формы — в мягких волосяных матрасах». Это уже не кино, это чистая литература, и притом отличная. Чтение сценариев Параджанова увлекает не меньше, чем его фильмы. Вот только, к сожалению, достать эти сценарии и прочесть намного сложней, чем посмотреть его фильмы.
В истории этого замечательного замысла, также не дошедшего до экрана, поражает недоброжелательность, с которой обрушились на Параджанова «защитники» Коцюбинского, заявившие, что не дадут второй раз «искажать нашего классика», что экранизировать его можно, только точно следуя малейшей букве. Встречен был в штыки этот замысел и партийным руководством Украины.
Отмечалось, что «в сценарии отсутствует конкретное время, нет революции, а есть лишь антикварные аксессуары».
Параджанов хотел, как и в случае с Саят-Новой, погрузиться во внутренний мир художника, показать его тончайшие творческие импульсы. Это был, по его замыслу, и исследующий личность художника, и одновременно лирический фильм, а от него требовали сказ про революцию 1905 года. Вот против такого Коцюбинского не возражали.
Был момент, когда казалось, что сценарий удастся пробить. На посту председателя Госкино Украины был Святослав Иванов, относящийся очень дружески к Параджанову и поддерживающий его еще со времен баталий вокруг «Теней забытых предков». Он даже специально обратился к первому секретарю ЦК компартии Украины П. Е. Шелесту, но фильм запустить в производство не успели, хотя уже набиралась группа и даже были отпечатаны бланки съемочной группы «Интермеццо»…
К власти пришел новый секретарь, В. В. Щербицкий, испытывавший к Параджанову откровенную неприязнь. Все изменилось в одночасье: картина была закрыта… Каким ударом это было для Параджанова, говорит сохранившийся бланк «Интермеццо», на котором его рукой написано: «23 февраля 1972 г. Фильм закрыт навсегда!» И на последнем листе сценария: «Будь проклят режиссер, который возьмется снимать этот сценарий!
Сергей Параджанов».
Со сменой партийного и киноруководства Украины для Параджанова начались новые времена. Весьма и весьма тревожные. В то время, когда в его творчестве настал сценарный период, жизнь сама начала писать сценарий событий, изменивших его жизнь коренным образом.
Jus gladii[3]
Пришедшее к нам в эпоху массового успеха «Звездных войн» выражение — «Империя наносит удар» невольно встает в памяти, когда я вспоминаю о событиях, которые так драматически изменили судьбу Параджанова.
Существенное отличие в доставшихся ему испытаниях то, что, хорошо зная его характер, хотели не только наказать, упрятать за тюремную решетку, но в первую очередь унизить.
Почему из всей советской кинорежиссуры выбрали Параджанова? Подвергли не только показательной порке, но и пригвоздили к позорному столбу.
Может быть потому, что дерзость его речей не знала предела. В выражениях он не стеснялся, а свойственный ему юмор делал эти речи еще более убийственными.
Сначала его имя хотели предать забвению. Просто тишина… Нет такого режиссера! В фестивальной жизни не участвует, за границу не выезжает, фильмов не снимает.
Но вот беда: слово его продолжает звучать. Он говорит все, что думает, он называет вещи своими именами. Пишет сценарии, предлагает новые заявки.
Это похоже на бред, на галлюцинацию, которую он сам показал в мучительных снах Саят-Новы в стенах Ахпата.
Перед ним белая стена… Там, за ней, такой желанный мир, созданный его воображением. Чарующая красота. Он видит, он знает все ее линии, они под его пальцами, но… недостижимы. Сколько образов, не воплощенных в жизнь, сколько замечательных находок, сколько сюжетов погублено.
Но этого было мало… Власти нужен процесс! И тогда открывается «дело»… о шариковой ручке. Удивительно напоминающее парадоксальные сюжеты Кафки.
Весь абсурд ареста Параджанова в том, что в конечном итоге он был обвинен за то, что в его доме нашли шариковую ручку… Обыкновенный гонконговский ширпотреб — красотка, которая раздевалась, стоило только перевернуть ручку. Именно по этому принципу и был выстроен весь процесс: с ног на голову… На основе подброшенной в дом ручки.
Все это реально и не смешно… Это настолько серьезно, что требует подробного рассказа.
История началась еще 1 декабря 1971 года в Минске, где Параджанов выступил с весьма откровенной речью. Его пригласили на творческую встречу молодые кинематографисты, попросив показать его последний фильм «Цвет граната». Практически это была для них единственная возможность посмотреть фильм, о котором много говорили, но которого никто не видел. В список мероприятий была включена и встреча с Параджановым, которая состоялась в неожиданной для организаторов форме.
Речь перед показом фильма оказалась долгой, во многом путаной и… весьма исповедальной. Возможно, сами устроители не ждали такого выступления. Их цель была скромнее: увидеть фильм.
Речь Параджанова была записана сотрудниками КГБ и вскоре легла на стол председателя Комитета госбезапасности Андропова, передавшего затем в Центральный комитет КПСС, что служит бесспорным доказательством, что за Параджановым было установлено самое тщательное наблюдение.
«Докладная записка в ЦК КПСС
Секретно
По сообщению КГБ при СМ Белорусской ССР, 1 декабря 1971 года перед творческой интеллигенцией и научной молодежью республики выступил приглашенный ЦК ЛKCM Белоруссии режиссер Киевской киностудии им. Довженко ПАРАДЖАНОВ С. И.
Выступление ПАРАДЖАНОВА (запись прилагается), носившее явно демагогический характер, вызвало возмущение большинства присутствующих.
ЦК Компартии Белоруссии информирован.
ПРИЛОЖЕНИЕ: на 23 листах.
Председатель Комитета госбезопасности
АНДРОПОВ».
Приведем некоторые фрагменты этого длинного (23 страницы) выступления.
«Я считаю, происходит удивительный застой, нет ярких художников. Великомученик Тарковский не может нас ежегодно радовать своим талантом, своей глубиной, а все остальное мне кажется просто никаким…
Я считаю, происходит это потому, что художникам, наиболее интересным художникам, оказано недоверие. Недоверие — удивительная обида, с недоверием связана целая судьба и невероятно короткая жизнь художника.
Вспомните, самые бездарные люди делали ленинские фильмы. И на экране просто плохие произведения, километры пленки — киномакулатура, к которой никто из нас не вернется ни как зритель, ни как искусствовед…»
«Картина („Цвет граната“. — Л. Г.) выходит на экраны в редакции моего друга Сергея Юткевича, который не понял картину и даже сказал: „Что вы так торопились, что дали два дубля подряд?“ Он не понял. Что это метод…»
«Человек, который высказывался о картине „Цвет граната“, — один из секретарей ЦК Армении, который в прошлом был полотером и был выдвинут на руководящую должность в связи с определенным талантом. Он, посмотрев эту картину, сказал о том, что это удивительная картина, но в ней очень много мастики. Я долго не понимал, почему именно мастики. А потом мне перевели его переводчики, которые все время его сопровождают и редактируют, что это „мистика“…»
Вот такое в этом памятном выступлении сочетание балагурства, исповеди и весьма колких выражений в адрес известных личностей.
Приведем еще некоторые фрагменты его выступления:
«Сейчас ко мне ворвался обезумевший Бондарчук, после того как я ему послал телеграмму, что мне очень нравится его картина „Ватерлоо“ после исключительного провала „Войны и мира“, который уже делается государственной трагедией: затрачены удивительные деньги, а результата никакого. Я не видел в Советском Союзе человека, который дважды посмотрел бы хоть одну серию, даже ошибочно; этого не произошло. Понимаете, третью и четвертую серии вообще никто не посещал»…
«Картина сложно снималась в полном недоверии. Мне удалось ее спасти от дамочек из главка, от кокаревых и зусьевых (видные редакторы Госкино СССР. — Л. Г.).
Там много есть элегантных дам, в прошлом танцюрисисток, як кажут на Украини — кордебалеток. Я спас ее от Романова (Председатель Госкино СССР. — Л. Г.), несмотря на то, что он очень высоко оценил картину, сказав, что это интеллектуальный шантаж. Самое высшее, что можно было получить в оценке…
К сожалению, я не сохранил самого первого варианта, который был действительно, как сказал Романов, интеллектуальный шантаж».
«Шесть лет Украина не дает мне делать картину, вот уже три года, как вернулся после „Саят-Новы“. Картина с трудом где-то появляется на экранах. Зритель не понимает фильма, а мне не хочется перед ним извиняться, мне кажется, что время уже зрителю извиняться иногда перед художником».
«„Саят-Нова“ снята с одной точки: просто назло Юрию Ильенко, не меняя свет, цвет, не меняя оптику, с одной точки… Картина статична, безумно статична, и этим мне она очень дорога».
«Я уже не говорю о слове „сюрреализм“. „Реализм“ еще понимают как-то, а вот „сюр“… Вот так же Герасимов, который предложил мне вместе делать, как он сказал, сюрреалистический фильм „Слово о полку Игореве“. „А что нам, говорю, делать вдвоем?“ — А он: „Ну, вот мы и ударим по сюрреализму“. Я говорю: „Очень хорошо. Вы будете делать реализм, а я сюр“».
«Ведь идет серьезный разговор. Я понимаю, насколько я рискованно выступаю. Но меня вчера разозлил этот член ЦК, который мне грозился, что я еще шесть лет не буду работать. Ну, не буду работать я, найдется другой талантливый человек, все равно он естественно возникнет где-то. Просто обидно, когда я не мог делать картины — мне давали, а вот когда я умею, мне не дают. Понимаете, я больше зарабатывал тогда, когда сделал пять фильмов: и „Первый парень“, и „Цветок на камне“… Очень прилично зарабатывал, очень. Потом, как только я понял, что нужно моему народу, — в данном случае я не отличаю украинцев, армян, грузин…
Я считаю, что это травма, большая травма. Я считаю, что если в сорок лет тебе не доверяют как художнику, то и на том свете не будут доверять. Это точно…»
Как видим речь откровенно эпатажная, во многом сумбурная, Параджанов перескакивает с одной темы на другую. Чувствовалось, как много накопилось в нем горечи. Он часто отпускает весьма едкие шутки.
Увы, власть юмора не понимала и сделала свои выводы. Выступление Параджанова было передано в ЦК компартии Украины.
Ровно через два года после этого памятного выступления, в декабре 1973-го, его арестуют и бросят в Лукьяновскую тюрьму. Что же произошло за эти два года?
Уже через два месяца после этой роковой творческой встречи Параджанова ждет тяжелый удар. 23 февраля 1972 года окончательно закроют практически запущенный в производство «Интермеццо». Реакция Параджанова на это решение была, как мы знаем, очень мучительной. Не помогло спасти этот фильм и отчаянное письмо в ЦК КП Украины председателя Госкино Святослава Иванова:
«Федор Данилович Овчаренко (заведующий отделом культуры ЦК КП Украины. — Л. Г.) передал мне указание о том, чтобы кинорежиссеру С. И. Параджанову не давать постановку фильмов и чтобы он вообще лучше выехал с Украины.
Его фильм „Тени забытых предков“ после продолжительного перерыва вывел украинскую кинематографию на международный экран, получил много призов на фестивалях, был продан более чем в тридцать стран.
Советская и мировая пресса считает фильм „Тени забытых предков“ заметным явлением и называет до сих пор имя Параджанова рядом с именами виднейших режиссеров мира.
Параджанов должен был снимать в этом году фильм „Интермеццо“ по новелле М. Коцюбинского. После большой работы Комитет одобрил сценарий, но отдел культуры ЦК КП Украины возражает против этого сценария и против дальнейшей работы Параджанова».
Отчаянное обращение в защиту Параджанова не помогло… Более действенным конечно же оказалось письмо Андропова.
Судьба Параджанова теперь решалась в высоких инстанциях. Заступничество Святослава Иванова, как и заступничество Сергея Гаспаряна в Армении, дорого обошлось им. И тот и другой были отстранены от своих должностей и вскоре скончались. Государственные мужи порой более болезненно воспринимают удары, чем закаленные в испытаниях художники.
Сохранилась телеграмма Параджанова супруге Иванова, в которой чувствуется, какую благодарность он испытывал за его попытки спасти столь дорогой ему проект:
«Смерть моего светлого друга потрясла меня. В период нахождения Святослава Павловича на посту начальника главка были созданы „Тени забытых предков“, „Каменный крест“, „Родник для жаждущих“, „Белая птица“.
Дорогая Тамара Степановна и все мои украинские друзья, стоящие на краю сырой могилы Святослава Павловича, примите мою любовь и печальный поклон…»
Таким образом, было очевидно, что Параджанова решили выжить из Украины. Снимать здесь было решено ему не давать.
В этот критический момент руку помощи снова протянул его старший мудрый друг Виктор Шкловский.
Он посоветовал Параджанову сделать фильм по мотивам сказок Андерсена, обещая прикрыть этот проект своим именем в качестве соавтора сценария.
Сценарий «Чудо в Оденсе» был фактически написан Параджановым, но предложен Гостелерадио СССР в соавторстве со Шкловским.
Шкловский сам нанес визит грозному председателю Гостелерадио Лапину и просил о запуске этого проекта.
В те годы между двумя ведомствами — Госкино СССР и Гостелерадио СССР развернулась тайная борьба. Кинорежиссеры, лишенные работы, шли на телевидение, где их охотно принимали. Так, после гнева, обрушившегося на Эльдара Рязанова после выхода его сатирического фильма «Гараж», опального режиссера охотно приняли на телевидении, в результате чего нам была подарена замечательная «Ирония судьбы». Так же доброжелательно был принят на телевидении и Марк Захаров, снявший фильм «Тот самый Мюнхаузен» и ряд других замечательных картин. Этим путем Шкловский посоветовал идти и Параджанову, предложив снять к празднику Нового года добрую «рождественскую» сказку.
Секрет этой странной ведомственной борьбы имеет объяснение. Время шло вперед, телевидение нуждалось в серьезных профессионалах, поскольку количество его продукции стремительно росло. Экранное время надо было заполнить, а заодно и показать конкурирующему ведомству, кого народ больше любит. И хотя современное заклинание современного ТВ — «рейтинг» было еще неизвестно, но ради успеха своей продукции можно было привлечь и опальных мастеров. Особое внимание было обращено на выпуск новогодних фильмов.
Так закрутился новый проект. Но предоставим слово непосредственному участнику этих событий — Тамаре Огородниковой, другу Параджанова, учившейся с ним во ВГИКе. Одна из лучших директоров «Мосфильма», близкий друг Тарковского, она перешла на телевидение, почувствовав, что в сложившейся ситуации здесь можно было реализовать интересные творческие проекты.
«Сережа после „Цвета граната“ чуть не свихнулся. И надо признаться, было с чего.
На Украине закрыли его „Киевские фрески“, остановили в производстве „Интермеццо“ и „Икар“, завернули „Золотой обрез“. В Армении отказались снимать два его прекрасных сценария — „Ара Прекрасный“ и „Давид Сасунский“.
Он бился головой о стену — все глухо, все непроходимо…Что бы он ни предложил — отказ… Чаще всего без всяких объяснений. Система одна: что на Украине, что в Армении — отписки, проволочки, отказ. По тем временам само название студии имени Довженко было синонимом серости и пошлости… Провинциальная студия, создававшая гопачно-олеографические фильмы. И вдруг такой фейерверк — „Тени…“!
То же самое произошло и с „Цветом граната“, хотя фильм и был порядочно испорчен перемонтажом Юткевича.
Все это только раздражало бездарей, завистников и чиновников от кино.
Что-то вырвалось у них из-под контроля, что-то получилось не так, „как положено“.
Лучше остеречься. Лучше „держать и не пускать“, не то, чего доброго, он еще такого натворит! А сам Сережа, взъерошенный, взбудораженный всей этой атмосферой сплетен и враждебности, постоянными провалами планов, только и делал, что подливал масло в огонь. Хамил начальству, публично высмеивал чиновников и редакторов. Он был на грани срыва…
В начале 70-х я работала в творческом объединении „Экран“ в должности заместителя директора. Сергея знала еще по ВГИКу и высоко ценила его талант. Объединяла нас и общая дружба с Андреем Тарковским. Мы со Стеллой Ждановой, заместителем председателя Гостелерадио, специально поехали в Киев спасать Сережу — попробовать уломать украинское начальство дать Параджанову постановку. Они — ни в какую! Оказывается, было негласное указание ЦК КП Украины не давать ему работать и вообще не пускать на Украину.
Вернувшись в Москву, мы пустили в ход тяжелую артиллерию. Почтенный старик, живой классик Виктор Шкловский направился к Лапину с замечательным сценарием Сережи „Чудо в Оденсе“. На счастье, оказалось, что Лапин видел „Тени…“ где-то за рубежом и был впечатлен реакцией зрителя и прессы. Короче, наше начальство после недолгих колебаний согласилось выделить деньги на постановку телевизионного фильма по сказкам Андерсена.
Мы были вне себя от радости. Неужели удалось-таки переломить ситуацию?»
А дальше события развивались следующим образом… Было логично снимать сказки Андерсена где-нибудь в Прибалтике. И сначала с этим заказом от Центрального телевидения «Экран» обратился туда. Но все три прибалтийские студии, прослышав про острый язык «правдоруба» Параджанова, одна за другой в панике бежали от этого интересного предложения как черт от ладана. Что же их так напугало? Ведь Параджанов всегда был далек от политики, газет не читал, телевизора, как и телефона, никогда не имел, и о текущих событиях у него было весьма слабое представление, благо интересовался он скорее античными страстями, чем современными. Уже в годы перестройки, попав наконец в Мюнхен и отвечая на вопрос корреспондента, который настойчиво старался натолкнуть его на политические заявления, он в сердцах воскликнул:
«Я не диссидент. Я — художник! Единственное мое желание — создавать фильмы, преисполненные красоты и добра».
Об этом обстоятельстве весьма нелишне напомнить как в свете тех событий, что развернулись вскоре на его судебном процессе, так и нынешних попыток сделать из него политического борца.
Но вернемся к событиям вокруг сценария «Чудо в Оденсе». Сложилась парадоксальная ситуация: Центральное телевидение со своими деньгами предлагало выгодный и интересный заказ, а все студии от него отказывались.
Рождественская сказка, рассчитанная на показ под Новый год, вызывала страх: только не Параджанов с его «ужасным» характером и «ужасным» языком. Наконец снова обратились на «Арменфильм».
Сценарный портфель студии был тогда скуден, а тут давали деньги и предлагали снять качественный проект. Последовали долгие тяжелые раздумья, переговоры, наконец скрепя сердце было дано согласие — снимать Данию в Армении.
Параджанов сохранил об Армении теплые воспоминания и на необычное предложение согласился сразу. В той же своей речи в Минске он говорил: «Армения — великая страна с потрясающей культурой, это моя родина. Когда я впервые посетил ее, абсолютно захлебнулся от красоты и поэзии своего народа. Я родился в Тбилиси и впервые увидел Армению. Это безумная античность, чистота, это величие…»
Но давайте вернемся к воспоминаниям Огородниковой:
«Прошло еще несколько месяцев нервотрепки, переписки, просьб и увещеваний, прежде чем удалось наконец уговорить руководство киностудии „Арменфильм“ включить „Чудо в Оденсе“ в производственный план.
Сергей прислал мне замечательные раскадровки будущего фильма — серию прелестных рисунков к сценарию, открытку с надписью: „Жду Вас на премьере ‘Чуда в Оденсе’!“ И вдруг все пошло наперекосяк — нежданно-негаданно…
Вмешался злой рок, который постоянно преследовал Сережу. И как тут не поверить знамениям и приметам. Судите сами. Уточняю по датам:
декабрь 1973 года. Мы связываемся с „Арменфильмом“. 15 декабря Гостелерадио получает официальное подтверждение об утверждении сценария и включении его в планы студии.
17 декабря. „Арменфильм“ высылает нам приказ о запуске сценария в производство. Я спешу поскорее открыть конверт, позвонить Сереже, поздравить…
Руки дрожат… Наконец разрываю конверт и… о ужас — вместе с конвертом рву пополам находящийся в нем документ. Становится не по себе. Не могу простить себе эту неловкость. Меня утешают: что за проблема — позвоним, вышлют снова!
А ровно через два часа мне звонят с сообщением: сегодня на квартире в Киеве арестован Сергей Параджанов. Так не суждено было сбыться одному из самых ярких замыслов Мастера…»
Итак, империя нанесла удар! Казалось бы, сбылась заветная мечта — Параджанов отбывал наконец из Украины и никому со своим балагурством больше не мешал. За что было его преследовать? Ведь политической деятельности он не вел.
На скорую руку был состряпан повод, торопливо найдены «жертвы» Параджанова… Опережая события, скажем, что все было сделано в такой спешке, что от всех первых обвинений и свидетелей пришлось затем отказаться.
Сейчас о другом…
Подобно тому, как в начале фильма «Тени забытых предков» вековая сосна, стоявшая неподвижно, начала свое внезапное падение, чтобы всей своей тяжестью обрушиться на маленького Ивана, так и сейчас рок — тема, всегда волновавшая Параджанова, — обрушился на него страшно, коварно, смертельно.
Что было бы, успей Параджанов вылететь в Армению, где уже согласно приказу он должен был 17 декабря приступить к работе? Увы, в истории его жизни нет этих страниц… Возможно, все сложилось бы благополучно…
Но вмешался рок!
17 декабря 1973 года его ждала работа… Но в этот день его встретили стены не «Арменфильма», а Лукьяновской тюрьмы.
Согласно срокам производства через год на телеэкранах должна была появиться его рождественская сказка с Юрием Никулиным в роли доброго сказочника Оле Лукойе. Вместо этого в производство было запушено судебное дело с арестом и заключением в тюрьму.
Так началась страшная сказка… Так начался суд… С такими поразительными деталями, что лучше нам предоставить слово очевидцам.
Такого не придумаешь даже в самой страшной сказке…
Causa finite est[5]
Дело с обвинением Параджанова было задумано следующим образом.
Некий гражданин Петриченко Семен Петрович 8 декабря 1973 года обратился к начальнику районного отделения милиции с заявлением, которое начиналось словами: «Мой гражданский долг заставляет обратиться к вам…» Далее в заявлении говорилось, что он возмущен поведением Параджанова С. И., который ведет аморальный образ жизни, собирает шумные компании и вообще не соблюдает нормы социалистического общежития, и поэтому он, Петриченко С. П., просит милицию принять меры.
Заявление самое стандартное, написано на редкость кондовым языком, и поскольку этого загадочного Петриченко С. П. больше никто никогда не видел и ничего о нем не слышал, возникает вопрос: а существовал ли он вообще? Таких бытовых жалоб сотни, а тут милиция среагировала молниеносно и начала следствие. Ясно, что указание было дано свыше…
Поначалу дело № 21–258 было задумано построить на показаниях приятеля Параджанова Михаила Семина. История с ним смутная… Скорее всего Семин под психологическим или физическим воздействием дал порочащие Параджанова показания. Вскоре он покончил жизнь самоубийством. Параджанов был в это время в Москве по делам запускаемого сценария, никакого отношения к этим событиям не имел, и первая версия провалилась. Вызвать Семина в суд как свидетеля обвинения уже было невозможно…
Тогда надумали обвинить Параджанова в изнасиловании. Но «жертвы» были тоже так случайно и нелепо подобраны, что и эта версия тоже провалилась.
Вот тогда и возникло «дело» о шариковой ручке. Гонконгский ширпотреб привозили морячки, сувенир никого из обладателей не пугал, ибо красотка только обнажалась, и на том весь фокус заканчивался.
Такой примитивный китч вряд ли мог заинтересовать Параджанова, и ручку эту, обнаруженную при обыске в его доме, скорее всего подбросили. Мог, конечно, эту ерунду кто-то и забыть. Дело не в этом, примечательна примитивная и убогая фантазия «шивших» дело. Вместе с «развратной» ручкой был найден и другой «вещдок» — игральные карты с порнографическими изображениями. Еще одно свидетельство невежества «авторов» процесса. Параджанов картами никогда не увлекался, в руки их не брал и дома не держал. Так или иначе, статья 211 УК УССР о распространении порнографии все же возникла.
Учитывая все предыдущие неудачи, обеспокоенное начальство привлекло к делу следователя по особо важным делам Макашова. По обычной гражданской жалобе привлекать следователя по особо важным делам? Еще одно явное подтверждение высокого заказа на спешно фабрикуемый процесс. Возникает ощущение, что, узнав, что Параджанов уезжает из Украины, решили задержать и наказать его любой ценой. Следователь Макашов сыграл в судьбе Параджанова весьма зловещую роль, поэтому давайте послушаем его самого. Спустя годы, уже после смерти Параджанова, известная журналистка Алла Боссарт взяла у Макашова интервью.
«Макашов. Дело попало ко мне после того, как побывало в руках нескольких следователей. Но тех больше интересовали „клубничные“ дела, а друзья Сергея с мировыми именами настаивали обеспечить квалифицированное расследование. В деле были факты об изнасиловании редактора телевидения, молодой девушки… Вынес решение о прекращении дела об изнасиловании за недоказанностью. Потерпевшая была до такой степени пьяна, что не могла рассказать, что произошло. Впоследствии она одумалась и утверждала, что изнасилования не было.
Боссарт. Почему он проходил по особо важным делам, ведь преступления-то бытовые?
Макашов. Тут мнение прокурора… Независимо от характера преступления. Параджанов попал в орбиту всеобщего внимания. Его судьбой заинтересовалось ЮНЕСКО, о нем запрашивал Феллини, об объективности расследования и, не дай бог, о недопущении ошибки просили Шкловский, Сергей Герасимов… И прокурор республики решил, чтобы не было претензий, отдать его в наиболее внимательное следствие. Я ему вменил мужеложство и порнографию…
Боссарт. Вы смотрели его фильмы?
Макашов. Видел один.
Боссарт. Вы считаете, что художник такого уровня мог увлечься порнографией?
Макашов. Вы понимаете, порнографией увлекаются все независимо от уровня.
Боссарт. Как!
Макашов. Вот так. Если я оставлю на столе „вещдоки“ — нет таких, которые бы не посмотрели, что там такое…»
Здесь, как говорится, комментарии излишни… Такие перлы «внимательного следствия» нарочно не придумаешь. А сейчас забежим впереди послушаем другое свидетельство — блатных из зоны, с которыми сидел Параджанов.
Вспоминает Миргазим Хамидулин:
«Приходят ко мне пацаны винницкие и спрашивают: „Ты по Киеву знал такого — Параджанова?“ Еще его нет, а уже знают, что он прибудет. Из Будников…
В карьере он был. На второй день меня вызывает начальство — замполит. И говорит: „Приезжает Параджанов… Его к нам переводят оттого, что он хочет с собой что-то сделать. А числится он за Щербицким“. Стало быть, Щербицкий дал указание его посадить. Замполит говорит: „Не дай бог, что случится, с нас головы сорвут! Ты киевлянин, председатель (другими словами — „смотрящий“. — Л. Г.), вот и бери его под свое попечение“.
Приезжает… Очень такой убитый. Я говорю: „Сколько ж тебе дали?“ Он: „Пять лет“. Я: „Подумаешь, мне пятнадцать, а я вон веселый! Отсидишь!“…»
Как видим, «блатное» следствие точно установило, что Параджанов числился за Щербицким. Подобрать статью было уже делом техники. И опытный Макашов оправдал высокое партийное доверие.
Но давайте вернемся к беседе с ним Аллы Боссарт:
«Боссарт. Лагерь ускорил его смерть? Как по-вашему?
Макашов. Не могу связать. К тому же, думаю, он в лагере пользовался своим положением. Пользовался авторитетом. Он мог увлечь, добиться почитания. На зоне его жизнь значительно более отвечала требованиям сохранения здоровья, чем за пределами зоны. Он не пил спиртного.
Боссарт. Он не пил вообще. И не курил. Короче, лагерь пошел Параджанову на пользу?
Макашов. Содержание в лагере нельзя увязать с его здоровьем. Можно подумать, что те, кто не сидит, не умирают. Хотя я не знаю, отчего он умер.
Боссарт. От рака…
Макашов. Не думаю, что рак у него начался в лагере. Я не медик. Но я встречал старых матерых преступников, которые совершали убийства мирных граждан, сидели десятки лет, а выглядят моложе меня. Как это?..»
Здесь также комментарии излишни.
А теперь послушаем Параджанова. В своих письмах из зоны он часто вспоминает Макашова.
«Следователь Макашов сказал: „Вам положен год, но я буду искать пять, потому что за пять лет мы вас уничтожим“».
«Грязь, которую вылили на меня, лишив профессии, авторитета, имени. Какие пять лет? Почему искали золото, оружие, разврат, порнографию? Все это надо пережить».
«Узнал новое, что дело, созданное на меня Макашовым, состояло из 3000 листов. Что, наверное, равно „Войне и миру“».
«Цель Макашова была одна — найти статью, сопровождавшуюся конфискацией имущества. Им нужно было выкорчевать меня из Киева. Что и произошло. Опыта воевать с волчьим глазом Макашова у меня не было. Я подписал дело и погорел…»
«Самое страшное в моем состоянии — что мне не верили в период следствия и на суде. Меня перебивали. Это метод моего обвинителя».
«Я не знаю своего обвинения. Оно выдумано. Арест мой и моя изоляция — дело неосмысленное, состряпанное наспех. У меня искали валюту, оружие, иконы, драгоценности, изнасилованных девиц…»
Таким образом, у следствия полная путаница — за что судить? Сначала хотят судить за мужеложство, затем, наоборот, за изнасилованных девиц, потом ищут оружие, золото… Все мимо… Наконец «находятся» «срамная» ручка и «развратные» карты.
Увы, эта явная несостоятельность следствия не помогла на суде. Наоборот, создала у всех обманчивое впечатление, что обвинение рассыпается и, «попугав», Параджанова отпустят на свободу.
Но послушаем репортаж из зала суда. Рассказывает Светлана:
«Шесть месяцев Сергей провел в Лукьяновской тюрьме. И, наконец, суд… Следователь (Макашов) ориентирует нас на срок один год. Один месяц, проведенный в тюрьме, засчитывается как за два. Из зала суда Параджанов должен выйти на свободу.
Сергей держится свободно: шутит, иронизирует, дерзит, иногда откровенно вызывая огонь на себя, усугубляя свое положение.
Процесс над Параджановым закрытый. Для оглашения приговора приглашают лишь несколько человек. Судья называет срок: „Пять лет в лагере строгого режима!“
Никто не ожидал такого. И в этот момент происходит что-то странно мистическое в природе. Небо за окном стремительно темнеет, превращая день в ночь, гремит гром, сверкает молния. В зале суда зажигают свет. Что это было? Знамение свыше…
По выражению лица Сережи видно, как он потрясен. Потрясены и все мы.
Не расходимся, молча ждем. Разрешено пятиминутное свидание с Сергеем. Рядом с ним с двух сторон солдаты с автоматами. Сергей почему-то говорит:
— Мы снова поженимся, и у нас еще будут дети.
И эта фраза добивает меня…»
Только правда, как бы она ни была тяжела, — легка.
Весьма пухлое сочинение (3000 страниц) Макашова давно уже не хранится под грифом «секретно», и любой юрист, ознакомившись с ним, подтвердит, насколько оно топорно сработано. А любой грамотный адвокат мог бы разнести его в пух и прах. Увы, институт адвокатуры существовал тогда де-юре, но не де-факто. Дело шито белыми нитками, но тем не менее из клубка противоречивых показаний «сшили» серьезнейшее обвинение — пять лет лагерей строгого режима.
Тактика Макашова — признай вину, подпиши, и срок будет минимальным — себя оправдала. «Опыта воевать с волчьим глазом» у Параджанова действительно не было, и досада на собственную наивность, на то, что позволил себя провести, обмануть, терзала его еще долгие годы.
Итак, дорогу в лагерь ему проложили статья 211 (распространение порнографии) Уголовного кодекса Украинской ССР и статья 122–1. Давно уже есть адвокаты, легко защищающие от этой статьи, и давно уже нет самой этой статьи в своде законов, которая предусматривает уголовную ответственность за гомосексуализм.
Но как тогда понять, что обвиняемый по этой статье Параджанов делает предложение любимой женщине и мечтает снова иметь от нее детей… Предложение снова оформить юридически их отношения он повторит еще не раз в письмах из зоны. Он мечтает об этом и даже подробно пишет Светлане, какие есть в этих случаях тюремные процедуры…
И как понять еще, почему обвиняемый по статье 122–1 в страстном порыве останавливает съемки серьезнейшего фильма и бросается в Киев делать предложение Зое Недбай? Как понять его роман после расставания со Светланой с одной из известных красавиц Киева балериной Клавой Осачей?
На все эти вопросы мог бы ответить только сам Параджанов. Но все же не будем впадать в ханжество и, стыдливо опуская глаза, во всем его оправдывать. Все друзья и все близкое окружение Параджанова всегда знали, что он уделял внимание не только представительницам прекрасной половины человечества, что мужская красота привлекала его в не меньшей степени. Из этого он никогда не делал тайны, никогда не уходил в глухую конспирацию, более того, всегда громогласно обращал внимание окружающих на образец привлекшей его красоты. В том, что случаи так называемой нетрадиционной сексуальной ориентации имели место еще в юности и фигурировали при первом аресте, а затем продолжали присутствовать и далее в его жизни, он всегда откровенно признавался сам.
Но это сейчас сексуальная ориентация — личное дело каждого, это сейчас не существует статьи за гомосексуализм, а в 1970-х годах соответствующая статья была более чем грозным орудием в руках власти. Потому и выбрали не просто наказание, не просто унижение, а практически уничтожение Параджанова как творческой личности, предполагая, возможно, что за этим последует и физическое уничтожение. И за статью, по которой обычно давали пару лет общего режима, влепили пять лет лагерей строгого режима. Отбросив все другие статьи обвинения, оставили самую убийственную… Статью, из-за которой он мог навсегда сгинуть в зоне, оставив чистыми руки власти.
И когда этот адский замысел не удался, ибо уникальная харизматичность его личности создала ему «авторитет» даже за колючей проволокой, начали менять зону за зоной, перебрасывать из лагеря в лагерь. Все строже и строже, все жестче и жестче. Лишь когда довели до грани самоубийства, всполошились: шум на весь мир нам не нужен…
Он не сломался, он вышел на свободу и даже смог творить дальше.
Рассмотрим хронику тех дней, ночей, лет… Лучше всего передадут ее документальные свидетельства.
«Светлана, писать повинную я не хочу, так как я не виновен и знаю, что моя повинная будет опубликована в газете. Как повинная? Не для того меня арестовали, чтобы помиловать. Я заслужил всего год. Все остальные 14 дел, открытых вокруг меня и всего, что со мной связано, — это бред…
Мне не удалось за 3 месяца заработать деньги. В случае, если бы у меня было бы полкило цветного горошка и хотя бы 1 кг повидла, я не чувствовал бы слабость.
Вероятно, это и нервы…
Самый страшный из пяти, говорят, первый. Спасибо всем за книги — несмотря на то, что это могут воспринять как хитрость. Останови всех, кто хочет высылать бандероли…
Не знаю, что меня ждет, но знаю, что хотел умереть на Украине. Как бы то ни было, я ей очень обязан. Она велика и вторая родина…»
«Светлана + Сурен[6]
Вероятно, я еще не все понял в своем положении. Получил письмо от Тарковского. Пошлю в письме. „Исповедь“ и „Андерсен“ — это все теряющее смысл навсегда. Есть вещи посложнее. Например, попавший в морг живой человек».
«Рома[7]
Прочти, пожалуйста, Корнея Чуковского 3 том — Оскар Уайльд — ты все поймешь. Прочти два раза и дай прочесть Светлане. Это просто страшно — аналогия во всем».
«Светлана! Никого ни о чем не проси. Никуда не обращайся. Никого не беспокой. Работаю на новом месте — сейчас я прачка. Был строитель, штопал мешки. Везде я последний и слабый.
Жива ли моя мать?»
«Рубик[8], дорогой! Рад твоему письму. Очень рад, что вы с Левой[9] начнете в 75-м году.
Постарайтесь уважать друг друга и создать фильм. Я много рисую и думаю. Не только врагу, но и другу, художнику, я настоятельно желал бы испытать все, что я испытал. Это сурово и даже страшно, но необходимо для становления. Мир ашугов, ангелов и архивов смешон перед патологией, жаргоном и просто татуировкой.
Конечно, я смешон, т. к. могу уступить дорогу или место. Это все „западло“. Но мне удалось выжить. Пять лет срок большой. Я слаб и работаю плохо. Не зарабатываю на ларек, но не это главное. А главное то, что все испытанное и увиденное может исчезнуть вместе со мной. На Украине не смогли сберечь мой авторитет, и среди 14 статей нашли худшую, чтобы меня скомпрометировать и оскорбить.
Если даже мне не удастся попасть к себе на родину — я был счастлив, когда год-два жил и творил в Армении. Мне ничего не надо и нельзя. Я на строгой изоляции. Благословляю всех вас. Спасибо.
17 декабря — год моей изоляции».
Так прошел его первый год… Разумеется, здесь приведена лишь малая часть того, что он испытал и смог донести в той переписке, которая была ему разрешена.
Приведем еще несколько весьма красноречивых выдержек из писем этого первого года испытаний.
«Я знаю, где нахожусь и что со мной. По-моему, это еще не все! Это Гоголь, Достоевский и весь сюрреализм, обращенный в патологию. Это лагерь рецидивистов и сложных судимостей. Что и как я выживу, покажет время…
Меня учат выть по-волчьи — это закон джунглей.
Не могу скрыть, что тут мне всего не хватает, даже кислорода…»
Через полгода пребывания в зоне было разрешено первое свидание. Вот что о нем рассказывает Михаил Беликов, режиссер, сценарист и один из ближайших друзей Параджанова:
«Первая встреча с Сергеем в лагере после приговора состоялась через полгода…
Мы обнялись… У меня глаза на мокром месте, а Сергей тут же за свое: „Ты помнишь суд? Приговор? Гром и судью? Ведь он ничего не слышал… Почему, знаешь?.. У него фамилия — Глухов“.
Действительно, у судьи оказалась фамилия Глухов. Во время суда Сергей не раз обращался ко мне взглядом и что-то показывал на уши и потом переводил глаза на судью… Я понимал это как то, что судья не понимает и не слышит того, что говорили ему многие свидетели. Но то, что его фамилия Глухов, мы не знали, а для Сергея был важен в целом образ…»
Как видим, даже здесь, сейчас, в минуту первого свидания для Параджанова важен образ. При том, что его «учат выть по-волчьи», он остается художником со своим восприятием событий и спешит говорить об этом, а не рассказывать о своих проблемах.
В своих воспоминаниях Беликов рассказывает и о других интересных деталях:
«На суде, когда зачитывался один из самых несправедливых приговоров, начались раскаты грома. Вдруг взгляд Сергея перекинулся на стенку, на которой висел портрет Ленина. При каждом раскате портрет вздрагивал. И вот на слове „приговаривается“ раздался очередной раскат и портрет, видно, плохо укрепленный, соскочил с одного гвоздя и покосился… Никто, кроме Сергея и нас, этого не заметил».
А вот что вспоминает присутствовавший при этой встрече режиссер Роман Балаян:
«Когда прощались, Витя и Таня[10] плакали. Мы с Мишей хорохорились, рассказывая анекдоты. И Сергей так же себя вел. А потом он отошел и вновь встал за окном — абсолютно одинокий. После войны так выглядели нищие.
В лагере он работал дворником. Так быстро с ним определились. Позже он просил всех присылать фотографии актеров и актрис, снимавшихся в его фильмах, газетные статьи, из которых было понятно, что он режиссер. В лагере никто не верил, что он, рядовой „фраер“, имеет отношение к кино. Не припомню, как много вырезок и фото, где Сергей изображен с известными коллегами, я выслал ему».
Письма из зоны написаны разным адресатам, но больше всего обращений к Светлане. Именно в письмах к ней самые откровенные признания, именно с ней он делится всем, что наболело.
«Светлана, к серии вопросов — послала ли ты мне 10 рублей или нет? Если нет, то не посылай.
У меня умерла мать!
Не верю, что не конфисковали квартиру».
(Скоро ее, конечно, конфискуют.)
«Светлана, дорогая! Время уже, когда я должен выразить тебе свою искреннюю благодарность как другу, поразившему меня своим участием в беде и горе… Трудно было представить себе тогда, в 16 лет, что все переродится, оформится, станет даже трагичным и мужественным…
Вероятно, если бы меня освободили, то боль, которую ощущал на протяжении 430 дней, я мог бы только выразить в стоне, пролежав плашмя то же количество дней.
Ведь ни на следствии, ни на суде мне не верили, ни одному моему слову, ни одному факту. Чем я заслужил такое недоверие? Эксцентрикой характера!
По моей статье спустя год я мог бы просить „химию“ — это решение руководства направить на стройки народного хозяйства. Там я живу в общежитии, свободно переписываюсь и отмечаюсь у администрации. Меня можно посещать, можно получать посылки и деньги, но это трудно. Надо быть отличником производства, физически сильным…
Я не знаю жаргона. Не курю и не пью чефирь, не татуируюсь наколками и не „пускаю параш“ — новостей. Потом, никто из них не верит, что я и есть Сергей Параджанов. Они считают, что я брат знаменитого режиссера, а сам я аферист и уголовник…»
«Светлана! Как жалко что не видели „Зеркало“.
Все молчат о смерти моей матери. Смешно думать, что я не выдержу. Я ко всему готов…
Человек, попавший в мою среду, погиб бы, если бы не любовь к человеку, даже „пропавшему“».
«Видела бы ты этих рецидивистов — торбохватов, бакланов, убийц, грабителей, морфинистов, насильников — всех вместе, в загоне вместе со мной. Это великий фильм и сценарий, но надо быть Достоевским. Моего таланта мало…»
Очень много писем и сестре Рузанне. В эти дни, как на суде, так и в заключении, она стояла рядом, всячески поддерживая брата. Именно она, живя недалеко от Москвы, старалась поднять голос общественности в его защиту, писала письма в различные инстанции, пытаясь хотя бы смягчить условия его содержания. Параджанов в своих письмах пытается объяснить ей, что все усилия тщетны, «пустые хлопоты».
«Рузанна!
Я не знаю своего обвинения. Оно выдумано. Отсюда все сделают, чтоб не дать мне никаких льгот. У меня искали валюту, оружие, иконы, драгоценности, картины, изнасилованных девиц…
И ты, и Светлана не понимаете, что и где я. В любой момент может быть провокация „раскрутки“. Мне подставят собеседника — провокатора. Знаешь ли ты, как лихо это делается? Если в моем деле есть отметки, меня вообще не выпустят живым…
Я в загробии. Это конец. Лучше береги себя и семью».
Скоро это предчувствие подтвердилось… Через месяц, в апреле, его переводят уже в другой лагерь — Стрижавку. В Губнике «короли» признали его «авторитет», он уже не был обычный «фраер». И потому возникла новая провокация — послать по этапу дальше. Авось на новом месте с ним быстро «разберутся»…
«Светлана — Сурен!
Пишу с нового места! Лагерь строгого режима!..
В Губнике я уже освоился, работал и мог иметь на ларек хотя бы пять рублей. Тут еще невозможно что-либо осознать…
Получил письмо от Рузанны. Думаю, что все, что она сообщает, — это бесполезно. В моем состоянии это даже не кислородная подушка! В Киеве ничего не будет решено в мою пользу. Они не уступят даже одного дня. Им нужно докопать все до конца! И вероятно, это неизбежно… Почему Бог не дал мне хитрости, жестокости и нормальной доброты…
Смотри „Зеркало“…
Губник был 10 месяцев. Сейчас Стрижавка. Что потом?»
Среди этих удивительных откровений много писем одному из основных корреспондентов Параджанова — Лиле Брик. Она регулярно писала ему и также приложила много усилий, чтобы облегчить его участь. Разговор об этом будет впереди, а сейчас выдержки из писем с нового места:
«Дорогая Лиля Юрьевна, Василий Абгарович[11].
Освоился с новым местом — пишу. Думаю, что все осложняется, надежд никаких. Надо ждать звонка…
Это строгий режим — отары прокаженных, татуированных матерщинников. Страшно! Тут я урод, т. к. ничего не понимаю — ни жаргона, ни правил игры. Работаю уборщиком в механическом цеху…
Вы превзошли всех моих друзей благородством. Мне ничего не надо — только одно: пригласите к себе Тарковского, пусть побудет возле вас — это больше, чем праздник.
1 июня 1975 года».
Тарковский был приглашен, и не раз. Он очень близко к сердцу принял трагедию Параджанова и был одним из немногих коллег, которые регулярно писали ему письма и старались привлечь внимание мировой кинообществености к его судьбе.
Вот выдержки из его письма, посланного еще в Губник 18 ноября 1974 года:
«Дорогой Сережа!
Ты прав — Васина[12] смерть это звено общей цепи, которая удерживает нас рядом друг с другом. Мы все здесь очень скучаем по тебе, очень тебя любим и, конечно, ждем…
У нас в Москве все по-прежнему: полгода не принимали мое „Зеркало“. Я очень устал от абсурдного чиновничьего шебуршания.
Сам понимаешь — в Москве твоя эпопея всех потрясла. Как странно, что для того, чтобы беречь и любить друг друга, мы обычно ждем невероятных катаклизмов, которые как бы позволяют нам это. Вот уж, поистине, „нет пророка в своем отечестве“!
Единственно, на что я уповаю, это на твое мужество, которое тебя спасет. Ты ведь очень талантливый, это еще слабо сказано. А талантливые люди обычно сильнее. Пусть все лучшее в твоей душе затвердеет и поможет тебе теперь.
Обнимаю тебя, дорогой.
Дружески твой Андрей Тарковский».
Возможно, это были самые нужные тогда для него слова… Подобно тому, как Вергилий вел через круги ада Данте, протягивая руку в моменты сомнений и душевных смятений, так и Тарковский точно найденным словом помогал ему идти по кругам своего. Но помощь его не ограничивалась только письмами. Тарковский тогда обратился к опытнейшему адвокату Кисенишскому, заслуженному юристу СССР. Ознакомившись с параджановским делом, он в тот же день покинул Киев, сказав родственникам и друзьям: «Не вижу в деле состава преступления… Тут, извините, что-то другое. Дело шито белыми нитками…»
А вот что писал Тарковский Параджанову уже в Стрижавку…
«Дорогой Сережа!
Я некоторое время не писал тебе, памятуя о возможном изменении твоего почтового адреса.
Сижу снова без работы… Тираж „Зеркала“ — ничтожен, и, видимо, фильм пройдет каким-нибудь третьим экраном.
Как твое здоровье? Старайся выдержать — ты еще очень и очень нужен. Надеюсь, у тебя хватает сил, даже если их нет.
Тут как-то по телевизору видел фильм. Популярный… Человек на глазах делал тяжелую работу, поднимал тяжести. Он поднимал много раз груз до тех пор, пока не утомлялся совершенно. Тогда ему внушали, что груз его стал вдвое меньше. Человек снова начинал поднимать старый груз. Снова утомлялся. Ему снова внушали гипнотически, что груз стал совсем легким, на деле вес груза — не изменялся, и человек снова и снова поднимал его…
Это я о неиспользованных ресурсах психики.
Желаю тебе сил здоровья и верю, что все кончится хорошо.
Обнимаю тебя — Андрей Т.
22 января 1976 года».
В своих письмах Тарковский старается поддержать душевные и психические силы Параджанова и в то же время откровенно делится с ним, как с близким другом, своими проблемами.
«…Писал сценарий для Таллина о Гофмане. (Теперь никто не знает, как его ставить, да и что вообще он может значить.) Лучше всего мог бы его поставить Сергей Параджанов.
Более полугода жил в деревне с Ларисой и Андрюшкой. Главные занятия в деревне были связаны со строительством сарая…
Жили мы прекрасно, и постепенно я стал чувствовать, что прекрасно мог бы обходиться без Богом забытого и оставленного кинематографа…
Вот жить бы так всю жизнь, на берегу речки, писать бесконечно длинную книгу (которую бы после моей смерти продолжил бы мой сын…). И жить своим трудом: у нас огород в 15 соток и небольшой сад.
Я так устал в последние годы от тщетных убеждений кого-то в необходимости кино, что все ближе и ближе подвигаюсь к осуществлению этой идеи. Удерживает суетность и жалость к своему загубленному таланту — чувства мелкие и ничтожные…
Как ты? Как здоровье? В чем ты нуждаешься из того, что разрешено тебе получать по почте? Напиши непременно или передай через другое письмо, если твой эпистолярный лимит уже исчерпан.
Обнимаю тебя крепко и желаю терпения, мужества и здоровья.
Твой Андрей Тарковский.
18 февраля 1976 года».
Приведем короткие выдержки из разных писем, где снова возникает тема их взаимоотношений, ощутим еще раз их родство и необходимость друг в друге:
«…Киев лично для меня потерял значение. Скорее я уехал б в село, в хату.
Кино — необратимо. В том качестве, каким оно называется кино, — это фуфло. Только Тарковский и только Тарковский. Все остальное ложь, лишенная духовности и пластики. Эстетства и смысла».
«…Вчера на репетиции „Гамлета“ много говорил о тебе с А. Гомиашвили, он играет Клавдия. Я сейчас много и утомительно работаю — ради самой работы — платят ничтожно мало, да и здоровье пошаливает. Результатов работы пока нет и пока не видно. А наслаждаться работой — даже творческой — я не умел никогда (в отличие от тебя)…
Шлю тебе кадры из „Рублева“. Из копии (пробной) для широкого формата, которая так и не была осуществлена. Это прощание Андрея с Даниилом».
«Завидую только тем, кто увидит „Зеркало“. Все остальное бред!»
«Не станет хлеба — человек умрет. Не станет искусства — человек умрет. Разница в том только, что человек знает о возможности умереть от голода, а о том, что он может умереть от отсутствия искусства, — не знает».
Оба, как видим, весьма критически воспринимали «успехи» кинематографической жизни. Оба мечтали сменить всю мишуру и «суету сует» кинематографической позолоты на покой деревенской жизни, где можно было бы полнее ощутить «соль бытия». Увы, «покой нам только снится»… Бегство в деревню не состоялось ни у Тарковского, ни у Параджанова, тоже заимевшего в последующие годы небольшое деревенское жилье.
Удивительные параллели их судеб сошлись и в финалах…
Оба не курили, и оба ушли от одной смертельной болезни — рака легких. Словно задохнулись от того, что больше всего ненавидели, — ложь, пафос, фальшь.
Но мы опережаем события. Впереди у них еще много фильмов, встреч и обращений друг к другу.
А сейчас попробуем еще раз представить будни Параджанова через воспоминания тех, кто оказался непосредственно рядом с ним на тюремных нарах. Они дошли до нас благодаря уникальной работе, которую провела Кора Церетели, собрав эти ценные свидетельства и опубликовав их в своей книге.
Рассказывает Виктор Бескорский:
«…Параджанову пришла бандероль весом в полагаемый килограмм, и там среди вещей оказались медикаменты и прополис, который был ему очень необходим.
Так вот, Параджанов получил этот прополис, и буквально через несколько дней по „зоне“ прошел шум: Параджанов развел этот прополис в ведре и стал кружкой отпаивать больных. Он все лекарства отдал людям! В стационаре лежали заключенные из разных отрядов. И вскоре весь лагерь узнал об этом…
…Или вот такой эпизод. Приводит ко мне молодого парня и говорит: „Посмотри на этого человека! Он ненормальный“. Расстегивает на нем пиджак, а под ним ничего. Голое тело. „Я ему отдаю белье, а он ни за что не хочет брать!“
Я спрашиваю парня:
— Чего не берешь?
А он говорит:
— Мне нечем платить (тут срабатывает закон „зоны“).
Я долго объяснял парню, что не все продается и покупается… Например, совесть…
Наконец парень послушался.
Так Параджанов отдал свое белье (единственное, которое у него было), а сам остался в ситцевых брюках.
Вы что думаете, это не обсуждалось в комнатах свиданий?»
А вот воспоминания Игоря Ушакова, сердечную дружбу с которым Параджанов сохранил на долгие годы и у которого неоднократно, выйдя на свободу, гостил, приезжая в Москву:
«…Раз в месяц в лагерь заезжал фургон — ларек с письменными принадлежностями и канцелярскими товарами. Этого события ждала вся „зона“.
Раскладывали все это богатство на нескольких столах прямо на территории лагеря, и тут выстраивалась длиннющая очередь. Бывали и потасовки, и драки, если те, кому не полагается по воровским законам, пытались прорваться вперед.
Денег у Сергея на ларек не было. Он работал дежурным в пожарке. Зарабатывал мало. Мне как „старожилу“ лагеря и старосте отряда удавалось через знакомого охранника наладить связь с волей. Я помогал Сергею получать бумагу, ручки и карандаши и высылать на волю его работы.
В лагерь сразу же долетела весть о том, что с пересылки прибыл чудак, который на воле вроде был известным режиссером. Профессия зэкам незнакомая. Они знали только одну — „кинщик“. Блатные так его и называли — Серега-кинщик.
„Кинщик“ этот постоянно что-то рисовал и мастерил в своей пожарке. Поделки эти тоже не очень были понятны зэкам, но вызывали любопытство и интерес. Как это можно из тряпья, мешковины и сухих былинок лепить всякую всячину? И по их просьбе он рисовал им игральные карты, голубков и ангелов на поздравительных письмах домой.
Был в лагере молодой парень, который лепил фигурки из хлеба и резал картинки на кусочках дерева. Сергей обнаружил в нем талант и стал с ним заниматься. Парень этот увлекся резьбой и стал резать удивительные распятия и крестики для зэков.
Тогда Сергей замучил свою сестру Рузанну просьбой достать и выслать ему „бивень мамонта“, чтобы парень научился резать на кости. И представьте, в один прекрасный день в лагерь пришла на имя Параджанова посылка с огромной костью.
Это вместо масла, сахара и халвы. Я не знаю, был ли это бивень мамонта, но Сергей имел право всего на две официальные посылки. И ему не хватало витаминов.
Парень смастерил из этой кости замечательное распятие, а „блатные“ в очереди за „канцелярщиной“ стали разгонять толпу:
— Ну-ка разойдись! Дай кинщику отовариться!»
В Музее Параджанова в Ереване собрано много его рисунков, в которых представлена хроника его жизни на зоне. Вот он дворник, подметающий двор, вот пожарник, вот шьет мешки.
Здесь же удивительные портреты персонажей уголовного мира, охранников, конвоиров. Вместе с его письмами, которые сами по себе представляют яркий и образный литературный материал, эти рисунки показывают его как интереснейшего художника.
В своем фильме «Орфей спускается в ад» я попытался объединить его дар литератора, так ярко представший в тюремных письмах, и талант художника на материале того, что он создал в годы заключения.
Подобно тому, как в годы «мертвой зыби», последовавшей после «Цвета граната», он целиком ушел в работу над сценариями, в зоне его по-прежнему мощная творческая энергия нашла выход в изобразительных поисках. Именно здесь Параджанов создал свой непревзойденный шедевр — иллюстрации к Евангелию. Цикл этих рисунков он посвятил Пазолини. Именно фильмы Тарковского и Пазолини он готов был смотреть бесконечно, именно их искания были ближе всего ему. И именно к этим своим духовным собратьям он обращался снова и снова, идя по кругам своего ада. Смерть Пазолини его глубоко потрясла, так родился его своеобразный реквием по Пазолини. Помня его шедевр — фильм «Евангелие от Матфея», он назвал цикл своих иллюстраций «Евангелием от Пазолини».
Рисунки эти уникальны по своим художественным достоинствам и, возможно, являются вершиной его изобразительного творчества. Испытав боль, пережив унижения и страдания, он создал удивительные портреты Христа, апостолов, Иосифа и, конечно, Марии. В своем фильме я намеренно показал несколько иллюстраций Гюстава Доре, чтобы зритель почувствовал разницу в изображении персонажей.
Доре, безусловно, великий художник, но он типичный академист XIX века, и в этом смысле рисунки Параджанова намного пронзительней и точнее по духу к тем далеким событиям, которые предстали нам в рассказах апостолов.
Уникальность этих рисунков и в том, что Параджанов создавал их, пользуясь только простой шариковой ручкой, не дающей права ни на один неверный штрих, который можно было бы исправить или стереть.
Вряд ли кто-либо из художников был поставлен в такие экстремальные условия, и несмотря ни на что родились рисунки, которые смело можно поставить в ряд лучших мировых иллюстраций к евангельским сюжетам.
К сожалению, сегодня возникла угроза, что эти шедевры Параджанова исчезнут навсегда. Шариковая паста тех лет и ручки, попавшие в тюремный ларек, были весьма низкого качества, и потому уникальные рисунки выцветают. Желание сохранить их было еще одним побудительным мотивом для создания фильма, посвященного его удивительному изобразительному творению.
Вместе с иллюстрациями к Евангелию здесь же, в «зоне», Параджанов начинает еще один интереснейший цикл: создает свои интерпретации знаменитой «Джоконды» Леонардо да Винчи. Но давайте предоставим слово самому Параджанову и посмотрим, как родилась у него эта любопытная идея.
«Когда во время жары мы сняли рубахи и работали голые до пояса, то у одного зэка я увидел на спине татуировку Джоконды. Когда он поднимал руки — кожа натягивалась и Джоконда смеялась, когда нагибался — она мрачнела, а когда чесал за ухом — она подмигивала. Она все время строила нам рожи…»
Параджанов в каждом письме просил прислать ему репродукции Джоконды и, искусно вырезая их, монтировал затем по-своему ее изображения. Так родился этот предельно сюрреалистический цикл, которому мог бы позавидовать даже такой великий провокатор, как Сальватор Дали.
А вот еще одно яркое сюрреалистическое видение, воспринятое через призму его незаурядного художественного воображения:
«В глубине двора деревянный сортир — весь в цветных сталактитах и сталагмитах. Это зэки сикали на морозе. Все замерзло, и все разноцветное… У кого нефрит — моча зеленоватая, у кого отбили почки — красная, а кто пьет чифирь — оранжевая. Все сверкает на солнце, красота неописуемая!»
Сегодня Параджановым принято восхищаться. Его имя — своеобразный пароль для масс-медиа. Но осознаем ли мы, в чем его подлинный подвиг? Подобно тому, как он в свое время вычистил авгиевы конюшни в своей душе и из весьма ординарного «соцреалистического» режиссера, лепившего один фильм за другим, смог стать выдающимся мастером, так и сейчас, находясь в условиях строгого режима, смог преодолеть все испытания и сохранить в себе художника, не утратил способности восхищаться красотой, находя ее даже в не слишком эстетичном лагерном туалете. Отлученный от возможности снимать свои фильмы и писать сценарии, он смог трансформировать свою творческую энергию, направив ее на поиски пластических решений.
Так вслед за Параджановым-режиссером и Параджановым-писателем родился Параджанов-художник. Он и раньше рисовал раскадровки к будущим эпизодам своих фильмов, создавал эскизы костюмов, но по-настоящему раскрыл свое художественное дарование здесь — за колючей проволокой.
Послушаем еще одно свидетельство Виктора Бескорского.
«Вы спрашиваете меня, как он смог уцелеть на „зоне“? Ведь у него была плохая статья — гомосексуализм. Работать монтировщиком или как-то приспособиться к производству он конечно же не мог. Был слишком слаб. Убирал территорию, и то с грехом пополам. Таких на „зоне“ сразу „опускают“. И все же ему удалось не только выжить, но и создать атмосферу доброжелательного интереса и уважения к себе, что в условиях строгого режима кажется совершенно невероятным. Ведь таким вниманием пользуются только „авторитеты“ из воровской среды. И тем не менее, поверьте, это было так…
Параджанов очень удивлял осужденных. И не только тем, что, укрывшись под лестницей, рисовал тупым гвоздем свои чеканки на крышках из-под молока и создавал костюмы из разноцветного тряпья, которое привозили на „зону“ в качестве подтирочного материала. Сперва смеялись, потом любопытствовали, потом пытались делать сами. А он терпеливо учил, гордился каждым удачным рисунком заключенного как ребенок… Нет… Он удивлял заключенных своими поступками».
Письма Параджанова из «зоны», возможно, самый точный рентгеновский снимок его души и происходящих в ней сложных духовных процессов. Даже в своих фильмах он так откровенно не обнажает себя, свою подлинную суть. Поражает и то, насколько здесь, в этой абсолютно неинтеллектуальной среде, он по-прежнему доказывает свою глубокую приобщенность и любовь к всемирной культуре, которая всегда была смыслом его жизни. Вот некоторые выдержки из его письма сыну:
«Суренчик, дорогой! Рад, что ты будешь в Москве и увидишь удивительный мир столицы и русского зодчества… Я хотел бы, чтобы ты увидел:
1. Останкинский дворец Шереметева:
а) крепостной театр
б) картинную галерею (Платцер — худ.)
в) Аргунов. Портреты и оформление комнат.
2. Дом музей Толстого в Хамовниках — метро „Парк культуры“.
3. Донской монастырь — выставку стульев, кладбище и т. д.
4. Муз. Им. Пушкина (Египет, Ассирия, Италия, античность и т. д.).
5. Грановитую палату.
6. Снова — Загорск (Рублев).
7. Снова — Кусково (мы там были, метро „Курская“).
8. Архангельское — усадьба.
9. Мураново — усадьба Тютчева.
10. Музей архитектуры (метро „Дзержинская“).
11. Кремль — всё.
12. Андронов монастырь — около Курского вокзала.
13. Загорск. Музей игрушки.
14. Музей Восточного искусства.
15. ВДНХ — это очень интересно.
16. Кафе „Арарат“ — около Большого театра.
17. Елисеевский магазин (конфеты для ба.)
18. Новый Арбат („Вставная челюсть“ Москвы).
19. Памятник Шевченко (около Л. Ю. Брик — работы Фуженко, Грицюка и Синкевича).
20. Панорама и Арка 1812 года (Можайское шоссе).
21. Бахрушинский музей (театр).
22. Французское посольство и церковь напротив (Иван-воин).
23. Новодевичий монастырь (могилы Чехова, Довженко, Шукшина и Хрущева).
24. И главное — все это познать, а не созерцать, как дешевый турист.
Это и есть жизнь — познать и преломить в себе…
А что среда, которая меня окружает?
Что я ни скажу, они хохочут и говорят: „Вот суккк-а гонит!..“ Это страшно. Какой удивительный мир порождает свобода и как страшно ее потерять».
На этих словах, оставленных нам как своеобразное завещание, можно было бы и закончить, но в этом письме есть еще удивительные строки:
«Суренчик! Чернигов — это потрясение. До Чернигова — Козелец. Шедевр — собор, построенный Растрелли, барокко + рококо. Потом сам Чернигов Великий…
Поезжайте в Новгород-Северский. Это 100 км. Это тоже вас потрясет. И вообще, в твоем возрасте и профессии интересно все, и даже музей Коцюбинского, где когда-то висел мой портрет. Сын Сурен, понравилось твое суровое письмо без лишних слов и слёз. Не думаю, что ты не понимал, что жил я для тебя, торопился показать тебе мир, но не успел. Делай сам. Это будет дороже…
А что, если я не доживу до радости увидеть тебя?
Это тоже не страшно. Страшное произошло — я смирился и думаю о монашеской кротости. Береги себя. Аминь.
С. Параджанов.
Июль 1977 г. Перевальск».
Почему-то сегодня принято вспоминать Параджанова в основном как балагура и забавного хохмача. Во всяком случае, некоторые его друзья, давая гастрольные туры по разным европейским столицам, с удовольствием рассказывают про него различные байки, веселя почтенную публику. Все это тоже было, и на первый взгляд фальсификации нет. Фальсификация в том, что Параджанов по своей сути к современной моде на гаерство и двусмысленные шуточки отношения не имел. Да, он был щедро наделен чувством юмора, но в своих фильмах он предельно серьезен, даже трагичен. В его фильмах и сценариях нет и следа балагурства и хохмачества. Его юмор, столь же талантливый, как и его творчество, был, по сути, маской, которую он надевал в быту и снимал, когда приступал к творчеству.
Перечитывая это письмо высококультурного человека (многие ли его известные друзья могли бы, даже находясь на свободе, составить письмо с такими подробными деталями), вновь удивляешься, откуда родилась распространенная байка, что Параджанов никогда ничего не читал кроме «Мойдодыра». Давайте еще раз вернемся к этой байке, потому что родилась она, кстати, с легкой руки следователя Макашова. Приведем еще один фрагмент из его интервью Алле Боссарт.
«— О чем вы с ним говорили?
— Да о чем с ним говорить… Я спросил его: „Когда вы в последний раз брали в руки художественную книгу?“ Он сказал: „Последняя книга, которая произвела на меня сильное впечатление, сразу после ВГИКа, был „Мойдодыр““»…
Как видим, устав от дотошных и туповатых расспросов, Параджанов отвечает явно с юмором, догадываясь, что Макашова интересует совсем другое, что он пытается выяснить, есть ли у него «самиздат». Но тот, не оценив юмора Параджанова, понял его по-чиновничьи дословно и привел его ответ как один из доводов на суде: «Вот, товарищи судьи, какое ничтожество перед вами». Его логика понятна, недаром он с удовольствием повторил слова Параджанова и годы спустя в интервью Алле Боссарт. Непонятна только логика друзей, с удовольствием вновь и вновь развлекающих народ байками о Параджанове.
Но вернемся к событиям тех горьких лет.
День шел за днем, год за годом, один лагерь сменялся другим. Вот хронология его перемещений: декабрь 1973 — июль 1974 — Киевская тюрьма; июль 1974 — апрель 1975 — лагерь Губник; апрель 1975 — август 1976 — лагерь Стрижавка; август 1976 — декабрь 1977 — лагерь Перевальск.
Перемещения — одно из самых трудных испытаний в жизни заключенного. Вырывают из более или менее привычного быта, разрывают худо-бедно налаженные контакты. Впереди душный, тесный арестантский вагон. Летом страшно раскаленный, без вентиляции, без глотка свежего воздуха. Естественно, без прогулок и с отвратительной едой (в лагере хоть плохая, но кухня). И наконец — впереди новый коллектив, новая стая, новое испытание, которое надо выдержать!
Попробуем еще раз окунуться в те реалии, в которых проходили его муки и испытания. Документы и свидетельства сохранились…
«Это невыносимо в моем состоянии. Новые администрации, новые лагеря, свои обычаи и невыносимая работа! Сейчас работаю в механическом цеху. Уборщиком металла. Плохо очень. Не могу выдержать. Резко падает зрение от напряжения…»
«Светлана! Если бы ты знала, какое здесь собрано зло. Какие патологии… Лагерь больше, чем Губник. Озверелые. Неукротимые… Не исключено, что это конец. Я так красиво жил 50 лет. Любил — болтал — восхищался — что-то познал — мало сделал — но очень многое любил. Людей очень любил и очень им обязан. Был нетерпим к серому. Самый модный цвет. Необходимость времени…»
«Рузанна! Ты говоришь о помиловании. Что помиловать? Грязь, которую вылили на меня, лишив профессии, авторитета, имени?.. Почему искали золото, оружие, спекуляцию, разврат, порнографию? Все это надо пережить…»
«К сожалению, я не Маугли, чтобы изучать язык джунглей…
А что, если я не доживу этот удивительный 1001 ночь и день…
…Это свора — волки: по-волчьи лай, вой…»
«Надо платить с расчета Средневековья и инквизиции. Такса очень высока.
…Ум, мозг, память не выдерживают такую информацию. Необходимо думать о маргарине в месяц хотя бы грамм 200–300…»
«На территории лагеря, где одна харкотня и моча, прорастают белые шампиньоны. Их крошат, бросая в баланду сырыми. Или весь лагерь бежит за случайно попавшей в карьер собакой и съедает ее полусырой…»
«Осталось 730 дней… Возможно, меня вообще не выпустят. Мне часто кажется, что это будет так. А если выпустят — какое счастье досмотреть, долюбить, доесть и дописать все, что не дописано. И что страшнее — отлучить от Церкви или от Искусства?..»
Здесь приведены отрывки из разных писем из разных лагерей. Можно было привести и другие… Они не менее выразительны и страшны. Возможно, самое страшное, что этих признаний много… Но все они об одном — о боли! Эта боль Параджанова не оставит больше никогда. В годы перестройки, когда к нему со всех сторон нахлынули журналисты, когда его интервью снимали бесконечные камеры, он будет говорить именно об этом. О боли, которая осталась навсегда… Как осталась навсегда у Шаламова, Солженицына, Оскара Уайльда, Сервантеса… Художников, увидевших Ад не в воображении, как Данте, а воочию!
Из-под каких развалин говорю,
Из-под какого я кричу обвала,
Как в негашеной извести горю
Под сводами зловонного подвала.
В Музее Параджанова в Ереване есть особая комната. Здесь меркнут краски и глохнут звуки. Здесь нет ни яркой киновари, ни ласковой бирюзы, ни мягкой охры — всех так хорошо знакомых красок в палитре параджановских работ. Здесь на стенах черно-синяя гамма, два цвета, оставленные ему в заключении, и все исполнено здесь простой шариковой ручкой, единственным разрешенным ему инструментом. Это, прямо скажем, страшноватая комната, напоминающая скорее отделение милиции, где со стендов смотрят разные лица, объединенные одним знаменателем: «разыскиваются…» Это галерея героев «последнего круга», тех, с кем Параджанов отсчитывал долгие годы своего срока, — мрачные лица, колючий взгляд, тяжелые подбородки. Даже в этой комнате трудно находиться долго, а Параджанов провел с этими людьми четыре года.
Единственное светлое пятно в этом черно-синем мире — гуттаперчевая кукла с наивно распахнутыми глазами. Обыкновенная игрушка с прилавка «Детского мира», одетая в арестантскую робу, с метлой в руке. К детской головке приклеена седая борода — ершик от унитаза. Это — автопортрет Параджанова.
В этой комнате принято молчать. Здесь и так сказано всё…
Владыки джунглей с царственной усмешкой смотрят на розовую куклу. Им хорошо знакома эта сцена: Параджанов, убирающий нечистоты. В их жестоком мире они — высшая каста — «кшастри», воины. А он «шудра» — уборщик.
Жутковатая комната, мрачная, неприятная галерея, и все же никуда не уйти от истины, что именно эти люди с жестким взглядом — «авторитеты», «доны» и «короли» преступного — мира спасли Параджанова от железной руки, занесенной над ним, что эти блатные «волки» не тронули его, как когда-то свирепые львы не тронули пророка Даниила, брошенного им на растерзание.
Черно-синяя галерея портретов (удивительная перекличка с колером татуировок), смотрящих со стен, удивительно выразительна. Здесь не толпа, не массовка шагающих арестантов — здесь каждый личность, характер.
Прошли годы, и многие эти «портреты» возникали затем в доме Параджанова и были в нем такими же, как и Марчелло Мастроянни и Тонино Гуэрра, Андрей Тарковский и Майя Плисецкая, Владимир Высоцкий и Марина Влади и многие другие известные люди из мира искусства, наполнявшие его дом.
В отличие от них это были молчаливые гости, они появлялись без предупреждения, так же неожиданно. Быть может, они когда-нибудь поделятся своими воспоминаниями, и мы узнаем многие детали тех дней и лет.
Годы заключения для Параджанова, безусловно, самые трудные, но при этом в письмах он часто признается, что счастлив. Почему?
Ответ в том, что именно здесь, в душных зловонных бараках, он неожиданно взломал ту глухую стену молчания, что возникла перед ним там, на воле. Он нашел внимающих!.. Своих зрителей, читателей, слушателей… «Слабость побеждает силу» — говорил Лао-цзы. В отношении Параджанова эти слова удивительно точны.
Да, в отличие от героев романа Солженицына он не был «в круге первом». Он не работал в привилегированной «шарашке», не беседовал с интеллектуалами, не получал масло к праздникам и лишь мечтал о маргарине, о возможности хоть раз досыта наесться. Он был «шудра» и брошен в «круг последний»! Но слабость его победила силу, ибо с ним была сила духа и интеллекта. И он продолжал творить даже здесь — в круге последнем… Он обратился к Евангелию и создал свои лучшие рисунки. Он создал здесь удивительный сценарий «Лебединое озеро — Зона», который впоследствии экранизировал Юрий Ильенко. Он придумал здесь множество новелл, в которых рассказал свою правду о лагерной жизни, по откровенности и образности они не уступают лучшим образцам этой весьма известной литературы. Здесь не жизнь политзаключенного, здесь жизнь художника среди убийц и воров, среди «овчарок» и «шерстяных».
Один из парадоксов его выживания в том, что он именно здесь нашел «внимающих» и смог выговориться до конца. Живая вода его творчества не уходила в песок, не загнивала болотной жижей, его голос наконец-то был услышан. Его окружали страшные люди, но глаза у них были не тухлые, не равнодушные, в них он видел свет восхищения, свет признания. Лишенный зрителя на воле, он все-таки прорвался к своему зрителю здесь — в неволе! Человек, превративший свою жизнь в театр, остался таким же и в лагере. И каждый вечер занавес открывался, и каждый раз был аншлаг.
Говоря об этом, нельзя не учесть, что кураж, свойственный Параджанову, его дерзость, артистизм и смелость всегда высоко котировались в этой среде. Даже пребывая в низшей касте, он, «шудра», стал равен «кшастриям». Иерархический мир криминала чувствовал в нем «высшую пробу». Перед ворами в законе, этими донами и королями блатного мира, стоял король в своем деле, в своем умении. Не туфта, не лажа, а режиссер в законе!
Вспомним, с какой досадой, даже спустя годы, Макашов утверждает, что в лагере Параджанов пребывал в «замечательной» обстановке. Он ломал принятые законы в кино и теперь, в лагере, ломал кастовую иерархию. «Кшастрии» приветствовали «шудру» как равного. В уборщике, моющем их сортиры, они оценили и его безумную щедрость, и его безумную смелость. Он не стал Маугли, не выучился волчьему языку, не овладел ни «феней», ни блатной музыкой. Но зато волки оценили его личность!
«Шарашки» у Параджанова не было. Но зато у него был свой Театр… Театр, который он пронес даже за колючую проволоку. Театр, который дал ему жизнь. И двери этого театра были открыты каждый вечер.
Открывавший те двери пусть вспомнит. Закрывающий их пусть не забудет…
Но и нас ведь должен с палубы
Видеть кто-нибудь,
Чье желанье сознавало бы
Этот вольный путь.
Параджанова пытались освободить многие. Тарковский обращался к Тонино Гуэрре, Феллини и другим известным европейским кинематографистам. В Бюллетене Иллинойского университета за 1975 год опубликован текст Петиции о предоставлении амнистии Параджанову, под которой поставили подписи виднейшие кинематографисты Америки. Среди подписавшихся Роберт де Ниро, Берт Ланкастер, Боб Доуи, Джин Келли и множество других известных деятелей кино; виднейшие профессора: Герберт Маршалл, Джек Лейда, Уильям Саймон, Роберт Коэн и другие; известные дистрибьюторы: Дональд Рагафф — президент компании «Синема-5», Сол Турел, Лео Дратфильд — президент компании «Янус-фильм». Директора фестивалей и музеев, в том числе Ричард Роуд (директор Нью-Йорского кинофестиваля), Джоан Кох (исполнительный директор общества кино Линкольн-центра), Тед Пери (руководитель отдела кино Музея современного искусства в Нью-Йорке). Писатели, в числе которых Джон Апдайк, Филипп Роф, Ирвинг Стоун и другие. Всего более шестидесяти фамилий представителей интеллектуальной элиты Америки, обращающихся с просьбой сократить срок заключения Параджанова.
Власть это серьезнейшее обращение проигнорировала.
Армянская диаспора во Франции устроила в знак протеста грандиозную манифестацию в день открытия Каннского фестиваля и пронесла по набережной Круазетт огромное изображение Саят-Новы, руки которого были закованы в кандалы.
Власть никак не реагировала на гневные заявления манифестантов.
Радиостанция «Свобода» регулярно упоминала о заключении Параджанова.
Власть плевала на «Свободу».
В защиту Параджанова поднимали голос протеста виднейшие мастера европейского кино: Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Луис Буньюэль, Ален Рене, Франсуа Трюффо, Жан Люк Годар, Луи Малль, Костас-Гаврас, Бернардо Бертолуччи, Карлос Саура, Роберто Росселини.
Власть делала вид, что не видит мировую элиту кино в упор. Хотя обращения об амнистии подавались не только в Верховный Совет Украинской ССР, но и представителю Украины в ООН, и послу СССР в США.
И все же власть дрогнула, и Параджанов вышел из заключения досрочно.
Как же это могло произойти? Кто смог добиться амнистии? Приходится констатировать, что иногда даже власть оказывается бессильной перед Женщиной… Ее голос оказался сильнее голосов многих достойных мужей. Женщиной, спасшей Параджанова, была Лиля Брик.
Лиля Брик была в числе московских друзей Параджанова, и дом ее, где висели подлинные работы Пикассо, Модильяни, Шагала, Леже, Пиросмани и многих других замечательных художников, всегда привлекал его. Здесь его ждали встречи с той подлинной красотой, к которой он всегда был так неравнодушен.
Среди друзей Параджанова, число которых резко сократилось после его ареста (к его удивлению, и самых близких), Лиля Брик и ее муж Василий Абгарович оставались самыми постоянными корреспондентами, их письма и посылки шли к Параджанову регулярно. В ответ он посылал им свои рисунки, коллажи из сухих цветов, откровенно делился своими печалями и тревогами.
У знаменитой Лили Брик, многое видевшей на своем веку, была не менее знаменитая сестра — французская писательница Эльза Триоле, жена писателя-сюрреалиста Луи Арагона. Как и многие «левые интеллектуалы», он в 1930-е годы горячо сочувствовал экспериментам по построению «нового общества», которое проводилось в СССР. Лозунг «мы наш, мы новый мир построим» был весьма близок его сюрреалистическим воззрениям. Член ЦК компартии Франции, известный своим большим романом «Коммунисты», переведенным чуть ли не на все языки народов СССР, Арагон считался большим другом нашей страны.
Со временем, надо сказать, дружба эта несколько потускнела: «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, издаваемый не меньшими тиражами на не меньшем числе языков, стал холодным душем для «левой» интеллигенции, и пахнувший с его страниц леденящий холод колымских лагерей весьма отрезвил ее. Чем мог вдохновить бывшего поэта-бунтаря брежневский застой? Остановившая свое течение когда-то бурная общественная и творческая жизнь, закосневшие идеи и выцветшие лозунги.
Обновить дружбу решили типичным способом тех лет — наградить Арагона орденом Дружбы народов. Арагон, конечно, плясать от радости не стал и вежливо, но скупо поблагодарил. Возможно, на этом дело бы и закончилось, если бы не женская, типично дворцовая интрига. Лиля Брик лично обратилась к Арагону. В результате их беседы родился план: ехать в Москву, получать орден и просить личной встречи с генсеком Брежневым.
Число знаменитых друзей Советской России в те годы уже стремительно сокращалось, к тому же приближалось 60-летие Октябрьской революции, а времена блестящей режиссуры Сталина, когда интеллектуальный цвет Европы рвался воспеть «новый мир», канули в Лету, тусклая сусловская режиссура уже никого не вдохновляла, а потому знаменитого друга Арагона было решено допустить к первому лицу государства. Пусть пообщаются, а вдруг душевно получится.
Если бы знали, для чего задумана вся эта операция! По сути, это был бартер — награда за награду, орден Дружбы народов в обмен на освобождение Параджанова.
Встреча состоялась в Большом театре в правительственной ложе. Как именно проходила эта знаменательная беседа, мы не знаем. Но известно, что Брежнев понятия не имел о Параджанове и с удивлением слушал слова Арагона о том, что амнистия известного режиссера в связи с 60-летием Великого Октября была бы очень горячо встречена на Западе всей интеллектуальной элитой. Империя не могла обидеть дорогого гостя, и все случилось так, как было задумано замечательной женщиной…
Недалеко от Большого театра на Спасской башне пробили часы. На самом деле это пробил час освобождения Параджанова… В бескрайние дали холодных степей под Ворошиловградом, в лагерь строгого режима № 307 в Перевальске мчалась правительственная депеша — высочайший указ об амнистии!
31 декабря 1977 года ржаво проскрипела металлическая дверь — Параджанов был свободен!
…Лиля Брик, закутавшись в шаль, устало откинулась в своем кресле. Шерше ля фам — ищите женщину…
Поезд прибывал в Тбилиси в девять утра. Сквозь сиреневую дымку вставали знакомые очертания города. Новый год на этот раз не подвел и побаловал белым свежим снежком, покрывшим и старые черепичные крыши, и купола храмов, и крутые отроги Мтацминды, где ниже фуникулера располагался знакомый дом 7 на улице Котэ Месхи.
С моим приятелем режиссером Рубеном Геворкянцем мы направлялись именно туда. Странным образом судьба привела нас четыре года назад к двери киевского дома Параджанова через сутки после его ареста, и сейчас, также нежданно-негадан-но, мы снова вместе направлялись к его на этот раз тбилисскому дому через двое суток после его освобождения.
В памяти стояла свежая красно-коричневая печать с гербовым знаком, замуровавшая дверь в его киевский дом. Там, где всегда были смех, шум, фонтан новых выдумок и творений, теперь была тишина… Дом опустел, смех смолк…
Образ этой немой двери с казенным штампом вставал все эти годы как символ загробья, куда он шагнул. Метаморфозы. Дверь, трансформировавшаяся в гробовую доску…
Так казалось… Основания были.
Такси на крутом подъеме, покрытом свежим снегом, забуксовало. Последние метры к дому молча прошли пешком. Слов не было. Кого увидим?.. Как выглядит Орфей, вернувшийся из ада? Кто нас встретит — призрак, тень былого?
Нас встретили знакомый смех, знакомая озорная улыбка и… незнакомое лицо. Бороды не было (зэку не положено), всё остальное было прежним. Вернее… как до погружения во Тьму… на четыре с половиной года. Какой призрак, какая тень былого! Нас встретил живой, можно сказать, даже огнедышащий человек, ибо он ощутимо горел огнем творчества. И первое, что он сделал, опережая наши расспросы и извлекаемые нами подарки, сам рассыпал перед нами горсть «дукатов», «дублонов», «талеров». Алюминиевые крышки от бутылок из-под молока, на которых, имитируя старинные монеты, были начертаны профили «королей». На одной из них был начертан его профиль. Его печать. Знак победы! Этот выдавленный шариковой ручкой на фольге профиль словно был ответом на ту кроваво-красную печать, замуровавшую его дверь. Он не дал той запертой двери стать гробовой доской, не дал ей надвинуться и припечатать его. Все эти годы загробья он продолжал творить, рисовать, писать. Изобретать (пусть не на пленке) новые фильмы, новые киноновеллы.
Пройдут годы, и Тонино Гуэрра поместит этот профиль на медаль имени Параджанова, которая будет вручаться на фестивалях.
А тогда, в тот день, из побитого чемоданчика начали извлекаться шедевры — удивительные рисунки, коллажи, ассамбляжи, составленные из дерюги, угольных мешков, соломы из тюремных матрасов. Водопад этой внезапно нахлынувшей красоты ошеломлял. Не сдерживая восхищения, мы не знали, что делать: засыпать его вопросами или восхищаться этой россыпью шедевров, которые жалко было выпускать из рук. Уделять внимание ему или его творениям…
Была поседевшая голова, белая щетина вновь отпускаемой (теперь уже седой) бороды, были живые знакомые глаза. Он не только выжил, он не изменился.
Пройдут годы, и я пойму, что тогда, в те радостные минуты первой встречи, был не прав, эмоции перехлестнули. «Зона» оставила неизгладимые следы… Да, он не сломался, он сохранил неиссякаемую жажду творчества, он не дал потушить свой огонь… Но и шрамы остались на всю жизнь! Не случайно десять лет спустя, увенчанный уже наградами всех лучших фестивалей, он начал говорить о той давней, спрятанной боли…
Словно предчувствуя приближение смертельной болезни, он в своих последних интервью дал другую оценку этим годам.
Уже не храбрился, не делал вид, что все ему было нипочем, что он гордо выпил свою чашу… Нет, теперь он снова и снова делился этой не умолкающей болью. А в глазах стоял немой вопрос: за что? За что была послана эта чаша? За неиссякаемую любовь к красоте?
Но тогда, в тот воистину незабываемый и удивительно счастливый день, все было по-другому, и ощущение праздника от встречи, от увиденной красоты захлестнуло нас. Внизу, в городе, был Новый год, накрытые праздничные столы, звенели новогодние бокалы, звучали тосты, витали ароматы сациви и жареных поросят.
Мы сидели в давно не топленной комнате на старом диване и слушали его рассказы. И этот наш духовный пир был неизмеримо богаче.
Тбилиси в то утро еще спал. Весть пришла в город позже.
Пройдет три дня, и лестница его дома затрещит от спешащих шагов. Будут идти с вином, накрывать щедрые столы. Все это скоро мы увидели…
Но в памяти те три дня — первые три дня свободы… А еще три ночи… Ибо рассказывать о себе и о своей боли он начинал ночью. Как жаль, что тогда не было диктофонов… Те рассказы были из первых рук. В те ночи нам досталось право «первых ушей».
Позже это все он сам трансформировал, добавил множество художественных придумок, превратил в новеллы, сделал замечательный сценарий. Но тогда это была ошеломительная правда деталей… Такая же, как в письмах.
Одним из его главных желаний было посетить могилу матери. Сирануш была его божеством, непререкаемым авторитетом, с которым он считался, шагнув и за сорок лет. Беда, случившаяся с сыном, подкосила ее. И весть о ее смерти (поначалу скрываемая) сделала еще темнее его лагерные ночи. И свои первые шаги на свободе он сделал к ее могиле… Мы с Рубеном сопровождали его, и в памяти навсегда остался этот день.
В принципе я ждал обычных в таких случаях эмоций. Но было совсем иное… Подойдя к могильной ограде, он вдруг затряс ее изо всех сил. Что это было? Что он хотел? Звал? Стонал? Взывал? Или протестовал против этого еще одного жестокого приговора судьбы? Может, эта металлическая ограда напомнила ему тюремную решетку, что не дала попрощаться с любимой матерью, не позволила исполнить сыновний долг?
Таким сдержанным и немногословным я Параджанова не видел никогда. Ни до, ни после… Никаких сантиментов, ни даже скупой слезы или горестного вздоха. Только грохот металла. Потом молчание. И краткое: «Пошли…»
В дальнейшем история его освобождения обросла легендами, многие из них сотворил он сам. Версий, кто и как его освободил, возникло множество. Есть даже документальные кадры его первых дней свободы, даже кадры, как Параджанов плачет под проливным дождем (в январе?) у могилы матери. Но я помню другой день — морозный, холодный, яростный…
Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты…
Итак, многолетняя и многотрудная одиссея была завершена, Параджанов вернулся в свой дом. Вернулся в черной тюремной робе с номером на груди. В котомке — выданный арестантский продпаек № 603 726.
Его домом, его городом снова был Тифлис. Киевский дом был конфискован, прописки его лишили. Из Союза кинематографистов Украины сразу после ареста исключили за неуплату членских взносов. Из штата Киностудии имени Довженко также срочно вывели. Жить было разрешено только в Тбилиси. Спасибо и на этом, могло быть хуже.
Свой 50-летний юбилей он встретил за колючей проволокой. Мгла продлилась с 17 декабря 1973 года до 30 декабря 1977-го. Амнистия скостила срок его заключения на 11 месяцев и 17 дней.
За тюремными воротами пролегла одинокая цепочка следов. Хмурое утро первого дня свободы. Последнего дня испытаний. Испитая до дна чаша. Что впереди?
После первых университетов — ВГИКА его путь пролег на Украину. Там отрезанным ломтём остался самый длинный период его жизни. Первые фильмы, любимая жена, любимый сын. Первые победы, первые признания. Теперь, после «тюремных университетов», все надо было начинать заново. Ему уже 54 года…
Блудный сын вернулся в отчий дом, где не было уже ни отца, ни матери. Что он чувствовал тогда? Конечно, была эйфория и хмель первых глотков свободы. Потому-то так радостно встречал он первых гостей и рассыпал им щедрыми горстями «дукаты», вываливал дивную красоту своих тюремных творений, составленную из вырезанных этикеток, открыток, обрывков рогожи. Знаменитые ахматовские строки «Когда б вы знали, из какого сора…» с полным правом можно отнести и к этому этапу творчества Параджанова. Не спешил говорить о пережитых испытаниях (только в полутьме ночи), а рассказывал о своих учениках, какие таланты, какие яркие одаренные натуры встретил он там.
А что же дальше? Что было потом?
День бежал за днем, а за новым годом пришел еще один новый… А в жизни все та же мертвая зыбь. 70-е годы — застой в стране. Застой в судьбе… Можно было пробиться даже к душам матерых преступников и профессиональных грабителей. Расшевелить, взволновать, зажечь даже их очерствевшие сердца, сломать все законы, каноны, табели о рангах и, заставив выслушать его, увести в страну своего творчества. Но достучаться до чиновников оказалось гораздо сложнее. Его не слушали, его не видели в упор. Его по-прежнему встречал непроницаемый свинцовый чиновничий взгляд. Его заявки на сценарии не обсуждались. Не было ни новых проектов, ни новых запусков в работу, ни приглашений на фестивали. Новые страницы его новой жизни не заполнялись ничем. Повисший парус киноэкрана не подхватывал его фантазии, его страстное желание открывать и новые острова красоты. Словно белый саван, накрывший его после огненных красок «Цвета граната», отделил его от мира кино.
Но он снова, пусть не на белом полотне киноэкрана, а на белом куске бумаги, начал творить свои сказки, снова писать сценарии и новеллы. Это было новое заключение. Заключение в молчание… НЕТ такого режиссера.
Не потому ли, начав писать страницы новой жизни, он захотел сделать свой дом таким шумным? Творил свои рассказы и бесконечные придумки. Создавал всевозможные куклы, разнообразные шляпы, бесчисленные коллажи из битой посуды, рассыпавшихся бус и всевозможного тряпья.
И ночью и днем скрипели ступени старого дома, ведущие к его комнате. Годы застоя стали для Параджанова гостевыми годами. Много гостей приходило в его киевский дом, но теперь служение гостям превратилось в своеобразную мистерию, форму выхода кипевшей творческой энергии. Но то, что в этом неистовом уходе в игру в гостей был оттенок истерии, несомненно.
Дом на горе оказался удивительно востребованным. Кто только сюда не шел, не ехал, не летел! Шли с разных улиц и районов Тбилиси — с привилегированного Ваке, старинного Сололака, нового Сабуртало. Ехали на машинах из Еревана и летели из Москвы, Киева, Парижа, Рима, Нью-Йорка. Из больших столиц и маленьких провинциальных городков.
В советской империи не было деления на постные и скоромные дни, пост был всегда! И потому еще был так необычайно популярен его дом, что здесь скоромное было всегда. На острые, пряные духовные пиры Параджанова шли со всех сторон. А зачастую слетались и как назойливые мухи. Об этом тоже надо сказать. Потому что сегодня чаще всего слышно их настойчивое жужжание.
Уход в несмолкаемый гостевой шум с одной стороны спасал, с другой — требовал постоянных жертвоприношений. Старый девиз «Шоу должно продолжаться», конечно, эффектен. Но каких сил требует!
Он утолял свой духовный голод и духовную жажду многих. Вот почему многим так запомнился дом на горе, этот своеобразный корабль, плывущий к новым островам красоты. Как жаль, что нет «корабельного журнала» этих замечательных плаваний. Не сняты на пленку эти изумительные встречи, которые могли бы стать блестящими фильмами, показывающими блестящую режиссуру Параджанова и снятыми в декорациях его дома.
Попробуем все же представить эти его уникальное «шоу» и обратимся к сохранившимся воспоминаниям.
Тонино Гуэрра:
«Во дворе под деревом были рассажены куклы, сделанные им собственноручно. Деревянные перила лестниц он изумительно раскрасил в белый и красный цвета. Развесил свои ковры, вместо тарелок на домашнем столе разложил листья инжира. Вместо скатерти сверкало зеркало…
Сергей — по сути, единственный режиссер в мире, кому удалось передать на экране непрозрачный, мерцающий воздух сказки-мечты. Из любого пейзажа он делал натюрморты, киноживопись…
Он наполнял мир ирреальностью. Одно его присутствие словно говорило: все что мы видим — это мало. Надо додумать и идти дальше по тропе своих воспоминаний и фантазий».
Белла Ахмадулина:
«Вот опять я подымаюсь в обожаемое место любимого города, а сверху уже раздаются приветственные крики, сам по себе накрывается самобранный стол, на всех людей, на меня сыплются насильные и нежные подарки, все, что под руку попадется. А под руку попадается то, что или содеяно его рукой, или волшебно одушевлено ее прикосновением. При нем нет мертвых вещей. Скажем, крышечки из фольги для молочных и кефирных бутылок, небдительно выкинутые лагерными надзирателями. А на них выгравированы портреты — краткие, яркие, убедительные образы. Дарил он не только крышечки эти, для меня драгоценные, все дарил всем, и все это было изделием его души, фантазии, безупречного и безграничного артистизма, который трудно назвать рукоделием, но высшая изысканность, известная мне, — дело его рук.
Параджанов не только сотворил свое собственное кино, не похожее на другое кино и ни на что другое. Он сам был кинематограф в непостижимом идеале, или, лучше сказать: театр в высочайшей степени благородства, влияющий даже на непонятливых зрителей».
Ирина Уварова-Даниель:
«Дом был похож на деревянную декорацию старой крепости, так как уже разрушался, стариковски скрипел и ворчал, и лестница, горной тропой взбиравшаяся на второй, к Параджанову, этаж, могла обвалиться в пропасть.
В доме постоянно творился театр, возникали и исчезали маленькие театрики, ежедневно и ежеминутно. Покорные его воле, играли там люди и вещи, собирались зрители, а иногда и в них не было нужды. Он был, как говаривали в старые времена, Директором Театра Жизни.
Спектакль был каскадный — знай наших. С клоунадой, со штучками, свойственными всем плутам ярмарочных подмостков.
Вообще он жил внутри натюрморта. Постоянно что-то сочетая, двигая, переставляя. Образуя причудливые композиции, кратковременные шедевры. Таинственная жизнь предметов, плодов и кукол, открытая только ему и никому больше, составляла воздух его фильмов. Но даже его отношение ко всему этому носило ночной, гофмановский характер».
Марина Влади:
«Прекрасная персидская шаль, которую я сейчас держу в руках, — подарок Сережи, который мне очень дорог… Она так хороша, что мне больно к ней прикасаться. Я только что вынула ее из коробки. Он подарил мне ее уже после смерти Володи…
Я помню, как Володя плакал, узнав, что Сережу арестовали и заставляли признаваться в преступлениях, которых он не совершал. Володя буквально заболел. Он проплакал весь день. Потом он послал Сереже в лагерь письмо и фотографию, на которой он вместе с Параджановым. Зэки очень ценили Высоцкого за то, что он много писал о них и о „зоне“. Надеюсь, это фото помогло Сереже выжить…»
Майя Плисецкая:
«Я танцевала в Тбилиси и была приглашена к Параджанову в гости. Помню высокую деревянную лестницу во дворе, которая вела на открытую террасу. Там стояли вазы с крапивой и листьями винограда… При входе на балкон нас встречал молодой парень, разряженный в султана и с подносом фруктов в руках. Тот парень свято чтил Параджанова, выручившего его из беды. „Он вор“, — громко объяснил мне Сергей. Везде горели свечи, на стенах висели коллажи, на полулежали ковры в заплатах, которые он сам делал. Хотя уверял, что на них спал какой-то Мухаммед Пятнадцатый».
А вот рассказ Ираклия Квирикадзе о визите Марчелло Мастроянни:
«Та ночь стала для всех незабываемой. Параджанов устроил одно из своих самых гениальных импровизированных шоу. Старые стены ветхого параджановского дома готовы были обрушиться от нашего хохота. И чтобы этого не случилось, Сергей вывел гостей на ночную улицу знакомить с живым Марчелло Мастроянни. На узкую улочку стали стекаться люди с бутылками вина, сыром, зеленью. Соорудили длинный стол и начали пировать. Марчелло слушал грузинские песнопения, обнимал двух дородных пожилых соседок — своих беззаветных фанаток — и был истинно счастлив. Он кричал: „Требую политического убежища! Остаюсь жить в Тбилиси!“
А в неуемной голове Параджанова, как взрывы фейерверка, рождались все новые и новые импровизации. Переводчик не успевал переводить, но сопровождаемые выразительной пантомимой слова не требовали перевода, и Марчелло хохотал до слез. Хохотали и „стукачи“, сидевшие за общим столом (без них не обходилось ни одно параджановское застолье).
Сейчас я думаю: вот бы им записать тогда все параджановские „байки“ и фантастические импровизации на диктофон. Неоценимую они оказали бы услугу нашей культуре. Расшифровав их, можно было бы издать „Новый Декамерон“, не менее мудрый и смешной, чем творение Боккаччо».
К сожалению, не только «стукачи», но и друзья Параджанова не засняли на пленку эту его уникальную режиссуру, эти неповторимые постановки. И все эти замечательные «действа» растаяли, ушли…
После смерти Высоцкого обнаружились не только многие магнитофонные записи, но и уникальная хроника, передающая нам живую суть его яркой личности. А в хронике, оставшейся от Параджанова, есть только уже больной старик, жалующийся (не его краска) на судьбу и брюзжащий (не его краска). Его озорная, неповторимая улыбка ушла навсегда… Остались только отдельные стоп-кадры из этой уникальной хроники: фотографии Юрия Мечетова и других свидетелей его неповторимых языческих представлений. Остались воспоминания, терпеливо собранные его близким другом Корой Церетели в книге «Коллаж на фоне автопортрета». Остался длинный список людей, помнящих Параджанова.
К сожалению, этот список с годами становится все короче…
В том, что Параджанов запечатлен в документальных кадрах усталым и неожиданно озлобившимся (не его краска), нет ничего удивительного. Многие радовались и смеялись его представлениям, но все ли знали, какой ценой давался ему этот театр, этот праздник, уходящий в никуда… Сколько сил и творческой энергии он отдал этой борьбе с молчанием, поглощающим все звуки и цвета его сказочного Театра. Какую цену он заплатил за эти неувиденные, неоцененные и незапечатленные творения?
Кстати, о цене… Может создаться впечатление, что Параджанов жил так весело и сытно, что грех было на что-то жаловаться. Вполне уместный вопрос, а на что он жил, на какие средства устраивал свои пиршества и дарил бесчисленные подарки? Как свидетель многих этих праздников, могу сказать, что «пиры» были, как правило, весьма скромные. Ни красной, ни черной икры, или каких либо иных деликатесов. Было вино (сам он пил редко), был чаще всего сыр, хлеб, много зелени, фруктов и… много веселья. И все же на какие средства все это так щедро выставлялось, если за свои сценарии, рассказы, картины, коллажи он не получал ни гроша!..
Ответ прост и для кого-то, может, неприятен. Зарабатывал он спекуляцией. То есть покупал у одних и продавал другим. Сейчас этот заработок вполне узаконен и называется бизнесом. Более того, в бизнес-кругах считается самым выгодным и престижным. Вернувшись в отчий дом, Параджанов занялся отцовским делом — стал антикваром. Так в его дом снова стали приходить красивые старинные вещи. И потому бороться с обступившим его молчанием хватало сил и (пока) средств.
Самая большая вина — не сознавать свою вину.
Проезжая через Ортачалы, заурядный район Тбилиси, трудно представить, что именно здесь разыгралась фантасмагорическая история, достойная пера Кафки.
Когда-то Ортачалы были пригородом Тифлиса и имели весьма определенную славу. Здесь когда-то были пышные сады и обитали в них, можно сказать, «гурии». В «райских садах» жили пышногрудые и тяжелобедрые красотки «легкого поведения», воспетые Пиросмани.
Его цикл «Ортачальские красавицы» известен не меньше знаменитого портрета актрисы Маргариты, которой когда-то так романтично был подарен «миллион алых роз». Художник был влюбчив и воспевал не только пышные пиры, но и другие радости земной жизни.
Все это было давно… Город в годы индустриализации стал стремительно разрастаться, сады вырубили, красоток разогнали и городской район Ортачалы сегодня имеет весьма казенный вид, и именно здесь расположен «казенный» дом.
Прожив всю жизнь в одном из самых красочных и колоритных районов Тбилиси, на горе Мтацминда, Параджанов (не по своей воле) провел 9 месяцев в Ортачалах в «казенном доме», проще говоря — в тюрьме.
В третий раз он смотрел на мир сквозь тюремную решетку.
Третье заключение… Не много ли на одну жизнь художника?
Для авантюрного XVIII века или бурного XVI, может, и в порядке вещей. Художники тогда дрались на шпагах и пистолетах, на любовные свидания поднимались по веревочным лестницам, но в наше время, полное обывательского размеренного существования, даже для артистического мира пожалуй, многовато.
Начало этой поразительной истории имеет непосредственное отношение к одному из ближайших (и горячо любимых) друзей Параджанова Владимиру Высоцкому. Вернее, не к самому Высоцкому, поскольку его к тому времени уже не было в живых, а к спектаклю «Владимир Высоцкий».
Сегодня трудно представить, какие вокруг этого спектакля развернулись страсти. Юрий Любимов, хорошо зная красноречие Параджанова, привлек его к обсуждению, что имело роковые последствия.
Но давайте выслушаем одного из свидетелей событий тех дней известного режиссера и друга Параджанова Василия Катаняна. Он и его супруга Инна Гене наблюдали в Москве события, эхо которых докатилось позже до Ортачал…
«В октябре 1981 года Юрий Любимов разыскал наконец Сережу, который гостил у нас. Мы всячески его конспирировали, Инна делала все, чтобы не пускать его в Дом кино, где он приходил в возбуждение и городил небылицы на глазах у всех.
Любимов пригласил его на генеральную репетицию спектакля о Высоцком, который хотели запретить — и запретили.
Инна отговаривала Сережу, она была против того, чтобы он шел на этот прогон: „Ты нужен для шумихи, нужно твое имя, нужна скандальность“… Как в воду глядела.
После просмотра было обсуждение. Вся художественная элита Москвы очень одобряла спектакль, все руководство было против.
Сережа, которого я держал за полу пиджака, чтобы он не полез выступать, вдруг поднял руку… Его встретили дружными аплодисментами (так встретили только его). Велась стенограмма, которую потом послали куда не надо, и вот под эту-то стенограмму Сережа и произнес „крамолу“. Очень точно разобрав спектакль и толково кое-что посоветовав, он, конечно, не удержался:
„Юрий Петрович, я вижу, вы глотаете таблетки, не надо расстраиваться. Если вам придется покинуть театр, то вы проживете и так… Вот я столько лет не работаю, и ничего — не помираю. Папа Римский мне посылает бриллианты, я их продаю и на эти деньги живу“.
Никто не улыбнулся, все приняли это за чистую правду и проводили его аплодисментами.
— Сережа, побойся Бога, какие бриллианты посылал тебе папа Римский?
— А мог бы! — ответил он с упреком».
Спектакль тогда закрыли, письма общественности не помогли. Однако заметим, никого не наказали, кроме… Параджанова. Личная дружба с папой Римским, ни слухом, ни духом не ведающим об их доверительных отношениях, Параджанову дорого обошлась. Итак, как видим, начало вполне вписывается в пьесу абсурда.
А теперь приведем фрагменты из его выступления, бережно сохраненные КГБ, которое куда более внимательно относилось к его устному творчеству.
«— Пускай закрывают! Пускай мучают! Вы не представляете, как мне выгодно ничего не делать… Я получил бессмертие — меня содержит папа Римский. Он мне посылает алмазы, драгоценности. Я могу даже каждый день кушать икру. Я ничего не делаю. Это кому-то выгодно, чтобы я ничего не делал…»
За этим фантастическим трепом (высокий уровень аудитории, безусловно, вдохновлял) скрывается неутихающая боль от вынужденного многолетнего молчания.
Но это пламенное выступление переполнило чашу терпения власти, и в высоких кабинетах был дан сигнал к новой охоте.
Вслед за завязкой, достойной пера Ионеско, последовало продолжение в духе Кафки. Итак, «Ортачальская история»…
У Параджанова были две сестры: Рузанна и Аня. С Рузанной он всю жизнь дружил, а с Аней всю жизнь ссорился.
У Ани был муж — красавец Жора. И жили они также в доме на горе. Жора был не только красавец, но и лучший ньюсмейкер Тбилиси. Его парикмахерская будка располагалась у редакции газеты «Заря Востока», там же помещались редакции и других партийных и комсомольских газет. И все знали, что самые последние новости можно найти «У Жоры»… Его маленькая будка смело конкурировала и с ТАСС, и с РЕЙТЕР. Во всяком случае, все самые интересные «хабары», то есть новости, Тбилиси его корреспонденты в процессе бритья докладывали во всех подробностях. Свежий горячий «хабар» — лучшее городское лакомство…
У Ани и Жоры был сын с красивым и солидным армянским именем Гарегин, но все звали и сейчас зовут его Гарик. Гарик вырос и тоже стал кинорежиссером.
С Жорой Параджанов в отличие от Ани никогда не ссорился и уважал его. И когда тот скоропостижно скончался, сам гримировал его в последний путь, чтобы все запомнили его таким же красивым, и даже засунул что-то покойному в брюки, чтобы подчеркнуть его большие мужские достоинства. Но давайте предоставим слово непосредственному участнику этих событий — Гарегину Параджанову.
«Папа лежал в гробу, а Сергей ходил вокруг него сетуя: „Жора очень худой. Нельзя… Неприлично. Завтра будет панихида, а Жора плохо выглядит“. Господи, прости меня, но это было так. У нас недалеко от дома была мусорная свалка, и кто-то выбросил туда ветхий диван. Параджанов выпотрошил этот диван, набрал поролона и стал запихивать его под выходной костюм моего отца, чтобы тот „лучше выглядел“. Потом загримировал его. И на панихиде всем говорил: „Посмотрите, Жора похож на императора Фердинанда“. Он сделал ему грим Фердинанда: нарумянил щеки, закрутил усы. А мою маму заставил на панихиде сесть на подушку из персидского ковра, надел на нее шубу, на голову положил маленькую черную подушку, а сверху гранат».
Все это не кадры из фильма Феллини, а подлинные сюжеты из жизни Параджанова в доме на горе, и свидетелей этому множество.
Представив основных действующих лиц «Ортачальской истории», расскажем, как развивалась она дальше.
Завязкой послужило то обстоятельство, что в школе Гарик учился плохо и в письмах делал столько ошибок, что дядя даже из «зоны» призывал исправиться и начать писать грамотно. Письма эти, весьма колоритные, сохранились…
Ценные советы помогали плохо, и, когда пришло время поступать в институт, Гарик умудрился сделать 60 или 80 ошибок в диктанте. Но поскольку он поступал в театральный институт в Тбилиси и был артистичен и ярок, а все руководство института хорошо знало и очень уважало его дядю, то на ошибки в диктанте снисходительно закрыли глаза. Будущему артисту ведь предстоит на сцене выступать, а не диктанты писать. В какой-то степени логично, тем более что творческие экзамены Гарик сдал великолепно. И все этюды показал, и все басни рассказал с блеском. Чем, чем, а артистизмом господь его наделил с избытком.
Итак, Гарик начал успешно учиться на актерском факультете. Прошло несколько лет, и впереди уже замаячил дипломный спектакль… Но в это время и началась охота на Параджанова.
Во всей этой истории так и не понять, чего было больше у «охотников» — идиотизма или подлости? Параджанова решили привлечь за то, что три года тому назад он за взятку устроил племянника в институт. Каким-то образом из архивов был извлечен давно забытый диктант, и начали всех строго допрашивать: кто, где и когда брал взятку от Параджанова. То есть искали в черной комнате несуществующую черную кошку. Взятки никто не давал, о ней руководство института и слыхом не слыхивало, и все было сделано из уважения к Параджанову и желания принять на учебу способного студента.
А «загогулина» в этом абсурдном процессе была в том, что Гарик, унаследовав не только артистизм, но и дядину страсть приукрашивать события, охотно рассказывал товарищам, какой он «дорогой» студент, и выходило, что чуть ли не за каждую ошибку в диктанте дядя заплатил по бриллианту.
Вот такой «хабар», вот такая новость! Как видим, страсть потрясать воображение была достойно унаследована племянником. Не задумываясь о том, что вслед за «хабаром» часто следует «хабарда» — берегись!
Треп Гарика, даже гротесковый, для Тбилиси вполне обычное дело, и тогда никто особого внимания на это не обратил, но теперь, после выступления Параджанова в Москве, надо было срочно отыскать «папские бриллианты» и пресечь эту контрабанду в особо крупных размерах. Вот и вспомнили байку трехлетней давности… Ура! Нашлись бриллианты!..
Так возник «процесс о папских бриллиантах»…
Такой парадоксальной истории вы не найдете и в самой гротесковой пьесе. Кто возьмется ставить спектакль с таким вздорным сюжетом? Однако «спонсоры» нашлись, и абсурдную пьесу начали готовить к шумной премьере: вот он, ваш хваленый Параджанов, сорвали мы с этого жулика маску!
Но все это в нашей «Ортачальской истории» только цветочки. Ягодки появятся позже…
Что и говорить, следователю пришлось нелегко. Как быть? Папу римского на допрос не вызовешь, очную ставку не проведешь. Воззвать к совести и предложить ему покаяться тоже сложно.
В чем обвинять, если нет вещдоков? О том, что этих бриллиантов не существует в природе, не задумывались. Велено найти? Найдем. Есть свидетели, что Параджанов заявил, будто берет у папы бриллианты? Есть! Записано в стенограмме? Записано… Значит, надо искать бриллианты!
Увы, в доме у Параджанова по-прежнему не было ни красноречиво описанной им ежедневной икры на завтрак и обед, ни бриллиантов. Снова, как и в киевском процессе, «дело» развалилось. С одними слухами, без доказательств на суд не выйдешь. И снова, как и в Киеве, была задумана провокация. Ход проверенный…
На одном из допросов Гарику грозили всеми карами, затем, сжалившись, предложили выход. Ладно, злополучный диктант давно написан, студент ты хороший, но чтобы дело закрыть, и нам бы не мешало помочь… Все мы люди, не воздухом питаемся, пусть дядя сколько-нибудь «отстегнет», ну хотя бы рублей пятьсот.
То, что эту «наживку» проглотил юный студент, объяснимо, но как все принял за чистую монету опытный зэк? Впрочем, художники чаще всего неисправимо наивны…
В означенное время в означенное место Параджанов принес нужную сумму. По одной из версий, тихо положил в «бардачок» машины следователя после «дружеской» беседы пачку купюр. И тут же был схвачен в присутствии понятых и свидетелей. Обвинение серьезное — подкуп должностного лица! Мало того, что получает из Ватикана контрабандные бриллианты, так еще и подкупает следствие!
После Мтацминды с ее чистым горным воздухом пришлось долгих девять месяцев вдыхать затхлый воздух ортачальской камеры. Конечно, после украинских лагерей здесь были более терпимые условия. Если можно назвать «терпимыми» удушающую жару и тесную камеру для человека с больным сердцем, диабетом и целым букетом прочих хворей.
Писем из последней тюрьмы сохранилось меньше. Сыграло роль то обстоятельство, что здесь стражи закона были более сговорчивы и свидания, а значит, и живые общения были более частыми и регулярными. И все же одно из писем приведем.
Оно обращено к Гарику, которого он напутствует перед поездкой в Киев (студенты везли туда учебный спектакль) и снова, как когда-то в письме сыну, предлагает подробную культурную программу:
«Гарик! Читай! Вслух! Работай над речью. Пластикой…
Гарик!
Итак — гастроли. Первые!!! Перед тобой Киев!!!
1. София Киевская (рядом с трапезной Сорочинский алтарь).
2. Андреевская церковь (арх. Растрелли).
3. Кирилловская церковь (Подол — Врубель).
4. Музей Русского искусства.
5. Музей Западного искусства.
6. Музей Украинского искусства.
7. Музей исторический.
8. Музей Ленина (новый, на площади Комсомола).
9. Лавра — вся!!!
10. Лавра. Золото — кладовая.
11. Лавра — Музей народного искусства.
12. Комиссионный магазин. Угол Саксаганского и Толстого (Интерес!!!).
Посети все или ничего.
Гарик! Ты не владеешь языком, гримом, позой, костюмом, голосом, артикуляцией, дыханием. Как жить дальше! Смешным надо быть до поры до времени…
Женись, соберись, думай, читай, пиши, смотри выставки, рисуй. Может быть, в сумме потом, после усердия, возникнешь ты…
Весна 1982 г. Тбилиси, Ортачальская тюрьма».
В этом письме обращает на себя внимание не только строгость Параджанова к профессиональной подготовке племянника, высокий уровень требований к будущему актеру, но и не утраченная любовь к Киеву. Любовь, сохраненная на всю жизнь и навсегда, несмотря ни на что… В душной камере он через племянника как бы старается прикоснуться к тому, что любил всегда в этом городе, — его храмам, его музеям, всему, что приносило ему красоту и радость.
Процесс, как и полагается абсурдному процессу, тянулся долго и невнятно. И проблема была не только в деталях следствия и прочих казуистических подробностях. Проблема была в том, что степень вины обвиняемого определялась не в ходе выяснения истины, ее, как и меру наказания, определяли «наверху»… А верхи к тому времени запутывались сами все больше и больше.
За эти девять месяцев в стране все ясней чувствовалась необходимость перемен. Первый легкий ветерок того, что позже назовут перестройкой, смущал высокие партийные умы, которые снова не знали ответов на извечные вопросы: «как быть?» и «что делать?», и потому откладывали смутное дело Параджанова в долгий ящик. Никто не хотел брать на себя ответственность за новую расправу над художником, признанным во всем мире.
Уже были отпущены на «вольные хлеба» Солженицын, Ростропович, Любимов и многие другие известные деятели культуры, и потому показательная порка Параджанова выглядела сейчас весьма непривлекательным событием.
После ввода наших войск в Афганистан и бойкота Московской Олимпиады партийная номенклатура опасалась всякого шума. А новое заключение Параджанова возмущение и шум во всем мире гарантировало.
Разумеется, Параджанова снова пытались вызволить из тюрьмы. Тарковский в Италии, тогда он начал работу с Тонино Гуэррой над проектом будущего фильма («Ностальгия»), снова подключил к освобождению Параджанова Антониони, Феллини и других известных режиссеров европейского кино.
Не молчали и видные грузинские режиссеры: Резо Чхеидзе, Тенгиз Абуладзе, Эльдар и Георгий Шенгелая прикладывали все усилия для освобождения Параджанова. С большим письмом обратилась к Шеварднадзе Софико Чиаурели. Разумеется, в ЦК компартии Грузии не могли не прислушаться к мнению видных деятелей грузинской культуры.
С очень искренним письмом обратилась к Шеварднадзе (он был тогда первым секретарем ЦК компартии Грузии) Белла Ахмадулина:
«Глубокоуважаемый Эдуард Амвросиевич!
Прошу Вас, не рассердитесь на меня. Моя нижайшая просьба сводится лишь к этому. Прочтите мое письмо и не осерчайте. Я пишу Вам в нарушение общих и собственных правил. Но это моя человеческая правильность и моя безысходность. Я не могу не написать Вам.
Не гневайтесь. Я о Параджанове. Я очень знаю этого несчастного человека.
Тюрьма его не хочет, но он хочет в тюрьму. Нет, наверное, ни одной статьи Уголовного кодекса, по которой он сам себя не оговорил в моем присутствии, но если бы лишь в моем…
Он не находит себе художественного воплощения и неотрывно ставит свой бесконечный фильм на всех улицах среди людей, некоторые из которых плохие.
Я знаю, что он всех раздразнил и всем наскучил. Но не меня и не мне. Меня ему не удалось обвести вокруг пальца болтовней о бриллиантах, которые интересуют меня так же мало, как его, и прочим вздором…
Я понимаю, что сейчас речь не об этом, но все его преступления условны. И срок наказания может быть условным. Это единственный юридический способ обойтись с ним без лишних осложнений, иначе это может привести к его неминуемой гибели…
Грузины всегда были милосердны к чудакам, безумцам и несчастливцам. Параджанов — самый несчастливый из них…
Мое письмо совершенно личного свойства. О нем никто не знает и не узнает. Я написала его для собственного утешения и спасения…
Позвольте пожелать Вам радостной весны и всего, что потом…»
Во всей этой истории, в последующих пересказах обросшей многими забавными подробностями, но весьма драматичной для самого героя, примечателен финал — не менее абсурдный, чем сам процесс:
Удивительным образом такое оригинальное решение было подсказано поэтом, в данном случае поэтессой.
Параджанову «влепили» срок, но… условно! Ее подсказка оказалась спасительной как для судей, так и для «злостного преступника» с большим тюремным стажем. Таким вот образом и волки были сыты, и овцы целы. Параджанов по строго зачитанному приговору снова получил пять лет, но был освобожден прямо из зала суда.
И вернулся из Ортачал на Мтацминду, в дом, где стены хранили память о его детстве. Он покинул его 11 февраля 1982 года и вернулся 5 октября этого же года.
После затхлой камеры он снова жадно вдыхал горный воздух. Утверждают, что в хорошую погоду отсюда можно увидеть даже вершину Казбека…
Подводя итоги этой истории, трудно сказать, где было больше абсурда — в деле о шариковой ручке, затеянном в Киеве, или в деле о папских бриллиантах, заведенном в Тбилиси. Никогда не было ни «порнографического» ширпотреба, ни мифических «папских бриллиантов», они существовали только в эпатажном трепе Параджанова и его племянника. Два его самых любимых города отплатили ему за любовь двумя «казенными домами» — Лукьяновской и Ортачальской тюрьмами.
Вот такая судьба известного художника и известного «рецидивиста». Неплохой сюжет и для Ионеско, и для Кафки. Тем более что странным образом сбылись и другие слова трогательного послания Беллы Ахмадулиной: «Позвольте пожелать Вам радостной весны и всего, что потом…»
Весна пришла и к Шеварднадзе (карьерная), и к Параджанову (творческая) — он начал снимать наконец новый фильм. Да и ко всей стране — началась перестройка…
Но это уже другая пьеса.
Вот она, плодоносная осень!
Поздновато ее привели.
А пятнадцать блаженнейших весен
Я подняться не смела с земли.
Я так близко ее разглядела,
К ней припала, ее обняла,
А она в обреченное тело
Силу тайную тайно лила.
В марте 1985 года в московском Доме кино была назначена премьера нового фильма Параджанова «Легенда о Сурамской крепости».
Если бы кто-нибудь тогда знал, насколько символично рождение этого фильма, насколько мистично, какой знак — ха-барда! — несет его появление. Увы, ни предчувствия Кассандры не спасли могучую, стоящую неприступной крепостью Трою, ни предсказание Параджанова о крепости, требующей самоотверженности и жертвоприношений…
Но мы вновь опережаем события и потому вернемся к этой незабываемой премьере.
В голове неотвязно стучала мысль: неужели это произошло… неужели случилось? Так не бывает… Сидя в зале перед полотном экрана, я ловил себя на том, что вглядываюсь в него с той же тревогой, с какой смотрел на морозное вагонное окно, когда в те предновогодние дни ехал встретить Параджанова после заключения: каким его увижу?..
Теперь он снова возвращался из заключения, из творческого небытия, растянувшегося на долгие годы. Каким его встречу, что увижу на экране? Бледные тени былого? Остатки прежней творческой силы?..
Увы, так бывало уже не раз. С нетерпением ждешь фильм любимого режиссера, рвешься на премьеру в ожидании щедрого пира, но от предложенных яств одна изжога, и возвращаешься уже воровски, украдкой, чтобы избежать встречи, чтобы не лепетать жалкие и фальшивые слова по поводу его новой «удачи». Неужели и сейчас придется искать пути этого постыдного бегства?
Вспоминались далекие 1960-е, когда на съемочной площадке «Цвета граната» буйствововал 43-летний красавец с шапкой черных волос. Как он бывал жесток, несправедлив, непоследователен, сумасброден, но — хорош!.. Не залюбоваться его фонтанирующей энергией, каскадом брызжущих идей и всем заразительным, жадным поиском красоты было невозможно. Это захватывало всех. Недаром в годы его молчания не руководство «Арменфильма», а шоферы студии послали телеграмму: «Ждем Сергей-джан скучаем приезжай скорее вместе сделаем искусство тчк По поручению шоферского класса студии Мрдо».
Неужели этот грузный седой старик, вступивший в седьмой десяток, с опухшим от диабета лицом и большим животом способен еще на что-то?
Словно почувствовав настроение зала, Параджанов (впервые в своей жизни удостоенный чести представлять свой фильм в Центральном Доме кино) сказал: «Трудно представить балерину, которая решится танцевать, если пятнадцать лет не подходила к балетному станку. Я решился… вернуться в свою профессию. Хотя уже пятнадцать лет не подходил к съемочной камере». В зале погас свет.
И затрубил рог. Рог тревоги! Ибо страна была в беде! Большой беде… А когда приходит большая беда, не только правители должны задуматься, весь народ должен стать плечом к плечу.
Это был не мистический вой гуцульских труб, взывающих к неведомым природным силам бытия… Так начинались его «Тени забытых предков». Сейчас тот же низкий, тревожащий душу звук носил явно гражданское звучание. Страна, поднимайся! Ты в беде…
Если в «Тенях забытых предков» зритель с первых кадров погружался в таинственный шорох и шелест девственного леса, хранящего в себе множество тайн, то сейчас с первых кадров его встречало ограниченное пространство античных развалин. Перед нами сценическая площадка, своего рода орхестра. Явное творение человеческих рук. Не к мистическим потусторонним силам взывал рог, а к гражданам, к народу.
Именно так — с обращения к гражданскому чувству и долгу начиналась история разумной цивилизации.
Первыми отвечают на этот зов монахини, спешат, зажав в руках по паре яиц, затем идут рачительные хозяйки со своими корзинками, а вот уже целая крестьянская арба, доверху наполненная яйцами, начала со скрипом свое движение. Под ударами кирки золото яичного желтка смешивается с черным песком. Таков секрет прочности старинных крепостных стен. Страна беззащитна. Ей нужно окружить себя крепостными стенами. Она начинает перестройку старых крепостей для своей защиты.
Нет перед нами античного амфитеатра, нет античных масок. Но так же скупо, без лишней мимики, без выразительных взглядов и психологических деталей, следуя именно законам античной драмы, сдержанно и строго начинается этот фильм. Есть вызов судьбы и ответ человека на этот вызов, на это свалившееся испытание. Если в твой дом, в твою страну может ворваться враг — возведи надежные стены… Укрепи их кладку проверенным способом — раствором, приготовленном на яичных желтках, и потому пусть каждый принесет свою жертву, свое приношение, большое или малое.
С самых первых кадров был получен с экрана ответ на тревожащий вопрос. В таких сдержанных и одновременно выразительных красках может творить только подлинный Мастер… Знающий, что сказать, и умеющий это делать. Настолько уверенно владеющий секретами образности, что может без лишних подробностей и ненужных объяснений сразу вовлечь в действие. В нескольких точных штрихах обрисовать всю проблематику и, более того, передать весь нерв своего еще только начинающегося рассказа.
Он вернулся из заключения! На этот раз не физического, а духовного… И по-прежнему при всем своем многословии на экране предпочитал именно лаконичность.
Итак, страна возводит и укрепляет свои стены. Вызов судьбы принят. В чем же проблема? Перед правителем раскладывают карты и чертежи: идет отчет о том, где и когда возведена очередная крепость.
Страна обрастает надежной защитой. Но что за мистика? Один из важнейших форпостов — Сурамская крепость — разрушается снова и снова! Не атаковал ее враг, не долбили ее стены мощные тараны, а она как пр
Так начинается мистерия саморазрушающейся крепости.
После лаконичного, как в античной драме, пролога действие начинает стремительно развиваться.
Далеко от Сурама, далеко от государственного двора с его серьезными проблемами по узкой горной дороге бежит молодой статный юноша.
— Свободу! Мне дают свободу! — ликуя, кричит он. — Наконец я буду свободен!
Это Дурмишхан. Он бежит к своей возлюбленной Вардо, спеша поделиться этой неожиданной вестью. Вчерашний раб поместного князька, которого можно было продать, разлучить с любимой, — станет свободным. И не просто свободным — князь даже готов подарить ему замечательного коня. И этот дар обещан за небольшую работу — они с Вардо должны танцевать для важного гостя.
Князя посетил влиятельный турецкий вельможа, и в его присутствии князь, хвастаясь своими слугами, их умением танцевать, обещал дать Дурмишхану свободу и коня. Не будет обижена и Вардо — ей обещано новое турецкое платье.
— Мне не нужно чужое платье, — отказывается Вардо.
Простая крестьянская девушка решительно отказывается от нарядного платья? Мыслимо ли это?
— Новое! — кричит возмущенно Дурмишхан. — Ты никогда не надевала такого платья!
И уже в этом принципиальное различие в их мироощущении, которое так драматически пройдет по их судьбам. Инстинктивный народный традиционализм Вардо — и жажда нового, заморского у Дурмишхана. Сложное противостояние лишь тенью возникает в этом эпизоде. Однако зерно будущего конфликта заложено, и именно здесь начало будущей драмы.
Для сцены танца Дурмишхана и Вардо Параджанов находит невероятно красивые костюмы. Их национальную принадлежность невозможно определить, здесь доминирует мысль о том, что это не просто одежда, это нечто иное… Но прежде чем увидеть их танец, мы узнаем еще одну важную деталь. Оказывается, Вардо обладает даром прорицательницы.
Князь, обхаживая важного турка и его жену, просит Вардо предсказать, мальчик или девочка продолжат их род.
— Мальчик! — определяет Вардо, приложив ухо к животу женщины, и окружающие уверяют гостей, что так и будет. Вардо никогда не ошибается…
Вот и еще один камень заложен в фундамент фильма, и камень этот станет краеугольным.
Начинается танец, загадочный, магический, смутный, словно сотканный из предчувствий. Конечно, такой танец трудно представить в грузинской деревне. Танец вне времени и пространства. Традиционные восточные мелодии переплетаются с современными ритмами электронных инструментов. Для Параджанова в этом придуманном танце важно возвращение к его первоосновам: ворожбе, заклинанию. Но внезапно он резко обрывается…
Черный всадник приносит черную весть:
— Сурамская крепость опять рухнула!
— Жертва, приближается жертва, — шепчет Вардо и падает в обморок.
Титр «Начало пути» вводит новую тему в картину. Впереди у героев дорога.
Судьба крепости и судьба героев картины будут находиться в движении. Установить их взаимосвязь пока невозможно. Разве что на грани смутных предчувствий, переплетающихся, как в представшем танце-ворожбе.
Но, прежде чем продолжить действие, Параджанов дает своеобразную заставку для этой новеллы.
На экране искусственный конь, осыпанный розами, такой же придуманный, декоративный, как и представший танец. Пока видны лишь розы, но шипы здесь тоже есть. Шипы возникнут позже.
Запомним этого коня, он многое объяснит потом.
Ночное свидание влюбленных, их страстные объятия также даны на фоне пасущихся коней. Они возникнут и в финале…
— Я знаю, ты не вернешься, — шепчет Вардо.
— Вернусь… — обещает Дурмишхан. — Соберу деньги и выкуплю тебя.
Громкий стук копыт. Два всадника скачут по каменистому плоскогорью. Погоня… Рано ликовал Дурмишхан. Обманом оказался княжеский дар, пускал он пыль в глаза высокому гостю.
Догнали Дурмишхана, выбили из седла, отобрали коня…
— Забери тогда и кинжал! Забери все… — рыдает Дурмишхан, катаясь от горя по земле. — Не нужна мне такая воля…
А что, собственно, произошло, откуда такое отчаяние? Гонорар за танец был вполне щедрым — Дурмишхану дали вольную. Ну, а конь… Прихвастнул князь, вот и все. Но Дурмишхану без коня воля не нужна… Почему возникла такая бурная реакция? Что этим хотел сказать Параджанов?
Тут нам необходимо вернуться к 5 октября 1982 года, дню, когда Параджанов получил волю после третьего заключения. Иначе у нас получается чересчур оптимистичная «монтажная склейка» в духе его первых соцреалистических фильмов: освобожденный из-под стражи Художник выходит на сцену Дома кино с премьерой нового фильма. Однако до «радостной весны» пролегло еще три зимы… И потому вернемся в 1982 год.
Разумеется, в его освобождении сыграло роль не только письмо Беллы Ахмадуллиной или Софико Чиаурели. Время менялось, и интригами в духе «шерше ля фам» дело уже не решалось. В данном случае большое значение имел и голос всей мировой интеллигенции. В частности, помогла встреча Шеварднадзе с Тонино Гуэррой. Оба они оказались на отдыхе в Ликани (Грузия), и Гуэрра попросил о встрече, на которой с присущей ему страстностью доказывал, что Параджанова нельзя оставлять без работы.
Доводы оказались убедительными, и по возвращении Шеварднадзе в Тбилиси последовало распоряжение дать Параджанову работу. Нашли удобную форму, чтобы избежать трений с КГБ: актер Додо Абашидзе хочет дебютировать в качестве кинорежиссера, а поможет ему разобраться в специфике кино Параджанов. Выступит в роли консультанта. Выглядело это вполне безобидно, и разрешение Москвы было получено. Все на студии, конечно, понимали, что снимать «Легенду о Сурамской крепости» будет именно Параджанов, а Додо лишь прикрытие…
И хотя в титрах фильма стоят фамилии двух режиссеров, к чести Додо Абашидзе, роль прикрытия он сыграл великолепно. Очень мужественный и рыцарственный человек, он своей мощной спиной прикрыл Параджанова и, создав ему все условия для работы, ни разу впоследствии даже не намекнул, что официально он является одним из режиссеров этого шедевра. У него было другое, весьма активное, участие в творческой работе: как актер он сыграл в фильме две замечательные роли.
Такова история «возвращения», последовавшая за «ортачальской историей». Так Параджанов смог встать у съемочной камеры, забыв как страшный сон тесную камеру ортачальской тюрьмы…
За эти девять месяцев пришла в мир не одна новая жизнь. Зато у Параджанова эти месяцы сократили жизнь не на один год. Он вышел окончательно больным, и только его удивительная «энергоемкость» помогла ему продолжить свою творческую жизнь. Но нам пора снова вернуться к долгожданной премьере…
Начиная с «Киевских фресок», Параджанов вводит в свои фильмы исповедальную тему, включает в повествование мотивы собственной биографии.
Почему так горько плачет Дурмишхан, лишившись коня? Почему в отчаянии катается по земле? Ведь князь дал ему свободу, он больше не раб… Но что свобода без стремительного бега в новые дали!..
Не о своей ли боли кричит Параджанов устами Дурмишхана? Да, тогда, под Новый год, он вышел на белый снег свободы. Но как долго пришлось ему брести через бесконечную череду дней и лет, пока он снова не оседлал своего коня, как долго пришлось ждать, пока его конь — вдохновение — не понес в желанные дали новых фантазий и ярких видений, воплощаемых на белом как снег экране.
После сцены горя Дурмишхана перед нами снова знакомые античные развалины — сценическая площадка не только в своей условности, но и в условности повествования будет возникать в фильме как рефрен. Куда бы ни перекидывались события: в горы, моря, в христианские храмы или мусульманские караван-сараи, — она как магнит притягивает всех героев, все действие.
Сейчас сюда вступает торговый караван. Час намаза — молитвы. Расстелив небольшие коврики, купцы приступают к привычному ритуалу. Хозяин каравана подзывает удрученного Дурмишхана. Тот удивлен, услышав грузинское приветствие. Так происходит знакомство с одним из главных героев фильма. Осман-ага, он же в прошлом Нодар Заликашвили (его роль блистательно исполнил Додо Абашидзе), с удивлением слушает горестную исповедь Дурмишхана (не менее замечательно сыгранного Зурабом Кипшидзе).
— Ты счастлив! — заключает Осман-ага. — Бог даровал тебе свободу без крови. (Запомним это.) Мне же она обошлась ценой вечной муки…
Возникает новелла, рассказывающая о судьбе Нодара Заликашвили, о том, какие жестокие испытания выпали ему и как превратился он в Осман-агу.
Князь продал крепостного юношу за пару охотничьих собак, но мало того, издеваясь, надел на него и его мать одно ярмо и приказал молотить зерно. Не выдержав испытания, мать Нодара умерла. Он сам похоронил ее и отомстил князю — убил его, а затем убежал из родного села.
Его приютил турецкий торговец, переодел в женское платье и пытался перевести через границу. Но обман был раскрыт. Пришлось Нодару переменить веру и принять мусульманство. Вот он с обритой головой, одетый в турецкий халат, на котором алой полоской крови — след от обряда обрезания, понуро бредет в неизвестность.
Пройдя через многие лишения и войны, он наконец занялся торговлей и теперь, разбогатев, стал хозяином каравана Осман-агой.
Неужели такие же испытания ждут Дурмишхана, и теперь его черед брести тропой изгнанника?
«Дорога судьбы» — гласит название новой новеллы. А то, что судьба весьма переменчива, Параджанов испытал в полной мере и сейчас показывает ее невероятные контрасты.
Дурмишхану уготовано иное испытание… На него обрушиваются — дары судьбы! Осман-ага готов принять его как сына. Осман-ага вместо отнятого коня дарит ему лучшего скакуна из своего каравана и богатые одежды.
— Новый халат! — радостно восклицает Дурмишхан. — Ты даришь мне новое платье!
Здесь снова противопоставление реакции Вардо, не принявшей новую одежду, весьма очевидно. Иные у них тропы, иные судьбы… И все это предстает перед зрителем в полной мере, когда караван прибывает в ослепительный и великолепный порт Гуланшаро…
Ранее мы говорили, что этот город возник благодаря фантазии Шота Руставели и описан им в поэме «Витязь в тигровой шкуре». Сейчас на экране этот мистический город возникает в версии Параджанова.
Многое говорит эта одна из самых интересных по изобразительному решению новелл фильма, рассказывающая о драме двоеверия, пережитой Грузией. Вспомним, что аджарцы — это грузины, принявшие мусульманство.
Итак, перед нами свободный порт — Гуланшаро! Распахнутые настежь ворота страны. Товар за товаром, бочка за бочкой вкатываются сюда. Флажками всех цветов машут послушные, как оловянные солдатики, матросы. Театр марионеток, заводная игрушка, фата-моргана? Что за странное, ирреальное видение развернул Параджанов? Почему вместе с макетом старинной каравеллы, повисшей в воздухе почти как мираж, здесь же, в порту, далеко не призрачным намеком стоят современные танкеры?
В этой мистерии порта, возникшей почти как балет, как «живая картинка» из сказок Андерсена, ни на секунду не исчезает мысль. Калейдоскопическое видение помогает точнее ухватить целое. Главная цель картины — исследование отступничества, причин конформизма, ренегатства.
Манит, приглашает в открытые ворота город, где так легко потерять свое лицо и свою память, где так заманчиво вступить в забавную игру марионеток, зовущих с одинаковым безразличием и друзей, и врагов. Словно раскрученный вихрем свободно гуляющих иноземных ветров, кружится флюгером канатоходец в своей опасной игре. Опаляет огненным дыханием факир, танцует дрессированный верблюд. Цирк, восточный цирк творит свой праздник в этом порту.
Он словно символ, словно далекая родина ветра, который врывается в этот порт, одурманивает, завораживает своими играми.
Караван-сарай во всей своей пестроте и шуме завершает эту многоцветную ярмарку ислама. Именно он вершит здесь свой бал в открытых воротах страны.
Что можно противопоставить этому обжигающему яркостью красок ветру иной культуры? Шумит город-ярмарка, оглушает богатством, прихотью, выдумкой. Опьяняет тягучим страстным пением.
В пьянящий, завлекающий своим многоцветием
Далеким воспоминанием (или напоминанием) врывается вдруг неожиданное видение, столь необычное здесь и сейчас…
Суровое каменистое плоскогорье, знакомая бедная церквушка их села. И — словно на полотне Брейгеля — бредущие слепцы. Откуда они идут? Зачем даже в слепоте своей держат путь к храму. Слепые, и все же не сворачивают с пути. И, подойдя и прислонившись к его стенам, заставляют заголосить, запричитать колокол.
Нет, поздно… Не дошел его зов.
Праздник пришел к Дурмишхану! Все, что любо его сердцу, теперь рядом, близко.
Как символ этих «новых игр» в его руке возникает алая подушка, с которой он играет как мячом. Здесь стоит вспомнить тему лукавых игрищ и «золотой шар» в «Цвете граната», такое же упоенное наслаждение мирскими утехами.
Сладкие сны будут сниться Дурмишхану на этой алой подушке. Растает, улетит в этих снах забвения и суровое плоскогорье, в которое вросла всеми своими корнями бедная деревушка со своим скромным храмом. Растает, улетит и его первая любовь, ненаглядная Вардо. Все теперь у него другое!
Все на ту же знакомую нам сценическую площадку, где началось действие фильма, влетает радостный Дурмишхан. Гордо показывает окровавленную простыню. Пусть все знают: его жена девственница, она все адаты (законы) соблюдала. Танцует радостно Дурмишхан. Набрасывает на себя новые одежды, новый халат…
Но странное дело — на этом одеянии, как раз там, где сердце, большая дыра. Где твое сердце, Дурмишхан, куда улетело? Но зачем человеку, у которого новая богатая жена в новом богатом и нарядном городе, думать о каком-то вздоре?
Кто-то все забывает, а кто-то все помнит… Кто-то упивается всем новым, а кто-то бережно перебирает каждую деталь прежней жизни.
Вардо все помнит, Вардо все хранит в памяти… И свое пророчество: «Ты не вернешься!» И клятву Дурмишхана: «Я вернусь!»
Трижды, почти в одном ракурсе, поворачивает Вардо голову. Смотрит в упор. Ищет? Надеется? Зовет?
Так начинается новелла «Молитва», в которой разворачивается тема Вардо. Еще одна башня, еще одна конструкция в возводимой Параджановым «крепости».
Вардо отправляется на поиски Дурмишхана, она ищет свою первую любовь. Вардо не нужна новая страсть. Всюду — на горных тропах, в заброшенных селениях, на ярмарках и базарах — ищет Вардо свою любовь. Трижды приносит она жертву: голубя — святой Нине, петуха — архангелу Гавриилу, овцу — святому Давиду. Все напрасно, не принимается жертва, нет Дурмишхана… Ушел, ускакал, растворился, как в забытом сне.
Но только не для Вардо. Нет для нее ни старой, ни новой любви, есть только одна любовь — вечная.
Испробовав все средства, Вардо решает обратиться к мистическим силам и идет к старой гадалке. В простом медном тазу, наполненном холодной водой, видит она Дурмишхана. В холодной воде открыл он горячие объятия новой любви. Все знакомо Вардо — поза, жест, голос…
Мизансцена в деталях повторяет его прощание с Вардо. Даже клятвы те же, но… для другой. В чужом городе, в чужой одежде, в чужой вере забылся Дурмишхан…
Раскачиваются Вардо и старая гадалка как один маятник. Связаны они одной нитью, одна страсть, одна плоть они сейчас.
— Уходи! — заклинает старая женщина молодую. — Тяжелый труд быть гадалкой!
— Обратной дороги нет, — шепчет Вардо.
Умирает старая гадалка (ее блистательно сыграла великая Верико Анджапаридзе), но недаром мы с самых первых эпизодов узнали про дар Вардо — дар заглядывать в будущее…
В жилище старой гадалки поселяется новая. Умершую старую гадалку заворачивают, пеленают, как кокон. Тайна кокона, метаморфоза возникновения новых форм жизни вновь волнует Параджанова. Сейчас из этого кокона вылетела новая бабочка — Вардо, вобравшая все тайные знания умершей гадалки, ставшая ее наследницей. К молодой гадалке теперь стекаются люди со всех сторон, и одной из первых к ней прибыла гостья из Гуланшаро — молодая красивая женщина, жена Дурмишхана. Та, которой он шепчет слова, что шептал когда-то Вардо, которую он обнимает, как обнимал когда-то Вардо. И носит она сейчас под сердцем ребенка, которого должна была носить Вардо.
— Сына родишь! — шепчут ее губы.
Не прорицание это, а заклинание! Великая жажда любви и несбывшегося материнства в ее словах, и отныне обе эти женщины перерождены друг в друге и объединены одним плодом и одним заклятием.
«Потешный волынщик» — новый титр и новая новелла фильма.
Вот он, мальчик Зураб, рожденный страстным пророчеством Вардо… Ясноглазый, светлоликий, не ведающий еще, что плотью одной и душой другой матери призван он в этот мир. И самое главное: у мальчика есть духовный учитель, и в сосуд этот хрупкий будет влито вино от лозы, что всеми корнями своими связана с матерью-родиной.
Роль учителя, приобщающего Зураба к сокам родной земли, исполняет Потешный Волынщик. Через игру, через кукольный театр, развернутый перед ним учителем, познает Зураб родной мир. Вот святая Нина, принесшая в Грузию Святой Крест. Вот царица Тамара, а рядом Парнаваз — создатель азбуки.
Роль Волынщика, как и роль Османа-аги, исполняет Додо Абашидзе. Образ, созданный актером, приобщает зрителя к подлинно грузинскому характеру. Учитель беседует с Зурабом как с равным, тонко и мудро направляет его. Перед нами кукольный театр, но страсти здесь подлинные. И потому в своей христианской стране мальчик, вобрав дух ее, станет христианином, а не новообращённым мусульманином, как его отец, изменивший вере своих предков.
Если в «Цвете граната» Параджанов обратился к самому сильному проявлению армянской культуры — ее страсти к аскетизму и строгому монументализму, то сейчас, приступив к первому в своей жизни грузинскому фильму, он также выявил для себя самое характерное для грузинской культуры — замечательные традиции музыкальной полифонии.
При достаточно приблизительном сравнении в «Цвете граната» Параджанов — это зодчий, возводящий храм, зато в «Легенде о Сурамской крепости» он скорее композитор, создающий сложную драматическую симфонию. Это не любовный треугольник, как в «Тенях забытых предков», и не строгий и страстный внутренний монолог исследующего мир художника, как в «Цвете граната». В «Легенде о Сурамской крепости» четыре равнозначных героя и потому четыре темы, четыре лейтмотива. В этом многоголосии (традиция грузинского хорового пения) каждая из тем то отходит на второй план, то становится главной. Впрочем, композицию этого фильма можно сравнить и с крепостью. Четыре башни у нее: Вардо, Дурмишхан, Осман-ага и Зураб, и бой идет за каждую башню попеременно.
Вот и настал черед Османа-аги, теперь ему надо отстаивать себя, свою башню. Его тема становится ведущей. Приняв на себя роль покровителя и всячески помогая бедному крестьянскому парню Дурмишхану, попавшему из провинции в блистательный город, он затем все больше отдаляется от него. Нет, он его не осуждает и не спорит с ним, просто пути их расходятся. Если Дурмишхан быстро забывает родину и веру отцов, то Османа-пашу неудержимо тянет к родной земле, к ее запахам, мелодиям, к ее вере!
Новая новелла так и называется — «Отпущение грехов». И фоном для нее служит противопоставление сундука с золотом и горящей лампады. С одной стороны — тусклый, дрожащий свет лампады, с другой — сияние золота.
Но где мера грехов наших, и какова цена отступничества? Осману-аге придется заплатить по самой полной мере… Об этом рассказывает одна из лучших новелл фильма, в которой Параджанов представляет не только уникальные дизайнерские находки, но и очень интересные кинорешения.
Итак, Осман-ага решает снова принять крещение, о чем и говорит Дурмишхану, прогуливаясь с ним в порту Гуланшаро, а также сообщает, что половину своего состояния он завещал вдовам и сиротам, а другую половину получит Дурмишхан.
— Расти доброго сына и не становись рабом денег, — советует на прощанье Осман-ага и собирается покинуть Гуланшаро.
Но недаром в фильме прозвучало пророчество Вардо: «Обратной дороги нет!» И герои фильма, каждый по-своему, осознают горькую истину, что обратных дорог в судьбе не бывает…
Пока Осман-ага беседовал с Дурмишханом, пока посылал щедрые дары вдовам и сиротам, за ним уже велась неотступная слежка. Зловеще раскрашенная танцующая маска, как бы прикрытая прозрачными покрывалами, идет за ним по пятам, исполняет свой роковой танец. Кто это? Молва? Сплетня?
Не ясен и не обрисован детально этот образ, у которого в фильме нет ни одной реплики. Но при этом ясно слышится: «Хабарда!» — «Берегись!»
Невидимая Османом-агой, хотя, пританцовывая, следит за каждым его шагом, она зато видна нам… И потому раньше Османа-аги мы узнаем: быть беде!..
И беда приходит в образе услужливого цирюльника, к которому Осман-ага зашел побриться. Трижды взвивается удушающая петля, охватившая шею Османа-аги, черный мешок накинут на голову, и беснуется вокруг толпа фанатиков. Ликует, завывает, пляшет с факелами в руках весь караван-сарай.
— Горе отступнику! Горе пожелавшему вернуться обратно!
Нельзя немного погостить в чужой вере, чужих обычаях и храмах. Одевшись в чужие одежды, не скинешь их, как змея кожу. Не случайно Вардо испуганно отшатнулась от них. Зато Дурмишхану носить их до конца дней своих. Вот чем обернулась для него красочная ярмарка ислама.
В развернутой фантасмагории этой новеллы Параджанов находит неожиданное решение, сплетая в единую ткань повествования два таких разных по своему языку искусства, как театр и кино. Удивительным образом эта операция ему удается, рождая один из интереснейших экспериментов в истории кино.
Сцена пленения, факельный шабаш караван-сарая, тесное подземелье, где совершается казнь, — безусловно, подлинное кино. Но тут же параллельным монтажом, усиливая эмоциональный эффект, возникает театральная инверсия происходящих событий.
Бьются на ветру, трепещут шелковые голубые ленты — это река вечности, река забвения, куда вступает Осман-ага. Два суда, два прощания, две казни… Здесь уже не просто обертонное обогащение одного другим. Здесь два дерзко соединенных искусства, совершенно разных по своей природе, связанные единой органикой мысли и чувства.
Натуралистичность, достоверность в одном случае и условность изобразительных решений, перекликающаяся с традицией восточного театра, в частности напоминающая символику китайского театра цзинси, где, к примеру, шапка, завернутая в красное полотенце, изображает голову, черный флажок — ветер, красный — огонь и так далее, — в другом.
Вводя театральность в свой грузинский фильм, Параджанов находит при этом не только интересные, но и органичные решения.
Качается на синих шелковых лентах вод колыбель детства — начало пути, начало реки жизни с такими неожиданными поворотами, испытаниями, водоворотами.
Взлетают синие шелковые волны вокруг белого коня (символ пути). Куда он плывет? К какому берегу его вынесет? И машут вновь и вновь своими игрушечными флажками марионетки-матросы.
Осман-ага отправляется в последнее плавание.
И снова теснота каменного подземелья. Сумрачно, но спокойно смотрит давно уже поседевший Нодар Заликашвили на беснующихся фанатиков — нет в нем ни страха, ни суеты перед смертью. Много вокруг него шума, истеричных криков, ярких факелов, но не суд это, а расправа. Не правда здесь побеждает, а подлая сила, ярость уязвленных…
Трижды взмахивает в тесном подземелье палач своей саблей. Довольно улыбается цирюльник, заманивший на свою коварную и смертельную бритву.
И снова колышутся, взлетают синими волнами шелковые ленты, забирают, уносят жизнь Османа-аги. Подскакивает, пляшет символом наступившего конца в этой синей реке его папаха.
И не безысходно и горько, а в светлой печали и почти обыденной житейской интонации звучат библейские слова: «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь».
Стоит в голубых водах Осман-ага, поднимает руки к небу, о чем-то страстно рассказывает… в чем-то исповедуется… Поднимаются воды-ленты, захлестывают его.
Так завершил свой круг Нодар Заликашвили, голова которого канула в чужих водах, а сердце устремилось в заветный бег к родным берегам.
В мировом кинематографе есть сцены, которые можно смотреть снова и снова, а волновать они будут как и в первый раз. Огненная сцена танца опричников в «Иване Грозном» Эйзенштейна останется удивительной художественной находкой на все времена. Так же, как слезы Дзампано в «Дороге» Феллини, как завершение «Блоуапа» Антониони, когда герой вступает в игру, подняв несуществующий мяч, как проход со свечой в «Ностальгии» Тарковского.
Удивительная операция по соединению тканей, которую произвел Параджанов, так искусно создав сплав театра и кино в одной сцене, относится к числу таких незабываемых явлений киноискусства.
«Легенда о Сурамской крепости» дала нам возможность (единственную) увидеть Параджанова в работе на съемочной площадке. Тот яростный муж в расцвете сил, каким я запомнил его по работе над «Цветом граната», остался только в нескольких случайных кадрах. Студенческая работа Аллы Барабадзе, о которой мы уже говорили, позволяет увидеть, как он замечательно работает с актерами, как даже от непрофессиональных исполнителей умеет добиться точного, тонкого психологизма в рисунке роли.
Да, в его картинах иногда слишком много декоративности, эпизодов, в которых он с упоением демонстрирует свои дизайнерские находки, иногда вычурные, а зачастую и просто случайные, лишние, отвлекающие от основного нерва повествования. Не всегда он в ладу и с монтажным рядом. Чувство отбора, точной выразительной склейки зачастую изменяет ему и путает зрителя. Любой грамотный психоаналитик поставит диагноз: это фильм человека с холерическим темпераментом, не всегда собранного, внутренне малоорганизованного, но очень увлекающегося. Это все так, но в то же время Параджанову удается во всех фильмах, начиная с «Теней забытых предков», достигать удивительно точных и очень выразительных результатов в работе с актерами. Именно жизнь души, внезапно предстающие ее глубины в сочетании с выразительно найденными пластическими решениями сообщают такое эмоциональное напряжение картинам Параджанова. Одними декоративными деталями этого не добьешься.
В фильме Аллы Барабадзе Параджанов уже далеко не молод, не так строен и не так здоров. Но он по-прежнему энергичен, заразителен и неистов. Он словно спешит излить всю накопленную за годы отлучения от любимой профессии энергию.
Все четыре судьбы героев фильма (Дурмишхан, Вардо, Осман-ага, Зураб) связаны с роком Сурамской крепости и предстают как зеркала, в которых то возникает, то исчезает основная тема фильма — проблема саморазрушения. Не только крепости, но и личности…
Есть разрушенная крепость, и есть разрушенные судьбы.
После смерти Османа-аги в картине все уверенней нарастает тема повзрослевшего Зураба и одновременно тема крепости. Мрачная, почти жуткая в своей иррациональности тайна цитадели и тщетные усилия проникнуть в эту тайну.
Устав менять всевозможные растворы, строителей и чертежи, испробовав все разумные средства, царь решается вступить на путь мистики. Начинаются всяческие камлания, завывания, танцы. Прыгают в страшных масках ряженые, кричат, приплясывают. (Полный набор всякой «гюрджиевщины» и прочих завораживающих приемов, импортированных из Индии и Тибета. Вся эта оккультная ярмарка щедро представлена в картине.)
Не помогает! Зря прыгали, зря шаманили, подвывали…
О, если бы так легко было отогнать силы Зла!
Но вопросы безопасности родной страны совершенно не волнуют Дурмишхана: «Царское это дело. Его проблема… Пусть у него голова болит». Трудно узнать в важном и угрюмом дельце, облаченном в иноземный халат, того жизнерадостного юношу, что предстал перед нами в начале картины. Он деловит, озабочен и… равнодушен. Зато регулярно исполняет намаз.
Но эти вопросы все больше тревожат сердце Зураба. Не чужая эта крепость, своя… И страна эта — его… И приходят к нему сны.
На знакомом каменистом плоскогорье мирно пасется стадо овец. Откуда-то из-за холма возникают лазутчики, закованные в латы. Их все больше и больше, и вот уже под резкий стук барабана выползает целое войско. Не в рост они идут, а ползком приближаются со всех сторон. С одной стороны мягкость и беззащитность овечьей шерсти, с другой — блеск и жесткость надвигающейся стали. Воины ползут как саранча, как какие-то страшные насекомые. Мечутся в испуге овцы, сбивают с ног, топчут друг друга. А железная саранча наступает и наступает, покрывая своей металлической чешуей все захваченное поле…
Конечно, все это бред, привидевшийся Зурабу в страшном сне.
В фильме внешние враги не обозначены. Ни слова о них. Тем интереснее и глубже становится от этого проблематика. Если нет беды, отчего стон: «Все напрасно! Ничего не помогает!» Потому что на самом деле есть большая беда… Изнутри идет опасность. Беда саморазрушения, беда самоуничтожения! Готовность принять чужие одежды, нравы и веру гораздо страшнее. Как построить крепость, которая прикроет беззащитные души?
Начав повествование с плана крепости, Параджанов выстраивает в фильме планы судеб, в которых одно за другим возникают три жестоких поражения…
Ищет свою любовь Вардо, ищет терпеливо, упорно, приносит все необходимые жертвы и терпит крах. Нет ей дороги обратно…
Ищет свою подлинную веру Осман-ага, отказывается от сундуков с накопленным золотом, раздает его нищим и сиротам. Но в грязном подземелье находит свой конец, оплеванный и осмеянный юродствующими фанатиками. Никто не оценил его благородный и щедрый порыв. Не нашел он дороги обратно…
Ищет свое счастье Дурмишхан. Жажда новых ощущений, новых ярких одежд гонит его. Всего достиг, всего добился. Есть у него красивая жена, новые роскошные одежды, новая вера и новые сундуки с золотом. Одного нет — счастья… При всей своей предприимчивости провинциального парня не делает он ничего, ибо понимает: бесполезно искать, не найдешь… Нет дороги обратно…
Вот как много шипов оказалось у роз, осыпавших декоративного коня, обозначенного в самом начале пути. Фальшивый был тот конь, ненастоящий.
Дошел лишь Зураб. Он единственный, чья жертва не окажется напрасной. Его башня останется стоять. Почему?
Для ответа постараемся вглядеться в картину и найдем там еще один постоянный рефрен, еще один знак, предложенный режиссером. Это символ перерождения — кокон и бабочка. Своеобразный тотем Параджанова, переходящий из фильма в фильм и каждый раз несущий глубокий смысл. В «Легенде о Сурамской крепости» он возникает в удивительно ярко решенных сценах перерождения трех гадалок. Сценах, которые стали лучшим украшением фильма и которые невозможно описать, их надо видеть.
Три гадалки одна из другой возникают в картине, появляясь с новым ликом и новой миссией, — Верико Анджапаридзе, Лейла Алибегашвили, Софико Чиаурели. И все они великолепны. И каждая своим пророчеством продолжает вить тайную нить судеб…
Тема перерождений возникает в картине многократно. То в разложенных листах с бабочками как фон для новой новеллы, то в забавной игре в бабочку и кузнечика на празднике «берикаоба». И наконец — главное перерождение… Из отца в сына, от Дурмишхана в Зураба.
Не могло состояться перерождение Османа-аги обратно в Нодара Заликашвили. Не надевают временно чужую веру, не берут напрокат чужих богов. Нет дороги обратно… За все надо платить. Не мог Дурмишхан снова вернуться к Вардо. Нет в любви обратного пути.
И только Зураб не
Из движения маятника, символа бега времени, возникает третья гадалка. Уходит в этом раскачивании, теряется за ее спиной Вардо. Спадает тяжелая шаль, и словно из пелен кокона перед нами возникает — Она… Еще одна гадалка, та, которая наконец даст ответ. Именно к ней приходит Зураб.
Если вспомнить, что Софико Чиаурели — дочь Верико Анджапаридзе, то эта эстафета перерождений приобретает еще более глубокий смысл. Но до этого следует сцена, когда к гадалке приходит слепец. В данном случае важен не ее совет принести в жертву белого и черного голубя. Здесь важно другое — она лечит слепоту.
— Налей в таз воду, высыпь в нее землю, принесенную из Сурама, положи в нее золотую монету, — говорит она Зурабу. — Вот секрет разрушающейся крепости.
— Но откуда у народа столько золота? Как построить золотую крепость? — удивляется он.
— Ничего ты не понял… Золото — это златоглавый, светлоглазый юноша…
И тогда до него доходит, о каком жертвоприношении говорит она, и, ничего не говоря, выходит он навстречу обступившим его друзьям.
В следующем кадре, возникающем из затемнения, мы видим золотой профиль, словно отчеканенный на античной монете. Это профиль Зураба, он — та монета, без которой бессилен проверенный раствор, плата за снятие проклятия. То самое жертвоприношение, которое будет принято… Свет солнца льется все ярче, превращаясь в светящийся нимб вокруг головы юноши, добровольно принявшего на себя долг мученичества.
И снова резко вторгается еще один рефрен картины — кони. На этот раз перед нами не графика их стройных тел, не их стремительный бег, а глаза, удивительно выразительные глаза этих древнейших спутников человека. Именно кони становятся свидетелями последних минут жизни Зураба.
Мотив, прошедший через весь фильм, — выбор коня, пути, судьбы.
Пришел час седлать своего коня и Зурабу. Впереди последняя дорога.
Золото яичного желтка смешивается с черным песком. Теперь этот раствор скрепит стены на века, ибо примет в себя истинное золото — человеческую жизнь, которой нет цены.
Зураба застает за работой Потешный Волынщик, научивший его когда-то истинной азбуке — Азбуке Ценностей Жизни.
— Сынок, швило! — восклицает он изумленно.
— Благослови меня, — просит Зураб.
Ржет белый конь, время Зурабу трогаться в долгий путь. И тот, кто стал его духовным отцом, от кого он узнал о ценностях своего народа, теперь словно подлинного витязя снаряжает его для этого подвига. Тело истинного воина в железных латах будет замуровано в Сурамскую крепость, и станет она твердой и неприступной. Отныне они одна плоть и один героический дух, одна надежная стена.
Дыхание Зураба вошло в стены крепости, как вошло когда-то пение Саят-Новы в стены храма. Два жертвоприношения, единые в порыве души.
Этот финал дает объяснение, почему Параджанов начал действие с античной площади. Так трагично и так патетически человечество говорило только в античности. Фактически перед нами именно античная трагедия, хотя действие происходит в другие века.
Этот истинно античный нерв и античную энергетику развернувшегося перед нами повествования подтверждает и приход Вардо. Она приносит детское одеяльце, чтобы согреть камни, в которые ушел Зураб.
— Сын мой, — стонет она, — прости… Это была не месть…
Нет в ней опаляющего огня ревности, не сжигает ее злоба к жене Дурмишхана. Сама она своим пророчеством закляла ее родить сына. И потому и ее сын сейчас там — под камнем… Ее творение, ее духовная энергия.
— Когда ты родился, — шепчет она, — я сшила это голубое одеяльце…
Долго и страстно вынашивала она свое материнство. Не девять месяцев — всю жизнь! И вот сейчас хочет наконец передать нежность и тепло тому, кого сама послала на смерть. Своим материнским дыханием согреть его могилу. Долог и мучителен ее стон… Стон еще одной колхской волшебницы, возникшей в таких парадоксальных страстях уже не по Еврипиду, а в рассказе Параджанова. С такой удивительной силой воскресившего в наш век — «тени забытых предков», их мощные (давно забытые) страсти.
Неужели в наш век ёрничания постмодернизма, с его «стебом», с его раскладываемыми старыми, облезлыми картами бесконечных пасьянсов еще возможно такое?
Стон Вардо сливается с воплями и стенаниями набежавших на этот «хабар» женщин в черных траурных одеждах (античный хор?). Всех потрясла эта весть.
А вот уже ведут под руки физическую мать Зураба. Плачет она, стонет, оплакивает дорогую потерю. Но ей и вся слава матери героя. Царь велит воинам склониться перед ней и отдать все почести.
В этом шуме тихо исчезает Вардо… Она знает: заклятие снято, крепость будет стоять! Кончилась власть Темного Рока.
Пока мы живы и пока мы в горе,
Но есть надежда нас предостеречь.
Вновь бежит год за годом. И вновь не оставляет в покое вопрос, возникший на столь удивительной премьере: а почему «Легенда о Сурамской крепости»? Почему он именно с этим фильмом возник из молчания?
Столько было написано сценариев, сколько готовых раскадровок к ним лежало в ящике стола. «Исповедь», «Интермеццо», «Ара Прекрасный», «Демон», «Икар», «Золотой обрез» и многое-многое другое, не говоря уже о почти готовых к производству сказок Андерсена — «Чудо в Оденсе». О всех этих сценариях он так мечтал, столько рассказывал… Откуда неожиданно возник новый проект? Почему Параджанов обратился к сценарной заявке Важи Гигашвили, написанной по мотивам довольно слабого рассказа Даниэла Чонкадзе, который был создан еще в конце XIX века и в котором Зураб оказывался скорее жертвой интриг.
Сама эта трагическая история о человеческом жертвоприношении не из грузинского фольклора, сюжет ее восходит еще к шумерским источникам.
Прошли века, и сюжет о человеческом жертвоприношении повторился в Ветхом Завете. На суровых каменистых склонах горы Мориа Авраам приставил нож к горлу сына любимого, но ангел отвел нож и предложил пролить кровь агнца вместо человеческой.
Прошли еще века, и на тех же склонах горы Мориа вырос храм Гроба Господня, ставший мавзолеем еще одного жертвоприношения.
Впрочем, в Гробе, за который так отчаянно сражались крестоносцы, заключен лишь дух того, кто добровольно принес себя в жертву ради спасения всего рода людского.
Сам мотив человеческих жертвоприношений для Старого Света не типичен, зато в Новом Свете высоко-цивилизованными ацтеками и майя он широко практиковался и был вполне обычным явлением.
Почему же Параджанова потянуло на такую драматическую историю, что он хотел сказать? Самый отчаянный, самый «безбашенный» диссидент снимает фильм, проникнутый гражданским долгом, и герой его жертвует собой ради укрепления оборонной мощи своей страны.
Однозначного ответа в случае с Параджановым быть не может, лишь информация к размышлению… Обрадуем всех, кто с упоением рассказывает о его полной невежественности, — книг не читал, в библиотеках никогда не сидел. Более того, он и фильмы не смотрел! Затащить его на какую-нибудь фестивальную программу познакомиться с тенденциями мирового кинопроцесса было невозможно. Почему? Просто все это ему мешало. Способ получения информации у него был совершено иной, свой собственный.
На самом деле до любой культурной информации он был необычайно жаден, но она должна была возбуждать его фантазию. Он не мог быть просто читателем или зрителем, ему необходимо было включаться в процесс создания…
Прочитать «Войну и мир» от начала и до конца для него было действительно сложно. Но зато как он чувствовал Толстого! Каждый раз, бывая в Москве, он посещал его Дом-музей в Хамовниках, впитывал энергетику Толстого, которую чувствовал и в сохранившейся скатерти, и в книгах, которых касалась его рука, и даже в гантелях. Кто их замечает, а вот Параджанов заметил, он жадно изучал все бытовые детали, пытаясь проникнуться высокой духовностью великого писателя. Попав как-то с ним на одну из его экскурсий, выслушал от него такую лекцию о Толстом, что благодарен ему и по сей день.
Он не любил ходить на просмотры, но как заклинает в своих лагерных письмах: «Посмотрите „Зеркало“! Завидую всем, кто смотрел „Зеркало“!» Творчество двух режиссеров — Тарковского и Пазолини — волновало и вдохновляло его с той же постоянностью, с какой он иронизировал нал фильмами многих своих коллег (порой весьма несправедливо).
Когда в Тбилиси привезли по линии Союза кинематографистов фильмы Пазолини «Медея» и «Царь Эдип», он смотрел их по пять раз (лично свидетельствую) и требовал, чтобы эти шедевры в обязательном порядке посмотрели все друзья и знакомые. Как когда-то требовал, чтобы все посмотрели «Иваново детство» Тарковского.
Не тогда ли возникло в нем желание обратиться к античной трагедии и создать свою версию, объединив в одном фильме и страсти Медеи, и желание Эдипа бросить вызов темным силам рока…
Разумеется, «Легенда о Сурамской крепости» сделана им глубоко по-своему, и сценарий практически написал он сам, и придумал лучшие находки, как всегда, прямо на съемочной площадке. Но дыхание античных страстей, безусловно, ощущается в картине. Здесь хочется вспомнить определение Ю. Лотмана, считающего, что зритель вводится в «Легенду о Сурамской крепости» во всей условности иллюзии, присущей еще «Глобусу» Шекспира. Добавим к этому, что и страсти в фильме разыгрываются столь же полнокровные.
Пытаясь понять скрытые мотивы, приведшие Параджанова к этой работе, нельзя пройти мимо интересной параллели. В то самое время, когда Параджанов снова вышел на съемочную площадку, здесь же, в Тбилиси, шла работа над еще одним замечательным фильмом, ставшим мировой сенсацией. Речь идет о фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние». На экраны его выпустить разрешили через два года, когда перестройка была уже в разгаре. Если когда-то на «Чапаева» ходили организованными коллективами, то на «Покаяние» ходили индивидуально, но столь же массово. Это был один из немногих фильмов, который посмотрели, наверное, все…
Несмотря на уважение и симпатию друг к другу, Абуладзе и Параджанов (как истинно индивидуальные художники) вряд ли обсуждали проблемы своих творческих поисков, и тем примечательней выглядит конечный результат. Они оба приходят к единому заключению: за все надо платить. И цена этой платы очень высока… Нельзя посвятить жизнь построению личного блага… Нельзя даже для благополучия своей семьи преступать законы совести и чести.
Не будем подробно разбирать фильм «Покаяние», который весьма отличается не только от фильма Параджанова, что естественно, он сильно отличается и от других фильмов самого Абуладзе. Здесь нет теплого колорита и юмора картины «Я, бабушка, Илико и Илларион», нет притчевости «Древа желаний», нет строгого аскетизма «Мольбы». Кстати, именно по совету Параджанова Абуладзе доверил съемки «Мольбы» тогда еще только начинающему оператору Александру Антипенко, работавшему с Параджановым на «Киевских фресках».
Давно состоялись премьеры этих замечательных фильмов, но они по-прежнему современны. Как удивительно, что два больших художника, опережая время, дали свое — Предупреждение. Увы, их голос оказался — «гласом, вопиющим в пустыне»… Нельзя жить и процветать без — Покаяния!.. Нельзя с легкостью облачатся в «новые одежды», нельзя костюм «первого лица партии» безмятежно менять на одежды «первого лица государства» без каких-либо последствий.
Вся наша зигзагообразная «новая история», показавшая, что перестройка обернулась пересадкой в новые кресла, подтверждение тому, что и в этом случае интуиция не подвела Параджанова.
Не здесь ли ответ на вопрос: почему, отложив прочие сценарии, он взялся за этот фильм? Он, который всю свою жизнь бросал вызов власти, ставил теперь диагноз ее болезни: империя — это саморазрушающаяся крепость! Спасти ее может только истинное перерождение, только пробуждение подлинного гражданского чувства, только очистительная жертва… И, чувствуя, какой титанический труд требуется для этого очищения, он обратился к языку античной драмы. Понимая, что для этого мало бытовой, пусть и достоверной, истории. Только в полном перерождении возможна новая жизнь! За «новую веру» надо платить высокую цену. Переодевание в «новые одежды» не поможет… Зураб облачаясь в камень, дает надежду. Его выбор — путь истинного покаяния и обновления.
Может, об этом хотел сказать Параджанов?
Каждый, кто когда-нибудь приедет в замечательный город Краков и окажется на центральной площади, одной из самых больших и красивых в Европе, может услышать странное пение трубы высоко-высоко, под самым небом. Это память о безвестном трубаче, увидевшем с высокой колокольни приближение врага и предупредившего пением своей трубы жителей города. Звук трубы слышен слабо, его перекрывает шум городской ярмарки, раскинувшейся на площади. Когда-то строгий католический Краков давно приобрел характер Гуланшаро с его разноликостью и разноязыкостью. И все же труба поет. Снова и снова…
Не предупреждал ли и Параджанов о нашествии ренегатов и конформистов, узрев с высокой башни своей интуиции грядущую беду, не потому ли первым ударил в колокол — снял такой необычный для себя фильм?
И все ж не Ему достаются права,
и все же бессильны Его жернова:
и ты на ногах остаешься,
и, маленький, слабый, худой и больной,
нет-нет да объедешь Его стороной,
уйдешь от Него, увернешься.
«Легенда о Сурамской крепости» открыла для Параджанова ржавые пограничные запоры. Впервые в жизни он стал «выездным» и смог наконец увидеть новые страны. Но самое главное — он снова был допущен к своей профессии. Той самой, которую выбрал еще в юности романтичный «корнет», отправившийся в столь долгий и, как выяснилось, весьма опасный путь. Конечно, в первую очередь роль сыграл фактор нового времени, но, так или иначе, он теперь мог снимать новые фильмы.
И первый фильм, который он снял после получения спасительной индульгенции, был посвящен Пиросмани. Так и называется эта картина, снятая в 1986 году, — «Арабески на тему Пиросмани». Трудно определить жанр этого фильма. Это действительно своеобразные арабески, сплетенные в сложный орнамент. С одной стороны, фильм документальный, неигровой. С другой — явно художественный.
Точно так же, в сложной смеси игрового и документального жанров, перед тем как приступить к съемкам картины «Цвет граната», Параджанов снял в 1967 году в Ереване на документальной студии фильм «Акоп Овнатанян», посвященный выдающемуся армянскому художнику, жившему в Тифлисе, но, к сожалению, в отличие от Пиросмани далеко не такому известному.
Обе эти короткометражки, снятые в разные годы, по сути, попытка проникнуть в мастерскую художника, а точнее, понять, что волновало, вдохновляло, воодушевляло этих замечательных и весьма разных мастеров. Потому и рассмотрим их вместе.
Акоп Овнатанян был преимущественно портретистом и о своих героях сказал много и выразительно, а о себе до обидного мало. И все же Параджанову удалось раскрыть внутренний мир художника. Всего восемь минут длится этот маленький фильм, но как точно раскрыта его поэтика, передано все, что его вдохновляло: мир старого Тифлиса, его колорит, разнообразие бытовых деталей и, наконец, сам дух его горожан, уникальные флюиды, которыми они обменивались, как тайными паролями.
Показывая сначала серию портретов, Параджанов затем выделяет их глаза и дает галерею удивительно интересных взглядов. Современность в картине возникает в скупых, очень тактично найденных деталях. Резные балконы домов, старая кирпичная кладка, тяжелые «бабушкины» комоды, могильные камни на армянском кладбище. Простой мир вещей или загадочный «мост времени»? Легко ли прерывается (или продолжается) связь поколений? Только ли в генетической, биологической цепи она, или есть другая, но такая же прочная духовная цепь, хранящая прикосновения их ладоней — к старой чашке, серебряному подстаканнику, медному самовару или скрипучей тахте, на которой когда-то зачинали нынешних потомков…
Снимая этот фильм в далеком 1967 году, Параджанов примерялся к «Цвету граната», к своей первой встрече с армянской культурой, и, дебютируя с документальным фильмом, выверял себя, вслушиваясь в непередаваемую и загадочную музыку шелестов и шорохов, которые говорят зачастую больше, чем пространные речи, в сдержанную, тихую мелодию армянской души, столь необычную среди шумных южан, но такую манящую, завораживающую, пропетую с выразительностью скрипки на простом армянском дудуке и при всей своей лаконичности передающей бесконечную глубину чувств.
В фильме «Арабески на тему Пиросмани» Параджанов снова говорит о городе, где творил этот художник, — о Тифлисе. Но теперь перед нами уже грузинский Тбилиси, любящий шумные пиры, щедрые застолья и в то же время хранящий загадочную печаль в глазах людей и зверей. Видел ли когда-нибудь жирафа Пиросмани? Вряд ли… Жирафов даже в цирке редко показывают. А вот всю глубину грузинской печали в его глаза он вложил.
Давая галерею картин Пиросмани, Параджанов и в своей картине составляет этот сложный микс, показывает новый оксюморон — веселую грусть! Взгляните еще раз на картины Пиросмани: при всем своем разнообразии они — единое воплощение этого редкого сочетания.
Неужели за этими щедрыми столами, осушив полный рог замечательного вина, можно оставаться задумчивым и печальным? Можно… Эта удивительная ностальгия передана Параджановым и в цикле старинных фотографий, введенном в изобразительный ряд и на первый взгляд не имеющим ничего общего с работами Пиросмани, с его условным миром, далеким от реальности фотопортрета. Это иная пластика, но чувство при вглядывании в эти лица, в эти портреты, то же. И фотопортреты тех, кто когда-то сидел в духанах, украшенных работами Пиросмани, и сами его работы, выведенные на экран, летят сегодня к нам в единой печали, единой ностальгии.
Вводя в документальный фильм игровые элементы, например ателье фотохудожника, где модницы старательно позируют, примеряя шляпы, капризничают дети, не желающие замереть перед треногой, разглаживают усы франты и так далее, Параджанов старается выткать единую ткань времени, несмотря на непохожесть этих персонажей на героев картин Пиросмани. Они все были укрыты одним плащом ушедших лет.
Так же неожиданно, абсолютно сюрреалистично, возникают кадры мастерской Пиросмани, которой у него никогда не было. Стены ее прозрачны, и за ними видны новостройки Тбилиси. Этот загадочный, ироничный финал таит вопрос: а вписался бы Пиросмани в наши дни, смог бы творить, и если бы творил, то как? Сюрреалистическое видение дает простор воображению.
Раскачивает ветер картины Пиросмани на прозрачных стенах мастерской. Что это — ветер времени или напоминание о том, как зыбок мир красоты, который может быть унесен в любой миг? Но надежда есть… Это снова начинается кинтаури — веселый танец городских ремесленников и мастеров, крепких мужчин, умеющих и работать, и веселиться, и хранить традиции предков.
Если сравнить эти фильмы Параджанова с документальными лентами, снятыми им на Украине, сразу будет видна колоссальная разница. Даже невозможно поверить, что в титрах указана одна фамилия, хотя тема в них одна: герои фильмов — люди искусства. Порой приходится слышать, что и в этих работах что-то было, что они — обещание будущего Параджанова. Это все от лукавого… Работы тех лет сняты топорно, ремесленно, и не более, нет в них никакой искры божьей. Он сам заставил себя перевоплотиться, трансформироваться, поразив и заворожив своим взлетом, когда в нем вспыхнула искра божья…
В 1987 году в жизни Параджанова произошло радостное и неожиданное событие. Наконец-то он получил возможность не только показывать свои фильмы как режиссер, но и представить как художник свои яркие и интересные работы. Выставка, ставшая настоящей сенсацией, была организована сначала в Тбилиси, а затем и в Ереване, где прошла под названием «Бал в мастерской режиссера».
Даже для постоянных гостей Параджанова, видевших многие его работы, эти выставки стали открытием. Такое великолепие, пожалуй, мало кто ожидал увидеть. Работы теперь были оформлены, правильно экспонированы и, конечно, «заиграли».
В Тбилиси экспозиция была развернута в Доме кино и привлекла внимание всего города. Подобное же повторилось и в Ереване, где выставка была организована в Музее народных искусств и должна была длиться месяц, но срок ее работы продлевали несколько раз. На открытии выставки Параджанов сказал: «Я счастлив, что выставка проводится именно в музее народного творчества. Здесь в подвалах хранятся армянские ковры, серебряные пояса и изделия ювелиров, замечательная народная керамика. Там, в этих подвалах, мои корни, именно они всегда питали меня, мое творчество».
Успех выставки способствовал замечательному решению — создать в Ереване Музей Параджанова. Выставка была открыта 15 января 1988 года, а уже в апреле было принято соответствующее постановление и выделены первые деньги для строительства. К сожалению, последовавшие затем бурные события перестроечных лет отложили строительство музея, но все же он был построен и сейчас успешно функционирует, став одной из самых популярных достопримечательностей Еревана. Большую работу в создании этого уникального музея провел директор Музея народных искусств Завен Саркисян, возглавивший впоследствии Музей Параджанова.
Параджанов был необыкновенно воодушевлен тем, что скоро у него будет такая уникальная творческая мастерская. Впервые перед ним открывалась возможность жить в большом двухэтажном доме, где можно развесить все работы, разместить все собранные коллекции, принимать неограниченное количество гостей. Это снова был дом на горе, откуда открывалась потрясающая панорама Арарата, дом, с балкона которого он мог обращаться к широкому миру со всеми его удивительными и волнующими красками. Этот его ереванский дом тоже был «казенным», ибо строился государством, но здесь ему давалась возможность «заключиться» в свое творчество и получить наконец полную свободу самовыражения.
К сожалению, в этом своем «доме осуществленной мечты» он не смог пожить. Он видел, как он строился, видел двор и деревья, представлял стены с развешанными работами, слышал голоса будущих гостей… Это не было сюрреалистическое видение… Дом, пусть и медленно, но приближался к нему и готов был скоро раскрыть свои теплые объятия. Он возвращался на родину, к не забывшим его предкам… Казалось, все наконец будет хорошо, все обустраивается. Он снова, теперь уже без мучительного выкручивания рук, снимал фильмы, писал сценарии, создавал свои любимые коллажи. Бывал на различных кинофестивалях, своими глазами видел новые страны.
Но штормовой ветер судьбы вновь погнал его от заветных берегов, никак не желая превращаться в ласковый, давно заслуженный им бриз приближающейся старости, — Параджанову шел шестой десяток.
Увы, покой был не для него…
Годы наконец-то утолили его великую жажду творчества. Но бурные ветры Судьбы не утолили при этом свою жажду… И ждали жертвоприношения, «золотой монеты», воплощенной в живой человеческой плоти.
Но мы опережаем события. Впереди был еще один фильм. Параджанов успел рассказать еще одну сказку. Последнюю…
Это рысьи глаза твои, Азия,
Что-то высмотрели во мне…
Удивительное постоянство, с которым Параджанов обращается к сказкам, в чем-то напоминает стойкость оловянного солдатика с его практически безответной любовью к картонной балерине. Но придуманный мир красивой сказки лишь опалял его, оставляя скорей чувство горечи. Так было с его первым фильмом «Андриеш», в котором он соорудил «картонные» замки и горы и который в результате не украсил его творческую биографию. Написав в середине своего творческого пути чудесный сценарий к сказкам Андерсена, он, вместо того чтобы начать путешествие в его чудесную волшебную страну, оказался в реальности земного ада.
Творческий путь его можно определить как: «От сказки до сказки», ибо последний его законченный фильм снова был сказкой под названием «Ашик-Кериб»…
На самом деле должно было бы быть «Ашуг-Гариб», то есть Бездомный Поэт. Ибо ашуг означает поэт, музыкант, а Гариб — это и бездомный, и неприкаянный, и одинокий, и наивный. Фильм этот создан по мотивам (подчеркнем это) известной сказки Лермонтова, который, очаровавшись рассказом о неприкаянном поэте, записал и опубликовал его как «Ашик-Кериб». Вообще-то есть и арабский, и персидский, и армянский, и узбекский варианты этой истории, а учитывая, что Параджанов создал свою оригинальную версию, то сказка эта просто восточная, без какой-либо определенной национальной окраски. Но в основе ее история, что взволновала еще Лермонтова…
Нищий поэт, у которого нет денег на свадьбу, отправляется на заработки. Его возлюбленная обещает ждать его тысячу дней и ночей. Но, несмотря на то, что ашуг поет на свадьбах и приглашается на роскошные праздники в богатые дворцы, спустя и тысячу дней и ночей остается гол как сокол. Недаром же его прозвали «Гариб», то есть «наивный». Невеста ждет, когда наступит тысяча первая ночь, чтобы принять яд, ибо ее уже готовят к свадьбе с богатым, но нелюбимым женихом. До трагического финала остается пара часов, но тут, как и положено в сказках, появляется всадник на белом коне, доставляет поэта домой и дает ему кошель с золотом. Все счастливы, здоровы и благополучны.
Вот такой последний фильм Параджанова.
Всю жизнь снимая сложные, предельно интеллектуальные фильмы и завоевав славу «трудного» для понимания режиссера, он снял в конце своего творческого пути настолько простой фильм, что теперь сложно понять, для чего это ему понадобилось. Снова вопрос: для чего обратился он к сказке? Ведь у него было так много других выношенных, выстраданных сценариев! Неужели все получилось случайно?
Прямо скажем, не верится. У больших художников случайностей не бывает. Бывают скорее закономерности.
Странных, неожиданных встреч с Параджановым и жизненных пересечений накопилось у меня так много, что, не будучи мистиком, давно воспринимаю все это мистически. Вот и тогда нежданно-негаданно я оказался у колыбели замысла нового фильма.
Оператор Альберт Явурян, о котором я тогда писал небольшую книгу, вдруг предупредил меня, что срочно выезжает в Тбилиси, так как получил от Параджанова приглашение для переговоров о новом проекте. Все это было интересно и для книжки, и для другого моего замысла…
Поскольку тогда, весной 1987 года, я уже работал над книгой о Параджанове «Три цвета одной страсти», то показать ему первые главы и согласовать проект задуманной книги, фактически впервые исследовавшей «иероглифы» его творчества, было, конечно, необходимо. Договорились с Явуряном ехать в Тбилиси вместе. Он и стал позже оператором нового фильма. Явурян скоро вернулся обратно, а я по приглашению Сергея задержался на пару дней в доме, где с 1960-х годов знал каждую половицу. Вопросов по будущей книге было много, интересные разговоры возникали один за другим. Именно тогда Сергей много рассказывал и о своем новом проекте, который поначалу назывался «Легенды седого Кавказа». Это был своеобразный киносборник по мотивам произведений Лермонтова. Основным в этом проекте был сценарий «Демона», написанный Параджановым уже давно. То есть речь шла именно об экранизации давно выношенного проекта.
«Демон» написан очень ярко, сильно, с интереснейшими, динамичными, сугубо кинематографическими решениями. Все это видно даже в литературной записи. Можно смело сказать, что это один из самых интересных сценариев Параджанова. Высокую оценку этой работе дал в свое время и Шкловский. Но поскольку действие в нем развивается очень динамично, то растягивать до полнометражного фильма было невозможно. А для короткометражки опять же получалось много. Так и возникла идея соединить два произведения Лермонтова в одном фильме, то есть сказка в задуманном проекте поначалу носила вспомогательный характер.
Как и почему она стала впоследствии основной темой и вытеснила «Демона», который так и не был экранизирован, ни от Параджанова, ни от Явуряна вразумительного ответа я так и не получил.
В своей более чем бурной жизни Параджанов испытал столько бурь, земля так часто уходила у него из-под ног, что снова погрузиться в «демонические» страсти, возможно, не было ни желания, ни вдохновения. Потом… Завтра… А пока снимается «Ашик-Кериб».
Внимание! Мотор! Начали…
В далеком детстве, однажды заболев и оставшись дома, Сергей услышал от матери сказку о том, как тысячу дней бродил бедный поэт и как затем чудесно исполнились его заветные мечты.
Мальчик вырос, осуществил и свои заветные мечты, став большим художником, вывел на экран свою любимую сказку и… заболел. Заболел так тяжело, что после этого фильма не смог больше никогда крикнуть: «Мотор!» Его мотор после всех штормов и бурь исчерпал свои ресурсы. Может, еще и потому принял он решение не снимать «Демона», что раньше врачей и друзей почувствовал в себе движение раковых (роковых) клеток.
Все это станет ясно позже. Через две весны. В мае 1989 года… А пока май 1987-го, и у него есть еще две весны.
И потому и мы отправимся с ним в это новое плавание. Впереди новый фильм, новый остров в архипелаге его открытий. Сняв молдавский, украинский, армянский, грузинский фильмы (все фольклорные, народные), он теперь обратился к миру исламской культуры.
Понять Восток непросто, подражать ему легко. Отсюда так много имитаций, всевозможной декоративно-подражатель-ной «ориенталистики». Культура ислама и его менталитет удивительно противоречивы и парадоксальны, и, быть может, в этом секрет их притягательности для многих художников. Могла ли такая яркая культура не будоражить воображение Параджанова, всю жизнь испытывавшего страсть к парадоксам? Его новый фильм вызвал восторг и стал «своим» во всем мире ислама. Получил приз на фестивале в Стамбуле. Параджанова считают своим учителем лучшие иранские кинорежиссеры. Иранская кинематография, напомним, сегодня считается одной из самых интересных в мире.
Как же Параджанову удалась эта очередная трансформация? Может, потому, что эта загадка манила его всю жизнь?
Я слишком стар, чтобы стареть: стареют только молодые.
Приступая к анализу этой картины, так необычно ворвавшейся в жизнь Параджанова, подчеркнем один из парадоксов исламского мира, имеющий прямое отношение к ее языку. Театр и актерская профессия в восточных странах уважением не пользуются. Даже сегодня, в третьем тысячелетии, если сын или дочь высказывают желание поступить в театральный институт, это целая семейная драма. Зато театр и актерство прочно вошли в их быт и встречаются на каждом шагу.
Посещение бани — это не просто гигиеническая процедура, а целое театральное действо. Постричься — театр! Столько здесь выразительной жестикуляции и яркой мимики. Бизнес — театр! Ибо скучный во всем мире процесс торговли здесь превращен в яркое театральное действо. Даже богатство и бедность здесь принято выставлять, как в театре, напоказ.
Секрет, почему Параджанову удалось понять то, что не удавалось многим европейцам, обращавшимся в своем творчестве к восточной теме, очень прост. Во-первых, все это он видел с детства. Во-вторых, хорошо знал, что понарошку, а что всерьез.
Снова, как и в «Легенде о Сурамской крепости», перед нами «театральное кино». Но как различны эти театры!.. Если в одном случае строгая условность сценической площадки, где происходят события и действуют герои. Сознательное игнорирование деталей, объяснений, лишних слов. Зрителю дана возможность додумать, представить, дополнить происходящие события в соответствии со своим воображением. Ибо зритель активно включен в повествование… То в новом театре (фильме) все наоборот. Перед нами прежде всего тамаша — зрелище.
Зрителя в восточном театре надо испугать, рассмешить, разжалобить, заставить плакать, театр для него прежде всего лавка купца, он пришел купить зрелище и платит за этот товар. И потому перед зрителем надо разложить поражающие воображение товары. Это и злодей, страшно вращающий глазами, и эффектно показанный топор, отсекающий голову. Правда, хлынувшая кровь всего лишь красный платок, вытянутый из тыквы — она же отсеченная «голова». Это и герой, брошенный на съедение тигру. Тигр страшно рычит и… крутит головой на 360 градусов, потому что, конечно, бутафорский, как и все, что предстает перед зрителем. И зритель это знает.
Все описанное выше не абстрактные примеры, это разные эпизоды из фильма Параджанова, и восторг, который они вызывают у восточного зрителя, подтверждает, насколько точно он подобрал к нему ключи.
Если в своей первой сказке «Андриеш» Параджанов выстроил бутафорские замки и скалы, то в последней сказке «Ашик-Кериб» все натуральное — дворцы, крепости, халаты, мечи, ювелирные украшения. Но зато все происходит в бутафорском, придуманном мире. Это сказка, тамаша! Как заказывали — очень яркое и чрезмерное…
Если в «Цвете граната», где тоже идет рассказ о любви, найдено замечательное решение: у влюбленных одинаковые лица, это решение словно кричит: «Мы одна страсть, мы одна плоть, мы неотделимы друг от друга!» — то в «Ашик-Керибе» Параджанов находит другое удивительное решение.
Возлюбленная поэта Магуль предстает, как и положено истинной восточной невесте, без каких-либо признаков эротизма. Более того, фактически это живая, с хорошо раскрашенным лицом кукла. В основном она сидит или театрально всплескивает руками в минуты радости или горя. Та, из-за которой разыгралась вся драма, та, из-за которой несчастный поэт отправился в свое тысячедневное путешествие, фактически марионетка.
Только знающие Восток могут оценить, насколько точно и интересно это решение, сочетающее в себе и театральность, давно ставшую бытом, и точный психологизм, ибо ценность женщины здесь определяется тем, насколько она хороша и послушна.
Если у Феллини в «Казанове» поиски героем своего любовного идеала заканчиваются тем, что он находит куклу… и впервые восхищенно смотрит на нее как на лучшую из женщин, то Параджанов с этого начинает, в первых же кадрах показав, что его герой, сильный, крепкий, типично восточный мачо, нежно влюблен в раскрашенную куклу и готов ради нее на любые подвиги. Замечательно еще и то, что Параджанов рядом с этим почти нереальным женским персонажем выводит вполне реальную женщину. Это сестра поэта, которой в сказке Лермонтова отведена незначительная роль, а у Параджанова — весьма активная.
Вот где тонкая талия, высокая грудь, сияющие глаза, одним словом, все то, что с таким пылом воспевают восточные поэты. Сестра (В. Двалишвили) всегда рядом с возлюбленной поэта, и контраст их женских достоинств очевиден. Более того, именно она в счастливом финале провожает брата в райский сад любви, где воркуют белые голуби и даже гранаты — белые.
Где сама Магари, почему не она с возлюбленным в раю? Вероятно, осталась за домом следить…
Почему в фильме Параджанова всего три реальных персонажа — ашуг, его мать и сестра? Все остальные — из театра кукол. Можно подумать, что Параджанов экранизировал не Лермонтова, а скорее Льюиса Кэрролла, его путешествие Алисы в обманную, выдуманную страну. Вот мы и нашли нужные слова…
Если вспомнить, что знаменитый фильм «Дилижанс» Джона Форда на самом деле назывался «Путешествие будет опасным», то и «Ашик-Керибу» Параджанова можно было бы дать более точное название — «Путешествие будет обманным», потому что весь смысл фильма именно в этом. Поэт отправляется не только в опасное, но и обманное путешествие! Не осознав этого, придется смотреть фильм, постоянно задаваясь вопросом: «Зачем это?» Зачем свита грозного Надир-хана стреляет из пластмассовых игрушечных автоматов? Зачем в его дворце то отклеивают, то приклеивают бороды, короче, все обманывают друг друга на каждом шагу? Зачем в следующей новелле — царстве воинственного султана, куда попадает поэт, вся свита на кладбище ненатурально машет руками и ногами, изображая тренировку по карате? Зачем все персонажи так гримасничают и вращают выпученными глазами? Что всё не живое, неестественное, очевидно. Но зачем?
Параджанов начал снимать свою сказку в самое «сказочное» время перестройки, когда писатели, художники, режиссеры шли в депутаты и политические деятели. Когда всем думалось: «Еще немного, еще чуть-чуть»… И мы все окажемся в стране чудес…
Казалось, Параджанову, «узнику совести», ликовать бы и прыгать от радости выше всех. А он не ликовал… Более того, в отличие от многих был настроен пессимистически. А ведь ничто не предвещало беды… А он, иронизируя над любимцем всего мира, Горбачевым, едко бросал: «Какой актер… Надо срочно снимать „Гамлета“. Вот кто прочтет „Быть иль не быть“. И декорации есть готовые — Кремль! Чем не Эльсинор». Тогда это казалось ёрничанием. Оказалось пророчеством…
Тревоги его очень скоро стали реальностью, и съемки фильма могли быть сорваны. Во всяком случае, на студии «Грузия-фильм» состоялось серьезное совещание в связи с новой политической реальностью — по Сумгаиту прокатилась кровавая резня армян. А фильм, напомним, снимался в Азербайджане…
Именно в это время, отложив до лучших времен «Демона», он начинает снимать свою сказку и решается развернуть в фильме театр абсурда.
Странности этого путешествия начинаются сразу. От логики лучше отказаться напрочь. К пешему ашугу рвется в друзья конный попутчик. Это Хуршуд-бек, его соперник, он тоже мечтает о куколке Магуль.
— Какая у нас может быть дружба, — отвечает ашуг, — ты же Хуршуд-бек. Я сразу узнал тебя.
— Нет, что ты, я не Хуршуд-бек, — уверяет тот. — Может, похож. Но я не я.
Дальше — больше… Путники подходят к маленькой речушке с большим каменным мостом. Но ашуг решает перейти ее вброд. Решение оказывается роковым. Доверив сопернику одежду и свой саз (музыкальный инструмент), он оказывается элементарно обманут.
— Ум у дурака короткий, а дорога длинная! — радостно кричит Хуршуд-бек, забирая его одежду.
Стоя уже на другом берегу, ашуг видит, как соперник мчится через мост на его сторону реки. Оказывается, он возвращается обратно в дом ашуга, чтобы сообщить матери и сестре жуткую весть: ашуг утонул! Возлюбленная Магуль может уже не ждать его тысячу дней и ночей.
Почему при этом они оказались на одном берегу, можно только гадать.
Под горестное рыдание струн вода уносит саз ашуга. Мало того, что он теперь гол, так еще и без инструмента остался…
Искать во всем этом логику так же напрасно, как спрашивать у Алисы, на каком языке говорит кролик, за которым она побежала.
В пути к ашугу навязываются еще два попутчика. Непонятные существа, не то демоны, не то люди. Возвещая о своем появлении, они трубят в раковины. То сидят на осле, то торопливо бегут вприпрыжку. В общем, появляются снова и снова. Оказывается, это Алид и Валид.
— Мы твои добрые гении, — объявляют они, — охраняем странствующих поэтов.
Впрочем, зритель может скоро убедиться, что помощи от этих бестолочей никакой, а вот о грядущих испытаниях они объявляют ашугу постоянно и явно с удовольствием.
— Торопись, ашуг, — требуют они. — Тебя уже ждут на свадьбе слепых. Жених уже целует невесту.
Послушавшись своих «хранителей», ашуг спешит на свадьбу слепых, где его никто не ждет и, конечно, не видит. Жених и невеста продолжают миловаться, зато гости озабоченно ищут, откуда раздается столь неожиданное пение. Нравится оно им или нет, определить трудно.
Снова как черти из табакерки возникают Алид и Валид и требуют:
— В путь, ашуг! В путь… Ты должен попасть на свадьбу глухих!
Расположившись у живописного водопада, глухие накрыли щедрый стол. Напрасно наш бард, следуя указаниям «ангелов-хранителей», ублажает их своими песнями. Глухие его не слышат и не угощают.
Бессмысленность этих концертов, исполняемых от всей души, очевидна.
Постойте, но ведь у Лермонтова все не так! У него и в помине нет никакого Алида с Валидом, нет глухих и слепых, нет абсурдного замка Надир-хана и всего прочего. Более того, ничего подобного нет ни в одном варианте этой восточной сказки. И в армянской, и в туркменской, и в узбекской версиях, записанных этнографами, при некотором отличии в деталях говорится совсем о другом.
Путешествие оказалось не опасным, а весьма успешным! Став известным, ашуг не только быстро разбогател, но так же быстро забыл свою возлюбленную Магуль-Мегери. Его буквально рвали на части, его звали со свадьбы на свадьбу (никаких глухих и слепых), приглашали во дворцы, где щедро засыпали золотом. В конце концов Магуль вынуждена была напомнить о себе и послала ему с проезжими купцами свое золотое блюдо. И только получив этот щедрый дар, ашуг опомнился и заспешил домой — через семь лет. Более того, во всех вариантах сказки Магуль-Мегери настоящая восточная красавица, известная на весь город, о чем, кстати, говорит и ее имя — Ма-уль-Мигри, то есть Луна Любви. Да и Хуршуд-бек никакой не злодей и негодяй. Узнав о внезапном прибытии Ашик-Кериба, он сворачивает весь приготовленный свадебный пир и благородно отказывается от Магуль, тронутый их страстной любовью. Но и наш бард поступает не менее благородно. Привезя целый мешок золота, он дает щедрое приданое сестре и предлагает Хуршуд-беку взять ее в жены. Тот не отказывается от богатой невесты, да еще красавицы и скромницы с хорошей репутацией. И сказка заканчивается хеппи-эндом с двойной свадьбой и щедрым пиром.
Но Параджанов рассказал свою сказку о тысячедневном скитании и любви, полной верности и бедности. Развернул свой театр абсурда, но при этом удивительным образом сохранил и передал весь восточный колорит. По сути, его «Ашик-Кериб» — еще одно фантасмагорическое путешествие Синдбада с опасными приключениями и серьезными испытаниями, которых нет в оригинале сказки. Отличие его версии от всех существующих настолько существенно, что нельзя не задуматься о том, что он хотел сказать.
Мы уже говорили, что во всех поздних фильмах Параджанова присутствует ассоциативный биографический ряд. В «Цвете граната» это новелла о разоренном кладбище, получившая более развернутое описание в биографическом сценарии «Исповедь», и многое другое. И его последний фильм еще одна исповедь.
По сути, это страстный рассказ об испытанной боли, о художнике, который вынужден творить перед глухими и слепыми, об абсурдном мире, в котором его не хотят понимать и поэтому гонят, клянут, смеются… О постоянной зависимости от сильных мира сего, о нелепом переходе от одного бессмысленного правления к другому, о том, как душит поэта надетая на него железная рубаха, в которой его заставляют творить. В одной из сцен фильма поэт стучится в глухие двери и кричит: «Дайте мне помолиться! Дайте мне исполнить свою молитву!» Но никто не слышит и не открывает двери. О том, что, сколько бы ни пел поэт, он все равно остается бедным и гонимым.
И вот еще одна интересная биографическая деталь.
В фильме «Цвет граната» поэт Саят-Нова добровольно оставляет свою лиру: демонстративно положив кяманчу на золотой пол дворца, он уходит в горный монастырь, в царство духа, в поисках высшего смысла бытия.
Зато Ашик-Кериб, у которого то и дело крадут или отнимают его саз, снова и снова мучительно ищет его. Он не может позволить себе гордо отказаться от него и перестать петь во имя высоких принципов.
Когда-то, находясь в расцвете сил, полный энергии сорокалетний Параджанов мог дать гордую телеграмму с требованием закрытия фильма, если ему будут мешать работать. Сейчас, переступив шестидесятилетний рубеж, испытав пятнадцатилетнее отлучение от профессии и хорошо зная, какая это мучительная мечта — снова встать у съемочной камеры, он говорит о другом. Ашик-Кериб не может жить без лиры и готов вечно скитаться и петь, каким бы абсурдным и жестоким ни был его путь, какие бы нелепые правители ни встречались ему в смене разных царств.
Именно о вечной дороге, по которой идет поэт, а истинный поэт всегда в пути, одна из лучших новелл фильма. Потеряв свой саз, уплывший по реке, поэт неожиданно получает щедрый подарок. Старый ашуг дарит ему свою лиру, но ставит условие: Ашик-Кериб должен вести его, пока он может петь. Так и бредут, и поют два поэта, пока старый поэт не завершает свой жизненный путь. Он умирает как истинный ашуг — в пути.
Два основных условия для творчества — не сдаваться даже перед лицом смерти и продолжать свой путь до последнего вздоха.
Если в «Цвете граната» перед нами своеобразная «анатомия мира», поиск разгадки тайн бытия, попытка постигнуть Бога и понять, для чего он создал этот мир, то в «Ашик-Керибе» решается менее глобальная, но не менее интересная задача постигнуть «анатомию творчества». Через какие испытания должен пройти поэт, насколько сложно творить в мире, где то и дело отнимают его лиру и диктуют, что он должен воспевать.
Лейтмотивом картины становится идущий караван. Это и бредущие верблюды, и караваны, запечатленные на могильных камнях. Тот, кто лежит под камнем, все равно продолжает вечный путь… Недаром к могиле старого ашуга, которую вырыл Ашик-Кериб, приходит и опускается на колени верблюд. Эта находка Параджанова словно говорит: движение продолжается, караван творчества идет, несмотря ни на что…
Два очень разных театра развернул Параджанов в двух своих последних фильмах.
Если в «Легенде о Сурамской крепости» лаконичность, условность и высокие страсти античной драмы, то в «Ашик-Керибе» перед нами яркость и условность театра кукол. Все персонажи здесь «ненастоящие», это скорее маски, чем живые люди. В этом тоже точное понимание специфики Востока. Ведь нормы ислама не только запрещали реалистическое изображение, строго запрещалось и всякое лицедейство, перевоплощение человека в чужой образ, в чужую душу. Но именно потому в странах Востока получила такое распространение миниатюра с ее условными образами и театр кукол с его масками.
В очень разных фильмах Параджанова едино глубокое интуитивное проникновение в специфику своего творения, в особенности национального духа. Можно любить фильмы Параджанова, можно их не принимать и яростно отвергать, но не восхищаться интуицией художника невозможно, настолько точно она позволяла ему чувствовать все ветры грядущего.
В глухие годы застоя он неожиданно снял гражданственный фильм-предупреждение. Вспомним сон Зураба и многие другие эпизоды из «Легенды о Сурамской крепости». В своем «Ашик-Керибе» он снова предупреждал, но уже о другой беде. В стране был теперь расцвет гражданских чувств, представители творческой интеллигенции торопились выйти на депутатскую трибуну. А он говорил о наступающем театре абсурда, о том, как тяжело творить художнику в маскарадном мире, как сложно пребывать в театре масок с его условным, придуманным языком и нелепыми ценностями, как нелегко петь перед слепыми и глухими, брести от одного всемогущего к другому.
Но давайте вернемся к финалу фильма.
Итак, бедный поэт, так ничего и не заработав ни на свадьбах, ни во дворцах, мечтает вернуться домой. Исполняется срок его тысячедневного обещания.
У Параджанова в фильме поэт не забыл возлюбленной. Но кто ему поможет? Осталось три дня до обозначенного срока, а идти до Тифлиса месяца три. Алид и Валид, как всегда, испарились, когда нужна помощь.
Но помощь приходит! Это мчится на своем белом коне покровитель влюбленных святой Саркис! В этом его неожиданном появлении Параджанов обращается к армянской версии известной сказки. Посадив ашуга на своего коня, святой Саркис переносит его в Тифлис.
Радостно и громко, словно в гуцульские трубы, дуют в свои раковины Алид и Валид, оказавшись тут как тут. Крутится на фоне их полета земной шар. Весь мир прошел Ашик-Кериб, чего только не увидел, чего только не испытал! И вот он снова дома…
Дальше, как и положено в сказках, все хорошо. Вылечив от слепоты мать и получив свою любимую куклу, свою обожаемую Магуль, он радостно танцует и идет с сестрой в сад с белыми гранатами, чтобы выпустить белую голубку. Голубка взлетает и садится… на съемочную камеру (найденный саз?). Возникают тифы: «Посвящается светлой памяти Андрея Тарковского»…
Так необычно и щемяще заканчивается последний фильм Параджанова…
Смерть Тарковского (28 декабря 1986 года) глубоко потрясла Параджанова. Почему-то именно 9 января 1987 года, в день своего рождения, он неожиданно для друзей устроил в своем доме поминки по Тарковскому.
Приступая в наступающем году к съемкам «Ашик-Кериба» и слагая свою версию старой сказки, он, думается, весьма не случайно с такой болью рассказал, как трудно быть художником. Кто знает, сколько из личных, сокровенных бесед с Тарковским отражено в фильме…
В этой связи вспоминается и такой исповедальный, глубоко биографический фильм Тарковского, как «Зеркало». Мало кто знает, что Тарковский снялся в одном из эпизодов. У постели больного собрались друзья, звучат сочувственные реплики. «Ах, оставьте, — говорит больной (лица Тарковского не видно, только рука, выпускающая птицу), — я всего лишь хотел быть счастлив…»
Трудно убежать от мысли, что птица, которую выпускает Тарковский, и птица, выпущенная поэтом Ашик-Керибом и садящаяся на камеру, это, по сути, единый монтажный стык. Из разных фильмов, но объединенный единой болью. Полет одной птицы подхвачен другой.
Читая опубликованные дневники Тарковского, входя в сложную лабораторию его творчества, нельзя обойти стороной и многократно отраженную здесь бытовую тему. Как трудно жить! Как много долгов… семейных неурядиц и всего, всего… «Я всего лишь хотел быть счастлив!»
Горечь этих слов так знакома Параджанову. Он обожал устраивать пиры и делать щедрые подарки. Но тем, кто входил в его гостеприимный дом не гостем, зачастую приходилось сразу бежать в расположенный рядом крохотный магазинчик. Купить хлеб, сыр, молоко, яйца. Ибо в его доме чаще всего было хоть шаром покати.
Счастье — это не всегда только духовная субстанция. Иногда это элементарное желание иметь элементарное… то есть то, чего так часто не хватало и Тарковскому, и Параджанову…
В этой связи хочется еще раз подчеркнуть разницу показанных им двух восточных поэтов: Саят-Новы и Ашик-Кериба. Какой там придворный поэт, какие высокие материи…
У Ашик-Кериба элементарное, бытовое желание — собрать денег на свадьбу! Преодолеть душащую его нищету.
Если бы Параджанов вел дневник, можно смело утверждать, что и здесь мы встретили бы такие же горькие страницы, посвященные долгам и нищете. Так удивительно скорбно отмечая свой день рождения 9 января 1987 года, еще только приступая к работе над новым фильмом, он, по сути, мистически заглянул в Бездну… Вызвал ее…
Уже завершив работу и привезя «Ашик-Кериба» в Мюнхен, он не смог на премьере сдержать слез и попросил зал почтить минутой молчания память Тарковского, которому он посвятил свой фильм. Все это не случайные факты…
Не случайно и то, что он посвятил памяти Тарковского несколько коллажей. Сделал даже большую композицию: человек в черной траурной маске скорбно несет белую фигуру. Эта аллегорическая «Пьята» также посвящена памяти Тарковского и полна какого-то трагического духа, связывающего двух великих художников. К сожалению, она исчезла из музея Параджанова в Ереване, где когда-то была выставлена. История эта смутная и непонятная, остается надеяться, что уцелевшие фотографии сохранили эту удивительную работу и когда-нибудь ее удастся восстановить.
Как бы ни был интересен и занимателен театр абсурда, который развернул Параджанов в своем фильме, главное, что подкупает в нем, — это Исповедь Художника о себе и о жизненных проблемах. Как хочется быть счастливым! И как это трудно… Даже в элементарном. Иметь постоянную работу. Быть выслушанным. Не развлекать слепых и глухих.
И Тарковский, и Параджанов стали всемирно известными ашугами еще при жизни, но всю жизнь при этом оставались — гарибами… То есть бедными и одинокими при всем шуме вокруг их творений. Все дивиденды (и весьма приличные) достались уже не им. Не сотворившим чудо и украсившим своими произведениями этот мир, а другим, возникшим в большом количестве вокруг них, — после них. Может, потому, что они всегда были — тарифы, то есть — наивные…
Как уже говорилось, «Ашик-Кериба» Параджанов уже снимал без свойственной ему кипучей энергии, уже усталым, возможно, даже больным. Энергии прежней не было, и это неудивительно, потому что были в жизни и душная камера, и холодные ночи на нарах, был многолетний диабет и еще куча болячек, были долгие годы нищеты…
Зато с высоты своей поразительной интуиции он по-прежнему умел заглядывать в будущее. Здоровье стало подводить, но интуиция — никогда!
В Мюнхене, попросив почтить память Тарковского, он сказал вещие, к сожалению, слова: «Я так люблю этот фильм, что хочу, чтобы он был у меня последний… Художник должен знать, когда он должен уйти…»
Зачем так настойчиво заглядывал в бездну? Почему так печально начал и кончил эту счастливую сказку? Ведь в тот радостный день еще ничто не предвещало беды. Был, наоборот, радостно и восторженно встречающий его Мюнхен. Он был здоров, а впереди ждал еще один новый фильм. Наконец открывалась возможность снимать давно выношенный проект — «Исповедь»! Но об этом чуть позже. Сейчас закроем тему «Ашик-Кериба». Да, усталость в этой картине, безусловно, чувствуется. И об этом тоже надо сказать…
Несмотря на то, что в картине действует замечательный актерский ансамбль: Софико Чиаурели (Мать), Рамаз Чхиквадзе (Надир-хан), Бая Двалишвили (Сестра), в ней нет того, что всегда было самой сильной стороной фильмов Параджанова — удивительного сочетания пластических и психологических задач. Запоминающихся образов в картине тоже нет. Актеры все правильно делают, выполняют поставленную задачу, и только. Очень часто встречаются преувеличенные акценты, элементы наигрыша. Но это, допустим, входило в правила восточного театра. Именно такое действие перед нами — условный, своеобразный театр кукол, марионеток. Зато исполнитель Ашик-Кериба Юрий Мгоян явно не вписывается даже в такие правила игры.
Параджанов часто приглашал непрофессиональных актеров. Роль Ивана в «Тенях забытых предков» была доверена Миколайчуку, впервые представшему перед камерой. Но его дебют украсил не только этот фильм, но затем и все украинское кино, где Миколайчук сыграл много замечательных ролей. Вилен Галстян (Саят-Нова) также впервые предстал как киноактер, и снова это была удача.
С Юрием Мгояном этого не произошло. Красивый в жизни парень, он на экране не смог ни в коей мере создать образ поэта. Тяжеловатый, непластичный, он мучительно старается изобразить духовные порывы, но, увы, как изобразить то, с чем не знаком. Все это в свою очередь существенно снижает «градус» фильма.
Такая усталая небрежность встречается во многих деталях картины.
В новелле «Бог един» Ашик-Кериб попал в христианскую крепость. Тут в нее с гиканьем влетают какие-то янычары и начинают лупцевать бедного поэта. Напрасно он кричит: «Я ваш… Я ваш, я такой же как вы!..» В ответ слышен грозный ответ: «На земле врага — все враги!» Избитого поэта дети затем переносят в храм. Все это происходит на общих планах. Затем человек в той же черной одежде (наверное, Ашик-Кериб) доит корову опять на общем плане и угощает молоком детей. Только зная сценарий, можно догадаться, что так Ашик-Кериб отблагодарил спасших его христианских детей и для него Бог един.
Вряд ли новеллу с таким глубоким смыслом стоило снимать так поверхностно. Свойственная Параджанову небрежность в выстраивании монтажного ряда в этом фильме явно усилилась.
Говоря о нем, часто повторяют: «Свободный человек», «Опасно свободный человек» — все это так. Но ведь недаром наши недостатки зачастую продолжение наших достоинств. Параджанов всегда был раскрепощен и всегда чувствовал себя предельно свободно. Свободно позволял себе обидные высказывания в адрес коллег (не всегда заслуженные). Свободно иронизировал и высмеивал даже друзей (порой весьма обидно). Свободно вел себя за столом, не считаясь с правилами этикета, и многое другое. Но его всегда любили и многое ему прощали.
Но вольность и пренебрежение к законам кино, и в первую очередь нередкое беспечное отношение ко многим важным деталям, часто серьезно подводили его. Можно снимать кино по своим собственным правилам, но в таком случае необходимо быть последовательным до конца. Вольность, беспечность, небрежность и произвольные игриво-шуточные решения недопустимы. Искусство не прощает того, что зачастую прощают друзья.
Затронув в этой главе тему близости Параджанова с Тарковским, отметим и то, что их отличало.
Тарковский на съемочной площадке всегда оставался собранным, натянутым как струна, твердым, последовательным и с искусством всегда был на «вы». В своем диалоге с творчеством он не допускал никаких вольностей.
Какой короткой сделалась дорога,
Которая казалась всех длинней.
Если представить все события, последовавшие после завершения «Ашик-Кериба», в виде фильма, то возможный монтажный стык выглядел бы так…
Трубят победно в свои раковины Алид и Валид, крутится на их фоне земной шар, дальше — хроника: Параджанов на Венецианском фестивале, на фестивале в Мюнхене, Стамбуле, Нью-Йорке, Лиссабоне и т. д. и т. п.
Этого кинематографического счастья Параджанов долгие годы был лишен. И потому дальние страны стали его заветной, практически несбыточной мечтой. Эту мечту о дальних странах, о заветном Париже он много раз изобразил в своих рисунках, на одном из них изображена и Эйфелева башня, и колючая проволока, которая обступила его. Можно представить, как горько было для него вечное кружение по четырем городам: Москва, Киев, Ереван, Тбилиси. А ведь в душе он всегда был Одиссеем, рвался открывать дальние страны, новые острова. Моряк без моря, путешественник без путешествий…
И вдруг! Сахаров возвращается после горьковской ссылки, радио «Свобода» больше не глушат, а он — выездной, выездной, выездной!
Справедливости ради надо сказать, что этот заветный старт начался раньше. Сначала он вывез «Легенду о Сурамской крепости», но основные путешествия пришли позже. Первый раз он выехал за границу в феврале 1988 года на кинофестиваль в Роттердам. Снова была зима, снова где-то в снежной метели мчался на белом коне святой Саргис. Параджанов уже не был тем юношей в смешном тулупе и с набитой сумкой, впервые отправившимся открывать мир, но некоторые провинциальные привычки сохранил. Иначе чем объяснить, что он захватил с собой несколько больших головок овечьего сыра. Ехать со своим сыром в Голландию все равно что с самоваром в Тулу. Его сыр с ядреным густым запахом в Роттердаме успехом не пользовался. Зря тащил. Хотя, как сказать… Об этом своем путешествии он написал небольшую новеллу.
«Меня в мои 63 года по утрам будил либо должник, либо еще какой-либо ненужный мне человек. А сегодня меня разбудила городская ратуша. Били куранты… Я увидел окно… Оно ослепило меня… Я подумал: что это там творится?
Оказалось — чайки… Они прилетели к шикарному отелю „Хилтон“ и кружили вокруг моего окна с криком. Но криков я не слышал. Окна были закрыты!
Я видел, как они царапали стекло своими розовыми лапками, падали и взлетали… Что-то требовали… Сотни, тысячи чаек! Что за мистика? Почему у моего окна?
Я совсем забыл! Ведь это сыр! Сыр, который висит за моим окном! Четыре килограмма сыра не вмешал мой мини-бар, и я выставил его за окно.
Я привез дорогой кавказский сыр — угостить. Надо мной в Тбилиси все смеялись. Говорили: роттердамцы не кушают чужой сыр, они гордятся своим.
Но чайки налетели на мой сыр и жадно клевали и царапали лапками мешок, в котором он висел. Наш советский капроновый мешок — матерый, кондовый, не впускающий воздух и выпускающий воду, выдержал. Он оказался сильнее, чем капиталистические мешки, — птицы не смогли прорвать его своими клювами. Мешок победил. Для голландцев, наблюдающих за моей судьбой…
Если через несколько лет в Роттердаме кто-нибудь увидит чайку, штурмующую окно на шестом этаже „Хилтона“, это значит — или я молюсь за вас. Или я уже умер…»
Эта небольшая новелла позволяет еще раз вспомнить, насколько Параджанов был одарен и в литературном плане. И снова удивительное пророчество… Снова предчувствие ухода. Снова подтверждение тому, с каким настроением он в январе 1988 года начал работу над «Ашик-Керибом».
Роттердам остался в его памяти, как первая любовь. Первая дальняя страна… И позже, уже успев побывать во многих более красивых городах, чем этот портовый город, он на вопрос, какой город произвел на него наиболее сильное впечатление, удивлял своим ответом:
— Роттердам! Самый красивый город!
Как было объяснить журналистам на разных пресс-конференциях, что означал для него первый выезд за рубеж. Понять такое может только гариб. Именно об этой отверженности он снимал в тот год свой фильм.
Всю жизнь общаясь с Параджановым, я не мог избавиться от впечатления, что так, наверное, видели, ощущали мир люди античности. Постоянная жизнерадостность, восхищение всеми красками бытия, полнокровность чувств, желание снова и снова восклицать: «Хайре!» (Радуйтесь!). Жажда открывать мир, иронизировать и смеяться, бросать вызов року и всем тайным, иррациональным силам.
Он существовал в нашей действительности, как существуют старинные амфоры и кратеры, пришедшие из глубины веков, но по-прежнему готовые принять в себя терпкую влагу вина, одарить радостным хмелем, восхитить совершенством своих форм.
Самым удивительным в нем была неиссякаемая энергия. Тем тревожнее было наблюдать за появлением в его характере новых черт: скепсиса, апатии, равнодушия. А ведь он всегда был моложе всех молодых, мог замотать любого. Помню, как, сопровождая его в бесконечных прогулках по арбатским переулкам, в которых в те годы еще встречались старые антикварные магазины, я намного раньше него «сходил с дистанции». Сил просто не оставалось при всей разнице лет. Он редко что-либо покупал, но как неутомимо всем восхищался! Как жадно раздувались его ноздри при виде красивых или редких вещей, в которых он знал толк.
Теперь в открывавшихся перед ним дальних странах изысканная красота всевозможных вещей обрушивалась на него лавиной, утоляла малейшую жажду. Недаром в очень старой книге сказано: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом…» Это его «хождение в мир» было похоже на то, как человека, всю жизнь просидевшего на сухарях и воде, вдруг начинают потчевать изысканными яствами.
Для него пришло время раскрывающихся объятий. Откуда же этот странный минор? Ведь все сбылось, все было как в сказке! Поездка за поездкой, фестиваль за фестивалем, приз за призом. И наконец, фильм за фильмом! Снимай что хочешь! Доставай все спрятанные сценарии, выводи на экран все затаенные мечты!
А он на фестивале в Нью-Йорке на вопрос, что хотел бы снять, ответил:
— «Травиату».
— Но почему?
— Потому что там Виолетта кашляет и говорит: «Поздно, Альберт! Поздно…»
Послушаем воспоминания Коры Церетели, сопровождавшей его в поездке на Стамбульский фестиваль с фильмом «Ашик-Кериб».
«По утрам я заставала его грустным и задумчивым. К фестивалю он не проявлял никакого интереса. В последний день его работы мы, как обычно, в старой части города, на базаре. Медленно движемся по сверкающему всевозможными золотыми изделиями коридору. Вдруг в просвете у самого входа замечаю фигуру одного из администраторов фестиваля, который подпрыгивает, машет рукой, пытаясь привлечь наше внимание. Выясняется: Параджанова разыскивают по всему городу. Он получил одну из основных наград — спецприз жюри фестиваля за „Ашик-Кериба“… Я хватаю Сергея и волоку к выходу…
Мы вваливаемся в зал — потные, запыхавшиеся и разгоряченные. Аплодисменты в зале долго не смолкают. Сергей произнес тогда самую яркую, самую удивительную речь, которую мне когда-либо приходилось от него слышать.
Он говорил о бессмысленности и жестокости противостояния двух народов-соседей: армян и азербайджанцев. О том, что, когда в Карабахе началась война, он монтировал свой „Ашик-Кериб“ — фильм о восточном ашуге. Говорил о том, как он любит народное пение ашугов, о том, сколько друзей он приобрел в Баку, когда снимал фильм… Закончил он словами: „Бог един!“
И вот, наконец, все кончено, и мы направляемся к гостинице. Идем пешком — гостиница рядом… Я замечаю группу молодых турок, движущихся следом за нами. Яростно жестикулируя и о чем-то споря, они постоянно бросают на нас выразительные и весьма недружелюбные взгляды. Наконец, от толпы отделяется молодой человек, подходит ко мне, сует в руку записку, и наши преследователи отступают в полумрак улицы. Мы уже подходим к ярко освещенной гостинице „Мар-мара“, и, развернув зажатую в кулак записку, я читаю: „Ты, жалкий кинорежиссеришка! На этот раз мы прощаем тебя. Не смей упоминать Карабах. Да здравствует Азербайджан!“ И подпись: „Молодые поэты Турции“.
В вестибюле гостиницы я облегченно вздыхаю. Наш спутник, местный армянин, который все это время напряженно прислушивался к спору за нашей спиной, осеняет себя крестом и громко произносит: „Благодарю тебя, Господи!“
И тут Сергей наконец выходит из своего транса и буквально набрасывается на нас с вопросами: „Что происходит? Где? Когда? Почему мне не сказали?“
Я перевожу ему записку, а наш спутник рассказывает, как он услышал, что на нас готовилось покушение. Начинается крик на всю гостиницу.
— Как посмели мне не сказать! Как могли скрыть от меня!
— Если бы я тебе об этом сказала, ты непременно спровоцировал бы покушение.
— Вот и прекрасно! Вот было бы здорово!.. Меня бы убили и привезли в Тифлис, как Грибоедова!
— Но Грибоедова убили в Иране.
— Боже! Какая ограниченность! Какое это имеет значение!»
Еще одно желание заглянуть в бездну? Но зачем? Почему? Все это происходило в апреле 1989 года…
А 7 июня он еще успел сказать: «Мотор!» Это было в день первой съемки нового фильма «Исповедь». Он же стал и последним…
Иные лекарства опасней самой болезни.
Белый титульный лист. На нем одно короткое слово: «Исповедь». Название сценария. На белом листе рисунок карандашом: два ангела в небе. Они летят с развевающимися пальмовыми ветками. И несут с собой благодатный дождь.
На земле, укрывшись зонтом, стоит человек. Он стоит у съемочной камеры. Вглядывается в окуляр. Узнать его нетрудно. Это Параджанов. Автопортрет, дополненный крыльями за спиной. Такие ироничные рисунки Параджанов делал часто.
В данном случае интересен не сам рисунок, а написанные рядом слова. Слова страшные: «Мечта! Несбыточная. В века!»…
Среди множества сценариев Параджанова отношение к этому еще одному нереализованному проекту было особое. Он выделял эту работу из всех. Хотя, прямо скажем, сейчас трудно определить, действительно ли этот проект был лучшим из того, что он создал? Замечательных, ярких замыслов и интересных находок было гораздо больше. Объективный анализ невозможен. Ясно одно: этот проект он любил больше других. Почему?
Предоставим слово ему самому.
«В 1969 году у меня было двухстороннее воспаление легких.
Я умирал в больнице и просил врача продлить мне жизнь хоть на шесть дней. За эти шесть дней я написал сценарий. В нем идет речь о моем детстве. Когда Тифлис разросся, то старые кладбища стали частью города. И тогда наше светлое, ясное, солнечное правительство решило убрать кладбища и сделать из них парки культуры, то есть деревья, аллеи оставить, а могилы и надгробья убрать. Приезжают бульдозеристы и уничтожают кладбище. Тогда ко мне в дом приходят духи — мои предки, потому что они стали бездомными. Мой дед, и моя бабка, и та женщина-соседка, которая сшила мне первую рубашку, тот мужчина-сосед, который первый искупал меня в серной бане. В конце я умираю у них на руках, и они, мои предки, меня хоронят.
Из всех моих ненаписанных и непоставленных сценариев я бы хотел поставить сначала этот. Я должен вернуться в свое детство, чтобы умереть в нем».
Сразу скажем, что этот замысел родился у Параджанова за много лет до того, как Феллини совершил свое путешествие в детство и подарил нам свою исповедь — замечательный фильм «Амаркорд» («Я вспоминаю»). До другой потрясающей биографической исповеди — «Зеркала» Тарковского — тоже еще должно было пройти много лет.
Параджанов хотел совершить путешествие в страну детства, еще только завершив работу над фильмом «Цвет граната». Может, поэтому такая удивительная перекличка с последними строками сценария, где герой, ищущий истину, умирает.
«Эпилог сценария „Исповедь“ я дописал, когда на Московском кинофестивале встретил великую немую — Лилиан Гиш.
Так умер Человек — Человек, ищущий истину».
Смерть главного героя фильма совмещена со встречей с великой актрисой немого кино Лилиан Гиш, чей немой крик отчаяния до сих пор звучит с экрана и по-прежнему рвет не барабанные перепонки, а сердце… Глубоко символично и то, что сценарий начинается со слов: «Я умер в детстве!»
Этот долгожданный проект пришел к своему воплощению более чем через двадцать лет. Написав сценарий в 1969 году, Параджанов дал команду «Мотор!» в 1989-м… Его интуиция на этот раз подвела. «Мечта! Несбыточная. В века!» сбывалась на глазах. Были закуплены и сшиты все костюмы. Закуплен и привезен на съемочную площадку весь реквизит, в том числе и огромный прозрачный занавес из черного тюля, и три гроба — для трех дублей.
Первый съемочный день начинался с похорон Веры!
Господи! Кто творит наши мизансцены?.. Не бездна ли…сама умеющая глядеть в упор.
Но сначала расскажем о том, как стала осуществляться эта несбыточная мечта.
Уже второй фильм был снят Параджановым на студии «Грузия-фильм». А на «Арменфильме» была гробовая тишина. Ни освобождение из заключения, ни начатую им в соседней республике яркую творческую деятельность руководство армянского кино не заметило, а вернее, делало вид, что ничего не слышит и не видит. Почему?
То, что грузинский кинематограф был одним из самых интересных среди национальных кинематографов, очевидно. Множество замечательных фильмов говорят сами за себя. И все же дело не только в том, что здесь собрались яркие личности. Яркие личности тоже, как редкие растения, нуждаются в тщательном уходе. И здесь грузинскому кино повезло. Студию долгие годы возглавлял такой признанный классик кино, как Резо Чхеидзе. Его «Отец солдата» и другие замечательные фильмы в представлении не нуждаются. Хороший режиссер и, более того, столь же хороший человек. Вот это сочетание, прямо скажем, уже встречается гораздо реже. То, как Чхеидзе пестовал молодых режиссеров, как терпеливо давал им возможность выразить себя, даже несмотря на первые неудачи, отдельная тема. Такого отеческого отношения, такого стремления поддержать, подставить свое сильное плечо не было нигде. Ни на одной студии. Он как замечательный садовник вырастил щедро плодоносящий виноградник. Вот и вино оказалось таким благоухающим.
Роль Чхеидзе в «возвращении» Параджанова трудно переоценить. Откроем одну из страниц его воспоминаний:
«…И вот я в кабинете у Филиппа Тимофеевича Ермаша, министра кинематографии СССР. Мы обговариваем ряд вопросов, и я перехожу к теме Параджанова.
— Параджанов — гениальный режиссер, яркое проявление советской культуры, и ему надо помочь. Шеварднадзе одобряет такое решение. Пожалуйста, не противьтесь его освобождению (речь о заключении в Ортачальской тюрьме. — Л. Г.)
Филипп Тимофеевич сразу как-то насупился, опустил голову и стал перебирать бумаги у себя на столе.
Потом отвечает мне, не поднимая головы:
— Ну, освободим мы его… И что дальше? И где он будет работать? Ни одна студия не хочет его принять.
— На киностудии „Грузия-фильм“, — отвечаю. — Я как ее руководитель беру на себя ответственность.
Ермаш, продолжая разглядывать бумаги, произносит сухим, официальным тоном:
— Ну что ж… По советской конституции каждый гражданин имеет право на труд.
— Значит, договорились?
— Получается, что так… Раз вы готовы дать ему работу. — И снова повторяет: — По советской конституции у нас каждый имеет право на труд».
Итак, конституция восторжествовала! Оценим бюрократическое изящество Ермаша. Правда, во всех остальных зигзагах судьбы Параджанова конституция была нема как рыба. Чтобы «задействовать» конституцию, нужна была такая рыцарская смелость, какой обладал Резо Чхеидзе, и которая напрочь отсутствовала у руководителей армянского кино. Госкино в Армении было своеобразной «скамейкой запасных». На нее усаживались различные партийные функционеры, дожидавшиеся дальнейшего роста и «брошенные» на кино из различных райкомов или из аппарата ЦК. Зачем им было рисковать ради Параджанова? Ввязываться в переговоры, брать на себя ответственность…
Таким классическим функционером был в те годы председатель Госкино Армении Рафаел Самсонов. Результат известен. Не видим, не знаем, не замечаем…
Ситуация резко изменилась после знаменитого Пятого съезда Союза кинематографистов СССР, осуществившего первые решительные перемены. Наконец-то студию «Арменфильм» возглавил профессионал — режиссер Фрунзе Довлатян, известный прогремевшим в свое время фильмом «Здравствуй, это я».
Собрав команду единомышленников, он специально приехал в Тбилиси с карт-бланшем: «Сергей, что бы ты хотел снять? О чем мечтаешь?» У Параджанова было несколько сценариев, связанных с армянской тематикой. Давно написанные «Ара Прекрасный» и «Давид Сасунский». Но выбрал он, конечно, старую мечту — «Исповедь»…
Хотя, надо сказать, были и другие соблазны. Только что был завершен очень интересный сценарий «Мученичество Шушаник», написанный по мотивам произведения Иакова Цуртавели, древнейшего из дошедших до наших дней литературного памятника грузинской культуры (вторая половина V века). К этому сценарию он создал и интереснейшие эскизы. Этот проект, написанный специально для Софико Чиаурели и дающий возможность актрисе выступить в серьезной трагической роли, о которой она давно мечтала, он также очень хотел представить на экране.
Но в это время в Грузии, как и по всей стране, стали усиливаться националистические настроения. Объектом неожиданной критики стал и Параджанов. Газета «Литературули Сакартвело» обвиняла Параджанова в злостном искажении национальных традиций в фильме «Легенда о Сурамской крепости», недопустимой вольности в создании образа Пиросмани в фильме «Арабески на тему Пиросмани» и так далее. Стали распространяться слухи, что Параджанов готовит новую диверсию против такой святыни, как произведение Иакова Цуртавели, отнесясь к нему без всякого почтения и внеся различные импровизации.
Но как художник, создающий собственное произведение искусства, он имел на это право. Так было и в интересном, и тоже достаточно смелом сценарии «Слово о полку Игореве», и в «Давиде Сасунском», да и в том же «Цвете граната», где он во многом по-своему представил биографию Саят-Новы.
Кстати, и Пазолини в своих работах стремился создать в первую очередь интересные образы, по-своему интерпретируя классические сюжеты. Зато теперь мир стал богаче, получив «Царя Эдипа» и «Медею» в версии Пазолини.
Но на этот раз вокруг Параджанова разгорелись нешуточные страсти. И Резо Чхеидзе, всегда очень бережно относившийся к Параджанову, запер в свой сейф сценарий «Мученичество Шушаник», строго-настрого запретив ему всякое упоминание о нем, чтобы погасить бурные дискуссии и достаточно злые обвинения. Там он, к счастью, и сохранился.
Здесь необходимы некоторые комментарии.
Как было уже сказано, Параджанов обожал делать подарки гостям, а когда такой возможности не было (что случалось очень часто), то дарил им свои сценарии, новеллы, разные интересные письма, телеграммы. Именно поэтому сегодня собрать полный архив Параджанова почти невозможно. Со многими пробелами и неизвестными подробностями пришлось столкнуться, к сожалению, и в этой работе. Некоторые получившие эти дары продолжают считать их своими, но многие поступили очень благородно, возвратив полученные документы и сценарии, и потому в Музее Параджанова сегодня собрано немало подлинников.
Вот так и сложилось, что все дороги вели к «Исповеди»…
Надо было решить, где работать дальше — в Грузии или Армении, и Параджанов снова, двадцать лет спустя, оказался в Армении. Хотя действие «Исповеди» протекает в Тифлисе, такое решение вполне органично вписывалось в этот многоязычный город.
Что же здесь происходит? Приведем некоторые фрагменты этого сценария.
«Тбилиси — некогда Тифлис — отличается и отличался от всех других городов предрассудками.
Если курица кричит петухом — это к смерти.
Если зимой белым цветом зацветает вишня — это к смерти.
Тетя Аничка, женщина с зобом, в платье из черного сатина, догоняла черную наседку, прокричавшую петухом.
На белом снегу осталось красное пятно, над которым колыхался и взлетал черный пух. Потом тетя Аничка схватила топор.
На балконах стояли соседи и требовали срубить вишню. Вишня зацвела зимой белым цветом.
Муж тети Анички, дядя Васо, прокуренный портной, пытался выхватить у нее топор. Валились, издавая странные звуки, оцинкованные тазы. Аничка проклинала, плакала, захлебывалась в слезах, вырывалась из рук портного Васо.
Из-за прокопченных занавесок выглядывала Вера, младшая дочь портного.
Вера — ее то и дело увозили в Абастуман (горный курорт, где лечат от туберкулеза). В школу она ходила редко. Вера была высокая, красивая, выше всех в классе, с синими глубокими тенями под глазами…
Сейчас Вера выглядывала из окна. Прокопченные кружевные занавески колыхались.
Аничка рубила ствол вишни, проклинала ее, плакала…»
Мы привели лишь один из фрагментов этого сценария, действие которого намного богаче и парадоксальней. Но даже этот фрагмент позволяет судить, какой замечательный фильм-воспоминание мы могли бы получить, если бы судьба позволила этому проекту выйти на экран. А выбрали мы его потому, что именно с него начал съемки Параджанов. Смерть красавицы соседки (а Вера умирает) произвела в детстве на Параджанова неизгладимое впечатление. В его жизнь впервые ворвалась — смерть! Тогда он впервые ощутил дыхание Танатоса… Не в трудах Фрейда, а в своей душе ощутил он «травму сознания». И это грозное дыхание преследовало его всю жизнь, снова и снова волновало его воображение.
Герои всех его фильмов выходят на встречу с Танатосом. Идет к ней Иван в «Тенях забытых предков»; ложится на холодный мраморный пол, чтобы принять смерть, Саят-Нова, найдя наконец то, что искал всю жизнь; уходит в каменную стену Зураб, чтобы снять проклятие. В «Ашик-Керибе», как и полагается в сказке, счастливый финал. Но выпорхнувшая из рук голубка садится в последнем кадре на съемочную камеру Тарковского. И это еще одна встреча с Танатосом.
Всю жизнь во всех своих фильмах он вновь и вновь воспевал любовь, снова и снова рассказывал «о странностях любви», о неисповедимых прихотях Эроса. На корабле множества его «одиссей» всегда сидел и один из аргонавтов — Орфей. Но рядом сидел и Танатос…
Травма детского сознания осталась навсегда.
И вот сейчас он не заканчивал фильм смертью, а начинал — с похорон.
Съемочная группа работала слаженно. Было получено строжайшее указание нового директора «Арменфильма» Довлатяна — выполнять любую прихоть Параджанова. Нужен огромный траурный занавес, завешивающий весь двор, достанем. Нужны для разных дублей разные гробы — принесем лучшие, только выбирай. Весь дом заполним. Так и случилось: его отчий дом, а снимал он именно там, где разворачивается действие сценария, был заполнен гробами.
Впрочем, как и всегда в кино, первый день был веселым. Шумела массовка, гримировались актеры, кричали осветители, выполняя указания оператора. Все соседи, высыпав на балконы, оживленно комментировали происходящее. Чего они только не видели с этим беспокойным соседом… И приезд Марчелло Мастроянни, и концерт Высоцкого, и визит всего театра Любимова, когда вино разливалось из самоваров. Всего и не перечислишь. А вот как снимается кино — впервые. Никто еще не знал, что это в первый и последний раз…
На следующий день была попытка продолжить сцену. И вдруг из горла Параджанова хлынула кровь. Он начал 20 лет назад этот проект, задыхаясь от воспаления легких. И закончил его, задыхаясь от рака легких…
Господи! Кто творит такие мизансцены?.. Чья фантазия…
Последний кадр отснятого материала. Ползет занавес из черного тюля. Закрывает балкон, с которого когда-то смотрела Вера! И Надежда… и Любовь… Все это — тоже было в этом доме. Все это тоже смотрело когда-то из этих окон…
А может, художники действительно знают, когда им означен уход? Почему он тогда в Мюнхене сказал эти странные слова?
Перебирая в памяти события того времени, вспоминается еще один факт.
Кроме эскизов к «Мученичеству Шушаник» он сделал тогда подарок для Софико Чиаурели. Странный, скажем прямо. Целый альбом, посвященный теме смерти. Рисунки эти одни из самых лучших в его изобразительном творчестве. К сожалению, в Музее Параджанова их нет и увидеть их сегодня практически невозможно. Но видевшие эти рисунки однажды, запомнили их на всю жизнь.
Вновь и вновь женщина в тиаре с трагически полузакрытыми глазами. Толи закрывает глаза, то ли поднимает их… А может, это и был — взгляд Бездны? Может, увидев однажды этот поразительный взгляд, он захотел запечатлеть ее портрет? И подарить своей Музе. Той, кто всегда была с ним рядом во всех его фильмах. Заканчивается этот цикл портретом Смерти. Череп с таким же тяжелым взглядом. И — удивительное решение — вместо зубов прикреплена металлическая расческа. Эффект поразительный! Обыкновенная расческа трансформируется в безжалостный оскал.
Зачем он снова и снова смотрел в бездну, зачем звал ее? Слишком много фактов подтверждают этот его зов. Почему создал этот странный альбом? Зачем начал снимать в отчем доме и начал со сцены смерти? Разве мало было иных сцен?
Приведем еще один фрагмент сценария — конец этого так и не законченного фильма. В нем тоже весь Параджанов.
«Они — бабушки — все в черном шуршащем муаре и крепе…
Они выходят на нейтральную зону чистоты и тишины… и на цыпочках вступают в сиреневый предрассветный туман Тбилиси. Крадучись идут по сонному Тбилиси…
Идут по трамвайным линиям проспектов, и по их следу на трамвайных путях остаются растерянные ими золотые монеты…
Они как одна подходят к шкафу, который висит на металлическом тросе. Они, боящиеся грозы, электричества, газа, пультов ракет и бульдозеров, смеются над пультом и бьют его кулаками…
И пульт гудит! И натягивается трос! И плывет в гору шкаф с незакрытой дверью.
И наши предки — хохочут над городом…
И в абсолютной тишине на верхнюю станцию фуникулера приходит и останавливается с открытой дверью пустой шкаф!»
В июле, через месяц после этого памятного дня, я увиделся с ним в Москве, в больнице, где ему сделали серьезную операцию, удалив легкие, пораженные метастазами на 70 процентов. Успокаивали, что снова все восстановится.
Выглядел он неплохо, хотя лицо, конечно, было осунувшееся.
Хорошая отдельная палата. Телефон, холодильник, телевизор. Увидев телевизор, я обрадовался. В это время передвижение по городу совершалось бросками — от телевизора к телевизору… Вся страна приникла к телеэкранам. Лето 1989… Шел знаменитый Съезд народных депутатов СССР. Впервые действительно народных. И знаменитые ораторы выходили на трибуну и говорили знаменитые речи. Кого только тогда не услышали… И Сахарова, и Евтушенко, и Старовойтову.
На вопрос, смотрит ли он этот исторический съезд, Параджанов равнодушно пожал плечами. Как!!! Он, самый свободолюбивый из свободолюбивых, диссидент из диссидентов, и не включает телевизор? Не наслаждается, не упивается ветром свободы, нежданно-негаданно обрушившимся на нас? Нет… Этот театр политики его по-прежнему не интересовал.
Сняв за свою жизнь четыре фальшивых фильма — с чужого голоса, и четыре искренних, своих, он знал искусство режиссуры как свои пять пальцев. А уж в театре марионеток сразу видел всех кукловодов и предугадывал все последующие сцены. Его способность определять подлинные ценности не изменяла ему никогда. И потому он сразу браковал фальшивые фильмы, фальшивые бриллианты, фальшивые произведения искусства. Вот только в людях не всегда умел разбираться… Не фильтровал, не браковал, не отсеивал, с ними он был добрее, терпимее.
Набравшись смелости, я спросил, когда он планирует продолжить съемки. В ответ был острый взгляд.
Привлекала внимание одна деталь… Он все время пытался разглядеть шрам, оставшийся после операции, и даже попросил подержать перед ним небольшое зеркало для бритья.
Шрам был огромный. Он начинался чуть ниже сердца, и, опоясав дугой всю грудную клетку, уходил на спину.
Он был весь «вынутый».
На вопрос, что беспокоит и не болит ли шрам, он горько выдохнул:
— Из меня все достали… Я пустой!..
Почему-то в памяти возник придуманный им гениальный образ — пустой шкаф, повисший над опустевшим городом. Городом, у которого украли его прошлое, его воспоминания… его могилы…
Так он завершал свой давно, 20 лет назад, задуманный фильм. И так кончал свою жизнь. Выпотрошенным, опустевшим шкафом, хранившим так много дорогих воспоминаний.
Все было непривычно удобно в этом его «новом доме». Здесь было все то, чего не было у него никогда в тбилисском доме. Теплый туалет рядом, не общий, не коммунальный. Телефон, телевизор, холодильник, полный продуктов и всяких деликатесов.
Все это перечеркивала одна деталь… Огромный шрам, пересекающий всю грудь от сердца до спины. Знак того, что из него извлекли возможность вдыхать жизнь полной грудью…
Последняя черта… граница…
В этом же году, который начинался так весело и беззаботно и был подобен сундуку, полному надежд, состоялась еще одна встреча.
Стоял ноябрь. Мокрые улицы Тбилиси, мокрый знакомый двор, мокрый балкон и насквозь сырая комната отчего дома, в которой он исходил мучительным кашлем остатками своих легких.
С первого же взгляда вопрос о каком-либо продолжении работы над фильмом отпадал напрочь. Черта была проведена… И для этого даже не надо было обнажать шрам, теперь укрытый под свитерами и теплыми халатами. Если мысль, что никакого кино больше не будет, была так нестерпима для меня, то как же она истязала и мучила его! Но на этот раз об этом не было сказано ни слова.
Как всегда, в доме были гости. Но все было по-другому. Теперь он только лежал и даже не пытался быть гостеприимным хозяином. Это все осталось за «чертой».
А из-за границы шли приглашения за приглашением. На столе лежала целая стопка самых заманчивых, самых желанных предложений. Приезжай, снимай, выступай. Все оплачено, все забронировано. Все ждут! Это была даже не ирония судьбы, это был сарказм судьбы!
Протянув мне эту стопку и уловив вопрос в глазах, ответил:
— Поздно, Альберт! Поздно…
И зашелся куда более страшным, глухим кашлем, чем у Маргариты Готье.
Кроме непривычной атмосферы в этом таком знакомом доме, была и непривычная обстановка: дом был почти пуст. Словно предчувствуя, какая злоба, ненависть и нетерпимость, словно гигантская волна цунами, скоро захлестнет этот самый доброжелательный и гостеприимный из городов, словно увидев с высоты своей интуиции, какие пожары скоро запылают именно здесь, в самом центре, почти под самыми его окнами, он отослал все в Ереван, в дом, который вскоре станет его музеем и сохранит всю уникальную обстановку и сбережет большинство его работ. Это было разумно, но больно… Возникшая в его судьбе темная черта шрама отсекала всё!.. Дом детства, дом сказок, чудес, гостей, незабываемых встреч…
Его корабль отплывал из Тбилиси первым. Скоро за ним потянется в самые дальние страны целый караван. Город, который всегда принимал в свои стены беглецов, сам ударится в бега…
Среди гостей зашел, конечно, разговор о политике, о чем еще можно было говорить в этот год, так внезапно нарушивший великую тишину?
Стоял ноябрь, а какая была улыбчивая весна, какие солнечные перспективы! Уже должна была бы быть завершена новая картина. Уже ждали ее новые фестивали, не знавшие о шраме, рассекшим всё…
И такое было нарядное и веселое начало, что даже все его инфернальные попытки заглянуть в бездну представали тогда очередной игрой.
Зачем она пришла и взглянула сама!
Неужели интуиция опять не подвела: «Мечта! Несбыточная! В века!»
В этом сценарии, описывающем множество достоверных реалий города его детства, так же много и откровенно сюрреалистических решений, полных мистики и удивительных предсказаний…
В тот день, слушая горячие споры гостей о будущем, о больших надеждах на обновление, Параджанов только иронично улыбался. Он, никогда не изучавший исторические фолианты, и без них знал, что бесплатных революций не бывает.
Может, поэтому, как страшный итог, поднял над городом пустой шкаф.
Зачем было это пророчество? Зачем смотрел он в бездну?
Но в том-то и дело, что нам не видать,
когда Ему выпадет нас испытать
на силу, на волю, на долю.
Дальнейшая жизнь была закручена в такую стремительную спираль событий, что встретиться с Параджановым удалось только через полгода.
В это время его все бросились снимать. Дом на горе, который пытались когда-то окружить безмолвием, сейчас гремел на весь мир и превратился в студию документальных фильмов, где съемки шли чуть ли не каждый день.
Увы, в этих кадрах нет былого Параджанова… Это другой человек рассказывает, дает оценки и раздает полезные советы. При этом чувствуется, как все это его раздражает. Он злой и усталый. Ему не нравится вся эта суета. Он, всю жизнь не терпевший никакого насилия, впервые «работает» из-под палки, отрабатывает заказ.
В перерывах были врачебные осмотры и консилиумы, поездка в санаторий, из которого он сбежал, и наконец еще одна поездка.
Не выдержав искушения, в начале 1990 года он снова отправился в «дальние страны», выбрав из всех многочисленных приглашений самый край Европы — Лиссабонский фестиваль. Дальше уже был только океан, за которым Новый Свет, но там он уже побывал. Нью-Йорк — город стеклянных кубов и параллелепипедов, на него особого впечатления не произвел. Все механическое его никогда не вдохновляло. Он всегда был и оставался человеком античного мира с его жизнелюбием, лукавством и безупречным вкусом. Вдохновил бы строителей Парфенона стеклянный куб? Вряд ли… Вот и его это не воодушевило.
Он, конечно, мечтал увидеть Китай, Японию, Индию, но вдохнуть воздух этих стран оставшимися обрывками легких уже было невозможно. И потому, постояв на самом краю Европы, он свой последний маршрут направил в самую глубь континента. Откуда все начиналось… Где начал разматываться клубок этой динамичной протоарийской цивилизации — к шумерам, хеттам, армянам. К той удивительной цепи хромосом, продолжающей свою спираль через разные модификации, смену столиц, религий, правителей, но при этом удивительно сохраняющей верность своему геному, передающему снова и снова страсть к труду, созиданию красоты и познанию мира. Пение этих древних труб звучало все громче. И он поехал заканчивать свой путь — к началу, к тем самым предкам, которые не давали себя забыть и просыпались в крови снова и снова.
Он вернулся в Армению и поселился в доме своего старого друга, с которым когда-то учился во ВГИКе. Этим другом был Гурген Мисакян, и учился он на операторском факультете. За что-то его отчислили, но этот шумный, жизнелюбивый и трудолюбивый гигант не стал переживать и, вернувшись в Армению, начал жить не тужить, открыв фотомастерскую, которая стала одной из лучших в городе. Его гостями были и Вильям Сароян, и Шарль Азнавур, и множество других известных людей, чьи подлинно художественные портреты остались благодаря мастерству выгнанного когда-то студента.
Бурная дружба этих двух неимоверно шумных людей продолжалась всю жизнь, хотя при каждой встрече они так яростно и ожесточенно спорили, что не знающие их люди ждали драки. До драки дело не доходило, зато дошло до замечательных фотопортретов Параджанова. При всем том, что Параджанова снимали много и многие, именно портреты Мисакяна, на мой взгляд, самые удачные. На них предстает не тот театр, который Параджанов разыгрывал перед объективом, а именно он сам, оставшийся в тиши фотолаборатории наедине со своим верным другом и сокровенными мыслями.
Уезжая из ВГИКа, Гурген захватил с собой «трофей», своеобразную контрибуцию за причиненный ему урон — увез одну из самых лучших и красивых начинающих актрис. Ее звали Галина, и именно о ней стоит поговорить отдельно, ибо то, что она сделала для Параджанова, не сделал больше никто. При всем многочисленном списке именитых и состоятельных друзей.
К тому времени, когда Параджанов поселился в доме Мисакяна, самого Гургена уже не было в живых. Остался его большой двухэтажный дом, всегда щедрый, всегда шумный и при этом образцово патриархальный, со всеми армянскими традициями, в который так неожиданно сейчас вошла тишина. Остались два красавца сына, которых Галя подарила этому дому. Но они, давно уже став самостоятельными, держали свой путь.
Параджанов буквально приполз в Армению и вошел в этот дом уже очень больным. Пребывание на краю Европы отняло все силы. Конечно, посещение этого последнего фестиваля было явной авантюрой, но когда он жил иначе?
Галя была литовкой и, несмотря на то, что стала образцовой армянской матерью и хозяйкой, со всем своим литовским трудолюбием тщательно изучившей все тонкости армянской кухни, всегда оставалась здесь белой вороной. Может, потому, что, так и не реализовав себя как актриса, она при этом оставалась всегда мечтательной, творческой натурой. Писала новеллы, статьи, но все это ложилось в стол и тоже оставалось неосуществившимися мечтами. Параджанова она обожала со всей своей сохранившейся католической истовостью и теперь с такой же истовостью приняла на себя служение этому тяжело больному человеку, так внезапно возникшему на пороге ее дома. А был он теперь, прямо скажем, очень плох. С трудом передвигался, с трудом говорил, с трудом ел и с трудом (что таить) справлял естественную нужду.
Все это вспоминается потому, что когда-нибудь надо отдать должное тому удивительно преданному и труднейшему служению, которое взяла на себя Галя, его последний ангел. Так, как она ухаживала за ним в последние месяцы его жизни, не всякая жена, дочь или сестра могла бы ухаживать…
Именно тогда, весной, приехал в Ереван Юрий Мечитов, близкий друг Параджанова и его личный фотограф, изо дня в день терпеливо ведущий хронику его будней и праздников. Все это теперь собрано и издано в великолепном альбоме. Будучи страстным репортером, Мечитов приехал снимать в Ереван политический репортаж, и основания к этому его приезду были.
В то время в Армении сложилась парадоксальная ситуация. Еще существовал СССР и Армения продолжала оставаться его законной частью, и в то же время здесь лихорадочно шло создание своей армии национальной обороны. Уроки армянского геноцида 1915 года, когда была уничтожена большая часть нации, никогда не забывались.
Уже были случаи резни в Сумгаите, в армянских кварталах в Баку, на очереди было «очищение» Карабаха. Но Кремль, запутавшись в смутных играх, предпочитал ничего не знать, и потому «утопающие» принялись спасать сами себя.
Отсняв необходимые кадры, завершив свой репортаж, Мечитов попросил меня найти дом Мисакянов, чтобы продолжить свою фотолетопись жизни Параджанова.
В этот же день к дому подъехала съемочная группа с армянского телевидения, которая готовила репортаж о строившемся доме для Параджанова.
Так состоялся уникальный кино- и фоторепортаж о посещении Нового Дома. Параджанов успел потрогать его стены, задумчиво посидеть в «своем» дворе.
Но об этом дне поговорим чуть позже.
Весна набирала силу, все кругом цвело, и в этот раз мне довелось еще пару раз навестить Параджанова.
Уже говорилось, что с первых же дней его первого приезда в Армению мне пришлось сопровождать его, потом быть его ассистентом. Теперь, откликаясь на просьбу Гали и стараясь хоть чем-то ей помочь, оказался во время его последнего приезда в роли медбрата. Основную тяжесть забот взвалила на свои хрупкие плечи Галя, а я всего лишь немного помог ей, откликаясь на просьбу: «Помоги кормить, помоги отводить в туалет. Мне это трудно…» Она, тактичная как всегда, не договорила: «…как женщине». С Гургеном и с ней я дружил уже лет двадцать, и длинных объяснений не требовалось.
Один цветущий весенний день запомнился особо. Галя приготовила замечательный плов. Сергей ел с удовольствием, но руки его не слушались, и пришлось кормить с ложки. И вдруг он молча показал мне на дверь, ведущую во двор. Там возникла удивительная картина!
В проеме двери под цветущими деревьями стояла девочка. Она была вся облита розовым светом, он падал на нее через яр-ко-алый зонт, который она держала над головой.
Таким прекрасным может быть только видение. И Сергей, всегда такой чуткий к красоте, первым заметил его и обратил мое внимание.
Что-то удивительно знакомое-незнакомое, новое-старое показалось мне в этом его безмолвном и восхищенном жесте. А где слова? Где привычные шумные восторги? Проработав три года в Армении и сняв самый армянский фильм, он так и остался типичным тифлисцем, обожающим всем своим темпераментом шумные скандалы и громкие споры. Когда в ответ на свои яростные крики он слышал только глухие короткие ответы и видел упрямо сжатые губы, это приводило его в неистовство. А сейчас он так сдержанно, так лаконично, так по-армянски — без лишних эмоций — показал мне это дивное видение.
Галина внучка, постояв в проеме двери, ушла, а чудо девочки, осененной розовым светом, осталось в памяти навсегда как воспоминание о его последней весне.
Осталась и мысль, что на этот раз он приехал не как гость, он приехал на свою землю, стал теперь своим… Он знал, что шагов на этой земле ему осталось немного, и знал, что она его ждет. И этот зов земли он ощущал теперь, не нуждаясь в бурных эмоциях или громких объяснениях.
Тогда, 20 лет назад, когда он снимал свой армянский фильм, его окружали просто армяне. И, понимая все их слова, он не понимал их интонаций, не понимал их глухих голосов и упрямо сжатых губ.
Теперь, в эту свою последнюю весну, вернувшись к далеким предкам, Параджанов был удивительно сдержан и лаконичен, не драматизируя свой уход и не говоря громких слов, хотя приходилось ему нелегко. Он слышал этот тихий, но властный зов и спокойно откликнулся на него.
В эти дни рядом с ним встал еще один ангел. К нему приехала его вечная и истинная муза. В золотом сиянии волос и лучистых светлых глаз рядом села Светлана. С Галей они давно были подругами, и теперь обе были с ним рядом.
Но давайте послушаем рассказ Светланы.
«Мы давно были в разводе, но наши отношения никогда не прерывались.
Я приехала к нему в Армению, когда он уже был тяжело болен.
Был апрель. Чудная солнечная ереванская весна. Сережа сидел перед домом, а я рядом с ним. Мне так хотелось убедиться, что интеллект его еще сохранен! И вдруг мне пришла в голову мысль: „Сережа! Помнишь, как ты меня мучил, заставляя аккомпанировать романс ‘Не ветер, вея с высоты’?“ — спросила я его. „Да…“ — односложно ответил он. И я стала напевать:
— Не ветер, вея с высоты,
Листов коснулся ночью лунной…
Тут я остановилась: „Прости, я что-то слова забыла!“
Сережа вдруг продолжал, не искажая мелодии:
— Моей души коснулась ты.
Она тревожна, как листы.
Она, как гусли, многострунна!
Я снова запела:
Житейский вихрь ее терзал,
И сокрушительным набегом,
Свистя и воя, струны рвал,
И заносил холодным снегом.
Я снова остановилась, а Сережа закончил романс:
Твоя же речь ласкает слух
Твое легко прикосновение,
Как от цветов летящий пух,
Как майской ночи дуновение.
Какой это был для меня подарок! Я чувствовала, я знала, что болезнь еще не стерла его память, что он думает, мыслит, переживает…»
Весна постепенно перетекала в лето. Дни становились жарче и длинней. Азов земли все сильней и сильней… И текли, перетекали песчинки отмеренных ему мгновений, заполняя воронку, куда все стремительней затягивались оставшиеся ему дни и часы, приближая отсчет к последним минутам.
Это было понятно и ему, и всем… И все же многие пытались сделать уже невозможное и невероятное. Здесь надо особо отметить усилия Завена Саркисяна, будущего директора будущего музея, ставшего в эти дни фактически его душеприказчиком и старательно собиравшего в эти дни его обширное художественное наследие. Много сделала и влиятельная армянская диаспора во Франции, и в результате разных переговоров по личному указанию президента Миттерана был выслан специально оборудованный самолет, чтобы доставить Параджанова в Париж, где ему должны были сделать еще одну операцию.
Сам он упорно отказывался и от операции, и от поездки, мотивируя тем, что в Париже умер Тарковский.
Интуиция не подвела его и на этот раз, и все так и случилось… Обоих неожиданно уже в последние дни срочно повезли в Париж. У обоих был один и тот же диагноз — рак легких… Хотя оба никогда не курили.
Что так смертельно и так внезапно обожгло их легкие? Ведь по странному оскалу судьбы они именно в последние годы своей многострадальной жизни получили наконец полную свободу творчества. Неужели именно воздух свободы, который они с такой жаждой вобрали в себя, оказался смертельным для них?
Фактически он закончил свои дни в Париже, но для последнего вздоха прибыл в Ереван, куда его доставил специально оборудованный самолет. Назначенное свидание состоялось… Земля ждала…
Но именно там, в Париже, он начал свое последнее путешествие, которое закончилось 20 июля 1990 года.
Весть о смерти Параджанова нашла меня на берегу моря. Надо было срочно ехать в Ереван. Но как…
Время было тревожное. В горах и долинах Армении уже гремела артиллерийская канонада, уже летели с разрывающим душу воем противотанковые ракеты и взрывались противопехотные мины. Карабах — Черный Сад — пылал в беззвучной, страшной войне. Потому надо было сначала добраться до Тбилиси.
Доехав поздним вечером, узнал, что утром от киностудии отправляется в Ереван на похороны автобус. Делегация оказалась немногочисленной — разные технические работники студии «Грузия-фильм». Позже я узнал, что творческий состав вылетел специальным чартерным рейсом. Сев в большой красный «Икарус», вместе со всеми поехал в Ереван. Вот уже пересекли Куру и… направились в Азербайджан!
Я не учел, что грузинский водитель ехал по старой советской дороге… Он еще не знал, что ее больше нет! Что уже неумолимо вставали новые реальности. И теперь отныне и навсегда между прежними братскими республиками пролегли новые границы и новые дороги. Вот уже за окнами поплыл Кировабад, переименованный, как гласили свежие надписи, в Гянджу.
Последний армянин, путешествующий по Азербайджану.
Приближалась граница, а с ней и развязка… Солдаты с мрачными лицами вошли в автобус. По этой дороге уже который месяц никто не путешествовал.
— Куда едете?
— На похороны… Параджанова хоронить, — заголосил автобус.
Имя это солдатам ничего не говорило. Ни о каком «Ашик-Керибе» со всеми его азербайджанскими песнями они и не слышали. Но похороны на Кавказе дело святое.
— А армяне среди вас есть?
Я вжался в последнее сиденье, оторвавшись, как прокаженный, от делегации на много рядов. Черные крылья Танатоса прошелестели совсем рядом. И его ледяное дыхание вмиг остудило разгоряченное лицо. Я ехал к другой смерти, а рядом была своя… Не знаю уж, кто решил? На прялке каких мойр крутилась моя нить? А может, Он этого не захотел… Может, его безошибочная интуиция опять подсказала, что я ему снова нужен. И уже там, со своей общительностью наведя кучу знакомств, замолвил словечко…
— Нет, нет!.. Никаких армян, — заголосил автобус, забыв про мое существование на последней скамье.
— Езжайте!
Делегация меня не видела, но зато хорошо видели человека, вжавшегося в последнее сиденье мрачные солдаты. И еще раз подозрительно взглянули в мою сторону.
Я ждал вопроса: «А это кто?» — но его не последовало…
Распоряжение там было уже дано. Автобус направился в сторону Армении…
С воем раненого зверя «Икарус» полз в горы. Они становились все круче и круче. От свежего воздуха родных гор и мое дыхание стало внезапно удивительно легким. И мысли полетели вдаль все выше по изгибам серпантина, по которому мы ползли. Итак, свою «Исповедь» он так и не снял… Но зато успел создать свой «Автопортрет». Так этот коллаж и называется. Здесь он осуществил вековую мечту — соединить человека со зверем.
А то, что это вековая мечта всей цивилизации, говорят сфинксы, объединившие человека со львом. Архангелы с орлиными крыльями. Искусители с гибким телом змеи, и так далее. Звериная страсть во всех этих случаях сохраняется с человеческим лицом. Параджанов изобразил себя в образе Кентавра. Таким образом, выбрал древний тотем протоарийских племен. Они избрали Коня. Из самых разных мифологических источников снова и снова возникает Конь. То в образе вдохновенного Пегаса, то лукавого Троянского коня, то сметливого Конька-горбунка. Уже давно прекратили свой бег неугомонные арийские предки, а конька на крыше встретишь и среди русских лесов, и среди скандинавских фиордов. Провезли коней и через океаны и поразили чудовищным зверем Северную и Южную Америку.
Полагаю, что свой выбор Параджанов сделал не после изучения научных трудов, а, как всегда, интуитивно и, как всегда, точно. Нашел себя… Ну ладно — Кентавр… Так изобразил бы себя в образе мудрого Хирона, известного целителя, с полезным снадобьем в руке. Нет же, вечная его страсть к трансформации вела дальше, и к образу кентавра он добавил новые черты: Эроса, Купидона, Амура и потому вооружился луком с безжалостной стрелой и при этом хохочет радостно от своих проказ. Ну и конечно, как всегда, рядом порхают бабочки. На этот раз его личный тотем, его излюбленный символ.
Только страстно возлюбив разные трансформации и преображения, можно было так одинаково свободно творить в кино, литературе, живописи. Только так можно было снять и подлинно славянский, и подлинно исламский фильм.
Нет фильма «Исповедь», но при этом достаточно откровенно говорит о себе его «Автопортрет». Признание, оставленное о себе и о своих влечениях.
Автобус теперь ехал вниз. Словно камень, летящий с горы, мы мчались в долину Арарата, и дыхание немыслимой жары начало обдавать нас. Я поднял взгляд к раскаленной звезде, вокруг которой кружилась наша планета, и мне показалось, что сегодня в небе сияют два солнца. Огонь лился с неба… А может, художник всегда живет в таком раскаленном мире? И планета его кружится в мире двух солнц? И две могучие силы направляют его шаги — Власть и Страсть.
И лучше всего об этом рассказано в «Тысяче и одной ночи»… Ибо каждый художник — это та же Шехерезада. Он испытывает страх перед властью, обслуживает власть, развлекает власть, ибо она всегда вторгается его жизнь. Но при этом он испытывает непреодолимую страсть к созданию своих миров, страсть к творению своих сказок, своих чудес. Страсть к тому, что никогда не было, но существует в его воображении, и он всегда больше верит в сотворенный его страстью мир, чем в реально существующий.
Именно так всегда жил Параджанов, и его удивительная жизнь, полная приключений и испытаний, всегда была «Тысяча и одной ночью». Может, потому он начал ее сказкой и сказкой закончил.
Вдали показался Ереван. И я вспомнил его последний дом, где прошли его последние дни. Район, где расположен этот дом, называется Эребуни. Этому есть объяснение. Неподалеку от него находится древняя крепость урартов — Эребуни. И возраст камня, найденного при раскопках, точная дата рождения Еревана. Урарты — одно из звеньев в длинной цепи хромосом, ведущая от шумеров и хеттов к нынешним армянам. Менялись названия, а генетика оставалась всегда, сохранив форму черепа, наследственных болезней и страсть к продолжению открытий. Я не силен в урартской грамматике, но в этот день не мог не задуматься о корне в названии Эребуни. Слово «Бун» мне абсолютно понятно, и означает оно — «смысл», «именно это»… И в тоже время «Бун» означает «гнездо», «нору», «дупло».
Может, действительно был «Смысл в Этом»… И далеко не случайно ноги привели его к Этому Гнезду. Здесь Он нашел Свое…
Автобус, въехав в самый центр города, остановился у здания Оперы. Здесь был установлен гроб с его телом. Здесь, в этом храме культуры, было назначено прощание. От огромного количества знакомых лиц кружилась голова. Зато было незнакомо лицо в гробу… Это был не Он!
Было ощущение, что на нем новая маска — плохо подобранная маска Смерти. Мне показалось, что он злится и сейчас снова обрушит на всех ассистентов свой яростный гнев.
Зато на висевшем над гробом большом портрете работы Мисакяна был — Он…
Вчера еще гонимый, вчера еще Гариб, вечная головная боль, источник постоянных проблем и неприятностей, вечно шумный и неугомонный, сегодня Он был известен всему миру. Его приглашали на все фестивали. Присылали за ним специальный президентский самолет.
И потому в этот день задерживали обычные авиарейсы, чтобы принять самолеты с делегациями, прилетающими со всего света. Отменив все автобусные городские маршруты, подогнали к зданию Оперы сотни машин, чтобы везти многотысячную толпу к кладбищу. За день до смерти — 19 июля — Параджанову присвоили звание народного артиста Армении. Но он об этом не успел узнать.
Наконец после торжественной литургии гроб вынесли на площадь, чтобы везти к пантеону, где были погребены все великие деятели армянской культуры.
Но, странное дело, вдруг вся эта торжественная режиссура стала меняться. Несмотря на то, что день был неимоверно жаркий, никто не захотел сесть в автобусы. По велению сердца, не сговариваясь и не организовываясь, люди пошли пешком, отдавая последнюю дань уважения варпету.
Так в Армении называют Мастера…
Ползли за тысячной толпой бесчисленные автобусы, но никто по-прежнему не садился в них, с истинно армянским упрямством и твердостью глухо идя за гробом, который также никто не установил на катафалк.
Сменялись сотни подставленных плеч, сотни новых рук подхватывали гроб. Ашуги всегда в движении, в пути…
Никто в толпе не знал этой его художественной находки. Картина тогда не вышла на экраны, да и вряд ли экранный пример был бы так заразителен. Но, наверное, это знала и помнила сохраненная античная память. Потому эти похороны были столь эпичны, но сдержанны и удивительно молчаливы.
Я оказался у самого края могилы и, наверное, поэтому внезапно вспомнил начало дня, злобный прищур человека с автоматом, с ужасом ожидаемый смертельный вопрос: «А ты кто такой? Покажи документы!»
Вопрос не раздался, и потому я стоял сейчас здесь, у самого края могилы, но холодок по спине опять пробежал. И вдруг кто-то толкнул меня в спину. Меня приглашали на правительственную трибуну. Конечно, меня там никто не знал, но кто-то из чиновников почему-то решил, что мне можно доверить громко и выразительно зачитать присланные телеграммы. А может, и просто случайно попался под руку.
Но, привыкнув за долгие годы ко всяким мистическим пересечениям, связанным с Параджановым, ко всяким незапланированным встречам, я догадался: опять Он… очередное поручение, снова понадобился…
К жесткому картонному пропуску на трибуну прилагалось и приглашение на правительственный банкет. Нежданно-не-гаданно я попал в номенклатуру…
Контрасты этого жаркого дня были весьма неожиданны. Кто-то продолжал и сегодня чудить, творя свою режиссуру.
Сколоченная из досок трибуна была высока и широка, но места для почетных гостей все равно было мало. И потому все стояли плотно, прижавшись друг к другу, что в этот жаркий день было невыносимо. Я стоял среди выступающих, касаясь лицом влажной сорочки последнего первого секретаря ЦК компартии Армении (убей бог, сейчас даже не могу вспомнить его фамилию). Протокол соблюдался строго, и слово предоставлялось представителям всех приехавших делегаций. Говорили хорошо, прочувствованно, но для такого жаркого дня долго. Наконец слово предоставили мне.
Шагнув вперед, я почувствовал, что лицо первого секретаря прижалось на этот раз к моей влажной спине. На меня и на внушительную пачку присланных телеграмм смотрели с тоской. И я начал «отфильтровывать» их, нарушая протокол и выхватывая из толстой пачки самые пронзительные слова.
Запомнились слова, найденные Тонино Гуэррой, Беллой Ахмадулиной. Хотя на самом деле замечательных слов и имен, известных всему миру, было гораздо больше.
Ну, а дальше было что положено — в большую могилу опустили большой красивый гроб. Но затем снова произошло нечто непонятное и непротокольное. Опустившись на колени, все начали засыпать могилу руками, набирая полные пригоршни земли. Что это было? Зов сердца? Зов земли?
Я спустился с трибуны. Земля была горячая, сухая. Напоенная солнцем, такая старая армянская земля сейчас принимала в себя одного из самых странных представителей ее долгой культуры. Я оглянулся: вокруг было много знакомых лиц, но гораздо больше незнакомых. Кто-то из них, вероятно, никогда не знал Параджанова и не видел его фильмов. Их всегда редко показывают. Но они чувствовали, что провожают Мастера, и исполняли в этот неистовый день свой долг.
Этот такой длинный и жаркий день, начавшийся так жутковато, преподнес мне в конце еще один «художественный» сюрприз.
Огромный банкетный зал, в котором стояли огромные столы, ломился от деликатесов и дорогих напитков. Зрелище почти сюрреалистическое, учитывая то обстоятельство, что в те дни на всех просторах обширной страны на прилавках магазинов лежали только пачки лаврового листа и банки со старым детским питанием. Не преувеличение, свидетелей много — даже сигареты давали по талонам в жутких очередях.
Я посмотрел на свою ладонь, еще черную от земли, и не рискнул взять в руки красивую бутылку марочного коньяка. И налил полный стакан водки. Водка была в те дни самая «крутая» — «Распутин». Так с ним мы и помянули Сергея…
С того дня минуло два десятилетия. Много всего случилось, многие ушли… К сожалению, многое и растворилось, растаяло в памяти. Осталась загадка — кто назначал эти странные встречи и пересечения? Почему я так часто во многие важные дни его жизни оказывался рядом, хотя никогда не причислял себя к числу его близких друзей?
Некого спросить, не с кем восстановить детали, почему так получалось.
Проработав неполный год с ним на картине, я заработал Странное прозвище «ассистент Параджанова»… Сколько их было, кроме меня.
Давным-давно сам снимаю свои фильмы. Много разных художественных и документальных картин в творческом списке. Вышли художественные книги и опубликовано столько статей и разных рецензий. Но почему-то, как и на тех незапланированных встречах, снова и снова пересекаюсь с ним по разным обстоятельствам. Две книги написаны о нем. Четыре фильма снято. Вот и проект этой книги выплыл нежданно-негаданно.
Один только раз целенаправленно прикладывал усилия. Очень хотел восстановить из рабочего материала забытые всеми эпизоды фильма «Цвет граната». Эта работа потребовала десяти лет усилий (1995–2005). Была масса проблем — финансовых, технических, юридических. Скажу откровенно: если бы знал, что все растянется на десять лет, никогда бы не взялся. Так что и эта «встреча» была не запланирована.
Что осталось? Тающие воспоминания и множество фотографий.
Проведя великое количество часов своей жизни в разных монтажных, я привык к тому, что время можно поворачивать вспять. И теперь эти фотографии, эти стоп-кадры и раскручиваемые флеш-беки помогают путешествиям в памяти. Фотографий много, но почему-то особенно памятна одна. Сделанная в тот самый день, когда он провел несколько часов в своей мечте — в своем армянском доме.
Была весна, а к нему пришла «осень патриарха». Перекличка с романом Маркеса далеко не случайна. Они оба создали свой такой парадоксальный и мифический мир. Но мне кажется, что это фото могло бы быть прекрасной иллюстрацией совсем к другой книге… Книге Екклесиаста…
Сидя во дворе своего так и не обжитого дома, Параджанов смотрит на библейский Арарат и ведет монолог. Его никто не слышит… Но монолог этот во многом совпадает с известными словами. Во всяком случае, его лицо так удивительно в этот момент, глаза так выразительны…
Он увидел всё!.. Взлеты и падения. Блеск фестивалей и жесткость тюремных нар. Банкеты и баланду. Он снимал хорошие фильмы и плохие. Его восхваляли и унижали. Опыт его жизни уникален…
И, словно в очередном сюрреалистическом видении, мне кажется, что это и есть фотография Екклезиаста, и я слышу слова итога и эти удивительные признания:
«Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих.
И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!..
Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его…
Далеко то, что было, и глубоко-глубоко: кто постигнет его?..»
Не об этом ли говорит его пустой шкаф, поднятый над городом?
P. S. Странным образом эти строчки дописываются 25 июля 2010 года — спустя ровно 20 лет с того памятного, горячего, глухого, такого истового дня.
Опять его режиссура?
1924, 9 января — родился в Тифлисе в семье Иосифа (Овсепа) (1890–1962) и Сирануш (в девичестве Бежанова, 1894–1975) Параджановых.
1932–1942 — учился в средней школе № 42, затем работал на фабрике «Советская игрушка».
1942 — поступил в Тбилисский институт железнодорожного транспорта, но вскоре оставил институт и поступил в Тбилисскую консерваторию.
1942–1945 — учился в Тбилисской консерватории (класс скрипки, затем вокала), брал уроки танца при Тбилисском оперном театре им. Захария Палиашвили, в составе концертной группы обслуживал военные госпитали.
1945 — перевелся в Московскую государственную консерваторию, учился вокалу у известного педагога Н. Дорлиак.
Поступил на режиссерский факультет Всесоюзного института кинематографии (мастерская Игоря Савченко).
1947 — арестован в Тбилиси по делу Н. Микава.
1948 — производственная практика на фильме «Третий удар» режиссера Игоря Савченко.
1949 — участвовал в работе над фильмом «Тарас Шевченко» (режиссер Игорь Савченко). После смерти Савченко вместе с сокурсниками закончил работу над фильмом. Курс возглавил Александр Довженко.
1951, январь — женился на Нигяр Сераевой. 13 февраля жена была зверски убита родственниками за вероотступничество.
1952 — снял в качестве дипломной работы короткометражный фильм «Андриеш» по мотивам молдавской сказки (руководитель Александр Довженко). После окончания Института кинематографии направлен в Киев, работал в качестве ассистента режиссера на фильме «Максимка» (режиссер Владимир Браун).
1954–1955 — Вместе с Яковым Базеляном снял на Киевской студии художественных фильмов свою первую полнометражную картину «Андриеш», повторив сюжет дипломной работы.
1955, ноябрь — женился на Светлане Щербатюк — 17-летней дочери известного советского дипломата.
1957 — снял документальный фильм «Думка».
1958, 10 ноября — у Сергея и Светланы родился сын Сурен.
1959 — снял документальный фильм «Наталия Ужвий». Затем снова вернулся в художественное кино и снял фильм «Первый парень» на студии им. Довженко.
1960 — снял документальный фильм «Золотые руки».
1961 — на студии им. Довженко снял фильм «Украинская рапсодия».
1962 — снял фильм «Цветок на камне» (студия им. Довженко).
9 марта — официальный развод со Светланой Щербатюк.
1964 — работа над фильмом «Тени забытых предков» (студия им. Довженко). Картина вышла в прокат в 1965 году и стала первым крупным успехом Параджанова, была представлена на многих мировых кинофестивалях.
1965, 1 июня — начата работа над фильмом «Киевские фрески», но уже 1 ноября картина была закрыта, а режиссер обвинен в мистически-субъективном отношении к современной действительности.
1966, 12 апреля — уезжает в Ереван и приступает к работе над сценарием «Саят-Нова».
1967, январь — фильм «Саят-Нова» запущен в производство на киностудии «Арменфильм».
Апрель — отсняты оригинальные кинопробы, представленные как небольшой фильм — своеобразные «Страсти по Саят-Нове».
Май — в процессе подготовки и сбора материала для будущей картины на Ереванской студии документальных фильмов снимает короткометражку «Акоп Овнатанян» о творчестве знаменитого армянского художника, ставшую своеобразным эскизом к будущей работе.
18 августа — после многих производственных проблем начались съемки фильма «Саят-Нова».
1968,27 сентября — фильм «Саят-Нова» в черновом монтаже представлен художественному совету студии «Арменфильм», а затем Госкино СССР. После многих цензурных поправок был сокращен и под новым названием «Цвет граната» допущен к прокату только в Армении. Во всесоюзный прокат фильм вышел в монтажной версии С. Юткевича.
1969 — возвращается в Киев, начинает работу над исповедальным сценарием «Исповедь». Пишет сценарии «Ара Прекрасный», «Давид Сасунский», «Бахчисарайский фонтан», «Икар», «Золотой обрез» и другие.
1970 — вновь обращается к творчеству М. Коцюбинского и пишет сценарий «Интермеццо». Проект готовится к запуску, но его закрывают. 1971, 1 декабря — на творческой встрече в Минске произносит эпатажную речь, которая была записана для доклада в КГБ, что имело в дальнейшем драматические последствия.
1971–1973 — в сотрудничестве с Виктором Шкловским создает сценарий «Демон» по мотивам поэмы М. Лермонтова и сценарий «Чудо в Оденсе» по мотивам сказок Х.-К. Андерсена.
1973, 15 декабря — сценарий «Чудо в Оденсе» по заказу творческого объединения «Экран» запущен на киностудии «Арменфильм». Уезжает в Киев навестить заболевшего сына.
17 декабря — арестован в Киеве и помешен в Лукьяновскую тюрьму.
1974, 25 апреля — решением Киевского областного суда приговорен к пяти годам заключения в лагере строгого режима с конфискацией личного имущества.
1 июня — отправлен этапом в Винницкую область, Тростянецкий район, село Губник.
1975, апрель — отправлен этапом в лагерь строгого режима Стрижавка.
1976, август — отправлен этапом в лагерь строгого режима в Перевальск.
1977, 30 января — благодаря ходатайству Луи Арагона раньше срока на 11 месяцев и 17 дней освобожден из лагеря без права жить в Москве, Киеве, Ленинграде и Ереване. Уезжает в Тбилиси и поселяется в доме своего детства.
1978 — в начале года обращается с письмом к руководителям армянской кинематографии с просьбой разрешить снять фильм «Ара Прекрасный» или «Давид Сасунский». Письмо осталось без ответа.
1980, апрель — Ассоциация французских кинорежиссеров направила Параджанову официальное приглашение для участия в Каннском международном фестивале. Приглашение до Параджанова не дошло, его запросы в Госкино СССР и Госкино Грузии остались без ответа.
1981, 31 октября — выступление в Московском театре на Таганке на обсуждении спектакля Юрия Любимова «Владимир Высоцкий».
1982, январь — приезд в Тбилиси Тарковского. Их встреча с Параджановым оказалась последней.
11 февраля — арестован в Тбилиси, препровожден в Ортачальскую тюрьму и помещен в подвальную камеру для смертников. Новый арест вызвал большой резонанс, последовали ходатайства об освобождении от известных деятелей культуры как в нашей стране, так и за рубежом.
5 октября — на последнем судебном заседании Параджанов получил условный срок и был освобожден прямо в зале суда. Почитатели его творчества вручили ему символический подарок — плод граната.
1983, 15 сентября — на студии «Грузия-фильм» состоялась защита творческого проекта фильма «Легенда о Сурамской крепости».
1984 — к концу года закончена работа над фильмом «Легенда о Сурамской крепости».
1985, 15 января — в Союзе кинематографистов Грузии открылась первая выставка живописных работ Параджанова «Бал в мастерской кинорежиссера».
Март — состоялась премьера фильма «Легенда о Сурамской крепости» сначала в Москве, а через неделю — в Ереване. Фильм представлен на Международном кинофестивале в Пезаро (Италия) и получил мировое признание.
На Грузинской студии документальных фильмов Параджанов снимает короткометражный фильм «Арабески на тему Пиросмани».
10 декабря — в гости к Параджанову приезжает Ален Гинзберг, известный американский поэт и идеолог движения хиппи.
1986 — приступает к работе над сценарием «Мученичество Шушаник», создает серию эскизов для постановки «Гамлета», пишет сценарий «Сокровища горы Арарат».
1987, май — приступает к работе над фильмом «Ашик-Кериб», который посвятит памяти Тарковского.
1988, 15 января — выставка «Бал в мастерской кинорежиссера» открыта в Ереване, ее грандиозный успех привел к решению создать Музей Параджанова.
Февраль — едет на Роттердамский кинофестиваль на вручение премии «Двадцать режиссеров будущего». В этом же году посещает Мюнхен, Венецию, Нью-Йорк. К нему приходит всемирное признание и слава.
20 апреля — гостем Параджанова становится Марчелло Мастроянни, в этом же году Ив Сен-Лоран с восторгом принимает от Параджанова альбом с рисунками и эскизами.
Июнь — Юрий Ильенко согласовывает с Параджановым решение снять фильм «Лебединое озеро. Зона» по мотивам его новелл, посвященных пребыванию в тюрьме.
1989, апрель — Параджанов участвует в работе Стамбульского кинофестиваля, на котором представляет свой фильм «Ашик-Кериб» и получает Почетный приз жюри.
7 июня — на киностудии «Арменфильм» состоялся первый день съемок фильма «Исповедь», который оказался и последним съемочным днем в судьбе режиссера — было отснято всего 300 метров рабочего материала.
Июль — Параджанов прооперирован в Москве, ему удалили большую часть легких, пораженных раковой опухолью.
1989 — в конце года едет на кинофестиваль в Лиссабон.
1990, февраль — резкое ухудшение здоровья, переезжает в Ереван.
27 февраля — присвоено звание народного артиста Украинской ССР.
22 мая — 20 июля — проходит курс лечения в Париже.
19 июня — присвоено звание народного артиста Армянской ССР.
20 июля — уже в бессознательном состоянии перевезен из Парижа в Ереван, скончался в республиканской больнице.
25 июля — похоронен в Центральном пантеоне Еревана.
1990 — посмертно удостоен премии имени Довженко за литературный сценарий к фильму «Лебединое озеро. Зона»; посмертно удостоен четырех главных премий «Ника» за фильм «Ашик-Кериб».
1991 — посмертно удостоен Государственной премии Украинской ССР имени Шевченко за художественный фильм «Тени забытых предков».
27 июня — в Ереване торжественно открыт Дом-музей Сергея Параджанова и установлен бюст на его могиле.
1992, сентябрь — в Тбилиси во время фестиваля «Золотой орел» на известном всему городу доме Параджанова открыта мемориальная доска.
1993 — у подъезда дома в Киеве, где жил и был арестован Параджанов, установлена мемориальная доска.
1997, июнь — на территории киностудии им. Довженко открыт памятник Параджанову в присутствии президентов Армении и Украины.
2004, 6 ноября — в старой части Тбилиси открыт памятник Параджанову, запечатлевший его знаменитый прыжок.
Кончаловский А. Мои шестидесятые // Искусство кино. 2004. № 5. Параджанов С. Исповедь. М.: Азбука, 2001.
Тарковский А. Мартиролог: Дневники. Международный ин-т им. Андрея Тарковского, 2008.
Церетели К. Коллаж на фоне автопортрета. Деком, 2005.