Марк Копшицер
Поленов
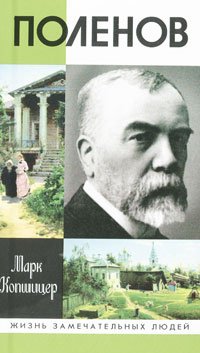
Я хорошо знал Марка Исаевича, дружил с ним последние тридцать лет его жизни. Нас сблизило многое: отношение к существовавшей тогда идеологии, сходство литературных вкусов, некоторая общность биографии (у обоих отцы были репрессированы в 1937 году) да и чисто человеческая обоюдная симпатия. Оба мы были завзятыми библиофилами, и это нас тоже сближало. Вообще-то я филолог-романист, всю жизнь преподавал латынь в Ростовском мединституте, а Марк много лет проработал инженером-конструктором на заводе «Красный Аксай».
Был он невысокого роста, астенической конституции, заметно заикался, отличался необычайной скромностью и миролюбивостью (если только не сталкивался с политическим оппонентом). Не без труда добывали мы и поглощали всевозможный самиздат и постоянно ожидали за это расплаты, как и многие наши друзья. Но Бог миловал. Кстати сказать, отца Марка, Исая Зиновьевича, человека тишайшего и совершенно аполитичного, бухгалтера на кроватной фабрике, посадили, обвинив в том, что он будто бы подарил «врагу народа» Тухачевскому золотую кровать (вероятно, это обвинение было одним из самых причудливых в те зловещие годы).
Говорили, что Марк был весьма способным конструктором, и все же «инженерство» находилось на периферии его интересов, так как была у него «тайная страсть» — он серьезно занимался русским искусством конца XIX — начала XX века, собрал огромную картотеку, множество альбомов, солидные теоретические труды. В течение многих лет он использовал свой отпуск для поездок в Москву и Питер, где посещал музеи и выставки и сутками сидел в архивах. Близкие Марку люди знали, что он задумал серию монографий о Серове, Врубеле, Нестерове, Поленове, Коровине и других выдающихся деятелях искусства рубежа веков. Многие относились к замыслу Марка недоверчиво, некоторые даже иронически: провинциальный инженер, дилетант, по всей вероятности графоман. Но Марк упорно продолжал работать. На книгу о Валентине Серове у него ушло около десяти лет. Рукопись он отослал в столичное издательство «Искусство», где она сразу была принята к печати. В 1968 году книга вышла в свет, большой тираж разошелся почти мгновенно, и через несколько лет вышло второе ее издание, которое тоже не залежалось на полках. Этой книгой издательство открыло свою знаменитую серию «Жизнь в искусстве». Вскоре появилась рецензия на нее К. И. Чуковского (кажется, в газете «Советская культура»): «Если бы эта книга о жизни Серова была в десять раз хуже — и тогда бы она была хороша. Живая, полнокровная книга — мускулистая, с чудесным дыханием. Не книга, а живой организм. Каждый человек (и человечек), с которым встречался Серов, написан уверенной, умной, талантливой кистью, с истинно серовским лаконизмом…» В частном же письме Марку Корней Иванович писал: «Всех персонажей Вашей книги я хорошо знал, но у меня сложилось впечатление, что Вы знали их не хуже меня. Ваша книга первоклассна». В 1972 году в той же серии вышла вторая книга Марка Копшицера — «Савва Мамонтов», также получившая высокую оценку многих писателей и искусствоведов. Но, несмотря на это, судьба автора этих замечательных произведений сложилась трагически. Книги не принесли ему ни известности, ни денег. Вскоре Марк ушел с «Красного Аксая» и с головой погрузился в новую работу — книгу о Поленове, но напечатать ее не успел.
Между тем силы его иссякали, здоровье ухудшалось, скончалась мать, был прикован к постели дряхлеющий отец. Все заботы о нем, все хлопоты по хозяйству легли на плечи Марка. Родственники и друзья помогали ему, как могли. Марк глубоко и нежно любил родителей, между ними существовала особая духовная связь, и после их ухода в конце 1970–х годов одиночество его стало невыносимым. В последние год-два он впал в глубочайшую депрессию — «астенически — депрессивный синдром», как написано в медицинском заключении.
Но не только эти печальные обстоятельства стали причиной тяжелого нервного срыва. Тогдашняя литературная обстановка в Ростове-на-Дону была ужасна. Чтобы его не обвинили в тунеядстве, Марк подал заявление о приеме в Союз писателей, рекомендации дали ему Чуковский, Каверин и Залыгин, что вызвало у писательского «начальства» буквально приступ ненависти. Секретарь Ростовского отделения союза Лебеденко заявил: «Да что ему от нас надо? Раз он пишет о художниках, пусть и поступает в Союз художников». На что прозаик-новомирец В. Фоменко ядовито ответил: «А если бы к тебе пришел Тургенев с „Записками охотника“, ты отправил бы его в Союз охотников?» Нашлись, конечно, и другие защитники: В. Сёмин, Г. Колесников, Н. Суханова, В. Жак и еще несколько писателей. Но все-таки Марка с треском провалили. Вскоре он действительно подал заявление в Союз художников и был туда незамедлительно принят.
Но его воля к жизни была окончательно подорвана, и 23 декабря 1982 года Марк Копшицер добровольно ушел из жизни. Было ему 59 лет. Осталось неизданным исследование о Поленове, и только сейчас усилиями родственников, друзей и энтузиастов последний труд Марка увидел свет в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей», напечататься в которой мой друг всегда мечтал.
Перебирая в памяти минувшие годы, с каким чувством радости… я останавливаюсь на светлых, полных упоительных надежд шестидесятых годах.
Художник Василий Дмитриевич Поленов был потомком такого необычайного количества замечательных русских людей, что рассказ о нем совершенно необходимо предварить рассказом об этих людях. Наследственные симпатии и традиции, иногда друг друга усиливающие, иногда друг с другом противоборствующие, оказали немалое влияние и на личность его, и на его искусство.
В старости Поленов обмолвился, что любовь к искусству получил в наследство от матери. Поэтому и повествование о его предках мы начнем с рассказа о предках по материнской линии.
Первым из них был прадед Николай Александрович Львов: поэт, переводчик, музыкант, архитектор, график, короче, человек разносторонних интересов, человек широкообразованный. Он был организатором кружка поэтов, художников и музыкантов, который впоследствии стал называться «державинским», ибо в те годы, во времена Екатерины II, Гаврила Романович Державин почитался — и по праву — одним из самых замечательных людей, а среди поэтов — самым замечательным. История же и в такой безделице, как название кружка, отдает предпочтение таланту перед образованностью, то есть тому, что от Бога, а не тому, что трудом — даже и честным и праведным — благоприобретено.
Как поэт Львов уступал другим членам кружка: Хемницеру, Капнисту, Дмитриеву, не говоря уже о самом Державине, но изысканный ум, широта интересов, необычайное обаяние сделали его, что называется, «душою кружка» и первым в нем человеком. Державин посвящал ему стихи (а впоследствии Пушкин его, Львова, стихи цитировал — тем, собственно, поэзия самого Львова особенно знаменита). Благодаря Львову в кружок попали музыканты, имена которых сегодня основательно позабыты. Но с одним из них — Иваном Прачем — Львов издал два тома русских народных песен, им собранных и Прачем обработанных. Благодаря ему же, Львову, в кружок попали лучшие живописцы того времени: Левицкий, Боровиковский.
Левицкий написал в 1774 году портрет Львова. Портрет этот, небольшой по размерам и интимный по чувству, говорит о симпатии художника и модели, говорит об уме, высоких идеалах и порывистом темпераменте молодого 23-летнего человека. Четырьмя годами позднее Левицкий написал портрет невесты Львова Марии Алексеевны Дьяковой, и право же, портрет этот — одно из лучших созданий кисти прославленного мастера: нежный овал лица, мягко ниспадающие на плечи пушистые волосы, умное и спокойное выражение глаз, милые девичьи, чуть припухлые губы. Это один из самых обаятельных женских образов в русской живописи того времени. Впоследствии, в 1781 году, Левицкий еще раз писал портрет Марии Алексеевны, уже не Дьяковой, а Львовой. И хотя девичье обаяние покинуло ее, но на смену пришли зрелый ум, уверенность, ироничность и светскость в лучшем смысле этого слова. Еще два раза писал Левицкий портрет Николая Александровича Львова: в 1785-м, когда Львов был избран почетным членом Академии художеств, и в 1789 году. Это портрет «не мальчика, но мужа», зрелого, спокойного, редкостно трудолюбивого…
Не получив специального образования, Львов стал профессиональным архитектором. По его проектам были сооружены Невские ворота Петропавловской крепости, соборы в Могилеве и Торжке, здание «почтового стана» в Петербурге (сейчас в этом здании, несколько видоизмененном, находится почтамт). По его проекту построен был на Фонтанке дом Державина, сделавшегося не только другом, но теперь уже и родственником: после смерти первой жены Гаврила Романович женился на сестре Марии Алексеевны — Дашеньке Дьяковой.
В 1803 году Н. А. Львов умер в возрасте пятидесяти двух лет, а четыре года спустя — также в возрасте пятидесяти двух лет — умерла Мария Алексеевна.
Дарья Алексеевна взяла на воспитание их детей, среди которых была дочь Веринька.
Вериньке Львовой было пятнадцать лет, когда она стала жить в доме Державиных. Образ жизни ее мало изменился: поэты, художники и другие интересные люди окружали ее здесь в таком же изобилии, как и в доме родителей.
У Державиных Веринька познакомилась с молодым офицером Алексеем Васильевичем Воейковым и стала его невестой.
Веринька — Вера Николаевна Воейкова — была для Поленова в детские годы не просто родственницей, а «бабашей», которую он знал, любил, от нее услышал историю своего деда, чей портрет, исполненный Джорджем Доу, находился среди портретов других генералов в галерее 1812 года в Зимнем дворце.
Когда летом 1812 года Наполеон перешел Неман и вторгся в пределы России, 20-летний Алексей Воейков служил в чине полковника.
Началась героическая глава в истории России и в жизни Алексея Воейкова. Вместе со всей русской армией пережил он горечь отступления, был в сражениях под Смоленском и под Красным. Накануне Бородинской битвы участвовал в обороне Шевардинского редута. Письма его невесте, которые писал он во время похода, то сидя верхом на полковом барабане, а то и в седле, бабаша хранила до конца своих дней как святыню.
Он пробыл в действующей армии до самого конца кампании, в 1815 году вернулся в Россию, женился на Вериньке Львовой и вышел в отставку в чине генерал — майора (в форме генерал — майора он изображен на портрете Доу).
В службу статскую поступить он не мог, ибо знали, что был он некогда другом и единомышленником Сперанского, в те годы опального. А потому Алексей Васильевич Воейков удалился в свое тамбовское имение Ольшанку, где в 1825 году скончался от старых ран.
Вера Николаевна тридцати трех лет от роду осталась вдовой с тремя малолетними детьми. Она занялась их воспитанием и писала мемуары. В Ольшанке она прожила почти безвыездно всю жизнь.
Внуки — и Вася, и его братья и сестры — любили ездить к бабаше: долгая дорога в карете с многочисленными остановками на ночлег и просто на отдых, а потом рассказы бабаши о дедушке Воейкове, о Державине, рассказы ее из русской истории, живые и занимательные. Она чуть не наизусть знала некоторые главы из карамзинской «Истории государства Российского», она и сказки чудесно рассказывала, и стихи красиво читала. Характер, однако, у бабаши был властный, но внуки, воспитанные в послушании, деспотизм старших принимали как должное, он не был им в тягость.
Там, в Ольшанке, в просторном помещичьем доме, расположенном в старом парке подле круглого пруда, прошли детские годы их матери Марии Алексеевны.
Продолжая традиции семейства Львовых-Воейковых, Мария Алексеевна Воейкова (в замужестве Поленова) старалась всячески совершенствовать заложенные в ней таланты. Карл Брюллов, с которым муж ее был знаком и даже немного дружен, обучал ее живописи. Его периодические наставления сочетались с регулярными уроками, которые давал ей ученик Брюллова художник Молдавский.
Она писала акварелью, и этому ее умению, весьма, впрочем, распространенному в то время среди дворянских девиц и молодых дам, мы обязаны тем, что знаем теперь, как выглядел ее сын, будущий художник Василий Поленов, в детстве. А выглядел он добропорядочным, благонравным мальчиком, аккуратно одетым и аккуратно причесанным. Хлыстик, который он держит в руке, совсем не говорит о живости его характера, а призван, по — видимому, внести элемент «жанровости» — довольно традиционный — в очень гладкий, очень правильный, очень аккуратный портрет.
Не ограничившись живописью, Мария Алексеевна занялась литературой, написала детскую книжку «Лето в Царском Селе». В ней — семейство Поленовых (имена, конечно, изменены), жизнь детей, послушных, благонравных, таких, какими должны быть все дети на земле. Речь, разумеется, идет о детях, принадлежащих к определенному кругу…
Книжка была такой же, как портрет Васи и другие акварельные портреты детей, исполненные Марией Алексеевной: очень правильной, очень аккуратной и откровенно дидактичной. Сейчас эта книжка представляется, конечно, до смешного наивной. Вот ее начало:
«Утренний чай
В половине мая солнце ласково выглянуло из-за туч и согрело воздух, охлажденный шедшим долгое время по Неве льдом.
— Здравствуйте, папа, мама! Сегодня хорошая погода, посмотрите, какое солнышко! — говорили дети в один голос, вбежавши поутру в столовую и теснясь к отцу и матери, чтобы с ними поздороваться.
— Когда же мы поедем в Царское Село? — проворно спросила Оля.
— Мы поедем тогда, когда папа и мама нам скажут: дети, собирайтесь, пора ехать, — сказал мерно Митя, старший из сыновей. — А ты знаешь, Оля, — прибавил он, — что маленьким детям не должно быть любопытными и наскучивать вопросами папа и мама».
Завтрак их «обыкновенно состоял из молока с черным хлебом, который дети очень любили. Чаю и кофе им не давали (а глава-то называется „Утренний чай“! —
И вот этак вся — довольно большая — книжка. В ней рассказ об образе жизни детей переплетается с рассказами из русской истории, приглаженным изложением былин; трогательными рассказами о детстве Моцарта и Рубенса, рассказами из естественной истории (глава «Заморские птицы. Прогулка по садовому озеру»).
Что ж, все это — дань времени, невольная, конечно, дань, непредумышленная, не сознающая себя таковой. Да и то сказать — тогда ведь не существовало того, что мы сейчас называем детской литературой. «Конек-Горбунок» Ершова, сказки Пушкина, басни Крылова — все это писано не для детей. Детским чтением они сделались по недоразумению. Кроме, пожалуй, «Конька-Горбунка», ребенок едва ли способен постичь глубину того, что ему читают из творений великих поэтов, а подчас не способен постичь и самые простые вещи.
И рассказ из книги Марии Алексеевны только подтверждает эту, совсем не новую, мысль:
«За несколько дней до приезда в Царское Село Митя (то есть Вася Поленов. —
И вот тут-то Марии Алексеевне следовало объяснить сыну (а заодно и читателям книги), что Митя (Вася) неверно понял то, в каком значении употреблено здесь слово «охотники», что речь идет не о тех охотниках, которые «с ружьями», а о тех, которым охота (то есть желание) таскаться по пирам.
Впрочем, папа совершает не менее печальные ошибки. Хотя он правильно объясняет значение слова «лукоморье», с которого начинается знаменитый пролог к поэме Пушкина, но тут же утверждает, что «стихи эти Александр Сергеевич написал в своей первой молодости, здесь, в Царскосельском лицее, где он воспитывался».
Увы, поэму «Руслан и Людмила» Александр Сергеевич написал, пожалуй, «во второй молодости» — в Петербурге, после окончания Царскосельского лицея, а пролог к ней — «У лукоморья дуб зеленый…», то есть то, что читали детям, — написан в Михайловском человеком зрелым, автором «Бориса Годунова» и первых глав «Онегина»…
А может быть, папа вовсе и не повинен в этой ошибке, ведь все это только рассказ, где он — один из героев, и слова его могли быть просто ошибкой самой Марии Алексеевны. Ведь папа, Дмитрий Васильевич Поленов, — человек по-настоящему ученый, и то, что он знает, он знает глубоко.
Но прежде чем говорить о Дмитрии Васильевиче, мы, как было обещано вначале, расскажем о его предках, главным образом об одном из них (также прадеде художника) — Алексее Яковлевиче Поленове. Родился Алексей Яковлевич в Костромской губернии, где предки его, служилые люди, получили в свое время небольшое имение. Он успешно окончил гимназию при Академии наук и был послан для дальнейшего образования в Страсбург и Гёттинген. Таким образом, вернувшись в Россию, он оказался первым юристом («законоведом», как тогда выражались) с высшим образованием. Разумеется, если бы Алексей Яковлевич был знаменит только этим, едва ли стоило писать о нем как о замечательной личности.
Главным деянием его жизни было следующее: по возвращении его в Россию в 1766 году Вольное экономическое общество, за год до того основанное, предложило конкурс трактатов на тему: «Что полезнее для государства, чтобы крестьянин имел в собственности землю или только движимое имение, и сколь далеко на то и другое его право простирается».
На конкурс было подано 162 трактата, из них лишь семь русских. Первую премию, тысячу червонцев, получил Беарде де Лаббей, трактат которого весьма понравился автору темы — государыне Екатерине II — своею умеренностью. Беарде де Лаббей предлагал с величайшей осторожностью и неторопливостью готовить «рабов» к принятию свободы.
Трактат же Алексея Яковлевича был резок и предлагал радикальные решения немедленно. Автор говорил о том, что рабовладение позорно, что «для славы народа и для пользы общества надо вывести производимый человеческой кровью бесчестный торг», и даже предлагал немедленно заняться не только освобождением крестьян с земельным наделом, но и искоренением безграмотности в народе.
И хотя сочинение его было отмечено как лучшее среди русских трактатов, автору предложили смягчить «не в меру сильные выражения», «по здешнему неприличные». Он смягчил и получил золотую медаль в 12 червонцев «с прописанием на оной имени автора».
Таким образом, А. Я. Поленов явился даже в некотором роде предшественником Радищева. И хотя Алексей Яковлевич и не напечатал своего сочинения, а потому не подвергся тем бедам, каким подвергся Радищев, но был потомками награжден своеобразным титулом «первого русского эмансипатора», ибо его идеи действительно предвосхитили идеи Радищева лет на тридцать.
Служить с такими взглядами было трудно, и не просто трудно, а практически невозможно. Алексей Яковлевич удалился от дел и купил имение в местах столь глухих, что там в ту пору еще и тележных дорог не было, — на границе Петербургской и Олонецкой губерний, на правом берегу пограничной, между двумя губерниями, реки Ояти. Имение относилось к Олонецкой губернии и называлось Имоченским погостом.[1] Имение это с XVI века принадлежало боярам Вындомским, в XVIII веке перешло к некоему Мельгунову, у которого и купил его Алексей Яковлевич. Он тотчас же перевел крестьян с барщины на оброк, причем оброк определил самый мизерный, и на эти средства жил до конца своих дней. Умер он в Петербурге в 1817 году, когда внуку его, отцу художника, было уже десять лет. Так что деда своего Дмитрий Васильевич помнил хорошо, сохранил в память о нем небольшое бюро красного дерева, на котором был писан знаменитый трактат, хранил и сам трактат, и письма деда…
Василий Алексеевич Поленов, сын Алексея Яковлевича и отец Дмитрия Васильевича, тоже был человеком умным, но никакими выдающимися делами не отмечен. Как почти все молодые русские люди, был он в свое время офицером, но столь блестящей роли, как Воейков, в кампании 1812 года не сыграл: он был начальником походной канцелярии адмирала Чичагова.
После войны он, так же как и отец, занялся научной деятельностью, которая, правда, не носила крамольного характера, а потому за научные труды был удостоен звания академика и многих иных почетных званий.
Впрочем, о нем можно сказать еще, что, став в 1834 году начальником Государственного архива, он встречался там с Пушкиным, работавшим в ту пору над «Историей Пугачева», сохранилось (и теперь печатается во всех собраниях сочинений) письмо Пушкина Василию Алексеевичу Поленову, датированное 28 августа 1835 года.
Умер Василий Алексеевич в 1851 году, оставив двух сыновей. Тогда-то его сыновья Дмитрий и Алексей отправились впервые в Имоченцы — произвести раздел имения.
Дмитрий Васильевич был в ту пору уже женат на Марии Алексеевне, с которой познакомился у некоего Бороздина — родственника по мачехе (отец его рано овдовел и женился вторично), и у него уже было пятеро детей: близнецы Василий (будущий художник) и Вера, еще два сына — Алексей и Константин — и дочь Елена, которую в семье называли Лилей. До женитьбы, в тридцатые еще годы, Дмитрий Васильевич служил секретарем русской миссии (так в те времена назывались посольства) в Греции, и там начинается его увлечение искусством, там познакомился он с архитектором Кузьминым. Но гораздо большее впечатление произвело на него знакомство с Карлом Брюлловым. Как зачарованный слушал он рассуждения будущего великого художника (а в ту пору еще пенсионера Общества поощрения художеств), открывшего ему всю прелесть Парфенона. По словам самого Дмитрия Васильевича, он «гораздо более понял этот памятник из немногих слов Брюллова, нежели из всех слышанных и читанных ученых и научных рассуждений об этом храме». Он увлекся археологией и собрал изрядную коллекцию греческих древностей (сохранявшуюся его сыном и сохраняемую в наши дни в музее-усадьбе «Поленово»).
Интерес к древности не оставил Дмитрия Васильевича и в последующие годы, когда он вернулся в Россию. Он даже стал секретарем Русского археологического общества; он объездил множество монастырей, изучал летописи, в результате чего были им изданы такие труды, как «Библиографическое исследование русских летописей», «Библиографическое обозрение трудов Русского археологического общества», «Законодательная комиссия при Петре II».
После смерти Николая I, когда дышать стало несколько легче, когда начали поговаривать, что крепостное право будет упразднено, Дмитрий Васильевич начал разбирать бумаги почти вековой давности, хранившиеся в бюро его деда, и подумывать о публикации труда «эмансипатора» и о том, чтобы написать, быть может, его биографию. И все же пока реформа не была провозглашена, пока не стала свершившимся фактом, Дмитрий Васильевич так и не начал свой труд. Что было тому причиной? То, что становление его характера совпало с черными годами царствования Николая I, а может быть, такое немаловажное обстоятельство, что была у него уже в те годы семья, а женой была очень осторожная, очень благоразумная Мария Алексеевна? Как бы там ни было, но лишь в 1861 году Дмитрий Васильевич начал изучать архив Алексея Яковлевича Поленова.
Но вот новое препятствие!
В письмах своих, которые должны были стать основой биографии, главным ее источником, Алексей Яковлевич нещадно бранит Императорскую Академию наук и академиков. А Дмитрий Васильевич как раз в последний день 1861 года прочитал в «Санкт-Петербургских ведомостях», что он и сам избран в члены академии. Положение щекотливое. Но Дмитрий Васильевич был уже достаточно опытным человеком и сумел написать биографию «эмансипатора» так, чтобы и предка своего прославить, и коллег своих не оскорбить. Биография Алексея Яковлевича с приложением самого трактата была опубликована в «Русском архиве» в 1865 году, ровно через 99 лет после того, как трактат был написан.
Однако, повествуя о предках нашего героя, мы перешагнули хронологические рамки его собственной биографии, биографии художника Василия Дмитриевича Поленова.
Он родился в Петербурге 20 мая (1 июня) 1844 года. Интерес его к рисованию начал проявляться, как свидетельствуют семейные предания, с трех лет. Не стань он впоследствии художником, об этом едва ли кто-нибудь потом вспомнил: все дети любят рисовать. Семейное предание сохранило такую историю. Отец, вернувшись из цирка, рассказывал о наезднице, которая прыгала с лошади сквозь обруч, затянутый бумагой, и прорывала эту бумагу.
«Папа, — сказал Вася, — и эта бумага вся чистая, ненарисованная?» — «…Да, чистая». — «Ах, как жалко!»
Позднее произошел другой случай, описанный Марией Алексеевной в уже известной нам книге. Дети были с Марией Алексеевной в зверинце, после чего Вася был найден в отцовском кабинете, где он, лежа на ковре, рисовал по памяти слона.
Потом появились рисунки к русским сказкам, которые рассказывали ему Пелагея Михайловна Лепихина, няня его и его младших братьев, и другая няня, Аксинья Ксенофонтовна Булахова, — няня сестер.
Мария Алексеевна учила сына рисованию и немного живописи. Сама она как — то сделала копию с пейзажа «Парголово», принадлежащего кисти неизвестного художника, и по этой копии наставляла сына: «Задний план сглаживать, а на передний класть краску мазками».
Таковы были первые уроки живописи, полученные им.
Когда Васе исполнилось двенадцать лет, был приглашен профессиональный учитель рисования, некто Павел Алексеевич Черкасов, учившийся некоторое время в Академии художеств и специализировавшийся «по живописи перспективных видов».
Время от времени в Петербург приезжала бабаша. Она довольна успехами внуков, ибо кроме Васи Черкасов учит еще и Веру, и Алешу, а потом и Лилю. И бабаша устраивает нечто вроде академического экзамена: дает конкурсные задания, причем темы их выдержаны совершенно в духе академии: «Суд царя Соломона», «Сергий Радонежский, благословляющий Дмитрия Донского перед Куликовской битвой», «Иисус На — вин у стен Иерихона». Бабаша даже присуждает внукам медали: серебряные, золотые — всё как в академии. Разумеется, Вася первенствует, Вера на втором месте, Алеша ввиду недостаточной склонности к искусству вообще выбывает из игры, зато в конкурс включается Лиля и тоже получает медаль — не первую золотую, как Вася, и даже не вторую золотую, как Вера, — а, согласно академическим правилам, сначала вторую серебряную (за «Суд Соломона»), потом первую серебряную (за «Сергия Радонежского»). Будущая художница! Воздадим же должное проницательности бабаши. Если, конечно, «медали» эти символические — свидетельство проницательности, а не воспитательная награда за усердие. Ибо Вера-то, получившая золотую медаль, художницей не стала, хотя и штудировала усердно различные детали лица, а также кисть руки — все с гипсов (как в академии).
Вася тоже, разумеется, рисует с гипсов и глаза, и уши, и кисти рук, и торсы, но зато делает также копию с эрмитажной картины Рембрандта «Притча о виноградаре» и с картины Адама Пейнакера, одного из так называемых «маленьких голландцев», — «Барка на реке при заходе солнца».
Так в жизнь Васи осторожно, без нажима, в виде игры входит академия. Ибо что там ни говори, а Вася должен быть достоин своих предков. Они — его наследство: один его прадед — светский, благополучный, блестящий, и другой — почти крамольный, почти опальный; кружок Державина и Шевардинский редут; дружба отца с Брюлловым и уроки, которые тот давал матери, и ее писательство, и бабашины мемуары, и труды отца, и его археологические коллекции. И нужно, чтобы в наследстве этом преобладало разумное начало, а не бунтарское, наследство Львовых, а не Поленовых. Хотя о Поленове — «эмансипаторе» помнили, гордились им, как семейную святыню хранили все его труды, переводы, письма… Но следовать его примеру… Он был, конечно, отважный человек, благородный. Он легко отделался: то был век Екатерины, и государыня сумела в свойственной ей одной манере сделать так, чтобы ничего не сделать: ни того, что рекомендовал эмансипатор, сей наивный человек, ни эмансипатора покарать; всё обернуть сумела так, что эмансипатора представила как бы ребенком, который отлично выполнил урок и теперь может порезвиться на досуге.
А они, Поленовы современные и Воейковы, они знавали другое: тридцать лет правления императора Николая Павловича, страшные тридцать лет. И страх, посеянный суровым государем, разросся и как бы окаменел в их душах. Сейчас, конечно, времена не те, государь Николай Павлович совсем недавно почил в Бозе, а новый государь, воспитанник Василия Андреевича Жуковского, уже не столь грозен, даже отчасти либерален. Но — неровен час… Вася этого еще не понимает. Вот и батюшка его, Дмитрий Васильевич, в молодости был, сказывают, весельчак. А теперь! Теперь всегда суров, серьезен, замкнут.
Пройдут годы, и художник Василий Дмитриевич Поленов прочитает о том, каким весельчаком был в молодости его отец, прочитает в записках Никитенко, бывшего цензора, а еще раньше, в студенческие годы, — друга его отца, прочитает и удивится, и скажет (а сын его запишет), что он не видывал отца своего таким, чтобы он «пел, плясал»: «При мне он был серьезный, всегда корректный, даже угрюмый».
Вот таким и должно было стать человеку, прошедшему чистилище николаевской эпохи. («Горе людям, которые осуждены жить в такую эпоху», — пишет Никитенко.)
Васе, разумеется, быть таким необязательно — в жизни, но в искусстве, коль скоро он проявит себя на этом поприще, следует быть таким, каким правила дозволяют. И надо сказать, что бабаша и маменька Мария Алексеевна, во всем с бабашей согласная, преуспели в своем усердии: Васе настолько твердо привит был вкус к академизму, что он, хотя и не всегда и не во всем ему следовал, но благоговел перед академией почти всегда.
В тех записках его сына, которые мы только что цитировали, записках, представляющих собой клочки воспоминаний, высказываний самого Поленова, читаем: «Академия художеств — самое родное для меня место на земном шаре. Там провел я лучшие свои годы…» Конечно, при всем благоговении перед академией, помимо рисования с гипсов его (да и Веру, не говоря уже о Лиле) влечет и живая природа. И он делает рисунки: деревья, холмы, река.
Но, для того чтобы говорить об этих рисунках, совершенно необходимо рассказать о том, где и как проводила семья Поленовых летние месяцы.
В 1851 году, после раздела Имоченцев, Дмитрию Васильевичу досталась та часть имения, которая носила название Окуловой горы. Именно на этом месте находилась когда-то усадьба Вындомских, первых владельцев имения. Весной 1855 года Поленовы приехали в Имоченцы всей семьей. Плыли вначале на пароходе вверх по Неве, потом по Ладожскому озеру и еще немного по речке Свири, впадающей в озеро на самом юге его. По Свири плыли недолго, до городка Сермаксы: в этом месте в Свирь впадает Оять, речка столь мелководная и порожистая, что по ней, кроме как на лодке (да и то обладая большим искусством управления), плыть ни на чем невозможно. Поэтому от Сермаксы до Имоченцев ехали в дормезе, огромной старинной карете. В этой карете потом Вася с Алешей ночевали несколько месяцев, уже когда приехали на место. Родители с дочерьми и маленьким Костей поселились в крестьянской избе. Тотчас началось строительство большого поместительного дома, в котором можно было бы и в будущие годы проводить летние месяцы. Проект дома был сделан архитектором Кузьминым, тем самым, с которым Дмитрий Васильевич познакомился в Греции. Плотник Люсин, строивший дом, сделал другой проект, гораздо более талантливый, но, получив за него деньги, запил. Дом, видимо, был построен все же по проекту Кузьмина.
В июле часть дома была готова и туда стали перебираться. После тесноты крестьянской избы в доме казалось просторно. Правда, Вася не отказался бы и дальше ночевать в дормезе, так это было хорошо. И вообще он как — то сразу полюбил этот край, край лесов, озер, мелководных порожистых рек.
Леса, обступившие Имоченцы, были совершенно дикими, истинно дремучими: огромные, в несколько обхватов ели, с повисшими на их ветках серебристо-серыми мхами, высокие сосны, которые, кажется, если глянешь вверх, вот-вот сойдутся вершинами; а какое разнообразие лиственных деревьев: осины, липы, клены, вязы, а какое обилие ягод, их целые заросли: земляника, брусника, куманика.
Он много ходил по этим лесам, потом, когда стал взрослее, ездил верхом. И впечатления детских лет сохранились в его памяти навсегда. Будучи уже глубоким стариком, он вспоминал, как в одном из окрестных озер увидел «плавающего лебедя поразительной красоты, прямо как в сказке». Вспоминал рассказ местного священника, как тот был восхищен, когда, подъезжая к Рогозеру, увидел целую стаю лебедей, которые кричали и хлопали крыльями по воде. А сам он однажды, войдя в лес, услышал треск сучьев: от него уходила медведица с медвежатами. Но лес был густ, он так и не увидел медведей, а видел только следы, которые они оставляли на влажной почве, видел, как следы эти, совсем еще свежие, наполнялись водой… Водились в лесу и волки, и лисы, и зайцы, а в верховьях Ояти — рыси и лоси. Впрочем, лоси показывались иногда и неподалеку от Имоченцев.
И все же самой большой любовью Василия Поленова была Оять: он вычертил карту этой реки и, будучи увлечен в то время романами Вальтера Скотта, чередовал существовавшие уже олонецкие названия с собственными в духе любимого писателя: «Камень Барбароссы», «Затонувшее судно». Он полюбил купание в холодном быстром потоке этой реки, научился управлять лодками — весельными и «на парусу», как говорили местные жители. Это было искусство непростое, если учесть, что Оять и круто извивается, и порожиста, и мелководна. А он овладел этим искусством в совершенстве. Впоследствии друзья его даже называли в шутку «рекоплавателем» за любовь к путешествиям по рекам и искусство управлять лодкой, которое он сохранил на всю жизнь.
Он полюбил и самые поездки в Имоченцы, белые ночи на Ладоге, когда можно, не уходя с палубы, читать ночь напролет. Полюбил весь Олонецкий край, почитая его как бы своей второй родиной. Край этот был чем-то вроде заповедника старого русского быта и старой русской архитектуры.
По бесплодию земель и по бедности необыкновенной край этот не был столь отягощен всеми ужасающими последствиями крепостного права, определившими общий характер людей в России. Кроме того, край этот был избавлен от татаро — монгольского ига, а потому там в неприкосновенности сохранились старые обычаи и самый характер людей был не тот, что в центральных российских губерниях, и архитектура сохранилась старая.
Север словно бы застыл в летаргии. Века пронеслись над ним, никак не затронув его. И Василий Поленов чем дальше, тем более и более влюблялся и в эту природу, в людей, сохранивших в памяти былины в первоначальном их виде, веселые свадебные песни и грустные поминальные плачи. Ему нравились старые церкви, часовенки, почти все деревянные, потому что леса в тех местах было несметное количество и строить из него олонецкие плотники могли чудесно. Каменных зданий в тех краях вообще было немного, главным образом в столице — Петрозаводске.
Не раз будет художник Поленов писать пейзажи в окрестностях Имоченцев, будет писать портреты олонян, молодых и старых, но это уже позже. И живя в Италии пенсионером Академии художеств, будет называть себя жителем «северных обонежских лесов», хотя напоминаем: впервые он попал в эти обонежские леса, когда ему было одиннадцать лет, и главные, определяющие его жизнь события происходили не в Имоченцах, конечно, а в Петербурге.
В Петербурге осенью 1858 года увидел он впервые картину Александра Иванова «Явление Христа народу», и картина эта потрясла его настолько, что на всю жизнь осталась одним из сильнейших его художественных впечатлений.
Появления картины этой он ждал давно, давно знал о грандиозной работе гениального художника, которой тот отдал всю жизнь. Об Александре Иванове рассказывал Поленовым Федор Васильевич Чижов, университетский друг Дмитрия Васильевича, человек столь колоритный, занявший в жизни Василия Поленова такое видное место, что о нем следует рассказать, и, пожалуй, с неменьшими подробностями, чем о предках художника.
Происходил Ф. В. Чижов, как и предки Поленовых, из костромских дворян, но после смерти отца от наследственных прав отказался в пользу сестер. Он окончил университет и, так как был человеком незаурядных способностей, вскоре занял профессорскую кафедру, читал математику. В те годы историю в университете читал Гоголь. Чижов познакомился с ним, но близко они не сошлись. Не сошлись они и позднее, в Риме, куда Чижов уехал для поправления здоровья. Гораздо ближе сошелся в Риме Чижов с Языковым, который сделал его совершенным славянофилом. Значение Гоголя как писателя Чижов, разумеется, отлично понимал и даже впоследствии, после смерти писателя, издал многотомное собрание его сочинений, а деньги от продажи передал его сестре. (В одном из писем Чижову Дмитрий Васильевич Поленов благодарит за присылку двух первых томов и просит не забыть прислать остальные, как только они выйдут.) В Риме Чижов познакомился с Александром Ивановым, увидел его работу, пришел от нее в восхищение и, возвратясь в Россию, не переставал говорить о художнике все годы до самого его приезда.
Впрочем, дети Поленовы, в том числе, конечно, и Вася, смогли близко узнать (а потом и полюбить) Федора Васильевича лишь после смерти Николая I. Дело в том, что, сблизившись в России с кружком славянофилов — братьями Аксаковыми, Хомяковым, Самариным, Киреевским, Чижов во время второй заграничной поездки попал на Балканы, где помогал черногорцам в доставке оружия. Австрийское правительство доложило об этом российскому правительству так, что выходило, будто действия Чижова совершались во вред России. Поэтому, когда Чижов вернулся в Петербург, он был тотчас арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Ему предложили письменно ответить на множество вопросов о его заграничных связях, в том числе об отношениях с Мицкевичем, с которым он познакомился в Париже, о его знакомстве с королем Франции Луи Бонапартом, который изучал славянские языки, даже о том, почему он носит бороду, ибо в то время в России дворяне бород не носили.
Чижов в общем — то был вполне благонамеренным подданным и антиправительственно не был настроен никогда, никаких действий, которые могли бы быть поставлены ему в вину, не совершал, потому ответил он на вопросы подробно, правдиво и искренне. Ответы его читал сам Николай I и на листе, где они были изложены, начертал собственной рукой высочайшую резолюцию, которая лучше любых слов характеризует сего уникального монарха: «Чувства хороши, но выражены слишком живо и горячо, запретить пребывание в обеих столицах».
Вот потому, как было уже сказано выше, лишь в 1857 году дети Поленовы познакомились с другом своего отца. Они полюбили его очень, почитая чуть ли не членом семьи, называли не иначе как дядей… От него они узнали об Александре Иванове, который в 1858 году привез в Петербург свою картину. Чижов обещал во что бы то ни стало привести к Поленовым и самого Иванова. Для художника даже готовили почетное кресло. Но увидеть его так и не пришлось. Весной Поленовы поехали в Имоченцы, а тем временем картина была привезена в Петербург, выставлена, вокруг нее началось много толков. Против великого художника, который проявил столько самоотверженности в работе, столько набедствовался, велись подлейшие интриги, исходившие от президента академии Бруни, автора картины «Медный змий». Сам Иванов пребывал в страшном беспокойстве, потому что не знал, какова же дальнейшая судьба его и какова судьба его картины.
Он все время был в хлопотах, носился по Петербургу, посещал каких-то влиятельных людей, встречая то притворное участие, то откровенную холодность. А граф Гурьев даже накричал на него. Иванов был совершенно подавлен. Он то и дело отправлялся в экипаже или на пароходике в Петергоф, летнюю резиденцию молодого государя Александра II, ожидал, что тот приобретет картину. Изверившись, придя в отчаяние, Иванов начал вести переговоры с преуспевающим коммерсантом Кокоревым о продаже картины и продолжал все же упорно ездить в Петергоф.
Во время одной из таких поездок он почувствовал себя плохо. Было определено, что это холера — болезнь, появляющаяся якобы у людей, утративших спокойствие духа. Точно ли это была холера или нет, теперь установить невозможно, да и нужды нет. Однако, прохворав три дня, Иванов умер 3 июля 1858 года. А через несколько часов после его смерти в дом Боткина, где провел последние дни своего существования художник, явился нарочный со столь долго ожидавшимся конвертом от царя. В конверте была бумага, сообщавшая, что двор покупает картину за 15 тысяч рублей,[2] а кроме того художнику даруется «Владимир в петлицу».
Приехав осенью в Петербург, Поленовы узнали о смерти Иванова и о том, что теперь, после смерти художника и после высочайшего одобрения, картину хвалят взапуски. «Почет огромен, но судьба странная, — пишет Д. В. Поленов Чижову. — Кончить свой заветный труд с таким достоинством, привезти его на родину, которая с таким нетерпением его ждала столько лет, и кончить поприще… Маша с детьми часто ходит в Академию единственно для картины Иванова, и дети, то есть старшие, замечают и судят очень порядочно. Понимают и восхищаются…»
После краткого пребывания в Зимнем дворце картина Иванова была выставлена в Академии художеств — теперь, после смерти художника, она уже не была страшна академикам. Были выставлены и этюды, некоторые из них можно было купить…
Поленовы бывали в академии часто, все больше увлекаясь рассматриванием и, насколько это было в их возможностях, анализом картины. Восхищению их поистине не было границ. В конце концов родители решили купить один из этюдов: драпировки Иоанна Крестителя и апостолов Петра и Иоанна. Так что, когда выставка закрылась, то как бы кусочек ее, один только лучик картины Иванова все же продолжал светить в квартире Поленовых, вызывая всеобщее восхищение. А Вася, все чаще разглядывая этюд, разбитый на квадраты, думал о поразительном мастерстве Иванова. Он понимал, как много надо учиться и как упорно работать, чтобы писать картины — пусть даже не так, как Иванов (об этом он не смел и мечтать не только в ту пору, но и когда стал признанным и известным художником).
Знакомство с картиной Иванова, всеобщий восторг перед ней обозначили некую новую грань в художественном воспитании молодого Поленова. Стало ясно и ему самому, и родителям, что Черкасов — явно не тот учитель, какой нужен был ему теперь.
Врач — гомеопат Дирикер, пользовавший семью Поленовых, порекомендовал пригласить учителем хотя и не художника еще, а только студента академии Павла Петровича Чистякова, но в художественном мастерстве столь уже преуспевшего, что Черкасову до него далеко. Так Василий Поленов стал первым из учеников будущего прославленного педагога.
Придет время, и Поленов будет посещать в Академии художеств класс профессора Иордана, окончит академию с золотой медалью. Но всю жизнь он будет считать себя учеником Чистякова. Впрочем, Поленову и Чистякову предстоят еще встречи в тех же ролях: после окончания Поленовым академии, а Чистяковым — пенсионерства за границей… А пока что идет 1859 год, Васе Поленову пятнадцать лет, и студент Чистяков не подозревает еще, что сам он станет прославленным педагогом, о котором один из его будущих учеников скажет весьма справедливо, что если из Третьяковской галереи и Русского музея удалить картины учеников Чистякова, то богатейшие эти сокровищницы русского искусства почти совсем опустеют. И действительно, после Поленова у Чистякова будут учиться Репин, Суриков, Васнецов, Серов, Врубель, Остроухов, Грабарь, Борисов — Мусатов, не считая художников менее известных.
Впрочем, в описываемое нами время Третьяковская галерея ничем еще не знаменита, купец Третьяков еще мало кому известен, прошло лишь три года, как он купил первую картину будущего собрания: «Искушение» Шильдера. А о Русском музее, который первоначально будет называться Музеем Александра III, никто еще и не помышляет. Всего четыре года прошло, как после странной кончины царя Николая I на престол взошел Александр II, будущий же государь и основатель музея, Александр III, совсем еще мальчик. Он даже младше Васи.
Но мы отвлеклись… А между тем Вася Поленов, его сестра Вера, брат Алеша сидят у стола и сосредоточенно рисуют под наблюдением Павла Петровича три кубика, поставленные один на другой…
Восьмилетняя Лиля смотрела, вздыхала, потом — не утерпела, тоже, испросивши разрешения, уселась рисовать кубики. Чистяков остался доволен тем, как ученики его выполнили задание. После кубиков поставлена была гипсовая женская маска — натура не в пример более сложная. И здесь уже явно обнаруживается преимущество Васи. Чистякову особенно нравится, как Вася сделал фон и, обращаясь к вошедшей в учебную комнату Марии Алексеевне, Павел Петрович показывает ей Васин рисунок и говорит:
— Мне нравится, как они рисуют, точно играют.
(«Он тогда говорил в третьем лице во множественном числе», — комментировал впоследствии Поленов эти слова в своих воспоминаниях о Чистякове.)
Чистяков приходил к Поленовым два раза в неделю. Остальные дни дети рисовали сами. Павел Петрович же разглядывал, давал указания. Потом перешли на масляные краски — днем, а когда вечерело — опять занимались рисунком. В красках Вася лидерствовал совершенно. Показывая его натюрморт Марии Алексеевне, Чистяков сказал:
— Они колорист. Так составили тон стекла, что и мне не составить. — И, вздохнув огорченно, прибавил: — А потом испортили…
После натюрморта Вася писал красками копию с гипсовой лошади, одной из многочисленных лошадей работы Клодта. Этих лошадей — гипсовых и бронзовых — тогда и в последующие годы рисовали и писали, кажется, все ученики Чистякова. Потом и Вере было разрешено перейти на масляные краски. Но натура была сложновата: гипсовая копия Венеры Милосской. Вера очень старалась. Но похвала Чистякова по поводу ее этюда была несколько двусмысленной:
— Хорошо. В красках очень хорошо. Хотя на гипс и не похоже — шуба.
Язык у Чистякова был образным. И хотя он не позволял еще себе тех резкостей, какие слышали от него все, без исключения, его ученики впоследствии, но «шуба» эта сорвалась совершенно непроизвольно с его языка…
Занятия с Чистяковым продолжались, пока семья Поленовых оставалась в Петербурге. Лето, как и в предыдущие годы, проведено было в Имоченцах. А следующую зиму Мария Алексеевна провела в Петербурге с детьми одна, ибо Дмитрий Васильевич получил назначение в Петрозаводск, где должен был возглавить комиссию по подготовке, а в дальнейшем — осуществлению Крестьянской реформы. И потому ли, что Чистяков начал работу над конкурсной картиной для получения золотой медали, потому ли, что Мария Алексеевна решила, что хотя простолюдин Чистяков и окончил академию, а все же сама академия солиднее, чем один из ее учеников, пусть даже и очень хороший, но по приезде в Петербург Вася стал посещать рисовальные классы академии, которыми руководил профессор Иордан. Думать, что не столько занятость Чистякова, сколько особенности взгляда на вещи Марии Алексеевны были причиной замены Чистякова академией, дает основание тот факт, что с ноября 1860 года до самого отъезда за границу (после получения золотой медали), то есть до 1862 года, Чистяков преподавал в рисовальной школе Общества поощрения художеств, называвшейся «Рисовальной школой на Бирже» (о ней у нас еще будет случай рассказать подробно), и даже зачислен был ассистентом «профессора в добавочном гипсовом классе» академии как «отличнейший в рисовании из окончивших курс». Чистяков был ассистентом. А профессором был Иордан.
И в семье Поленовых считалось, что Вася учится под руководством Иордана. Профессора Иордана.
Так прошла еще одна зима…
…Лето 1860 года было не таким, как все предыдущие. После года работы в Петрозаводске Дмитрий Васильевич отдохнул немного с семьею в Имоченцах, а как только стало совсем тепло, в июне поехал показывать Васе и Алеше русскую старину. Сначала поехали в Новгород. Вася рисовал (по указанию отца) Новгородский кремль, рисовал детали старейшего в Новгороде храма — Софийского собора, построенного вскоре после Крещения Руси. Отец рассказывал об истории Новгорода, о его архитектуре. А Вася рисовал. На одном листе — барельеф кентавра на Корсунских воротах, каменный крест с рельефными изображениями на западной стороне собора; потом внутри собора — Царские врата и некоторые их детали, знамя новгородских посадников.
По пути в Москву несколько дней гостили в селе Никольском у родственника Марии Алексеевны Леонида Леонидовича Львова, побывали в Твери, потом в Сергиевом Посаде. Были в Костроме, Ярославле, Новом Иерусалиме, в Ростове Великом, Владимире, Суздале, Переяславле. В Имоченцы вернулись в конце лета с папкой, наполненной Васиными рисунками, рисунки эти все разглядывали, а путешественники рассказывали о своих впечатлениях.
А потом опять Петербург. Домашние занятия. Класс Иордана в Академии художеств. И вдруг родители спохватились: Вася — то уже не мальчик — семнадцатый год пошел! Успел он, разумеется, не меньше, а может быть, и больше своих сверстников, но ведь для поступления в университет надобно иметь аттестат об окончании гимназии. Посему решено было, что следующие две зимы Поленовы проведут в Петрозаводске, где Вася и Алеша за два учебных года сдадут по всей форме экзамены в местной гимназии, а Костя будет учиться регулярно, как принято.
Поэтому в Петербурге были куплены всяческие гипсовые головы, торсы, целые статуи… Все это привезли сначала в Имоченцы; Дмитрий Васильевич, приехав в Петербург за семьей, упаковал и увез в Имоченцы всю свою библиотеку, коллекции, бюро своего деда с его бумагами и все лето разбирал книги, чтобы основать библиотеку в имении на долгие годы, изучал материалы для биографии Алексея Яковлевича. В конце июня Дмитрий Васильевич пишет Чижову: «…и опять живу в деревне. К настоящему делу, то есть к переговорам с крепостными, еще не приступал… Хорошо, что крепостное право уничтожено… Как-нибудь сладим, хоть и с потерей; но, по крайней мере, нет тяжелого чувства владеть людьми».
Лето проходило, как во все предыдущие годы. И Вася все также восторгался природой, окружавшей Имоченцы, писал этюды. Но стал понимать как-то вдруг, что это — «не то». Не то! Чего-то в них не хватает. Все на месте, все как в натуре, а — не то. Их нельзя обнять одним взглядом: надо рассматривать сначала левую часть, потом переходить к середине, потом — к правому краю. Собственно, и в натуре мы так разглядываем пейзаж, и он, Поленов, не отступает от натуры. Но в картинах… Он вспоминает пейзажи, которые приходилось видеть. В лучших из них глаз охватывает сразу все. В этом — одна из тайн искусства. Тайна, которую он еще не постиг.
В академию! Скорее в академию! Учиться писать, рисовать, учиться композиции, перспективе, светотени, химии красок, да мало ли чему еще!
А тут, некстати, предстоит гимназия. Два года! Два года в Петрозаводске. Занятия всякими дисциплинами, которые для искусства, для постижения его тайн, совершенно не нужны. И внезапно мысль: он пройдет все эти гимназические премудрости за один год! И — опять в Петербург! Если так уж угодно родителям во имя соблюдения традиции общепринятости в их интеллигентном кругу, он будет посещать университет; он еще сам не знает, какой факультет: исторический, юридический, естественный — ему все равно, только бы там не нужен был древнегреческий язык, который не дается ему и при воспоминании о котором его охватывает легкое чувство дурноты. Да, да, будет посещать университет — лишь бы получить диплом. А по — настоящему — на совесть! — он будет заниматься в академии.
Искусство — вот его будущее!
Как ни странно, его желание пройти гимназический курс не за два года, а за год поддерживает Мария Алексеевна. Дмитрий Васильевич присоединяется к ее мнению.
И вот осенью семья Поленовых из имения Имоченцы едет в Петрозаводск. Путь до Петрозаводска совсем уж дик: тропинки в лесных чащобах, переправы через многочисленные речушки, а по пути озера чистые — чистые, задумчиво красивые и тихие северные деревеньки, бревенчатые церкви, шатры которых покрыты деревянной черепицей, издали напоминающей чешую.
И вот наконец Петрозаводск — столица Олонецкой губернии, город, в котором первым губернатором был Гаврила Романович Державин. Квартиру, в которой поселяются Поленовы, приводят в порядок, и они устраиваются в ней.
Только в конце сентября, когда занятия в разгаре, братья Поленовы начинают посещать гимназию. Костя определен во второй класс, Алеша — в пятый. А Вася? Вот об этом мы не знаем ничего. Скорее всего, он сдавал экзамены экстерном. И оказалось это делом совсем не таким простым, как думалось. Домашнее образование дало Васе Поленову много преимуществ перед сверстниками в смысле широты кругозора, общей культуры, но не дало определенных знаний, необходимых для того, чтобы сдать экзамены за все семь лет гимназического курса. Да еще рисование, в котором Вася хотел во что бы то ни стало совершенствоваться, отнимало много времени.
И уже в начале весны стало понятно, что за год не управиться, что еще один год придется заниматься науками. И еще стало понятно, что в рисовании без преподавателя разве что не отстанешь, но не усовершенствуешься. Поэтому решено было пригласить Чистякова на лето в Имоченцы. Было известно, что он получил Большую золотую медаль за картину из русской истории «Софья Витовна, срывающая пояс с Василия Косого на свадьбе Василия II Темного». Медаль эта давала ему право на пребывание за границей в течение шести лет за счет Академии художеств. Медаль была присуждена несмотря на то, что картина не была еще окончена. Больше того, картину Чистякова приобрела академия и послала на лондонскую выставку.
Вася пишет письмо Павлу Петровичу, пишет письмо и Дмитрий Васильевич, одно, потом другое. Наконец в конце апреля получен ответ. Чистяков сожалеет, но приехать в Имоченцы, по-видимому, не сумеет: лето придется потратить на большой заказной портрет и еще одну картину: «…нужно оставить денег для престарелого отца». Таковы заботы Чистякова…
Что же касается забот Поленова, то Чистяков очень хорошо их понимает, сочувствует им, разделяет его тревогу и пишет в свойственном ему нравоучительно — назидательном, но не без почтения духе: «Василию Дмитриевичу советую не сокрушаться о том, что отстанет от Академии: это не может быть, особенно если Вы продолжаете заниматься искусством. Отстать можно тогда, когда пройдет охота, любовь к искусству. Я и сам поступил семнадцати лет в класс оригинальных голов и, как видите, не отстал, потому что всегда любил живопись! Сбиться с пути можно, не спорю, но для этого вот какое правило напишите:
„Не начертивши движения и общих пропорций, не начинать вырисовывать; не нарисовавши, не начинать писать, и не составивши приблизительно колера, не писать, а писавши, чаще вставать и сравнивать с оригиналом. Замечаниями пользоваться, конечно, проверяя их с натурой — вот и все! Да еще, главное! Не подумавши, ничего не начинать, а начавши, не торопиться!“».
Еще год предстояло обойтись без наставника по искусству. Обидно. И еще год — в гимназии, в Петрозаводске.
Он покорился обстоятельствам.
Впрочем, этот — второй — год занятий науками принес ему радость. Радость знакомства и даже дружбы с преподавателем словесности Иваном Петровичем Хрущовым. Молодой человек, пылкий и восторженный, он вступил в жизнь как раз в то благодатное время, когда, казалось, Россия, словно бы по предсказанию поэта, воспрянула ото сна, в который погрузило ее страшное тридцатилетие, и шла навстречу чему-то живому и светлому. Повинуясь благородному порыву, Иван Петрович Хрущов после окончания университета поехал учительствовать в провинциальный Петрозаводск. И было какой-то необычной удачей и для них — братьев Поленовых, Васи и Алеши — и для Хрущова, что судьба соединила их здесь. Он читал им вольнолюбивые стихи Пушкина, которые в студенческой среде ходили по рукам в списках.
Дружба молодого преподавателя с учениками зашла так далеко, что он стал бывать у них дома, познакомился с Дмитрием Васильевичем, который показал ему начатую работу: биографию первого русского эмансипатора. И, естественно, привело это общение к тому, что Хрущов стал завсегдатаем в доме Поленовых, не только учителем словесности, но и как бы духовным наставником Васи и Алеши. Так что, пожалуй, не стоит жалеть, что Василий Поленов потратил еще один год на науки, а не на искусство, хотя и не в науках тут было дело, а именно в духовном формировании личности, а искусство — Чистяков оказался прав — не пострадало, коль скоро осталась страсть к нему, и никуда не ушло от Поленова.
Приобрел же он за этот год много. Бывают в жизни молодого человека такие короткие периоды, когда определяется его духовный и нравственный облик, если не навсегда, то во всяком случае надолго. Для Хрущова, как это ни покажется на первый взгляд парадоксальным, такой момент еще не наступил. «Души прекрасные порывы», «вольнолюбивые мечты» — все это оказалось для него временным, преходящим, инерцией студенческих лет, совпавших, как уже говорилось, с периодом необыкновенного, величайшего в истории России, невиданного еще дотоле общественного подъема. Он переменится, и довольно скоро — на наших глазах! — под благодетельным влиянием Марии Алексеевны Поленовой… Впрочем, обо всем этом рассказ еще предстоит.
А пока что мы можем лишь порадоваться тому, что зиму 1862/63 года герой наш провел в Петрозаводске и что Хрущов еще не переменился. Потому-то, хотя перемена с Хрущовым и произошла, но Поленов, сам не переменившийся и прошлого не забывший, писал ему спустя сорок лет: «Перебирая в памяти минувшие годы, с каким чувством радости… я останавливаюсь на светлых, полных упоительных надежд шестидесятых годах. Твоя горячая, талантливая, глубоко человеческая проповедь… была ярким светом, озарившим нашу начинающуюся жизнь… Ты широко распахнул нам двери в светлый чертог разума… тот свет, что мы там увидели, был свет истинный, и до сих пор он мне светит и указывает путь». Было бы, однако, ошибкой считать, что только проповедь свободолюбия двум гимназистам, которых он выделил из общего круга, была причиной того, что Иван Петрович Хрущов стал завсегдатаем дома Поленовых.
Скорее всего, причиной была их сестра Вера. Восемнадцатилетняя девушка была очень хороша собою, красива какою-то утонченной красотою, привлекательна духовностью всего своего облика. Была она несколько меланхолична, что, впрочем, вполне соответствовало ее благоразумию, а она была удивительно благоразумна, что также вполне пристало девушке хорошей фамилии. Впрочем, когда мы влюбляемся, нам кажется, что нашему предмету все пристало…
Ну что ж, Иван Петрович, пожалуй, преуспел во всем. Добился горячей любви мальчиков, расположения их родителей и по меньшей мере симпатии Веры.
Когда пришло лето и вся семья отправилась в Имоченцы, Вася и Алеша были оставлены в Петрозаводске под присмотром Ивана Петровича, который приглашен был, когда учебный год окончится, приехать вместе с мальчиками в деревню — погостить летом у Поленовых.
К середине июня экзамены были сданы, и уже через неделю Иван Петрович Хрущов с Васей и Алешей прибыл в Имоченцы. Было, разумеется, рассказано, как замечательно сдавали Вася и Алеша экзамены. «Алешин аттестат еще великолепнее Васиного, — сообщает в письме Чижову Мария Алексеевна. — А Вася этому больше всех рад и говорит мне: „Для Алеши это важнее, потому что он имеет главное в виду Университет, а для меня все — таки главное Академия художеств“». Едва ли такая декларация старшего брата была благосклонно воспринята Марией Алексеевной, но она знала, что Вася, воспитанный в покорности, все равно поступит так, как подскажут родители.
Между тем роман Хрущова и Веры здесь, в имении, где все располагало к любви — и белые ночи, и чудесная природа, и долгие прогулки, и беседы, — здесь роман этот принимал все более определенные очертания. И окончилось все тем, что Хрущов предложил Вере Дмитриевне не только сердце, но и руку.
Потом, в Петербурге уже, зимой, в первый день Рождества, были они помолвлены, а по истечении положенного срока — повенчаны и уехали в свадебное путешествие за границу на два года…
Работу, порученную ему в Петрозаводске, Дмитрий Васильевич исполнил, в августе приехал в Петербург, снял квартиру на Васильевском острове, чтобы недалеко было и до университета, и до академии, следом за ним приехали сыновья — все трое. Но занятия в университете должны были начаться лишь в первой половине октября, поэтому Алеша уехал опять в Имоченцы, а Вася и Костя с 1 сентября начали регулярные занятия: Костя — в гимназии, Вася — в Академии художеств, куда, подчиняясь воле родителей, поступил всего лишь вольнослушателем. Сначала, первые дни, он ходит туда только по вечерам — занимается рисованием, потом, захваченный самой атмосферой художественности, начинает посещать лекции: по анатомии, по начертательной геометрии, строительному искусству, истории искусств.
Но приближается октябрь, начало занятий в университете, и все тоскливее становится на сердце у Васи Поленова. Он пишет письмо матери, говорит с отцом: к чему гнаться за двумя зайцами? Он хочет быть художником и будет им в конце концов… Общая и широкая образованность? Так ведь и в академии преподают науки, а не только рисованием занимаются. Первый год еще так — сяк, а на второй, когда от рисования надо будет переходить к живописи? Писать красками нужно днем; как совместить это с посещением лекций в университете? Но и отец, и мать единодушны в своих взглядах на будущее сына, во всяком случае ближайшее будущее. Отец убеждает его: диплом об окончании университета — безразлично по какому факультету — необходим для человека определенного круга, того именно круга дворянской интеллигенции, к которому принадлежат Поленовы. Вася выбрал юридический факультет? Хорошо, пусть будет диплом об окончании юридического факультета. А искусство… — здесь Дмитрий Васильевич вспоминает письмо Чистякова, полученное в прошлом году, — искусство никуда от него не уйдет, если поддерживать в себе любовь к нему. Тем более что свободное от университета время можно посвящать рисованию.
Но Поленов-младший — кажется, впервые в жизни — не соглашается с отцом: он убежден, что технике живописи можно обучиться лишь в молодости. Если же сначала окончить университет, а уж потом заняться живописью, то как раз может ничего не получиться. То есть получатся именно те два зайца, погнавшись за которыми не поймаешь ни одного.
Отец в душе понимает, что Вася прав: пожалуй, технике живописи лучше учиться в молодые годы — не зря ведь в академию принимают в шестнадцать лет, — но все же он тверд в своем решении, хотя и высказывает его в виде компромисса, этакого временного соглашения с сыном: пока что посещать по вечерам академию, утром — университет. А там видно будет.
Мария Алексеевна, безусловно, согласна с ним. «Благодарю тебя, дорогой мой Вася, за твое письмо, в котором так подробно говоришь о себе, — пишет она из Имоченцев. — Я совершенно думаю, как папа, и мой совет ходить в университет, а потом сам увидишь, что будет для тебя возможно.
Я нахожу одно ошибочным: это — мысль, что университет и академия это — два зайца, а я думаю, что один и тот же, это — образование, и если его поймаешь, то хорошо. Что немного попозже, это — еще вдвое лучше…»
Впрочем, письмо это писано в пустой след. Его дата — 12 октября. А еще 7 октября начались занятия в университете, и Вася, дальше словесных возражений отцу не пошедший и согласившийся с компромиссным решением, начал посещать лекции. С удивлением он обнаружил, что и здесь интересно. Захватывающе прозвучало вступительное слово лектора по энциклопедии права Петра Григорьевича Редкина:
— С надеждой на ваше постоянное внимание, с искренней любовью к предмету моего преподавания, с верою в конечное торжество науки, в победу знания над невежеством, истины над ложью, света над тьмою, правды и справедливости над неправдой и несправедливостью, я приступаю к изложению энциклопедии права…
Послушав, что говорил профессор, Поленов подумал: может быть, в том, что он будет посещать университет, и впрямь есть своя хорошая сторона, ведь и его прадед был законоведом, он прочитал уже и трактат эмансипатора, и его биографию, которую окончил писать отец.
И словно бы предчувствуя что-то недоброе, Мария Алексеевна в том же самом письме (от 12 октября 1863 года) предостерегает сына: «Душа моя, вот еще просьба к тебе. Ты очень впечатлителен, не увлекайся пустыми толками». Едва ли Мария Алексеевна подозревает, что «пустые толки» уже услышаны ее сыном с университетской кафедры. Она боится влияния новых знакомых, сверстников ее Васи, этих появившихся так внезапно гривастых юношей, воспитанных не в столь тепличной атмосфере, как та, в какой пытались держать Васю, этих молодых людей с их увлечением новомодными идеями, которые начали так вольно проникать с Запада, что и в России появились уже свои Прудоны и Лассали — всякие там Чернышевские и Добролюбовы. Даже собственный ее супруг собирается публиковать труды своего деда…
А тут еще академия! Приехав в Петербург, Мария Алексеевна узнает нечто совершенно ужасное: в академии бунт, 14 учеников, которые должны были конкурировать на Большую золотую медаль, отказались от темы, которую им предложили, — темы из скандинавской мифологии: «Пир в Валгалле», — и потребовали, чтобы им была разрешена свобода в выборе темы.
Это было событием в жизни русского искусства небывалым. В печати запрещено было даже упоминать о нем, но разве такое скроешь! Против бунтарей приняли самые решительные меры: они были взяты под тайный надзор полиции, им отказали в праве пользоваться академическими мастерскими, в которых многие — выходцы из провинции — просто жили, иные даже с семьями. Ничего не оставалось, как объединиться и снять необходимое для жилья и работы помещение. Подходящая квартира нашлась на 17-й линии Васильевского острова, там и была организована знаменитая петербургская артель художников. Душою ее стал Иван Николаевич Крамской.
Квартира Поленовых находилась на 9-й линии.
Всё рядом, всё перемешалось. И квартира Поленовых, и артель, и университет, и Академия художеств, которая, как оказалось, совсем не была отделена от университета непроницаемой стеной. Прогрессивные веяния в обоих учебных заведениях только подкрепляли друг друга.
Однако об артели…
Разумеется, одними благими побуждениями прожить было невозможно. Артельщикам пришлось брать заказы у частных лиц и церквей. Крамской стал преподавателем в рисовальной школе Общества поощрения художеств, в той самой «Рисовальной школе на Бирже», где за год до того преподавал Чистяков, уехавший теперь в Италию.
Обстановка менялась на глазах. Марии Алексеевне страшновато становилось иногда за своего старшего сына. Ибо почти одновременно с артелью художников была организована так называемая Слепцовская коммуна. И все это под влиянием романа «Что делать?» Чернышевского, романа, написанного в Петропавловской крепости, однако же напечатанного как раз в 1863 году и тотчас же оказавшего такое сильное воздействие на умы.
Во всем этом был соблазн преогромный для человека молодого, неопытного в житейских делах и такого порывистого характером, каким был Вася Поленов. Что ждет его?
Мария Алексеевна совсем не против нововведений. Если эти нововведения узаконены. И то, что крепостное право отменено, — благо. И то, что иные всякие реформы, монаршей волей дарованные, стали явью, — тоже благо. Но все-таки тревожно оттого, что этими законными правами так неосторожно, так безоглядно пользуются. Трудно, ах как трудно переломить себя, начать думать по-новому. Но на какие-то уступки идти все же приходится. Вот Лиля — из года в год она все больше проявляет способности к рисованию — желает учиться, иметь наставника. И кто же становится им? Крамской. Главарь бунтовщиков против академии.
С Крамским Вася успел уже познакомиться через нового своего приятеля по академии Репина, который всего-то в ноябре приехал в Петербург из какого-то далекого Чугуева, с Украины, тут же поступил в «Рисовальную школу на Бирже», сблизился с Крамским, даже стал бывать у него дома. С января Репин, так же как и Вася, стал посещать академию. Они даже сдружились, Репин стал приходить к Поленовым домой, его принимали приветливо. А какой, собственно, резон был принимать иначе?
Репин впоследствии очень колоритно рассказал о первом своем знакомстве с Поленовым и о том, как он поведал об этом знакомстве своему кумиру Крамскому:
«В натурном классе В. Д. Поленов был уже очень заметным лицом. Надо сказать, что Поленов всегда и везде был очень заметным лицом. Он был хорошего роста, красив собою, говорил громко… И в кругу учеников он выдвигался на целую голову выше других.
В натурном классе лучшие места по определению начальства были несколько далеко от натурщика, и Поленов бросал свое казенное заслуженное место, так как стремился всегда ближе к людям.
…Рисунки Поленова еще издали горели светом и тенями, как эскизы его отличались всегда силой и пластикой. В то же время я всего больше, еще с рисовальной школы, был под влиянием И. Н. Крамского, и его приговоры были для меня самыми поучительными.
У Крамского я бывал часто. Он иногда меня выспрашивал: „Кто теперь из учеников Академии — кто из Ваших товарищей выдается?“ — „У нас Поленов отличается, еще издали рисунки привлекают сильной тушевкой, а сидит он всегда в самом плафоне, там уж и мест нет, как Вы знаете, на поленьях сидят, и те места добываются с опасностью для жизни. В. Д. Поленов получает всегда номера в первом десятке и свое место на первой скамейке бросает другим. А сам храбро протискивается к плафону: оттуда виднее все детали и тени выходят сильнее“. — „А с кем из товарищей Вы сошлись в последнее время?“ — „Да, пожалуй, с Поленовым“, — тихонько мямлю я. „Ах, с самим Поленовым, — как всегда иронически подшучивает Крамской, — и не боитесь?“ — „Ах, ко мне он очень добр, и он меня пригласил даже к себе“. — „Вот как! И что, Вы собираетесь к нему? — продолжал удивляться Крамской. — Ведь его отец сенатор…“ Но, однако, я бывал у Поленовых, и меня там хорошо принимали».
Этот рассказ Репина, его диалог с Крамским, растянут, по — видимому, во времени на несколько лет: слишком уж много туда втиснуто. И по тону Крамского ясно, что он знаком уже с семьей Поленова, а это произошло несколько позднее.
Репин с Поленовым познакомились в конце 1863-го или в январе 1864 года, когда Поленов попал в натурный класс. Об этом в таких словах сообщает Чижову Дмитрий Васильевич (1 января 1864 года): «Вася на последнем экзамене в Академии получил опять № 1 за свой рисунок и переведен в натурный класс. Он подал просьбу об увольнении его из Университета и поступает в формальные ученики. Что-то с ним будет? Как-то страшно за эдакую необычайную дорогу».
Ну, если Дмитрию Васильевичу страшно, то что уж говорить о Марии Алексеевне? Однако Вася теперь на взлете. Лучше уступить. Временно, конечно. Мы увидим, что он еще вернется в университет. И окончит его одновременно с академией.
Но сейчас он окрылен! Он даже протежирует сестре, он хочет, чтобы и она училась правильно — ведь у Лильки талант несомненный! А она явно скучает, проводя зимние дни и вечера с бабашей, приехавшей на зиму в Петербург, с кузиной Олей Воейковой да с парализованной теткой Любовью Аникитичной Ярцевой, которая лежит на антресолях… Пусть она поступит в «Рисовальную школу на Бирже»!
Что ж — пусть. Родители дают согласие, тем более что для девушки рисование и вообще искусство — это не вид будущей деятельности, это просто занятие. Благородное занятие. Назначение же ее — стать женой, матерью. И она станет женой. Вот как Вера, которая теперь с Хрущовым в свадебном путешествии… А пока пусть Лиля порисует, хотя бы и у Крамского. Лиля обрадована, она приободряется, она нашла наконец занятие.
Братья проводят дни в своих комнатах, живут своей жизнью: гимназист, студент университета, студент академии; отец — в своем кабинете пишет ученые труды. Мать и бабаша заняты хозяйством. Лишь к обеду семья сходится вместе. А после обеда Дмитрий Васильевич, к которому захаживают иногда друзья, садится за ломберный столик сыграть несколько партий в карты.
Кузина Ольга своим существованием совершенно довольна. Только Лиля томится. Науки, которые преподают приходящие в дом Поленовых словесник и математик, даются ей легко. С музыкальными уроками она тоже справляется, хотя и понимает, что музыка — не ее призвание. И когда уроки музыки были прекращены, она даже обрадовалась. Вот рисование — это другое дело! Но что она рисовала до сих пор? Под руководством бабаши — генеалогические таблицы русских князей, и потом «имя хорошего доброго князя раскрашивалось сусальным золотом, имя князя посредственной нравственности — красною, а худого — черной краскою». Ну рисовала еще как бог на душу положит бабашины «академические программы» — вот, пожалуй, и все, если не считать всяческой чепухи, которую она не берегла. И рисунки эти куда — то исчезали. Зато теперь все будет по — другому. Молодец, Вася!
Вася и сам доволен таким оборотом дела. С тех пор как Вера стала дамой, уехала с Хрущовым за границу, Лиля становится ему все ближе, все роднее. Он рад, что Лиля от одной только возможности занятий вышла из того оцепенения, в каком пребывала все время.
Сам он знаком с Крамским уже достаточно: по воскресеньям он стал ходить в школу на Бирже. Крамской как — то подошел к нему, стал поправлять его рисунок. Они разговорились. Крамской пригласил его приходить в артель. И он стал ходить туда. Но только днем, хотя интереснее всего в артели было по вечерам, когда собирались все, приходил молодой — с задатками гениальности — пейзажист Федор Васильев. Но по вечерам Поленов боялся ходить в артель, «боялся, что искусство меня всецело поглотит и я брошу университет», — признавался он. А потом жалел: Васильев умер совсем молодым, и ему так и не пришлось увидеть этого замечательного юношу.
О Крамском и раньше не раз заходил разговор в семье Поленовых. Дмитрий Васильевич вспоминал теперь, что видел на одной из академических выставок программу Крамского на Малую золотую медаль — «Поход Олега на Царьград» — и она ему понравилась; как археолог, как историк он нашел ее весьма точно воспроизводящей все исторические реалии, а это говорит о том, что Крамской, во всяком случае, человек серьезный.
Два года посещала Лиля школу на Бирже; теперь жизнь ее наполнилась смыслом, она и держаться стала бодрее, и речь ее стала тверже и смелее. У нее несомненные успехи в рисовании: за рисунок с головы натурщика она даже получает первый номер. Дома она кажется как бы отсутствующей, все ее помыслы там, в рисовальной школе. И бог знает, кто подал такую мысль — бабаша, Мария Алексеевна или приехавшая к тому времени из — за границы Вера Дмитриевна, — чтобы Крамской приходил в дом Поленовых и давал бы уроки Лиле, а заодно и Оле Воейковой. Это уж и не опасно вовсе: нынче ведь о «бунте 14-ти» как — то позабыли, со времени организации артели прошли годы, устав артели даже утвержден в верхах. Картины своих бывших питомцев, хотя они и бывшие бунтари, академия охотно принимает на выставки. Артельщики расписывают храм Христа Спасителя. Крамской для церкви в Петрозаводске плафон написал: бога Саваофа. И уроки все они дают, ведь члены артели должны зарабатывать на жизнь. А заодно, помимо уроков, Крамскому предлагают написать портрет бабаши — она ведь уже старенькая…
Крамской соглашается. Две зимы он ходит в дом к Поленовым, дает уроки Лиле и Оле. Пишет портрет Веры Николаевны. Рядом с ним пишет портрет Вася, столь уже преуспевший в искусстве, что, когда Крамской по какой-нибудь причине не может прийти в назначенный день, он просит Поленова: «Совершенно неожиданно приезд моего хорошего знакомого из Москвы не позволяет мне явиться на урок, потому извиняюсь перед всеми моими учениками; прошу Вас посмотреть и сделать Ваши замечания, если состоится рисование».
Портреты бабаши получились, естественно, неодинаковы. У Поленова — милая, добрая старушка, «бабаша», у Крамского — властная, деспотичная старая женщина, то есть такая, какой она и была на самом деле. Здесь сказались и опыт, и дар психолога, и определенное отношение Крамского к дому Поленовых и его обитателям (не случайно в беседе с Репиным Крамской называет Дмитрия Васильевича сенатором; Дмитрий Васильевич никогда сенатором не был, но барственный вид и весь уклад жизни семьи были таковы, как если бы Поленов-старший был действительно сенатором; кстати, сенатором был брат Дмитрия Васильевича — Матвей Васильевич Поленов). Да и к самому Василию Дмитриевичу Крамской долгие еще годы будет относиться предвзято. Даже после того как Поленов окончил академию и жил пенсионером ее в Париже вместе с Репиным и другими, получившими золотые медали, Крамской пишет Репину: «…черкните, между прочим, что Поленов, этот барин, меня интересует, что он делает, а также и вообще как он успевает, а также и прочие наши художнички, как говорит Чистяков» (письмо от 3 августа 1873 года).
Однако прошло лишь три месяца после этого письма, и Крамской кардинально меняет свое мнение о Василии Поленове. Летом того же 1873 года Поленов гостил у родителей в Имоченцах, в Петербурге он зашел к Крамскому, и тот под впечатлением встречи с ним пишет Репину 13 (27) ноября 1873 года: «Был тут у меня Поленов, он, вероятно, теперь уже в Париже. Как он изменился во всех отношениях к лучшему, начиная с головы! Я им немало любовался. Вот Вам и общество». Но для Репина в те годы Поленов был, пожалуй, чуть ли не единственным обществом. Он раньше Крамского понял сущность Поленова, сумел отделить его для себя от окружавших его людей (как впоследствии и Елену Дмитриевну). А в мае 1874 года Крамской уже запросто передает Поленову привет в письме Савицкому.
Еще через два года, в 1876 году, Крамской в Париже написал даже портрет Поленова, но портрет этот, к сожалению, исчез бесследно. Впрочем, в ту пору отношения между Поленовым и Крамским переходят в другой, более сложный и глубокий аспект.
Но мы вторглись уже в 1870-е годы, когда Поленов окончил академию, когда он уже пенсионер академии…
Вернемся в 1864 год. Поленов, еще не Василий Дмитриевич, а просто Вася, несмотря на то что ему уже двадцать лет, впервые в жизни (хотя и временно — его еще обломают, его еще не раз будут обламывать) настаивает на своем: он оставляет университет и всецело отдается занятиям в Академии художеств. И он действительно оставил (на время, конечно) университет и занялся любимым искусством.
Родители почли за благо предоставить ему некоторую свободу: пусть сначала окончит обязательный курс в академии: то, что он пропустит в университете, всегда можно будет наверстать.
По весне родители с Лилей уезжают в Имоченцы, сыновья остаются в Петербурге. Вера с Иваном Петровичем поселяются в Киеве, где Хрущов, совершенно уже отказавшийся от юношеских своих порывов, делает серьезную и солидную карьеру.
И так в 1864-м, и в 1865-м, и в 1866 году.
Родители с Лилей приезжают в Петербург лишь поздней осенью. Так что приехавший в октябре 1866 года в Петербург Чижов застает в квартире лишь сыновей своего друга. Ему нравится, что они живут самостоятельно. «Молодым людям непременно надо давать более свободы и более самостоятельности», — записывает он в дневнике. Чижов беседует по вечерам с Васей об искусстве. Оказывается, Вася совсем уже проникся тем духом, что царит последние годы во всей общественной жизни страны. Восторгаясь выставленной картиной Ге «Тайная вечеря», он никак не может примириться с тем, что из них готовят непременно исторических живописцев. Пусть каждый пишет то, что ему больше по душе. И Чижов соглашается с ним. «Это, действительно, глупо и непонято профессорами и Академиею: им следовало бы глубоко разобрать великие произведения великих maestro, сильно держать на технике искусства… Но воображение не должно сковывать».
В конце декабря 1867 года окончен обязательный академический курс: Поленов получает Большую серебряную медаль, уже не символическую, как некогда от бабаши, а настоящую.
Что же теперь?
Родители об университете отнюдь не забыли. Если Вася хочет работать дальше, чтобы получить сначала Малую золотую медаль, потом Большую, — пусть. Но университет окончить надо. Вася готов. На картины для Малой золотой медали, а потом для Большой — четыре года. И Вася опять, как в случае с окончанием гимназии, хочет, что называется, рвать удила: за два года пройти университетский курс, сбросить с себя это ярмо и всецело отдаться искусству.
Но снова — в который уже раз! — побеждает рассудительность мама, которую конечно же поддерживает папа: курс университета рассчитан на четыре года; за эти четыре года, не торопясь, пусть Вася и пройдет его. Вася — человек способный. И такие размеренные, правильные занятия не будут очень его утруждать, у него останется время и на искусство. Вот так — то и будут убиты те два зайца, которые мама и папа считают одним зайцем — образованием. Вася покоряется. Опять покоряется. Сдает университетские экзамены, сидит вечерами над книгами, что — то подчеркивает, выписывает, иногда посещает лекции. Все это, конечно, прибавляет ему образованности, общей культуры. Но на искусство остается мало времени, очень мало. И он упорно и напряженно работает над рисунком — композицией будущей картины на Малую золотую медаль: «Иов и его друзья». Тема его не интересует. А господа академическое начальство, задавши эту тему, «тему самую академическую, до которой кроме нее никому дела нет, дало указание: быть готову к сентябрю, когда должен был решаться вопрос о медалях; и в то же время начальство это вдруг проявило неуместный при такой ситуации демократизм: предоставило картины конкурсантов суду публики, газет, фельетонистов». Поленов возмущен до крайности. «Не знаю, чья это выдумка, — пишет он, — но, во всяком случае, очень неудачная. Пишем мы вещь заказную, без вдохновения, не только не интересную, несообразную требованиям „арса“ и вкусам публики, но враждебную им, и вот они призваны оценить ее. И кто же эти судьи? Или крикуны — фельетонисты, которые в искусстве весьма мало смыслят, или, еще лучше, недоучившиеся гимназисты, уже абсолютно ни в чем толку не понимают, а не только что в искусстве…»
Поленов окончил картину, отдал ее на выставку и, почувствовав страшное утомление, отправился отдыхать в Имоченцы (как, впрочем, всегда в летние месяцы).
Находясь в Имоченцах, он получает письма-отчеты от своего троюродного брата, тоже студента академии, Левицкого и от Репина. Письмо Левицкого поражает инфантильностью («Репина картина удивительно хороша, от него и не ожидал подобного понимания общего»), но в то же время отличается и пониманием искусства, и искренностью: «Возле его (Репина. —
Но Репин своей вещью тоже недоволен, и уж он-то не ставит свою работу выше работы Поленова. Он признается: «Я находился, когда выставлены были программы… под влиянием самой безотрадной хандры. Программы на выставке показались мне до того плохими, мне сделалось так совестно, что осталось только бежать или провалиться сквозь землю.
Не знаю, способность ли это человеческая привыкать, или программы действительно не так плохи, как мне показалось сгоряча? Только теперь я уже нахожу в них много хорошего (по живописи Ваша лучшая, что, впрочем, Вы сами знаете)… Вашей картиной, я слышал Виллевальда, он был очень огорчен за неоконченность. Небрежность в исполнении он принимает чуть ли не за личное оскорбление».
Впрочем, профессор исторической и батальной живописи Богдан Павлович Виллевальде на выставке 1869 года выставил и свои две картины: «Сражение под крепостью города Карса» и «Атака под Варшавой», которые, по словам Репина, производили «самое скорбное впечатление (один приятель мой очень метко выразился о них — по его мнению, это — два решета). Впрочем, к счастью, глаз на них не останавливается».
Итак, Вася отдыхает в Имоченцах после университетских экзаменов и окончания академической программы… А рядом изнывает от скуки Лиля. Еще несколько лет назад сестры Поленовы организовали в Имоченцах школу для крестьянских ребятишек. И вот теперь «в школьные дни» Лиля преподает там — от восьми до десяти. В остальное время она гуляет или, если день солнечный, работает. Начала пять этюдов. «Все начаты — ни один не закончен за недостатком солнца…»
В конце осени Поленовы переезжают в Петербург. И тут узнают, что Вася получил Малую золотую медаль, впрочем, получили все четверо конкурентов: Репин (№ 1), Поленов (№ 2), а также Макаров и Урлауб.
Одно досадно, сетует Мария Алексеевна: «Вася мог быть на торжественном акте в Академии художеств и получить лично свою медаль. Награды раздавала Великая княгиня Мария Николаевна со своим новым товарищем Великим князем Владимиром Александровичем».
Но бог с ними, с великими князьями, главное свершилось: медаль получена. Через два года нужно во что бы то ни стало получить Большую. Какова — то будет программа? И экзамены в университете сданы. Приятно и то, что между Академией художеств и университетом никакой духовной пропасти нет.
В черновике статьи, автор которой неизвестен, читаем: «Похороны Иванова были собственно академическим событием, но в манифестации по поводу их участвовали и студенты, в свою очередь на проводах цензора фон Краузе[3] участвовали художники. От этого соединения следует ожидать полезных результатов как для той, так и для другой стороны».
Это было написано еще до поступления Поленова в университет и в академию. Сейчас, по прошествии почти десяти лет, в конце 1860-х годов, ни о какой стене и речи нет. В статье, подписанной псевдонимом «Армянский», автор пишет, что из университета «дуют идеи века, там кипит жизнь русского общества. Войти в эту жизнь, заинтересоваться судьбой нашего общества — вот что необходимо каждому художнику».
И наиболее передовые журналы ратуют против академизма с его устаревшими традициями. И. И. Панаев пишет в «Современнике»: «И литература и живопись наши начинают… принимать в последнее время более дельное и серьезное направление… Боги и богини, герои и героини… с каждым годом появляются на академических выставках. Реализм, беспощадный реализм… пробрался и в академию, которая упорно и долго отстаивала свое холодное классическое величие… Там, где красовались некогда только сильные неба и высшие мира в лучах и в апофеозах, теперь являются какие-нибудь чиновники, офицеры, их жены, свахи и различная челядь, мужики и мужички, пляшущие у кабака, арестанты на дороге в Сибирь. Что делать?
Век шествует путем своим железным».
В журнале «Искра», возглавлявшемся Курочкиным, появилась статья И. Дмитриева «Расшаркивающееся искусство»: «Каждому человеку на роду написано преследовать какую-нибудь цель… Одни только художники не имеют у нас на Руси цели… Что выиграло общество и народ от того, что у нас сто лет существует Академия художеств?»
Однако веяния веяниями, журналы журналами, а академическое начальство остается верным академическим традициям. Программа для Большой золотой медали: «Воскрешение дочери Иаира». Нельзя, однако же, сказать, чтобы программа эта была совсем неприятна Поленову. Образ Христа, человека (Сына Человеческого!), проповедующего добро и творящего добро, близок ему. И Репин, при всем его радикализме и близости к Крамскому, не против такой темы. Да что там говорить! Сам Крамской напряженно размышляет над образом Христа. Именно в те годы пишет он своего «Христа в пустыне». Другое дело — какова цель, какова трактовка образа…
Но, так или иначе, Василий Поленов начинает готовить академическую программу «Воскрешение дочери Иаира». И — сдавать экзамены в университете, ибо университет, что ни говори, должен быть окончен одновременно с академией. Он с головой ушел в занятия, так как работы предстоит столько, что порою страшновато становится глядеть в будущее.
Между тем в Штутгарт, где живут сейчас супруги Хрущовы, то и дело приходят письма от Лили. Лиля скучает, хотя и занимается искусством. Вася сейчас занят, и ему не до того, чтобы наполнить содержанием жизнь семнадцатилетней сестры. Что мог — он делал. Прошедшей зимой они часто посещали оперу. И Лиля, хотя всегда называла себя «антимузыкантшей», увлеклась. Им удалось послушать двух заезжих певиц, звезд и впрямь первой величины, — Патти и Лукку. Но такие «растормошения» редки. И большей частью Лиля тоскует. Ни рисование, ни что бы то иное не может рассеять ее хандры. Вера предлагает Лиле приехать за границу, сначала в Германию, потом в Париж. Хрущов тем временем уедет в Киев, а потом приедет за ними. Лиля с радостью соглашается… и уезжает к Вере.
Но духовная связь ее со старшим братом не прерывается ни на минуту. 19 февраля (2 марта) она пишет ему из Дрездена, что Макарт, модный в то время живописец из Вены, устраивает в различных городах выставки серии своих картин «Чума во Флоренции», ибо иначе никак не окупит стоимости своей работы — десять тысяч талеров. Люди на выставку идут охотно, ибо картины эффектны. «Но зато, Вася, если бы ты видел, что выставляют в своем саксонском „Kunst verein“ (художественном объединении)… О Боже мой, наши красносельские и компания совсем перед ними бледнеют. Например: „Свадебное путешествие в Италию“. Фон — наверху синее небо, продолжение — такое же море (можно сказать, что не пожалел немец синей краски), на этом фоне скала желтая с малиновыми тенями. На скале немец — но это рожа!» и т. д. в таком же духе. Вообще, читая письма Елены Дмитриевны, удивляешься: откуда столько экспрессии у этой младшей из Поленовых? И какой совершенно современный лексикон и характер выражения мысли. Кажется, что эти письма не столетней давности, а написаны только вчера.
Вася тоже, разумеется, пытается не отстать от сестры. Письма его Лиле совсем не похожи на письма другим членам семьи. Вот, скажем, описание какого — то студенческого вечера: «…мы наперерыв один за другим старались делать всякие любезности дамам. Я пустил в ход „парле франсэ“ и тем произвел громадный фурор, так что, взвесив все шансы за и против, по крайней мере, три в меня влюбились.
Между прочим, на акте счастье мне вдруг улыбнулось, я был представлен начальством своим господином субинспектором его прозрачности господину Министру народного просвещения, духовных дел тайному советнику и кавалеру многих орденов империи, который удостоил протянуть мне два с половиной пальца, до коих я с премногим трепетом и великим движением духа прикоснулся…
После акта у нас был студенческий обед (наша компания), ну, водится, сильно не тово, Костя, ну уж тот совсем — тово. Конъяр был крайне развязен и любезен, даже три раза начинал о чем-то вроде республики, сиречь революции рассуждать. Я, говорит, обнимался все с Боком, Никитиным и Новосильцевым и т. д.» Но это так — светская болтовня. Все же основная тема переписки Васи и Лили — искусство.
Приехав в Париж, Лиля выразила желание учиться у некоего Шаплена. Вася поведал об этом Крамскому. Крамской возмутился: зачем же учиться на Западе, когда у нас уже был свой Федотов, а теперь появился Перов? На выставке сейчас еще картина «Птицелов», которая, по словам Крамского, как передает их Поленов, «в себе соединила огромную кучу философии, психологии, логики, эстетики, этики, правды и справедливости и много других элементов».
Здесь явно — ироническое отношение Поленова к словам Крамского, и надо сказать, что Поленов прав. Именно «Птицелов» Перова знаменует собою отход художника от гражданских, острых подчас публицистических мотивов, таких как «Сельский крестный ход на Пасхе», «Тройка», «Фомушка-сыч», «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы», «Приезд гувернантки в купеческий дом», «Утопленница». После «Птицелова» Перов в своих жанровых работах дойдет до почти анекдотических, обмусоленных во множестве ремесленных копий «Охотников на привале». В 1870-е годы Перов покажет еще себя превосходным психологом-портретистом, увековечив образы А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, В. И. Даля. Но в жанре он уже исчерпал себя.
Похвала Крамского была явно похвалой не столько «Птицелову», сколько Перову вообще, похвалой инерционной. И передавая слова учителя сестре, Поленов не сопровождает их своим одобрением. Поэтому-то письмо, полученное им из Парижа, так радостно, так мажорно, исполнено таких тонов, каких давно уже не было слышно от Лили.
«Васька! Ура! Я ученица Mr. Charles Chaplin (г-на Шарля Шаплена)! Это не художник, а прелесть. Преинтересный тип. Вообрази себе большую темную мастерскую, весь свет сосредоточен на натуре, вокруг всё мольберты, — шум, смех, говор, ходят, устраиваются, но вот маленькая (его, лично его) дверь отворилась и в ней показалась длинная худая, белокурая фигура — это профессор. Всё стихло, всё ждет… ловят каждое его слово. Да и он — какое благородство отношений, каким он себя настоящим держит рыцарем… Прелесть, я тебе скажу, увлекательный тип. Такой спокойный, и всех бранит, никого не хвалит, разве заметит, что руки упали…»
Но все это вдруг мгновенно обрывается.
Идет Франко-прусская война. Пока на фронте сохраняется равновесие, беззаботный Париж веселится, танцует, рисует. О войне ничто, кроме газет, не напоминает. Но вот пруссаки прорвали французский фронт. Пал Седан, несокрушимая, казалось, крепость, и вот уже немцы подошли к Парижу. Веселая жизнь французской столицы словно бы обрывается. По вечерам всех загоняют домой.
И. П. Хрущов, приехавший в Париж дней за десять до Седана, увозит Веру и Лилю в Россию, в Киев. Все, разумеется, сочувствуют французам, и Вера очень колоритно описывает свои впечатления (при всем том, надо сказать, что возвращались они из Франции через Германию. Таковы уж были тогда нравы): «В Кёльне повстречали мы два поезда, первый подвез раненых, и легко раненных разложили тут же по douane (таможне) у тебя под ногами; тяжело раненных стали выносить в город, — лицо одного я до сих пор забыть не могу, — пленные французики, жалкие такие, показались у ворот вагона: „Каплю воды, пожалуйста“, — тихонько молили они. Потом их отодвинули, и подкатил другой поезд, вагоны убраны зеленью, песни, крики, пьяные рожи немцев. Триумфиренд… едут они дальше продолжать свои победы… А тебя разбирает такая злоба, такое отвращение от всех этих королей, политиков, военных гениев, комбинаций — все это так мелко перед этим громадным злом…»
Поленов думал, сдавши университетские экзамены, присоединиться к сестрам, но события войны сделали это невозможным. И он, как все предыдущие годы, проводит лето в Имоченцах. На сей раз с Левицким. Этим летом он работает в деревне необычайно много. За лето — 100 этюдов. Нечто небывалое. Но каковы они — вот в чем вопрос?! Вопрос, на который мы, к сожалению, не можем ответить положительно. То, что сохранилось до наших дней, свидетельствует, что искусством композиции Поленов еще не овладел. Он пытался писать панорамные пейзажи. Но для этого необходимо определенное видение, видение обобщенное; Поленову же люб каждый листок, дорога каждая травинка, каждая ветка. Получается удивительное несоответствие частей и целого. У него еще взгляд «камерный», а «замах» — монументальный.
В то же время у него зреют мотивы, весьма далекие от академии. Впоследствии в Имоченцах (в 1876 году) после окончания академического пенсионерства он будет писать (но не закончит) картину «Семейное горе», выдержанную совершенно в духе картин художников-шестидесятников (того же Перова хотя бы). Летом 1870 года он делает для этой картины этюд маслом «Топящаяся печь». Он много рисует в избах, рисует интерьеры, портреты.
В сентябре Поленов вернулся в Петербург. В академии висят картины Макарта, те самые, что Лиля видела в Дрездене. Поленову картины Макарта понравились. Но купят ли их? Кто? На Западе, видно, сейчас, когда маркграфы, курфюрсты и прочие титулованные особы обеднели, некому покупать такие вещи. Буржуа? Они еще не так богаты… Да и поймут ли они? Правда, в Москве начал, говорят, покупать некто Третьяков, уже изрядно собрал картин. Но одна ласточка весны не делает.
На сей раз, к счастью, Поленов ошибся. Третьяков оказался той ласточкой, которая хотя и не сделала весны, но ее ознаменовала. Вслед за ним появились другие коллекционеры, и из купеческой интеллигенции, а потом и из интеллигенции трудовой (врачи, адвокаты), которые, конечно, не могли покупать так много, как купцы и предприниматели, но все же примером своим подзадоривали Третьяковых, Морозовых, Солдатёнковых, Щукиных. А эти люди заставили и царский двор посмотреть на искусство не как на пустую забаву.
Кроме картин Макарта еще один сюрприз поджидал Поленова в Петербурге: приехал из Италии Павел Петрович Чистяков. «Хотя привез мало, — пишет Поленов, — но зато, что привез, изумительно и по живописи, и по рисунку». Поленовские вещи Чистякову понравились, но не полностью. Понравился колорит. Рисунок еще слаб. Рисунку надо учиться. В свободное время Поленов стал копировать — выпросил у Павла Петровича — одну из картин, привезенных Чистяковым из Италии: «Голова чучары». Чистяков рассказывал, что чучара эта — известная красавица Джованина… (Впоследствии, правда, Поленов считал, что лучшей работой, привезенной Чистяковым из Италии, был «Муратор».)
Вообще же завертелся он теперь как белка в колесе. Нужно было поторапливаться — писать академическую программу. После картины Иванова Поленова интересовало все, что касалось Христа. Он сразу же представил всю сцену воскрешения дочери Иаира так, словно бы она происходила при нем: вот Христос подошел к ложу умершей, взял ее руку левой рукой, правой сотворил крестное знамение, и мертвая ожила. Она еще ничего не понимает, но ощущает, что только что ее не было, а вот сейчас она есть, она жива, опять кровью наполнились ее сосуды, опять бьется сердце, опять она дышит, видит, только еще не догадывается, что это за человек стоит подле нее и почему все окружающие так удивлены…
Эскиз получился хорош. Он был тотчас утвержден академическим начальством. Тут бы и начать работу, но маменька Мария Алексеевна твердит: прежде всего университетский экзамен. И откровенно и довольно равнодушно признается Чижову: «Вася в большом недоумении: его эскиз утвержден, тема ему очень по душе, работать и писать эту картину очень бы желал и мастерская дана. Но прежде июня приняться нельзя. Экзамены последнего курса кончаются в первых числах июня, и поэтому ранее нельзя и думать приняться за картину. А тогда приниматься ли? Мало времени…»
Ей, этой властной и любящей родительнице, и в голову не приходит, что университетские экзамены — совсем не самое главное для ее сына, что их-то как раз и можно сдать как-нибудь потом — по свободе, — а вот конкурсную картину махом, да еще после экзаменов, утомленным, не напишешь. Письмо, выдержку из которого мы привели, писано 12 марта 1871 года, а 22–го она удовлетворенно сообщает: «Сегодня Вася сдал удачно два экзамена — получил пять баллов. Теперь он пока свою картину оставил в стороне и думу о ней отложил до поры до времени. Главное теперь кончить университетский курс. А там спокойно обдумать свою работу…»
«Спокойно»?!
Но сын ее думает несколько иначе. Он подчиняется (опять, опять подчиняется, господи!) — но спокойствия того, о каком мечтает для него Мария Алексеевна, совсем не испытывает.
Чистяков совершенно определенно советует ему: конкурировать сейчас, в нынешнем году, тем более что сейчас конкурсы на Большую золотую медаль не ежегодные, а через два года. А через два года тема будет не та. Эта программа ему по душе. Она явно задалась уже в рисунке. Более уже, может, и не захочется конкурировать — пройдет запал. А художнику в начале самостоятельных занятий нужно быть в какой-то мере обеспеченным человеком, не думать о деньгах. Короче говоря, писать нужно сейчас.
Поленов и сам понимает, что Чистяков прав. Единственный человек, с которым он может посоветоваться, — Чижов. И он пишет ему письмо, полное отчаянных сомнений: до конкурса пять-шесть месяцев; если сейчас сдавать экзамены, то сил на это уйдет столько, что для работы над картиной их совсем не останется, придется отдохнуть хоть немного. Если бы конкурс перенести на несколько месяцев… «а работать страсть хочется, особенно как зайдешь в Академию, там все уже действуют, ну так и подмывает бросить полицейское право и сравнительную статистику европейских государств и взять палитру в руки».
Ответное письмо Чижова Поленову настолько умно, что очень уж велик соблазн привести его полностью.
«Милый и дорогой мой Вася. Письмо твое совершенно поставило меня в тупик. Само собой разумеется, что в деле самостоятельной, да еще более — художнической работы, любовь к предмету, энергия и охота работать — выше всяких положительных соображений для самой работы. Останавливать — значит, опрыскивать холодной водой. Следовательно, мы, искренне тебя любящие, должны сказать тебе: с Богом, пускайся по твоему влечению. Вот почему и я, в свою очередь, скажу тебе это же и уже, сказавши, не пущусь ни в какие соображения. Чистяков, сам художник, судя по всем отзывам, слышанным мною у вас, враг прозаических соображений, — он с художественной стороны и со стороны исполнительных твоих сил знает тебя, вероятно, больше, чем кто-нибудь. Его совет и художественно — архипастырское благословение должно иметь большее значение, чем наши расчеты.
Только этого никак не говори Вере Николаевне, потому что она непременно будет защищать благоразумие и опытность. А всякий знает, что благоразумие — прародитель всех гадостей и заклятый враг художественности. Само оно еще и так и сяк, его можно подкупить, потому что это величайший взяточник в мире: все берет, ничем не брезгает. Но, если ему дадут в помощь опытность, пиши пропало: самые величайшие кляузники не сделают того вдесятером, что сотворит соединение этих двух друзей. Ты сообщи, пожалуйста, это и Чистякову, хотя, кажется, он враг первому и второе употребляет только как старую тряпку — на стирание остатков от красок и масла с палитры.
Следовательно, благоразумию дай такого треуха, чтобы оно, подлое, не смело тебе и рыла показывать, а опытности вежливенько дай хорошего киселя или, попросту выражаясь, подж… да и принимайся с Богом за картину. В первых числах мая авось увидимся. Обнимаю тебя, очень и очень любящий тебя враг мерзкой опытности».
И все же… И все же — экзамены в университет были сданы: и полицейское право, и прочие далекие от учения Христа предметы. И картина была написана. В срок. Едва ли уместно рассуждать о том, какого нервного и физического напряжения потребовал этот труд.
Кроме Поленова выставлены были картины Репина, Зеленского, Макарова и Урлауба. Пока шло совещание академического совета, Поленов сидел в мастерской Репина, ожидая решения своей участи. Оба были взволнованны до предела. Вдруг дверь отворилась и вошел Чистяков.
— Ну, братья, поздравляю! — сказал он.
Медали присудили всем пятерым — случай в истории академии небывалый. Произошел небольшой дворцовый переполох. Оказалось, что новый вице — президент Академии художеств великий князь Владимир Александрович просто не знал, что конкурс на то и существует, чтобы выбрать одного из конкурирующих. Товарищ министра двора барон Кюстер отказался утверждать приказ великого князя, спросив: кто первый? Первый был Репин. Но он не кончил курса наук. Второй? Второй — Зеленский. Значит, медаль полагается Зеленскому. Но картина Зеленского была очень уж не хороша. Ему присудили медаль за приверженность строгому академизму…
Великий князь кинулся к министру двора Адлербергу и поклялся, что, если эти пять медалей утвердят, он обещает впредь никогда никому медалей не давать вообще. Медали были утверждены. Взбалмошный президент свое слово сдержал: за те двадцать лет, что он был на этом посту, никто не получил ни одной медали!
Потом состоялось торжественное вручение медалей. Великий князь подошел к Поленову-отцу и поздравил его. Какая — то дама сказала:
— Как трогательно! Великий князь благодарит отца за картину сына.
После этого состоялся еще завтрак у Поленова. Приглашены были Репин, еще один из конкурентов — Макаров, а также Ге, Чистяков и Крамской. Годом позднее, когда Поленов жил уже пенсионером в Италии, он получил от Веры, приехавшей в Петербург, такое письмо: «Видела я твою картину. Хороша дочь, необыкновенно хороша, симпатична, и взгляд ее на Христа, этот мгновенный возврат от смерти в жизнь, выражен чудесно. Какой Христос благородный против других, так спокоен, движения так изящны. Совершенно согласна с мадам Бок, которая говорит: „Как видно, что эта картина написана человеком из хорошей семьи“. Весь тон картины благороден. Остальные мне не понравились, все пахнут русскими художниками (не в обиду будь сказано), даже хваленый Репин».
Чем же мог так особенно понравиться поленовский и так не понравиться репинский Христос госпоже Хрущовой и мадам Бок?
Поленовская картина исполнена элегического настроения, репинская — несравненно величественнее. У Поленова чудо воскрешения свершилось, Христос уже сотворил то, ради чего пришел. У Репина он только готовится свершить это чудо. И поэтому он так сосредоточен, спокоен, весь ушел в себя, напряг все свои внутренние силы, мощный свой дух.
И окружающие еще не поражены свершившимся чудом, они жаждут его, но мало еще верят в то, что оно свершится. Это сомнение, граничащее с неверием, — в лице и в позе старика-отца, а особенно женщины, стоящей у ног покойной.
Может быть, именно это показалось Вере Дмитриевне чем-то таким, что пахнет «русским художником»?
К чести Поленова надо сказать, что он, написавший впоследствии много картин из жизни Христа, больше ни одного раза не покажет Христа, совершающего чудо. Ибо Христос был ему дорог именно как «Сын Человеческий», ему дорога была проповедь любви к людям, а не то, во что превратила Христа официальная Церковь… Но об этом разговор впереди…
Сейчас Поленов еще не нашел себя, он еще на переломе, он уже во многом опередил своих родителей, но во многом еще под их крылом, сейчас он — что поделаешь? — «молодой человек из хорошей семьи». Ему предстоит еще многое понять. А пока он совершает демарш, который никак не вяжется с представлением о нем как о молодом человеке из хорошей семьи.
Кажется, получил медаль, едешь учиться за границу, в Италию и во Францию. Ну и поезжай себе с богом. Но он хочет еще поучиться в России, серьезно поучиться рисунку, тому, чему его недоучили в академии. Он закончил копировать «Чучарку» Чистякова и понимает, что только у Чистякова сможет он получить те знания, которых ему недостает, обрести те навыки, которые не обрел в академии.
Кто учил его там? И как учили? Он вспоминает потом: «В мое время в Академии было много преподавателей. Преподавание велось без правильной системы, так что преподавателей почти не замечали, и это было большое достоинство. Все работали в одном классе; приходил Басин, который никаких указаний не давал, а все только мычал. У Венига на каждом шагу было слово „массы, массы“. „Вы не смотрите на детали, а берите массы“. За ним Шамшин. Этот, наоборот, настаивал на деталях, на „следочках“. Выписывать следочки. Преподавание было поставлено очень скверно, так что ученики пользовались большой самостоятельностью, и это было большим плюсом».
Слова эти сказаны 80-летним Поленовым, для которого отсутствие преподавателей в академии того времени, когда он там учился, было, быть может, и впрямь «плюсом» и такая система казалась достоинством. Хотя, если бы Вениг не был столь косноязычен и развил бы то, что он подразумевал под словом «массы», пользы от этого было бы, возможно, немало…
Об этом сейчас можно лишь догадываться. По-видимому, Поленов, получивший Большую золотую медаль, все же хотел иного «плюса», хотел получить школу строгого и правильного рисунка.
Его желание обратиться к Чистякову, поработать под его руководством для людей предубежденных могло, впрочем, показаться очередной блажью «этого барина». Но это не было блажью. Это было именно серьезное отношение к предстоящей деятельности. Ему только летом 1872 года предстояло уехать из России, и он, как ни утомлен был, не хотел эти месяцы бить баклуши.
«У меня есть большая просьба до Вас, — пишет он Чистякову. — Не будете ли Вы столь благодетельны и не согласитесь ли Вы давать мне и товарищу моему Левицкому уроки. Я знаю, что время у Вас теперь дорого, поэтому и думал так устроить: мы будем работать по вечерам с гипсу или с натуры, как Вы укажете, а Вы будете приходить к нам раз в неделю и наставлять нас на путь истинный. Я думаю начать работать в Академии, но там, во-первых, наставников таких, как следует, нету, во-вторых, товарищи и даже профессора на это очень странно смотрят: отзвонил свои медали, так и с колокольни долой, что еще одним мешать, а другим надоедать приходишь. Время это у Вас много не отымет — один-два часа в неделю, впрочем, если Вам удобнее не вечером, а в какое-либо другое время дня, то для нас это, наверное, все равно».
Чистяков согласился. Вскоре к Поленову и Левицкому присоединился Репин, который впоследствии признавался, что «до встречи с Чистяковым почти не встречал интересных художников (Крамской был самым интересным), но и вообще это был необыкновенный, выдающийся человек». О занятиях с Чистяковым Репин рассказывал потом следующее: «У Поленова мы устроили рисовальный класс и были до потери всех прежних понятий наших об искусстве удивлены, очарованы и наполнены новыми откровениями Чистякова, с совершенно новой стороны подходившего к искусству».
Это новое, ни на что не похожее, индивидуальное чистяковское отношение к искусству, особенно к рисунку, было откровением, собственно, для Репина, Поленов только углублял те знания, которые получил от Павла Петровича до поступления в академию.
Занятия эти продолжались, видимо, около полугода, но и Репин, и Поленов всегда считали себя учениками именно Чистякова. И Чистяков горд был тем, что первыми его учениками были Репин и Поленов. Много лет спустя он писал: «Поленов, Репин по окончании курса в Академии брали у меня уроки рисования. То есть учились рисовать ухо гипсовое и голову Аполлона. Стало быть, учитель я неплохой, если с золотыми медалями ученики берут уроки рисования с уха и головы, да надо же было сказать новое в азбуке людям, так развитым уже во всем».
Впоследствии, когда Поленов жил пенсионером в Италии и Франции, он никогда не прекращал переписку с Чистяковым. Чистяков наставляет его, делится с ним новостями об академии: «Есть здесь некто ученик Суриков, довольно редкий экземпляр, пишет на первую золотую медаль. В шапку даст со временем ближним. Я радуюсь за него. Вы, Репин и он — русская тройка…»
Что ж, Чистяков мог предсказывать! Предсказания его сбылись.
Правда, золотой медали Сурикову не присудили, о чем Чистяков пишет с гневом тому же Поленову: «У нас допотопные болванотропы провалили самого лучшего ученика во всей Академии Сурикова за то, что мозоли не успел написать в картине. Не могу говорить, родной мой, об этих людях: голова сейчас заболит и чувствуется запах падали кругом. Как тяжело быть между ними. Ученики меня, кажется, любят и понимают, на деле даже некоторые. Держусь всеми силами в стороне, избегаю даже встречи с мудрецами».
Уже тогда Поленов придерживался тех же взглядов, что и Чистяков. И переписывался он с ним долгие годы, не только когда жил за границей, но и потом, когда поселился в Москве. «Он был прямой и честный человек, — говорил Поленов. — Репин считал за честь быть его учеником. Наиболее талантливыми его учениками были Серов, Врубель».
Эта последняя фраза Поленова о наиболее талантливых учениках Чистякова как нельзя более точно характеризует его самого как человека предельно справедливого.
Не надо мне опытности, если от нее изменяются убеждения.
Итак, годы учения остались позади.
Поленов готовится к поездке за границу, поездке, которой добивался так упорно и с таким нечеловеческим напряжением сил. Он измучен, он сам себе не смеет признаться, что стал жертвой родительского деспотизма, жертвой традиции, обязывающей иметь университетский диплом. Он стал жертвой того самого благоразумия, с которым Чижов советовал ему поступить менее деликатно, чем он поступил. Правда, впоследствии окажется, что и семейное воспитание, и университетское образование сделали все же свое дело: он будет считаться наиболее образованным, наиболее культурным человеком среди русских художников (равным ему окажется впоследствии разве только Врубель, тоже, кстати сказать, окончивший университет и тоже юридический факультет). Но что из этого?
Вот Репин, который вместе с ним берет сейчас уроки у Чистякова, ведет жизнь, куда больше соответствующую назначению художника. На Украине, в крохотном каком-то Чугуеве, живет его неграмотная мать, которая никак не может диктовать своему сыну, что ему делать и как поступать. И он вдруг собирается и летом едет на Волгу, привозит оттуда множество этюдов. А теперь, написав, как кажется Поленову, шутя и играя, «Воскрешение дочери Иаира», продолжает писать первую свою самостоятельную работу «Бурлаки». Картина не совсем еще окончена, но этюды к ней были уже на выставке, и картину эту купил — до ее окончания еще — великий князь Владимир Александрович.
И Поленов мог бы, собственно, работать, а не только штудировать то, что он штудирует под руководством Чистякова, но смертельная усталость, апатия сковывает его.
В Академии художеств сохранилась фотография, сделанная в 1871 году. На ней, кроме медалистов, — Ковалевский, Кудрявцев, Савицкий. У всех непринужденные позы, а иногда — наоборот — принужденно-развязные, но чувствуется, что все веселы, все в отличном расположении духа; только Поленов стоит с краю, как бы отдалившись ото всех: он корректен, нахмурен, он сжал руки на груди. У него густые черные усы, непомерно широкие. И все это вместе взятое так выделяет его из группы беззаботных собратьев, что кажется: он самый зрелый среди них, а между тем — по сути, вернее по воспитанию — едва ли не самый инфантильный.
Ему предстоят шесть лет самостоятельности, шесть лет совершенствования. Как-то он их проведет? Усовершенствуется ли только в технике живописи или укрепится также характером, перестанет в действиях своих оглядываться на мама, на папа, а то еще и на бабашу?
Он будет поставлен перед необходимостью повзрослеть силою обстоятельств, которые неизбежно возникают в жизни человека. Но он едва ли понимал огромность задачи, ставшей перед ним: ему предстояло стать
Где-то в глубине души Поленов понимал это интуитивно (было ли тогда в ходу это слово?), но сформулировать свои чувства и мысли он едва ли смог бы.
В начале лета 1872 года он уезжает в Италию. Путь его лежит через Австрию и Германию. Он намерен близко познакомиться с этими странами, с их бытом, с современным их искусством и с тем, что осело в музеях. Он исправно пишет письма родным, и эти подробные отчеты — рудимент его воспитания — единственный материал, по которому мы можем судить о первом полугодии его пенсионерства. Он подробно описывает все, даже таможенный досмотр и обмен любезностями с таможенным офицером, который, узнав, что он
Сначала в пути все привычно, обычно, «как у нас», потом — «горы и изредка замки, этого у нас нет. Реки быстрые и мутные. Дунай не голубой, как его назвал Штраус, а серо-коричневый». Но в Баварии он вдруг делает остановку более чем на два месяца. Ему все нравится здесь. Он отдал дань мюнхенским музеям. В Старой пинакотеке его привлекают Рембрандт и Броувер (Брауэр). Новая часть — больше, но бледнее. Более других привлекают его «Смерть Валленштейна» Пилота и полотна Бёклина.
Он побывал в мастерских у некоторых мюнхенских художников, причем именно Пилота, чья картина так понравилась ему, принял его наиболее дружески «как себе равного художника, если не по достоинству, то по стремлениям». Пилота расспрашивал его о Петербургской академии и, услышав его рассказ, предался воспоминаниям о годах своего учения в Мюнхенской академии, где был учеником Шнора и даже ректора Корнелиуса, но, видя мертвенность ложноклассических приемов этих художников, оставил академию и стал работать сам с натуры.
— Нет лучшего учителя, милый друг, чем натура, — говорил он Поленову.
Пилота советовал начинать с жанра, с картин, сюжеты которых подхвачены где-нибудь на улице. Только это позволяет, оставаясь правдивым, верным натуре, перейти потом к историческим картинам. Поленов был совершенно покорен приемом, оказанным ему знаменитым живописцем. Побывал он в мастерских у Каульбаха и у Дица, молодого художника, входившего тогда в моду. Но с несравненно большей живостью, чем даже о мастерских знаменитых художников, пишет он о Национальном музее — собрании «предметов повседневной жизни»: «Каждая зала или комната декорирована в стиле данной эпохи, это придает необыкновенную жизнь находящимся в ней вещам. Такой музей удивительно поучителен, каждое столетие является живым». Понравился и сам Мюнхен, в те годы совершенно еще тихий, патриархальный. «В нем заложена глубокая мысль», — пишет Поленов. Здесь, кажется, начало его интереса к готике, к немецкому Средневековью.
В сущности, два месяца он проводит в Баварии гостем своего университетского приятеля Отто Кюстера, немецкого барона, сына российского царедворца, статс-секретаря, управляющего контролем и кассой министерства двора при Александре II. Вилла Кюстера расположена в местечке Зеехаупт, где-то в приграничной зоне, чуть ли не в Швейцарии. В те идиллические времена государственные границы не были препятствием для туриста, особенно если он «mahler». Альбом с рисунками всюду производил должное впечатление.
Но Поленов все еще как бы под опекой: все же семейство Кюстеров — хорошее семейство. Его всюду возят, а больше водят: ходить помногу здесь принято: «…так ходили Шиллер, Гёте, Гайдн, Моцарт и все остальные великие люди в молодости. Пошли и мы…» Ему все нравится здесь: множество железных дорог, больших и маленьких, окрестности виллы, напоминающие чем-то Имоченцы, а потом, когда туман рассеивается и появляется гряда гор, ему нравится и это. Нравятся вечерняя игра в кегли («Чудесная игра по своей азартности, а главное, моциону»), деревенская харчевня, в которой собираются по вечерам и совсем не напиваются, как в российских кабаках, нравится вечернее пение в домах, когда после ужина хозяйка раздает детям маленькие книжечки со словами песен и нотами, их все поют с листа — и народные немецкие песни, и песни Гайдна, Моцарта, Мендельсона. И все это в простых домах… Где уж бедняге России тягаться…
А на вилле Кюстеров поет изысканное общество: мадам Кюстер, бывшая оперная певица, две ее племянницы, из которых младшая тоже поет в опере («У младшей прелестный сопрано и белокурые волосы „blonde Locken“»). Но ему больше нравится старшая. Между ними даже возникает некая мимолетная симпатия.
То и дело совершаются прогулки по окрестностям: сначала по железной дороге или омнибусом, потом «по-настоящему по-немецки пешком с сумкой или ранцем на спине». Во время одной из таких прогулок попали в дом лесничего, он угощает пивом, ему, разумеется, платят. Он жалуется: раньше туристов было больше, больше пили пива, больше было доходу… Все это война с французами… Ну ничего, Бисмарк скоро все исправит!..
Особенно понравились развалины одного замка. «Много живописных уголков, например внутренний дворик, ворота, лестница, идущая вдоль стены», «воскресают не рыцари, а бароны — со своими нравами и правами. У нас эти нравы господствовали во времена Пушкина, да и позднее». Именно здесь, как сам он потом признавался в отчете конференц — секретарю Академии художеств Исееву, у него возник замысел картины, написанной двумя годами позднее, — «Право господина» или «Право первой ночи». Он знал законы и нравы Средневековья, этот окончивший юридический факультет университета молодой человек, но он, оказывается, знал и нравы (не законы, а именно нравы), существовавшие в России «во времена Пушкина и позднее»…
Лишь в середине сентября Поленов покинул Баварию и уехал к месту своего назначения — в Рим. По пути он любуется перевалом Бреннер, развалинами монастырей и замков, слушает легенды о них; миновав Верону, Виченцу и Падую, он попадает в Венецию. В очередном, весьма обстоятельном письме родителям он подробно описывает этот действительно сказочный город с его каналами и гондолами, с особенным каким-то, очень оживленным народом, его темпераментным говором. И конечно — искусством. Искусство в Венеции — на каждом шагу. Любой палаццо, любой мост — произведение искусства. Он останавливается во второразрядной гостинице «Луна», но и в ней «потолки расписаны фресками, удивительно красива гирлянда, особенно красива столовая», гостиница — неподалеку от площади Сан-Марко с его знаменитым Дворцом дожей, расписанным не просто «удивительно красиво», а такими художниками, как Веронезе, Тинторетто, Тьеполо. Галерея академии, где кроме ожидаемых Тициана и Веронезе совершенный сюрприз — Карпаччо. Он ходит по венецианским церквям и отдает предпочтение не тем, конечно, которые «богаты внутренним убранством», а тем, где есть интересные картины, — Пальмы иль Веккьо, например. «Интересно ходить по венецианским переулочкам или закоулкам, всюду мостики, маленькие палисадники, горшки с цветами перед окнами».
Полтора года спустя в отчетном письме конференц-секретарю Академии художеств Исееву Поленов очень подробно описывает разнообразные впечатления от итальянских городов и итальянской живописи, которую удалось ему увидеть, и признается, что самой большой любовью его в Венеции оказался Веронезе. После Венеции, разумеется, Флоренция, и опять описание впечатлений и от самого города, и от картин в галереях Уффицы, Питти, академии, церквях…
Но все это только прелюдия того, что ему предстоит. А в том, что прелюдия эта очень уж затянулась, проскальзывают какая-то затаенная тоска, страх перед открывающейся самостоятельностью, перед живой жизнью, от которой он был огражден попечением и родительскими советами, столь категорическими, что их следовало неукоснительно придерживаться.
С середины октября он — в Риме, но на Рим смотрит совсем не теми глазами, какими смотрел на Венецию или Флоренцию, он смотрит на Рим не глазами туриста, а глазами человека, которому предстоит здесь поселиться и работать. Что же сулит ему пребывание в Риме? Что будет он писать здесь, в городе, где прославился Брюллов, где провел двадцать лет в подвижническом труде Александр Иванов, который и по сей день пребывает в числе его кумиров и пребудет им до конца дней…
Но вот в Риме-то ему все не нравится. Даже собор Петра: «…какой-то пустой и без фантазии». Он ищет объяснения этому в том, что дует сирокко, южный ветер «из Африки, из самой Сахары, наводит он уныние, и в средние века считался смягчающим обстоятельством при убийстве». Все это так, сирокко ужасен, но сирокко, верно, дул и в те годы, когда Микеланджело расписывал Сикстинскую капеллу, когда писал свои фрески Рафаэль, когда Веласкес писал портрет папы Иннокентия X, этот шедевр портретной живописи, дул сирокко и тогда, когда в Риме жили Брюллов, Кипренский, Иванов.
Может быть, ему следовало остаться в Баварии и там, в Мюнхене, ставшем в те годы одним из центров европейского искусства, писать «Право первой ночи», тем более что натура, во всяком случае антураж — все эти рыцарские замки — рядом.
Но сила инерции, традиция привела его в Рим. Он снимает студию и начинает то, что почитал своим долгом написать за годы пенсионерства. Пример Иванова для него — источник вдохновения. Вернее, должен быть источником вдохновения. «Начал делать этюды для картины „Кто из вас без греха“. Вообще жизнь Христа меня с давних пор интересует, и вот из этой жизни мне хочется изобразить несколько эпизодов». Он не напишет в Риме эту картину, задуманную, правду сказать, уже давно, когда он учился в академии. Об этом замысле со слов самого Поленова пишет Остроухов и даже утверждает, что первая мысль об этой картине «пришла ему в голову… еще когда в Петербурге он впервые увидел привезенную туда из Рима картину Иванова. Еще тогда ему пришла в голову дерзкая мечта явиться продолжателем Иванова и создать Христа не только грядущего, но уже пришедшего в мир и свершающего свой путь среди народа».
Искусствовед Сергей Глаголь сообщает, что первый эскиз картины был исполнен в 1867 году. Так ли это? Эскиз не сохранился. То, что первый замысел картины о Христе, «совершающем свой путь среди народа», то есть нечто общее, а не конкретное, мог прийти в голову четырнадцатилетнему Васе Поленову, вполне вероятно. Но едва ли именно сюжет о блудной жене пришел в голову благовоспитанному мальчику. Скорее всего, сюжет этот задумал он позднее. Но когда? По-видимому, все же в юности. Когда же и рождаться дерзким мечтам, если не в юности! Можно предположить, что это произошло в годы учения в Академии художеств и в университете, где изучал он «право» — от римского до полицейского. Тогда, когда он изучал право Древнего мира, право древней Иудеи — побить камнями неверную жену, — мог возникнуть замысел картины о Христе, право это — дикое — отвергшем, спасшем от града камней «женщину, стоящую посреди».
Здесь надобно принять в расчет то, что были это благодетельные для России, для русской интеллигенции шестидесятые годы, годы реформ, годы раздумий над «естественными правами» человека и, в частности, равноправием (или, как тогда говорили, эмансипацией) женщин. Годы великих надежд. Не эти ли мысли трансформировались в Баварии в другую тему — в «право первой ночи»? Не тогда ли он начал задумываться над тем, как, в сущности, далеко отошли права и нравы христиан, узаконенные церковью и обычаем, от учения Христа.
Может быть, именно желание исполнить эту картину — «Кто из вас без греха?» — заставило его обосноваться в Риме? Об этом можно только гадать.
Но Рим, как мы уже успели убедиться, явно пришелся ему не по душе. Восторженно он пишет только о фресках Рафаэля.
Чтобы как — то втянуться в работу и художественную жизнь, он начал посещать так называемую Академию Джиджи, собственно, студию, где рисовали с натуры. Студия эта названа так по имени ее основателя и владельца, некоего Джиджи, старого натурщика, и помещается в каком-то каретном сарае. В сарае этом по вечерам собираются молодые художники. Особенно много испанцев: в этой студии еще недавно работал прославленный Фортуни. О Фортуни Поленов услышал впервые от Чистякова после его приезда из Италии. Павел Петрович был в восторге от красок Фортуни, но считал, что рисовал Фортуни нехорошо. Фортуни и сам признавал это и брал уроки рисунка у Чистякова, когда они жили вместе в Италии. Сам же Чистяков многому научился у Фортуни в акварельной технике…
В конце ноября, когда Поленов рисовал в Академии Джиджи, к нему подошел респектабельного вида господин в очках и спросил по-русски: имеет ли он честь говорить с пенсионером академии Поленовым? Господин назвался Адрианом Викторовичем Праховым. Он сказал, что тоже учился когда-то в Академии художеств, хорошо знаком с Репиным, но из-за болезни глаз вынужден был оставить живопись и заняться историей искусств. Сейчас он прислан в Рим Петербургским университетом изучать итальянское искусство. Он и жена его будут очень рады, если господин Поленов посетит их на via Sistina неподалеку от фонтана «Тритон».
В один из ближайших вечеров Поленов пришел по назначенному ему адресу. На двери висело железное кольцо, он ударил им три раза в дверь. Из окна верхнего этажа ответили, что слышат, после этого задвижка сама отодвинулась и дверь открылась: таким хитрым способом — веревкой, протянутой с верхнего этажа, — открывали в Риме парадную дверь.
Супруга Прахова Эмилия Львовна оказалась женщиной некрасивой, экстравагантной, но в общем приятной и гостеприимной. У нее был настоящий русский самовар (бабаша в письме, которое он незадолго до того получил, обещала ему прислать самовар из России, потому что «на спирту чай не будет так вкусен», и тут же добавляла — по-французски, — что чай настаивают, а не варят, как кофе). Эмилия Львовна напоила гостя чаем, тотчас же показала двухлетнюю дочь Лёлю, здесь в Риме родившуюся, называла ее не иначе как «мое сокровище». Пришел еще один гость, высокий, рыжий…
— Микеле, — представила его Эмилия Львовна.
Это был Михаил Михайлович Иванов, музыкант и начинающий композитор.
— У нас тут у всех вторые имена, — бойко тараторила Эмилия Львовна. — Вот Михаил Михайлович — Микеле. А вы… — Она на несколько секунд задумалась. — Вы будете дон Базилио! Согласны? — И, не дожидаясь ответа, сказала: — Ну вот и отлично: дон Базилио.
В следующий свой приход к Праховым Поленов был потрясен. Был ранен в самое сердце. В гостиной у Праховых он сразу же увидел молодую девушку, и хотя на этот раз людей в комнате было больше, он все равно никого, кроме нее, не видел, а когда не видел и ее, то только ее и чувствовал. Эмилия Львовна представила ее Марусей Оболенской. Чем она так сразу привлекла его? Бог знает… Тайна сия велика есть…
Он поклонился молодой итальянке Лауре, невесте Микеле, еще одной женщине — Екатерине Алексеевне Мордвиновой, которая оказалась родной сестрой Маруси. Екатерину Алексеевну Эмилия Львовна называла «генеральшей»: та была вдовой генерала, но успела прожить с мужем всего один год. Но все внимание Поленова было поглощено только Марусей. Лицо ее было одновременно строгим и приветливым, на груди лежали толстые красивые косы.
Эмилия Львовна, как и прежде, поила чаем; каждый раз, когда в самоваре оставалось мало воды, кто-нибудь из мужчин должен был идти на кухню наполнить самовар.
— А вот и еще гости, — радостно захлопала в ладоши Эмилия Львовна. — Слышим, слышим! — крикнула она в окно.
Через несколько минут на пороге показались невысокий коренастый господин с глазами навыкате и две дамы.
— Господа Мамонтовы, — представил Адриан Викторович.
— Как же знакомить — то?! — воскликнула Эмилия Львовна. — Не пройти! У нас, право, сегодня впервые так людно. Раут, да и только!
Действительно, круглый стол был довольно велик для маленькой столовой Праховых и стулья вокруг совсем не давали возможности пройти.
— Садитесь сюда, — скомандовала Эмилия Львовна, указывая на ближайшие стулья. — Я буду представлять. Наши новые друзья: Савва Иванович Мамонтов, Елизавета Григорьевна Мамонтова, Александра Антоновна Гофман. Наши старые друзья: Микеле… — И она представила вновь пришедшим тех, кто уже находился в комнате.
Разговор затянулся допоздна. Поленов и Мамонтов узнали друг друга: Мамонтов был как — то дома у Поленовых, когда у них останавливался Чижов. Мамонтов и Чижов были компаньонами по железнодорожному строительству.
— Федор Васильевич — человек осторожный, — говорил Мамонтов Поленову. — Но, кажется, я уговорю его проложить дорогу на Архангельск, а там, бог даст, и в ваши Олонецкие края заберемся.
Поленов обрадовался, пообещал, если дорога пройдет мимо них, расписать станцию фресками.
Всё в этот вечер ему нравилось у Праховых. Он с ловкостью подхватывал самовар и, чувствуя себя словно бы на пружинах, шел в кухню наполнять его, с Мамонтовым говорил подчеркнуто громко.
Решили: назавтра днем быть у Мамонтовых, вечером у Мордвиновых. Поленов рад был, что ему, как единственному свободному мужчине, не нужно было даже предлога, чтобы провожать Марусю и Екатерину Алексеевну в дом на Piazza Moneiza.
Днем он был у Мамонтовых. Александра Антоновна оказалась гувернанткой их сына. Мамонтовы приехали в Италию лечить его: у мальчика было что-то неладно с почками. Поленов совершенно пленен был Саввой Ивановичем, его живостью, темпераментом, обаянием, его смелыми планами. А вечером все опять встретились у Екатерины Алексеевны и Маруси.
Екатерина Алексеевна была, признаться, особой несколько странной, хотя и совсем в ином роде, чем Эмилия Львовна, которая была просто экстравагантной. У Мордвиновой — иное. Она курила, и это не очень вязалось со всем ее аристократическим обликом, так же как и простонародные словечки, которые она не всегда к месту вставляла в изысканные обороты, переплетая их фразами на французском или итальянском. На ее фоне Маруся еще более выигрывала сдержанностью, строгостью и какой-то дивной уравновешенностью.
Постепенно Поленов узнал историю сестер. Мать их, Зоя Сергеевна, с мужем разошлась и увезла дочерей в Швейцарию, где вышла замуж вторично. Теперь фамилия ее была — Острога. В Швейцарии сестры несколько лет провели в кружке людей, близких к Герцену. Отсюда и шли все странности Екатерины Алексеевны: она, аристократка, в юном возрасте попала в среду так непохожую на ту, в которой прошло ее детство. Она успела воспринять, разумеется, лишь внешнюю сторону тех идей, что проповедовали те люди, которые ее окружали. Вскоре после смерти мужа Екатерины Алексеевны в Женеву приехал ее отец князь Оболенский, явился ночью в дом своей бывшей жены и увез в Петербург младших детей. Маруся той ночью была у сестры и потому осталась с ней и с матерью. Княжеская же эскапада наделала тогда много шума в России и в эмигрантских кругах.
В конце декабря в Рим приехал Антокольский, год уже живший в Италии. Сейчас он побывал в России, у себя на родине в Вильно, женился там, потом был в Москве, где познакомился с Саввой Ивановичем Мамонтовым (с Елизаветой Григорьевной он и Прахов познакомились еще прошлой зимой в Риме), а теперь Мамонтов с нетерпением ждал Антокольского, у которого хотел учиться лепить, ибо чувствовал в себе призвание к скульптуре. Они втроем стали ходить теперь по вечерам в Академию Джиджи: Антокольский и Мамонтов лепили, Поленов рисовал.
Прахов все обещал прочитать цикл лекций по искусству и потом поводить всех по музеям. Поленов ждал этого с нетерпением, но не потому, конечно, что так уж хотел услышать давно знакомое из уст Адриана Викторовича, а потому, что затем предстояли несколько экскурсий по городу, в которых должна была участвовать Маруся. Она все реже теперь показывалась у Праховых, считая такие вечера пустой тратой времени. Она серьезно училась петь, много читала. В 18 лет так естествен этот максимализм… Но Поленов страдал. Он страдал сразу по двум причинам: от любви к Марусе Оболенской и оттого, что не знал, что ему писать. Ничто его не вдохновляло.
Потом к Марусе приехал брат, и она совсем уж редко стала показываться в компании, в «семье», как со свойственной ей экспансивностью назвала компанию Эмилия Львовна. Впрочем, Новый год встретили все вместе у Мамонтовых очень весело, пили за Россию, за дружбу. Вскоре Савва Иванович уехал в Москву, дав слово Эмилии Львовне, что непременно приедет крестить ее «второе сокровище», которое она ждала в скором времени. Поленову стало совсем тоскливо. Он так же, как и Маруся, все реже стал показываться у Праховых, хотя к Антокольскому и Елизавете Григорьевне приходил. Как — то в ресторане встретился с Михаилом Петровичем Боткиным, тем самым, в петербургской квартире которого жил последние дни свои Александр Иванов. Боткин рассказывал об Иванове, о последних днях его, о том, как жил и работал Иванов в Италии. После этого разговора Поленов с Праховым и Антокольским ездили в этрусский городок Корнето, где Иванов писал пейзаж для своего «Христа» — дальние горы.
Как — то в остерии, куда Поленов ходил обычно обедать, он познакомился с двумя девушками, приехавшими из России, — Лизой Богуславской и Мотей Терещенко. Обеим было по девятнадцать лет. Увлеченные идеями шестидесятых годов, они решили непременно учиться в университете. Для этого нужно было уехать за границу. Они выбрали Цюрих. Но, попав в университет, учиться там не смогли, не сообразили заранее, что, прежде чем слушать лекции на иностранном языке, надо язык этот знать. Они оказались в кружке русских эмигрантов, близком чуть ли не к самому Бакунину, мечтали об обновлении России… Но долго выдержать такую жизнь не смогли, обе загрустили, а потом и заболели. Доктор приказал им ехать в Италию. Как они добрались до Рима, чем жили?..
Поленов упросил Елизавету Григорьевну, и они с Мордвиновой и с Марусей поехали посмотреть, как и где живут эти нелепые эмигрантки.
«Я уже, кажется, писала тебе, что Поленов возится с двумя студентками, приехавшими из Цюриха сюда ради своего здоровья, — писала Елизавета Григорьевна мужу. — Ну вот, вчера мы ездили с Екатериной Алексеевной и Марией Алексеевной повидать их. Оказывается, это совершенно два ребенка, и той и другой по 19 лет, ни малейшей опытности, обе больны, квартира сырая, но они нисколько не унывают… Веселы, полны энергии, вообще так и веет от них молодостью и жизнью. Произвели они на нас хорошее впечатление, и мы хотели принять их если не в семью, то в число своих знакомых, кума твоя, кажется, совсем этому не сочувствует. В Поленове происходит какая — то реакция. Он, кажется, совсем разочаровался в своей картине, и не хочет даже продолжать, и начинает новую, сюжет которой держит в тайне. В семье бывает гораздо реже». Следующее письмо Елизаветы Григорьевны Савве Ивановичу тоже в значительной мере касается Поленова: «В субботу собрались у меня, все были в духе. Маруся действительно прелестное существо, по выражению Микеле, очень серьезно смотрящая на все. Она редко бывает в общих собраниях, вообще она враг тунеядства (это ее выражение), и даже нас всех она преследует за это. Мне она очень симпатизирует, и когда у меня собираются, непременно бывает. С Екатериной Алексеевной мы большие приятели, я ее очень люблю, и нам вместе хорошо. Поленов очень изменился, сжег все свои картины, у нас у всех бывает редко, вид имеет какой-то расстроенный, предполагаем, что он страдает по одной из студенток. Кстати, они, кажется, к нам не привьются, мало у нас с ними общего, хотя они и очень милые девушки».
Нет, Поленов не был влюблен ни в Лизу Богуславскую, ни в Мотю Терещенко. Он любил Марусю. Он страдал из — за того, что, производя на всех впечатление человека живого и деятельного, был так несмел, что не мог открыться Марусе… Впрочем, кто же не страдает, влюбляясь в первый раз, да и не только в первый?! Он страдал оттого, что не может работать, не может писать, ничто не задевает его так, чтобы все бросить и работать, работать, работать. Так, как работает Антокольский. В Петербурге он совершенно чудесно вылепил Ивана Грозного, в Риме — Петра I, работа над ним почти окончена, а Антокольский уже с увлечением говорит о будущих своих работах. Он больше не хочет лепить царей, он будет создавать образы великих мыслителей: Христа, Сократа, Спинозу…
В отчаянии Поленов пишет огромное письмо Репину: «…теперь нахожусь в Вечном городе, преславном Риме. Видел я горы большущие-пребольшущие, озера зеленые-презеленые, видел реки разных размеров, текущие не медом и млеком, а больше помоями, наконец, видел груды векового мусора, накопившегося, накапливающегося в городе, которому предстоит, как полагают, вечность; много чего и другого видел и все-таки скажу, что наша плоская возвышенность роднее и симпатичнее мне, чем все эти чудеса, и не раз являлось желание убежать отсюда. Сам Рим — как бы тебе сказать — не то что не хорош, и климат в нем по временам славный, и небо бывает иногда действительно довольно темное, итальянское, и пейзаж вокруг не похож на российский, а несмотря на то, он какой-то мертвый, отсталый, отживший. Существует он… столько веков, а даже типичности нету, как в немецких средневековых городах, где с одной стороны на другую можно из верхних окошечек руку подать, а влюбленная немецкая парочка может даже поцеловаться…
…О художественной жизни в современном смысле и помину нет, художников много, а толку мало; работают все замкнуто, каждая национальность отдельно от другой, студии их, хотя и отперты, но главным образом опять же для богатых заморских покупателей, так что и искусства подгоняются к их вкусу. Во-первых, чтобы англичанину не показалось неприятным, во-вторых, чтобы не было слишком велико, дабы с удобством могло находиться в кабинете, наконец, чтобы было непременно что — нибудь напоминающее Рим, чтобы могло служить сувениром, ну и пишется все то же, и рубится все одно…
Римские художники, которые стоят уже крепко, больше ловкие аферисты, или, выражаясь по-русски, пролазы… Разумеется, между ними есть таланты, но редко они выбиваются, а выбившись, превращаются в фабрику».
Вторая часть этого письма — очень важного для понимания того, в каком состоянии пребывает в Риме Поленов, — представляет собою местами нечто совершенно дикое, нелепое…
«Старые итальянцы меня тоже не увлекают, особенно цветущей эпохи возрождения, начавшейся с легкой руки Буонарроти. Сам он поражает своей рельефностью и силой. Что за смелость фантазии, что за умение подметить и передать самое быстрое движение, самые мимолетные повороты и выражения (внешние), наконец, что за необыкновенная плодовитость и разнообразие самих отраслей труда, все это изумляет тебя, но при всем том смотришь и приходишь к заключению, что художественного в его творениях мало (здесь и далее подчеркнуто Поленовым. —
Какой резкий контраст представляет собой это письмо Репину с письмами родным. Там ахи, охи, восторги, все прилично, все, как быть должно. Здесь — нечто прямо противоположное.
Ну, а о себе, что он пишет о себе? А вот что: «…скажу тебе о своей собственной персоне: не понимаю, кто мог тебе сказать, что я шесть картин написал, я, действительно, хотел написать, и не шесть, а больше со временем, а в голове у меня их еще больше, чем сколько когда — либо напишу, но теперь пока написал только одну, да и ту уничтожил, как только увидел, что вздор делаю, — сначала я принялся было усердно за работу и дело пошло недурно, но вдруг я попал в такую круговоротную струю, что совершенно завертелся в суете мирской, а о своем собственном аскетическом подвиге и забыл… Теперь уж не знаю, оставаться ли в Риме или удрать. Художник, пока работает, должен быть аскетом, но влюбленным аскетом, и влюбленным в свою собственную работу и ни на что другое свое чувство не тратить… Впрочем, я, может быть, и вру, иногда наоборот совсем бывает, а дело только выигрывает».
Вот в таком смятении духа находится впервые оказавшийся вольной птицей не подготовленный к полету птенец, уже не Вася, уже Василий Дмитриевич Поленов. Он пытался понять то, чего не может понять никто: психологию творчества. Быть влюбленным? Аскетом? Ничего и никого не любить, кроме своей работы? Так ли? Ведь «иногда наоборот совсем бывает, а дело только выигрывает»!
Да, да… всяко бывает. Каждому свое. Одного любовь окрыляет, а с другим поступает совсем наоборот. Да и какая еще любовь: к кому? Разделенная или нет? Сочетаний «любовь — творчество» неисчислимое множество.
Что же ему делать? Он полюбил — это свершившийся факт. Но должен же он, несмотря на это, писать, работать. Что писать? «В приемной вельможи»? Хороша приемная! Сластолюбивый барон «принимает» положенное ему «по праву», выбирает из повенчанных сегодня девушек, с какой он проведет нынешнюю ночь. Это он будет писать? Или Христа, спасающего женщину от града камней? Конечно, все это чудесные сюжеты, полные драматизма, полные внутренней напряженности… Но почему же ему не работается?
Мария Алексеевна пишет из Петербурга, что Чистяков опять стал бывать у них, дает уроки Лиле. Он получил в академии звание адъюнкт-профессора и пишет картину «Христос, благословляющий детей». Репин тоже в России, еще не уехал за границу. Кончает, а может быть, уже кончил своих «Бурлаков». Все работают, все увлечены… А он? Вот сейчас он нашел хотя бы этих несчастных девочек, помогает им, чем может и как может. Мотя девочка милая, но слабохарактерная. Лиза — энергична. Но она тает, на глазах тает. Это чахотка. Нужно бы их отправить домой, на Украину. Но как? Деньгами он их и так ссужает, но как они поедут одни, больные?
Впрочем, события чрезвычайные на время заслонили для него все. Начались они, собственно, так, что он сначала их и не заметил и ни о чем худом не подумал. Заболел корью младший сын Мамонтовых Всеволод — Вока, как называли его родители. Елизавета Григорьевна испугалась за другого сына — Андрея (его называли Дрюша), из-за болезни которого она, собственно, и жила в Риме. Дрюшу взяла к себе, чтобы изолировать его от больного брата, Мордвинова. Но все это не отвлекло от захватившей всех — и Поленова в том числе — подготовки к карнавалу, который должен был произойти на Корсо.
Карнавалы в Риме — явление чуть ли не повседневное. «Хлеба и зрелищ!» — старое требование римлян сохранило силу и доселе. Действительно, нищета была в Италии ужасающей, но карнавалы — великолепны. Поленов уже наблюдал один такой карнавал и потом писал родителям: «Карнавал (масленица). Римляне и иностранцы веселятся. Но, что удивительно, несмотря на громадное стечение народа, экипажи ряженых, то есть костюмированных и маскированных людей, крики, свист, хохот, бросанье друг в друга известки под названием „конфетти“, ни давки, ни толкотни, все как-то скользят, не задевая друг друга, и веселятся, и не видать полиции».
Вот теперь предстоял новый карнавал, и решено было организовать «Выезд Вельзевула». Выдумка эта, по-видимому, принадлежала Праховым. Все должны были быть одеты в красное и изображать чертей. Елизавета Григорьевна Мамонтова и Екатерина Алексеевна Мордвинова отправились за сукном в еврейское гетто, истинный уголок Средневековья в современном Риме. Глухая стена с тяжелыми железными воротами, теснота, грязь. Но зато какие живописные, совершенно отличные от римских, постройки — не античное и не современное, а именно что-то средневековое, то есть такое, каким было создано здесь все в те годы, когда создавалось само гетто. И на тесных улочках совершенно библейские старцы. И библейские девушки. Вся жизнь проходит на улице: на улице — приготовление пищи, на улице — торговля.
Мамонтова и Мордвинова купили красного сукна, сделали для участников карнавала костюмы чертей, и, надо сказать, — выдумка удалась. Самого Адриана Викторовича одели Вельзевулом с золотой короной на голове и огромным трезубцем, и он возглавлял все это представление, которое привело в восторг даже искушенных в зрелищах подобного рода римлян. Женщины, стоя на балконе, бросали цветы, когда мимо проезжала колесница с «чертями». «Черти» тоже бросали цветы «своим» женщинам. Много лет спустя вспоминали об этом дне участники римского кружка. Елизавета Григорьевна Мамонтова описывает его в своих записках, Эмилия Львовна рассказывала о нем своим детям, и сын ее, которому в то время только предстояло появиться на свет, передает его в своих воспоминаниях, написанных, когда он был уже глубоким стариком…
Но это был последний день, когда компания, или «семья», как теперь уже говорили все, предавалась беззаботному веселью. Едва вернулись домой, как обнаружилось, что карантинная мера не помогла и у Дрюши, и у Сережи, оставшегося дома с Вокой, началась корь. А еще через несколько дней корью заболела и Маруся. Она нимало не беспокоилась об этом, жалела только, что придется на месяц отложить уроки пения у маэстро Фаччиоти…
А еще через несколько дней, когда Марусе сделалось легче, заболела Мордвинова. Это была тоже, разумеется, корь. Но врач решил почему-то, что это оспа, и потребовал, чтобы всем в доме сделали прививку. Эта прививка оказалась для Маруси роковой. Она перед тем совсем уж было поправилась, но после прививки состояние ее резко ухудшилось, начался страшный кашель, жар. Она бредила. Приехала из Ментоны мать Маруси и Екатерины Алексеевны Зоя Сергеевна Острога. Еще была надежда, что молодой организм переборет болезнь…
Поленов каждый день приходил к дому, где жила Маруся. Вести были неутешительны. В один из ярких, радостных, весенних дней Маруся умерла.
«Она лежала вся в белом с распущенными волосами, с улыбкой на лице, — вспоминает Е. Г. Мамонтова, — мы осыпали ее всю цветами, сами положили в гроб и вечером отнесли на Тестаччио, где и поставили в часовню. Тело ее простояло там довольно долго, ждали, не приедет ли кто из родственников из Петербурга. Пока оно стояло в часовне, мы все каждый день ездили туда, — возили цветы, а цветов в это время масса — это был конец марта».
Вот теперь Поленов, наконец, не выдержал. Содержание первого его письма родным неизвестно (незадолго до своей смерти он перечитывал корреспонденцию того времени и многое уничтожил), но, по-видимому, письмо его было исполнено такого отчаяния, что родные не на шутку всполошились. Он пишет и в Петербург, и в Киев, и еще одно в Петербург. В ответ — груды встревоженных писем: Лиля и Алеша рвутся приехать в Рим, чтобы разделить его горе, предлагает приехать Вера, его зовут в Петербург, в Киев.
Но он никого не хочет сейчас видеть. Он целые дни на Монте Тестаччио, где неподалеку от могилы Брюллова похоронена Маруся. Он пишет один за другим этюды ее могилы с кипарисами, которые посадили рядом. Один из этюдов он подарил Екатерине Алексеевне, другой — Елизавете Григорьевне… Теперь только все поняли, почему Поленов несколько отдалился в последние месяцы от веселого кружка, почему занялся вдруг хлопотами о русских студентках…
Поэтому именно ему прислала Екатерина Алексеевна, уехавшая с матерью в Ментону, письмо с просьбой 1 июля, в день рождения Маруси, побывать на кладбище. «В прошлом году Залесский писал матери и просил ее ко дню Марусиного рождения заказать букет из восемнадцати белых роз. Марусе это очень понравилось. Мать хочет этот год сделать то же самое, но теперь следует уже не букет, а венок и одной розой больше».
Поленов попросил у Зои Сергеевны несколько фотографий Маруси, чтобы сделать ее портрет. Портрет он закончил через два с половиной года, когда жил уже в Париже, и это была лучшая из всех работ, выполненных им до того времени. Антокольский обещал сделать памятник. Он выполнил свое обещание. Памятник Марусе Оболенской стал украшением Монте Тестаччио.
Через несколько дней после смерти Маруси, когда гроб с ее телом находился еще в часовне, приехал в Рим Савва Иванович Мамонтов. Приезд его несколько разрядил гнетущую атмосферу в римской компании. Особенно, разумеется, облегчилось состояние Елизаветы Григорьевны. Но и Поленов чуть-чуть приободрился, Савва Иванович очень был ему симпатичен: человек открытый, натура широкая, а в то же время понимает все тонко, и искусство, и характеры людей. С ним легче было, чем с другими. Он понял и чувство Поленова к Марусе, и понял — совершенно иное — просто доброе, дружеское чувство к Богуславской и Терещенко. Поленову искренне жаль было их; он понимал то, чего они еще сами не понимали: они обречены, их ждет могила, особенно ясно понял он это после смерти Маруси.
А ведь у них еще и нищета.
Особенно плоха была Богуславская. У нее, как у человека более активного, и чахотка развивалась быстрее. Нужно было им домой. Мамонтов обещал, когда уедет в Россию — недели через две-три — взять с собою Лизу Богуславскую. Мотю Терещенко обещала приютить у себя Елизавета Григорьевна.
В эти дни у Поленова возник сюжет картины «Больная». Он сделал рисунок: на кровати больная девушка, в ногах у нее сидит подруга. В комнате темно, только слабый свет керосиновой лампы, накрытой абажуром, вырывает из темноты правую руку больной и часть ее лица. Пожалуй, обстановка комнаты напоминает ту, в которой жила Богуславская. Но Лиза была жива, даже весела, не думала о будущем. А вот так беспомощно лежала еще недавно Маруся.
Вот — сюжет, который его захватил сейчас. Уже в рисунке чувствуется настроение щемящей грусти, тоски, предчувствия того, что случится, случится неизбежно, того, что неминуемо. Сейчас бы и начать писать эту картину… Но, сделав рисунок, Поленов словно бы излил свои чувства, передал их рисунку. И пройдет тринадцать лет, он переживет еще и еще болезни и смерти близких ему людей, пока картина получит окончательное воплощение.
В середине апреля судьба Богуславской и Терещенко была устроена. Елизавета Григорьевна пишет, что Мотя Терещенко «была сердечная и откровенная натура, и мы ее очень полюбили». Савва Иванович увез с собою Лизу. Остановились они в Вене, где открылась Всемирная выставка. На нее все собирались: Елизавета Григорьевна (для нее и сыновей Савва Иванович даже заранее снял помещение), Мордвинова, Праховы, Антокольский. Поленов тоже собирался побывать в Вене. Туда должен был по пути в Италию приехать Репин, тем более что его «Бурлаки», уже совсем завершенные, выставлены в русском павильоне Венской выставки.
Вот как обернулось! Репин, его однокашник, его ровесник, человек не только не аристократического происхождения, а совершенный простолюдин, не только университет не окончивший, но даже и гимназии не нюхавший, стал нынче всемирно известен. Что же толку во всех этих «принятостях», в том, что он, Поленов, дворянин и аристократ и «кандидат права»?.. Все это звучит, но все это невесомо. Он давно уже думал об этом, а сейчас взгляды, прививавшиеся ему в семье, стали ему просто чужды. Талант, увлеченность работой, ум, честность, порядочность, польза, которую приносишь людям, — вот единственные достоинства человека, истинные достоинства. Это и только это!
Как хотел он в эти дни увидеться с Репиным! Впрочем, как-то сложатся их отношения: Репин женат теперь, как и Антокольский, который тоже — какой уж там аристократ и какое образование, потомок народа, некогда великого, давшего миру Библию, Евангелие, патриархов, пророков, самого Христа, наконец, а теперь — бесправного, унижаемого, гонимого. За что? А ведь тот же Антокольский любит Россию, понимает ее тонко, очень тонко. Не зря Тургенев целый день просидел перед его «Грозным». Удалось ли кому-нибудь когда-нибудь так изобразить этого страшного царя? А теперь он начал Христа. Каким-то он получится? И когда же он, Поленов, начнет своего Христа? И каким будет его Христос?
Работать. Надо работать. Надо одолеть свою боль от потери Маруси. Надо работать. Он повторял это по сто раз на дню.
И не работал…
Почему? Он в который уже раз пытается объяснить это итальянским климатом, обстановкой, которая окружает его в Риме, даже пытается найти причину своей бездеятельности в самой истории Рима. Это, конечно, нелепо, но это не лишено интереса. Единственный человек, которому решается он излить душу, — Чижов. Родные едва ли поймут его.
«Италия производит на меня совершенно другое впечатление, как на Вас и вообще на всех, которые ее знали прежде… Она теперь превратилась в большую проезжую дорогу, очень любопытную по своему прошедшему, по которой ездят все больше праздные богачи, туристы… Вы были в Италии, когда на ней лежал поэтический (со стороны) оттенок иноземного ига, особенно на Венеции (этот оттенок составляет и теперь симпатичность Польши для Европы и нравственную силу ее). Оттого и Италия тогда была так симпатична передовым людям, теперь она имеет веяние либерти, а ее интересы из крупных, человеческих, стали самыми буржуазными…
Рим… это есть город обломков, и притом каких обломков, гнусного Древнего Рима с памятью обо всех его омерзительных отвратительностях, с воспоминанием о зверском императорстве, животном рабстве, бесчеловечной черни. Средние века и начало новой истории дают в Риме папство с его роскошью, развратом, инквизициею, иезуитами…
Рим в своей истории представляет собой ряд бесчеловечностей, и если появляются великие и светлые личности в истории Италии — Алигиери, Буонарроти, Фальери, Вечелли, Кальяри, Колумб, Манин, Маццини и т. д., то это все с севера, из Республик…»
Вот какие мысли, оказывается, в голове у Поленова, которого, видимо, неспроста в одном из писем Елизавета Григорьевна Мамонтова назвала «бунтарем». Где и когда он научился различать правду истории, видеть ее из — за пелены художественных восторгов перед творениями Буонарроти, Рафаэля, Веронезе? А какие слова, исполненные ненависти к «императорству» и уважения к республиканскому правлению, которое одно только и может рождать таланты. И — симпатия к современной ему Польше, которая десять лет назад восстала и была раздавлена — в те самые благодатные шестидесятые годы — войсками России, России Александра II, которая только что начала эру реформ, России с мечтами о лучшем будущем…
Как все — таки все неоднозначно и как непросто в этом мире, как все полно противоречий.
Конечно, это не оправдание его собственного безделья. И тут он оправдывается уже иным: «Вообще я чувствую себя в Италии очень не у себя, как-то без почвы, без смысла, а притом еще расслабляющая жара действует на меня, жителя обонежских лесов, очень отупляюще».
Это, конечно, и причина, но и не причина в то же время. Зимой в Риме жары не было, а Поленов все равно почти не работал.
Но почему все эти мысли не в письмах самым близким, а в письме Чижову? И не только это. Он обратился к Чижову с просьбой о деньгах, когда нужно было помочь Богуславской. Дело в том, что Мамонтов, как было уже сказано, по пути в Россию сделал остановку в Вене, где осматривал Всемирную выставку. Елизавета Григорьевна читала Поленову письмо, полученное от мужа: «Вчера весь день ходили мы по выставке. Богуславская ходила с нами и отлично рассуждала… Вообще она с тактом и скорее полезна мне, чем стесняет, жаль только, что она слабенькая — сейчас устает, впечатлительна до смешного».
Но тут произошло следующее: у Праховых родился сын, и Мамонтову была послана в Вену телеграмма, он должен был вернуться в Рим: исполнить обещание — крестить «второе сокровище» счастливых супругов. Вторым сокровищем был сын, которому было дано имя Николай. Мамонтов отправил Лизу Богуславскую в Лейпциг, где жила ее сестра, а сам вернулся в Рим.
После того как маленький Прахов был окрещен. Мамонтов увез семью сначала в Вену, потом в Москву и Абрамцево, подмосковное свое имение, в котором мечтал собрать художников, скульпторов и организовать что — то вроде художественного кружка…
Вообще Мамонтов все больше и больше стал втягиваться в интересы художников и — удивительный человек! — необычайно скоро начал понимать смысл и достоинства картин. «Сравните Ваши два сюжета, — писал он Поленову из Абрамцева, — первый — придворный и позднейший — смерть девушки. Второй ведь уже с царапиной, и слава Богу!»
Да, «Смерть девушки»!.. Маруси уже нет. Это не царапина. Это — рана. «Царапина» — это для будущей картины…
А что с Богуславской?
Богуславская целый год прожила в Лейпциге, потом ей стало значительно хуже. В мае 1874 года она пишет Поленову отчаянное письмо с просьбой прислать 200 рублей. Видно, болезнь так подкосила ее, что, еще год назад такая беззаботная, девушка кончает письмо свое фразой: «Я теперь достойна только жалости». И эту просьбу Поленов переадресовывает Чижову. Почему не родителям? Потому, что Богуславская — «нигилистка», о чем Чижову он пишет совершенно откровенно. Родители не одобрили бы эту его дружбу и это его участие в судьбе девушки, которая поступила не так, как должно, не так, как принято в порядочном обществе. А Чижов и сам в молодости поступал не так, как «должно» (даже в Петропавловскую крепость угодил…), он исполняет просьбу Поленова, и Богуславская, получив деньги, тотчас же отправляется в Россию, откуда пишет Поленову письмо, по-видимому, последнее: «Вы еще питаете надежду увидеться со мной, нет, голубчик, не увидимся мы с Вами. Я теперь сижу в Белополье, а скоро буду лежать в земле. Для того, чтобы мне выздороветь, об этом нечего мечтать, — нет, а чтобы продлить мою жизнь, надо много, надо итальянским воздухом дышать, а не белопольским, а на это много денег надо.
Да и теперь, по правде сказать, я помирилась со своей судьбой».
Но это история уже следующего, 1874 года и следующего в жизни Поленова этапа — парижского.
А в начале июня 1873 года Поленов уехал к морю, в Неаполь, Сорренто, Кастелламаре. Несколько дней он провел с Репиным, который приехал в начале июня в Рим. Они сразу же нашли общий язык. Рим да и вообще Италия Репину тоже не понравились. «Рим мне не нравится, — пишет он Стасову. — Мне противна теперь Италия с ее условной до рвоты красотой». И в том же письме: «Поленов малый добрыня, я тут его и Мордуха подбиваю поскорее ехать нам в Россию, строить свои мастерские и заводить новую русскую школу живописи. Им этот проект очень нравится. Пора нам».
Письмо Поленова Мамонтову, в котором он пишет об этой беседе между ним, Репиным и Антокольским, не сохранилось. Но сохранился восторженный ответ Мамонтова: «Вас, прелестный друг мой Василий Дмитриевич, иногда разобрать трудно, где Вы шутите, а где всерьез говорите. Вы в письме Вашем (которое само по себе сделало мне удовольствие не из последних) рассказываете не то что вскользь, а так, как будто о чем — то обыкновенном, вроде приятной закуски после рюмки водки, о намерении Вашем, Репина, а может быть, и Мордуха переселиться на некоторое время в Москву и здесь работать. Не говорю уже о том, что Москва в день приезда Вашего придет навстречу со всеми чудотворными иконами из города и окрестностей — я-то (по непреложной воле судеб, я всегда интересуюсь собою всласть) вижу в этом для моей персоны целый мир в будущем, и для того, чтобы это осуществилось, принес бы кучу жертв, даже по примеру некоторых ярых концессионеров попробовал бы подкупить кого следует, да жаль, не найдешь, кто всему корень…
Вы, серьезно говоря, не сделаете ошибки, если целым кружком поселитесь в Москве на некоторый срок для работы. Вне всякого художественного центра Москва все-таки может дать много свежего, самобытного, не загаженного материала для художника. А общество? Общество везде есть и хорошее и дурное, надо только уметь попасть, да, наконец, можно сгруппироваться на славу! Итак — avanti. Жду и писем и Вас. Хороший Ваш приятель
Савва Мамонтов».
Так закладывалась основа того, что впоследствии будет названо мамонтовским художественным кружком…[4]
Поленов не обманул ожиданий Мамонтова: осенью того же года, после отдыха в Имоченцах, он побывал у Мамонтовых в Абрамцеве, а потом стал одним из «столпов» кружка, который теперь, в исторической перспективе, без Поленова и не мыслится.
Итак, летом 1873 года Поленов поехал в Неаполь, дождался там Репина и Прахова с семьями. Ездили вместе на Капри, осматривали развалины Помпеи… В Неаполе была мастерская Морелли, художника, который в ту пору находился в зените славы. Поленов с Репиным побывали у Морелли. Он принял их радушно, внимание и восторг молодых русских художников были ему приятны. Но лучшие его картины, законченные, — не у него; почти все они в галерее Фонвиллера. Впрочем, это не препятствие. Морелли пишет письмо, которое дает доступ в эту закрытую для посетителей галерею.
В июле Поленов уехал из Италии. Сначала, как и полагается, побывал в Вене, на Всемирной выставке, потом отправился в милые Имоченцы.
В Имоченцах была вся семья. Василий Дмитриевич опять месяца на полтора превратился в Васю, катался в лодке по реке, даже родители рискнули раза два участвовать в его прогулках, правда непродолжительных. Главным помощником Васи стал теперь младший брат Костя, которому уже 25 лет, который увлекается геологией, биологией, палеонтологией. Они иногда вдвоем уплывают на целый день, захватив провизии, и приезжают усталые, с грузом каких — то камней, которые собирает Костя, отыскивая в них «доисторические формации».
Вася рассказывал о своих художественных планах, и планы его не вызывали восторга родителей. «Мне как — то не совсем нравится его слишком реальное направление, — признается Дмитрий Васильевич в письме Чижову. — Ведь мало ли было в человечестве безобразий, ну и заведывай ими история, а зачем же изящество-то портить ими?..» И в другом письме: «Третьего дня мы провели весь вечер вместе, совершенно одни, и он показывал мне некоторые, очень немного, из своих эскизов. Что же между ними было? Казнь Лопухиной. Не знаю, известна ли тебе эта история? Она и сестра ее Балк были публично наказаны кнутом при Елизавете Петровне, черт знает за что! Кажется, за то, что Лопухина, первая красавица того времени, имела глупость похвастать, что она даром что не императрица, а будет получше ее и по красоте, и по уму, и прочее. Их с семейством обвинили в каком-то заговоре, и пошла писать…»
Это «и пошла писать…» — заключалось в том, что по приказанию императрицы Елизаветы, дщери Петра Великого, «кроткия Елисавет», как называли ее придворные историографы, самой Лопухиной (урожденной Балк), ее мужу и сыну вырезали языки, после чего били плетьми…
«Что же представлено на картине? — сокрушенно вопрошает Поленов-старший. — Эшафот, верхняя часть. В стороне стоит столб, и к нему привязана за руки полуобнаженная женщина, которая как бы упала на колени. Руки подняты кверху, и между ними видна ее опущенная голова, лица не видать. В некотором от нее расстоянии стоит почти всем фасом к зрителям мужчина с плетью в руках. Я заметил ему (Васе. —
Но эту вещь Вася решился показать отцу, и только отцу, который хотя и «не одобрял», «не любил», но все же в отличие от матери был терпим. Поэтому в Имоченцах он писал все больше этюды («…впрочем, последние так, в виде отдыха», — как сообщает он С. И. Мамонтову). Он не придавал им серьезного значения. А между тем лучший из них — «Имоченцы со стороны огородов» — очень интересен. Он даже значителен для прослеживания эволюции пейзажа у Поленова. Очень знаменательно, что усадьба, барский дом — на заднем плане. Ближе, а потому больше по размеру, крестьянская изба характерной северной архитектуры. Еще ближе — огород и работающие на нем люди. И огромные вилки капусты — плоды их труда. Эта картина — как бы приглашение: приезжайте сюда, посмотрите, как здесь хорошо, подышите этим живительным, свежим воздухом. Эту картину следует сравнить с другой: «Переправа через реку Оять. С мельницы», написанной летом 1867 года, вероятно в конце лета, тотчас же после приезда из-за границы, куда Поленов ездил с Левицким. Эта картина до сих пор неверно датируется 1872 годом, что невольно искажает эволюцию поленовского пейзажа.
В 1878 году Поленов пишет пейзаж-жанр. На «чистый» пейзаж он еще не решается. Больше того: в «Переправе через Оять» пейзаж служит скорее фоном жанровой сценки: женщина спешит с мельницы, у нее в повозке мешки с мукой, надвигается гроза, которая может эту муку испортить, а лошадь остановилась среди реки, чтобы напиться; женщина хлещет ее хворостиной. Это, конечно, не социальный жанр, вроде жанров Перова или Маковского. Это взаимопроникновение жанра и пейзажа, это жизнь людей в общении с природой. Разумеется, вещь эта еще ученическая, в ней много технических недостатков. Но при всем том в ней чувствуется уже будущий автор «Московского дворика», «Бабушкина сада» — картин, в которых тенденция, нащупываемая в «Переправе», получила полное и совершенное воплощение. В «Огородах», написанных в 1873 году, хотя и есть люди, работающие на грядках, но главное место занимает пейзаж. Возможно, Поленов решается испытать свои силы именно в «чистом» пейзаже?.. Вернее, почти «чистом».
В 1867 году «чистый» пейзаж был ему, в сущности, не знаком (речь идет, разумеется, о русском пейзаже; побывав летом того же года в Париже, он, возможно, не познакомился с пейзажами барбизонцев). Каково было состояние пейзажной живописи в России в те годы? Пейзажи Шишкина, в то время еще исполненные в традициях правоверного академизма? Да и позднейшие его пейзажи едва ли смогли бы захватить Поленова: они верны «ботанически», но в них слишком мало «души». Васильев при всей гениальности, которой он наделен был от природы, не успел «развернуться» в полную меру отпущенных ему сил. Куинджи? Едва ли Поленова могли задеть за живое световые эффекты этого мастера. Кто же? Саврасов? В те годы он сам еще ищет пути отхода от академизма.
Лишь в год, когда Поленов получил Большую золотую медаль, осенью этого года на открывшейся в Петербурге I Передвижной выставке появился пейзаж Саврасова, который стал как бы вехой в пейзажной живописи России. Это была знаменитая теперь картина «Грачи прилетели».
Заметил ли ее тогда Поленов? Обратил ли на нее особое внимание? Скорее всего — нет. О ней — никаких упоминаний в его письмах.
Но «Грачи прилетели» это не просто пейзаж, это — эпоха в русском пейзаже. В таких случаях принято говорить: «Это носилось в воздухе». Если говорить определеннее и точнее, то путь к пейзажу, в котором первым сказал новое слово Саврасов, был подготовлен всем предшествующим развитием пейзажной живописи и в России, и за границей, главным образом, конечно, во Франции, художественном центре мира, который притягивал взгляды всех. Там это новое слово было уже сказано барбизонцами: Коро, Руссо, Добиньи.
Правда, Россия была в те годы еще достаточно сильно отделена от Европы. Во всяком случае, что касается Саврасова, то можно почти твердо сказать, что он не знал жизни французского искусства и к «Грачам» пришел лишь благодаря собственной интуиции, собственному чувству нового.
Когда Саврасов написал своих «Грачей», во Франции уже начинается нечто совсем иное, подготовленное барбизонцами, — импрессионизм. Но стать импрессионистами или хотя бы приблизиться к ним — судьба уже не Саврасова, да и не Поленова, а их ученика — Константина Коровина.
Но до этого еще далеко. А пока что Поленов отдыхает в Имоченцах и пишет лирические пейзажи.
Тревожить мать своими планами, которые даже отцу не по душе, ему просто сейчас нельзя: у Марии Алексеевны горе. В конце мая скончалась — и так внезапно — Вера Николаевна Воейкова, ее мать, бабаша. Мария Алексеевна ездила с сыном Костей в Тамбов, где в Тригуляевом монастыре погребен был ее отец Алексей Васильевич. Там же был предан земле и прах бабаши. Вася в это время купался в Неаполитанском заливе, ездил с Репиным на Капри, и, правду сказать, смерть Маруси Оболенской была ему горше, чем кончина бабаши.
Что еще писал Поленов летом 1872 года в усадьбе родителей? «Дом в Имоченцах» — опять нечто очень личное, лирическое… Больше он там отдыхал, чем работал. И строил планы на будущее.
В Италию решено было не возвращаться: очень уж она разочаровала. Кроме того, Рим бесконечно напоминал бы ему о Марусе.
Когда в конце сентября он приехал в Москву и в Абрамцево к Мамонтовым, то оказалось, что Савва Иванович со свойственным ему проворством успел побывать за это время в Париже, и рассказывал он Поленову, как чудесно устроился там Репин, к которому он сам явился знакомиться…
Все, решительно все обстоятельства диктовали Поленову продолжение пенсионерства в Париже. Он решил: быть по сему! И поехал в Париж.
По пути, разумеется, остановка в Германии, где он осматривает музеи Берлина и Дрездена. В Дрездене — полюбившийся ему еще в Венеции Веронезе: «…чудные четыре Веронезе, изумительный колорит». О «Сикстинской мадонне» он пишет гораздо менее экспансивно, находит, что написан этот прославленный шедевр «очень сильно, и прелестны ребятишки внизу», но «жаль, что старик в желтой ризе и улыбающаяся девица портят торжественность и наивность настроения».
В Париж он приезжает в начале декабря, и первое впечатление, произведенное городом, таково, что грозные события 1870–1871 годов пошли ему на пользу. И это действительно так. Это почти закон жизни, что нация, перенесшая катастрофу военного поражения, — на деле выигрывает. В то время когда победитель упивается своей победой и бездействует, побежденный невольно обдумывает причины своего поражения и, лишенный в силу обстоятельств груза «старого», строит жизнь заново — уже более совершенно и рационально. Так что даже знаменитая фраза Скалозуба о Москве: «Пожар способствовал ей много украшенью» — только выражена нелепо, а по существу не так-то уж и глупа…
И Поленов просто — таки очарован и Парижем, и французами: «Париж мне нравится, в нем чувствуешь себя почти как дома, так все приветливы, так все услужливы». «В общем, французы симпатичны, они много и легко работают. На меня они произвели впечатление народа талантливого и честного. Гейне их верно понял и оценил». Еще бы, величайший поэт своего времени, изгнанный с родины, вынужденный почти всю жизнь прожить вдали от «Германии милой» и даже пользоваться материальной поддержкой французов, как мог Гейне не оценить этот народ?!
«Во Франции отвага вежлива и благовоспитанна, а честность носит перчатки и снимает шляпу. Во Франции патриотизм заключается в любви к родной стране, которая в то же время является страной цивилизации и гуманного прогресса. Напротив… немецкий патриотизм заключается в ненависти к французам, в ненависти к цивилизации и либерализму». Так писал Гейне за сорок лет до приезда в Париж Поленова. И сейчас это уже — история! Но странным образом мысли Поленова в 1870-е годы скоро станут похожи на то высказывание Гейне в 1830-е.
Однако сейчас он думает о другом: он приехал сюда учиться, работать, жить, жить полной жизнью. Пока что единственный знакомый ему в Париже человек — Репин. Встреча с ним была теплой. Репин так обрадовался приезду Поленова, что Поленов даже удивился: «…не знаю, чем я заслужил». Дело было совсем не в «заслугах». Репин тосковал в Париже и пребывал в великой растерянности: художников — пропасть, большинство ведет полуголодное существование, пенсия академии — мизерная, а у него уже семья: жена и дочь. В Париже холодно. «Ужасно ложиться в постель, — пишет он Крамскому, — вставать еще хуже. В мастерской работаешь в пальто и в шляпе, поминутно подсыпаешь уголь в железную печку, а толку мало. Руки стынут, а странное дело, все-таки работаешь. У нас я бы сидел как пень при такой невзгоде».
Вот что значит обстановка города, где все работают. Впрочем, Репин мало рассчитывает на продажу своих вещей в Париже, он пишет письма в Петербург, в академию, ее всесильному в то время конференц-секретарю Исееву о своей мысли написать «Садко» и с трепетом ждет вестей из Петербурга.
Письмо Исеева о том, что академия заранее изъявляет готовность купить будущую картину талантливейшего из пенсионеров, привозит в Париж Поленов. У Репина словно гора с плеч свалилась. Но не только в этом причина расположения Репина. Он одинок и как художник до приезда Поленова. «Скучновато немножко, — пишет он тому же Крамскому в ноябре, — кроме жены общества нет. Познакомились с Харламовым, с Неманом, с Пожалостиным (гравер), но все это народ неинтересный, скучный; странно, первые два ужасно любят Париж и желают остаться навсегда в нем (притворяются, я думаю?)».
Ну а «Поленов — малый добрыня» — это Репин понял еще раньше. А теперь Поленов, пока не нашел еще квартиру и мастерскую, живет у Репина на Монмартре. («Типичное жилье рабочих и художников. Вид удивительный — весь Париж под ногами», — пишет Поленов родным), на rue Vernon, 31. Работает он также в мастерской Репина.
И тут у Репина начинается полоса удач: он получает письмо от В. В. Стасова о том, что брат знаменитого критика Дмитрий Васильевич — известный адвокат — купил его картину «Бурлаки, ищущие брод». Кроме того, Стасов присылает Репину книгу — письма Реньо, молодого французского художника, добровольца французской армии, погибшего 19 января 1871 года. Похороны Реньо, успевшего написать лишь одну значительную картину «Конный портрет генерала Прима», совпали с днем капитуляции Парижа. Скорбь по убитому художнику превратилась в демонстрацию общенациональной скорби. Репин и Поленов вместе читают письма Реньо, и во время этих чтений Поленов помогает Репину освоить французский язык. Закончив читать, оба они пришли к мысли, выраженной Поленовым: «Это громадная потеря не только Франции, но и для искусства вообще». С каждым днем дружба крепнет. И Репина уже не пугает Париж, а французами он восхищается не меньше Поленова: «Французы — бесподобный народ, почти идеал: гармонический язык, непринужденная, деликатная любезность, быстрота, легкость, моментальная сообразительность, евангельская снисходительность к недостаткам ближнего, безукоризненная честность. Да, они могут быть республиканцами.
У нас хлопочут, чтобы пороки людей возводить в перлы создания — французы этого не вынесли бы. Их идеал — красота во всяком роде. Они выработали прекрасный язык, они вырабатывают прекрасную технику в искусстве (определенность, легкость). Можно ли судить с нашей точки зрения? У нас считают французов за развратный народ — сколько я ни вглядывался, и помину нет об этом разврате. Напротив, я теперь с ужасом думаю о Питере и о других городах». Это он пишет Крамскому. А Стасову, после какой — то беседы с Поленовым, нечто иное: и он, и Поленов рвутся из Франции в Россию, чтобы там начать настоящую художественную жизнь.
Совершенно в том же духе пишет Поленов родным: «…все-таки это чистый вздор за границей работать; это именно самое лучшее средство, чтобы стать ничтожеством, какими становятся все художники, прожившие здесь шесть лет. Поэтому при первой же возможности я вернусь в Россию, чтобы там самостоятельно начать работать; постараюсь через год». Он даже пишет письмо Мамонтову, просит заранее подыскать помещение для мастерской. Мамонтов в восторге от такой перспективы: «…есть, говорят, хорошая студия, где работал Перов… она занята каким-то мазилой, которого можно и согласить на исход, я это узнаю стороной. Помимо этого, без сомнения, можно будет найти какой-нибудь заброшенный большой барский дом, с большими окнами, с надлежащим простором и внутри и снаружи. Конечно, при этом, я думаю, нечего стесняться — если таковой дом будет, например, не в центре города? Вообще о деле этом я помышляю, и буду помышлять не мало».
Поленов, вырвавшись на простор из-под родительского крова, проявил, пожалуй, слишком уж большую горячность. Правда, весь шестилетний срок пенсионерства ни он, ни Репин не выдержат. Но во Франции пробудут все же еще три года…
Итак, Поленов живет у Репина, работает в его мастерской, подыскивает себе мастерскую и квартиру, вечерами, почитав письма Реньо, читает — опять-таки вместе с Репиным — популярный в те годы роман Шпильгагена «Один в поле не воин» и… неожиданно для себя обнаруживает, что «Репин оказался человеком религиозным». О характере религиозности Поленова, автора многочисленных картин на сюжеты Евангелия, нам еще предстоит говорить немало, но то, что автор — в недалеком будущем — таких картин, как «Крестный ход в Курской губернии», «Отказ от исповеди», религиозен — несколько неожиданно. Он зовет Поленова в русскую церковь, куда сам регулярно ходит по субботам ко всенощной и по воскресеньям к обедне. Впрочем, русская церковь в Париже — один из центров русской колонии, кроме того, как сообщает родителям Поленов, «там чудесное пение… да и в службе много красоты». И еще: построена русская церковь по проекту архитектора Кузьмина, того самого Кузьмина, друга Дмитрия Васильевича, который построил в Петербурге Греческую церковь на Песках и дом Поленовых в Имоченцах…
В церкви оказалась интересная роспись, не очень традиционная. Дело в том, что глава русской художественной колонии Боголюбов — маринист и главный образ церкви — «Хождение Христа по водам». «Оригинально и красиво в церкви видеть большие пейзажи. Переносишься в природу и евангельские повествования и легенды». Поэтому очень понятно удовлетворение Марии Алексеевны, когда она пишет сыну: «Меня радует, что ты в семье Репиных нашел себе приют в Париже. Это большое счастье».
Впрочем, вскоре найдена мастерская и для Поленова, там же, на Монмартре, неподалеку от Репина, на rue Blanche, 72. Но пока мастерскую эту, где Поленову предстоит жить и работать все годы пенсионерства в Париже, ремонтируют, он продолжает жить у Репина.
Только вот к работе он еще не приступил: он пишет длинные письма в Академию художеств, ибо тот же самый конференц-секретарь Исеев, который передал с ним письмо Репину, теперь прислал письмо ему, Поленову, в котором от имени совета академии пеняет на нерадивость: дело в том, что каждый пенсионер обязан регулярно писать отчеты о том, где он был, что видел, что пишет и что задумал писать. Поленов еще ни одного отчета не представил, так что формально Исеев прав, тем более что в данном случае он, как было сказано, выполняет лишь волю совета.
А длинные письма Поленова в академию с описанием посещения им музеев Мюнхена и Берлина, Флоренции, Рима, Неаполя, Парижа, студии баварских и итальянских художников дают богатый материал для того, чтобы понять, каковы к этому времени, к началу 1874 года, взгляды на искусство Василия Поленова.
В душе Поленов прежде всего — колорист, именно колористические особенности того или иного художника являются для него той меркой, какой он его меряет. Но делает он это не совсем обычно и на первый взгляд странно, а в сущности, противоречиво, ибо не определил еще для себя самостоятельно критериев подхода к тому или иному художественному явлению.
Художников прошлого он подразделяет на «объективных колористов» и «субъективных колористов». И трудно понять, кому же он, собственно, отдает предпочтение.
Среди «объективных колористов», которыми он восторгается, на первом месте — Веронезе. Он полюбил картины этого художника в Венеции, на его родине, он даже отдает ему предпочтение перед другим венецианцем, таким гигантом, как Тициан. Он понимает: такой взгляд на вещи может вызвать недоумение, и потому как бы оправдывается: «Тициан бесспорно хорош, он часто тоньше Веронезе, я долго восхищался его изящными произведениями, в особенности его гениальным „Взятием на небо“, но Веронезе имеет что — то притягательное, сживаешься с его жизнью или, вернее, с жизнью изображенных им людей, потому что он изображает свою Венецию, какою она была при нем, полную одушевления и красоты. Из старых мастеров я другого не знаю столь объективного реалиста. Как выражение объективного колорита (то есть колорита красоты — противоположность субъективному колориту, то есть колориту настроения или выражению чувства) Веронезе, как мне кажется, стоит на самой высокой ступени, до которой доходило это направление».
Панегирик Веронезе длинен, очень длинен и оканчивается он признанием: «Впоследствии всюду, где только я ни встречал Веронезе, он все больше и больше овладевал моей симпатией. Под конец так им увлекался, что дорожил каждой его безделушкой, каждым его мазком, подобно тому, как дорожишь каждым словом, каждым взглядом любимого человека».
Оставим эту апологию на совести восторженного молодого человека; в конце концов — это его право: влюбляться в того, кто показался сейчас вершиною вершин. Но вот когда Поленов пытается обобщить свои наблюдения над картинами старых мастеров, он путает все нещадно: «Из частых наблюдений, сделанных мною во многих галереях и выставках, я пришел по поводу колористов к такому выводу: германское племя давало прежде и дает теперь субъективных колористов — Рембрандта в семнадцатом веке и мюнхенцев в настоящее время, а романское — объективных: венецианцев и испанцев в эпоху Возрождения и французскую школу колористов теперь.
Очень интересен Карпаччо, наивность его часто доходит до смешного, но при всем том он крайне симпатичный художник и чистокровный натуралист».
Ну, в этом небольшом отрывке мешанина понятий невероятная и попаданий «пальцем в небо» тоже немало. Правда, терминология — вещь очень расплывчатая, неконкретная, изменчивая: даже сейчас термин «натурализм» трактуется по-разному и употребляется как попало. Очень наивно употребляет его и Поленов. Карпаччо с его простодушной наивностью, как бы венчающей Раннее Возрождение, чтобы уступить дорогу Джорджоне, Тициану, Тинторетто, тому же Веронезе наконец, почувствован Поленовым хорошо. Но наклеивать ярлыки — явно не дело Поленова, даже если ярлык этот столь безвреден для почившего полтысячи лет назад художника.
Ну а что касается «рассортирования» художников по расовому признаку, то это звучит и наивно, и нелепо. Ставить в один ряд Рембрандта и Бёклина, а в совершенно другой — Веласкеса и, скажем, Энгра несколько странно. Но это, видимо, все-таки оттого, что Поленов еще не знаком с подлинной художественной жизнью современной Франции. Именно в 1874 году, через несколько месяцев после того, как написано это письмо, в Париже произойдет скандал: первая выставка импрессионистов…
И все-таки при всей путанице, царившей тогда в голове Поленова, путанице, произошедшей, по-видимому, из-за обилия впечатлений, навалившихся за прошедшие полтора года, и из-за недостаточной подготовки в истории искусства, которую тогда еще только начали постигать в ее развитии, он все же каким-то внутренним чутьем уловил то, что назревало в искусстве.
Что? Да тот же еще неведомый ему импрессионизм, о котором в его письмах из Парижа мы не найдем ни слова. «Настроение», «впечатление» — это то, что лежит где-то в его подсознании. И надо сказать, он верно относит Рембрандта к «колористам настроения». Исследователь импрессионизма, немецкий искусствовед Рихард Гаман на основании строгого анализа находит черты импрессионизма у позднего Рембрандта. Кроме того, Поленов отлично понял роль французского искусства в современной художественной жизни Европы: «…объехав большую часть художественных центров Европы, я увидел, что направление было таким повсюду, все шли за французами, только без успеха последних, потому что у французов это направление было самобытным ходом развития искусства, а у остальных оно было только подражанием, потому и осталось ничтожным».
Направление, которое имеет здесь в виду Поленов, — классицизм, ибо не только нарождающихся импрессионистов, но даже барбизонцев он, хотя и знаком с ними отчасти, толком не знает; он еще целиком во власти прошлого, уходящего…
По-видимому, два первых письма Поленова не вызвали нарекания совета. Да совет, правду сказать, мало интересовался ими. Письма требовались по положению для отчетности, вот пенсионеров и принуждали писать их. «В Совете были читаны письма пенсионеров, — сообщал Репину Крамской. — Исеев, читая эти отчеты, в которых были будто бы выражены задушевные мысли, намерения, суждения, словом, такого рода интимности, которые можно позволить себе к лицу близкому и, пожалуй, перед многими людьми, у которых не испорчено нравственное чувство и ум, но говорят, что Исеев, читая один отчет пенсионера, так иронически улыбался, а за ним осклаблялись Верещагины, Шамшины, Бруни и прочая свиная щетина, что было зрелище неприятное: зачем молодые люди бросают на поругание свои чувства. А именно: читая, Исеев говорит: „Господа, вот тут начинаются рассуждения и разные чувства, слишком личные, скучные и никому не интересные, и не лучше ли, если я пропущу, а просто прочту только одно дело, что он думает делать и чем занят“».
Письмо это написано Крамским 25 декабря 1873 года. Первое письмо Поленова Исееву — 16, 17 декабря. Следующее — 2 января; оно, видимо, разминулось в пути с письмом Крамского, но не исключено, что речь в письме Крамского идет о первом отчете Поленова… А если даже и не его! Не станут ли такими же предметами насмешки и его молодые излияния?
И вот тут Поленов делает шаг, которого от него трудно было ожидать. Он пишет письмо Исееву. Казалось бы, после полученного им выговора — акт послушания, акт смирения… Но каково оно! Путаница мыслей и чувств, произошедшая от обилия впечатлений, уступает место трезвой мысли, поставившей вдруг все на свои места: «Чем больше видишь, чем больше изучаешь и углубляешься, тем основательнее становишься в своих приговорах и тем строже делаешься к себе: и это прекрасно, и то чудесно, и не знаешь, где же альфа и омега, на чем остановиться, чего придерживаться… Но дело в том, что великие создаватели ничего не придерживаются, кроме своего творческого гения. И редко же они появляются! Только следя за историческим ходом развития искусства, видишь, сколько надо подготовки, какую вековую школу проходило искусство перед появлением великого человека, которому удается вывести общее заключение из целой школы, из целого направления. После долгой работы и длинного ряда представителей ее в Средней Италии являются Буонарроти и Рафаэль, в Венеции — Тициан и Веронезе, в Испании — Веласкес и Мурильо, на севере — Рембрандт и Ван Дейк». Поленов полагает, что в XIX веке таким гением был убитый во время Франко-прусской войны Жорж Анри Реньо, и сокрушенно замечает: «Да, эта потеря значительнее пяти миллиардов, двух провинций и нескольких крепостей!» Все это, однако, еще в пределах «благомыслия», но он продолжает: «Заговорив о гениальных представителях школ, я позволяю себе несколько отступить от моего рассказа и высказать некоторые составившиеся у меня убеждения по поводу академии и мастерской, выведенных мною из наблюдения над прежним и настоящим искусством».
И далее пенсионер Российской Императорской академии художеств Василий Поленов имеет смелость совершенно открыто и несколько наивно-откровенно (ибо к кому апеллирует?!) высказаться в пользу не академии, а «мастерской, какою она образовалась тут, на Западе». Он высказывается против неизбежного для академии «гуртового обучения», которое имеет «значительные невыгоды», «тогда как мастерская составляет ту силу школы, из которой выходят великие мастера». Письмо это достаточно длинное, и хотя та его часть, которая посвящена проблемам художественного образования, очень интересна зрелостью мысли, точными логическими построениями, нам придется ограничиться лишь наиболее яркими отрывками и изложением, по возможности кратким.
Поленов сетует, что, несмотря на кажущуюся быстроту обучения в академиях, для воспитания самостоятельного художника, его неповторимой индивидуальности оно не подходит, оно ведет к нивелированию талантов и индивидуальности: «Обучить человека быть художником — дело нетрудное, но дать возможность таланту цельно развернуться — задача очень нелегкая!» И нелегкая эта задача, считает Поленов, не по плечу академии — учреждению заведомо казенному, где «наставник — назначенный, и имеет настолько общего с учениками, насколько продолжается его класс. В мастерской же, напротив, выбранный, уважаемый и любимый учитель. Отношение его определяется не количеством, а качеством… Это можно проследить во всех эпохах художественной жизни и подтвердить множеством примеров как из минувшего времени, так и настоящего».
Здесь Поленов мог бы привести в пример самого себя, как он, Репин и Левицкий, окончив академию со всеми ее басиными и шамшиными, брали уроки в
«В Европе мастер или, лучше сказать, учитель, есть художник в широком смысле этого слова, а ученик его — не подчиненный школьник, они равны с ним если еще не по достоинству, то по осуществлению одним делом, одной целью, они товарищи по труду. В их отношениях нет ничего формального, иерархического, отношения эти самые простые, человеческие, часто отеческие, особенно к молодым обоего пола. Всюду, где только и мог расспросить о подобных мастерских или самому их увидеть, я всюду пользовался случаем познакомиться на деле с их жизнью и работой, и всюду — в Мюнхене, Неаполе, Париже — всюду находил тот же живой и свободный дух, царивший в них…»
В тишайших кулуарах Петербургской академии художеств письмо Поленова произвело такое впечатление, точно где-то открылось ветром окно, наглухо забитое твердою рукою почившего в Бозе государя. Изменения, происходившие в стране после севастопольской катастрофы и воцарения Александра II, медленнее всего проникали в Академию художеств, ибо установления Николая I были не столько юридическими, сколько фактическими. Покойный государь считал свой вкус безупречным, коль скоро даже Пушкина облагодетельствовал тем, что сам стал его цензором. В художествах же — считал он — он смыслит еще больше, чем в литературе: сам давал указания художникам, как писать картины и как исправлять написанное, сам распекал профессоров, сам даже выступал верховным арбитром в вопросах атрибуции картин старых мастеров. Само собой разумеется, что и пенсионеров назначал сам; был автором совершенно удивительной, уникальной в истории мирового художественного образования инструкции: «В назначении аттестатов более всего надлежит обращать внимание на благонравие и похвальное поведение, успехи же в художествах должны быть уважаемы в учащихся как достоинства второй степени, а потом уже следуют успехи в науках». Ни один из посланных Николаем в Италию пенсионеров не стал даже посредственным художником, ни один не вошел в историю русского искусства, ни один не оставил в ней даже малого следа (вот некоторые фамилии выбранных Николаем пенсионеров: Завьялов, Марков, Тихобразов, Нотбек, Капков, Крюков, Мейер, Климченко, Рамазанов). Питая патологическую ненависть к Франции, особенно после революций 1830 и 1848 годов, Николай ни одного русского пенсионера во Францию не послал. Пробывшие годы в Италии К. Брюллов и А. Иванов были посланы туда на средства Общества поощрения художеств. Единственный художник, к которому благоволил Николай, был Айвазовский. Николай брал его с собой в морские путешествия, покровительственно объявляя: «Айвазовский! Я царь земли, а ты царь моря». Поэтому и ученики, и профессора заискивали перед Айвазовским, которому царь пожаловал чин тайного советника, чего не удостоился ни один другой художник.
Те художники, которые в деятельности своей проявляли какую бы то ни было «вольность», стояли на отшибе, числились вне искусства. Судьбы их зачастую трагичны: такими художниками были Кипренский, Федотов, Венецианов. Даже такие художники, как Басин и Бруни, казавшиеся Поленову и его друзьям закоренелыми ретроградами, в годы их учения считались едва ли не художественными бунтарями. Став все-таки со временем профессорами, они держались тише воды ниже травы, боясь выговора, боясь лишиться теплого местечка, квартиры при академии.
Когда на престол вступил Александр II, когда под напором событий он решился на проведение либеральных реформ, художественное образование он почитал и вправду чем-то автономным и к жизни страны отношения не имеющим. И он, следуя примеру отца, первые годы своего царствования истинно «по-отечески» давал указания художникам по вопросам, касающимся живописи, видно, всерьез считая, что происхождение и обряд миропомазания в Успенском соборе делают его всезнающим и всепонимающим. Но он был все же умнее своего державного родителя: «бунт 14-ти» отрезвил его. Он понял: академия совсем не отделена от жизни страны непроницаемой стеной.
Однако же старые профессора, воспитанные в строгости и послушании, вели себя так, словно ничего не произошло: они по-прежнему боялись потерять места, квартиры, положение в обществе. Поэтому письмо пенсионера академии Поленова, который так осмелел, чуть только попав во Францию, что дерзнул в академию писать об отрицательных сторонах академического образования, и удивило, и возмутило их. Пенсионеру Поленову было послано письмо, в котором ему выговаривалось за вольнодумство, а в личное его дело вложена была записка, неизвестно кем составленная: «Удивляюсь великим способностям и громадной наблюдательности этих господ. Достаточно нескольких месяцев пребывания за границей, чтобы почувствовать себя реорганизатором. Это все из тех же, которые все ломают, ничего не создав, — и ему Академия поперек горла, да кто им мешает учиться в мастерской любого мастера по выбору, хоть Тюрина или фотографа Вагенгейма. Проповедует — однако же, сознается, что только в Берлине раскусил, что древнее искусство есть искусство, а в Академии смотрел да не понимал, не имел времени сосредоточиться. Слов много, а дела нет. И где эти пугала с начальственной „грозной физиономией“ в противоположность „отцам-учителям“, обитающим в мастерской».
Надо прямо сказать: писал человек не только озлобленный, но и лишенный чувства логики: ведь если человек за годы учения в академии не уразумел того, что понял, оставшись наедине с собою в Берлинском музее, то нужно же было так отбить вкус ко всему классическому! И при чем тут мастерская фотографа?
А вот то, что Поленов еще ничего не создал, что ж, это верно. Он только готовится, который уж год готовится создать то, о чем пишет в этом же отчете: «Сам я теперь работаю над картиной из средневекового германского быта. Путешествуя прошлый год по Германии, осматривал я старые феодальные замки. Бродя по развалинам рыцарских „бургов“, а потом, спустясь в долину, где крестьянское население осталось почти с теми же обычаями и в тех же костюмах, мне было представились взаимные отношения баронов с вассалами, и я задумал написать картину, взяв за фабулу одно из феодальных прав барона, а именно — право, по которому всякая девушка перед вступлением ее в замужество принадлежала барону. Право это называлось
Трудно сказать, как восприняли патриархи академии этот обличительный сюжет: скорее всего никак. Это — история, а вот передвижники четвертый год обличают современность. Пенсионер Репин написал «Бурлаков», которых приобрел великий князь. Больше того, «Бурлаки» были посланы в Вену на Всемирную выставку.
Однако нам надобно обратить внимание на фразу: «…я теперь работаю над картиной». Уже — работаю. Наконец-то! Письмо Исееву, которое мы цитировали, написано 2 марта 1874 года. А еще в середине января мастерская на rue Blanche, 72 была отремонтирована, и Поленов, ни на день не прерывая общения с Репиным, талант которого его покоряет все больше и больше, переселяется наконец к себе. Мастерская ему нравится, она удобная и светлая, даже слишком, пожалуй, светлая, сейчас, зимой, это хорошо. Но летом будет, должно быть, очень уж жарко. Ему нужно успеть к весне, к открытию Салона. Он хочет попытать счастья, представить «Право первой ночи» на авторитетный суд салонного жюри.
В том обществе, куда он попал, успех в Салоне почитается превыше всего. «„Позвольте вам представить молодого художника; его картины приняты в Салоне“ — как часто произносилось это даже большими русскими художниками! — с горечью вспоминает годы своего пребывания в Париже скульптор Илья Гинцбург. — О том, что это за картины, что они собой представляют, и не говорилось». И это общее для офранцузившихся русских художников стремление к Салону захватило на первых порах Поленова. Тем более что в конце февраля вернулся в Париж Боголюбов и сам явился в мастерскую Поленова, чему Поленов несказанно был рад. «Ибо он может нам помочь там, где нам самим трудно будет, особенно в знакомстве с французскими художниками, которых он почти всех знает, а он сам очень обязательный господин, любит покровительствовать молодежи», — простодушно признается Поленов.
Несколько более сложную характеристику Боголюбова, в салоне которого по вторникам собирались русские художники, осевшие в Париже (Харламов, Леман, Вилие, Дмитриев-Оренбургский), дает Гинцбург. Впрочем, воспоминания его относятся к несколько более позднему времени. Гинцбург описывает как обстановку на вечерах у Боголюбова, так и характер этого своеобразного и довольно сложного человека, которого он называет «генерал-художником»: «Имея знакомых как в русских, так и во французских „высших сферах“, он много делал для молодых художников: доставал стипендии и заказы, и даже солидные художники часто пользовались его услугами; некоторым он добывал иногда даже ордена. Но, покровительствуя одним, он иногда обходил других. Плохо приходилось тому, кто ему почему-либо не нравился: такому он не только не делал добра, но иногда даже вредил. Так всесильный Боголюбов невзлюбил почему-то бедного, разбитого параличом художника Егорова и отказывал ему в какой бы то ни было помощи».
Кто такой этот Егоров, было ли это в годы пребывания в Париже Поленова и Репина? Едва ли. Ибо и Поленов, и Репин неизменно отзываются о Боголюбове благожелательно («Славный он человек, такой добрый и любезный», — пишет Поленов родным). Больше того, Боголюбов, которому Академия художеств поручила присматривать отечески за пенсионерами, работает некоторое время в отличной мастерской Поленова, пока его собственную ремонтируют. Они-то находят общий язык. Хотя они оба — аристократы, но… Боголюбов не кто иной, как внук Радищева. И деда своего он чтит. Больше того: целью своего собирательства картин, начавшегося уже довольно давно, он считает создание в Саратове музея, которому теперь, когда крепостное право отменено, должно быть, по его мысли, присвоено имя Радищева. Разумеется, Боголюбов читал очерк Дмитрия Васильевича Поленова об Алексее Яковлевиче, и к правнуку «первого русского эмансипатора» он относится совершенно по-отечески. (Надо сказать, что задачу, поставленную перед собою, Боголюбов исполнил: в 1885 году в Саратове был открыт первый в российской провинции музей, и вход в этот музей был бесплатным, присвоено было музею имя Радищева; в день открытия музей посетили 2700 человек, причем это были еще не все желавшие…)
Ни в одном письме Боголюбова в академию нет ничего такого, что компрометировало бы кого-нибудь из русских художников, опекать которых его обязали. Поэтому и опека официальная длилась недолго: в 1874 году она была снята с него. Неофициально же Боголюбов продолжал покровительство свое во все годы пребывания в Париже. Больше того, Боголюбов был даже в некотором роде фрондером — в те времена это было безопасно и даже придавало человеку определенный престиж. Так, не разделяя в принципе программы передвижников, Боголюбов выставлял свои картины на Передвижных выставках, начиная с первой из них в 1871 году и до двадцать пятой выставки 1897 года — года смерти художника. Вот таков был этот своеобразный человек, одновременно барин и свободолюбец, шармер и фрондер, искренний покровитель, но и любитель выставить напоказ свои благодеяния, противник идейной программы передвижников и участник всех Передвижных выставок, художник, несомненно, талантливый, но и не выдающийся, член совета Академии художеств, избранный в 1871 году и вышедший из него уже через два года.
Однако что же работа Поленова, в каком состоянии первый плод его вдохновения, картина, которой еще нет, но у которой уже столько названий и о которой столько толков?
Зная отрицательное отношение родных к подобным сюжетам, он в переписке с ними обходит молчанием эту щекотливую тему. А между тем дни идут за днями, недели за неделями, вот уже и февраль на исходе, и нечто общее уже вырисовывается, но работы еще много, так много, что Поленов боится: едва ли он успеет к открытию Салона. А ведь картину Поленов начал еще в Риме, замысел да и сюжетное решение, характеристики персонажей, психология действующих лиц — все это решено в Риме, и вот Мамонтов, который, не в пример родителям, знает ее содержание, пишет своему новому другу: «…Интересно мне Ваше „Les primae noctis“. Еще в Риме у меня являлось преступное, тайное желание быть этим счастливцем бароном, ибо жертвы, приведенные на заклание, были интересны, ну, а теперь, как Вы им невольно придали немного французского характера, оно еще больше разыгрывается. Или Вы переменили, может быть, всю композицию?»
Нет, Поленов композиции не переменил. И девицы (французского характера или нефранцузского — все равно), право же, «интересны»! И стоят они перед сладострастным бароном совсем не как жертвы, приведенные на заклание. Они знали, еще когда не были знакомы со своими женихами, а может быть, потом узнали — какая разница? — что их ждет. Их матери, бабушки и прабабушки провели первую ночь после церковного обряда в постели барона — этого же, или его отца, или его деда. Ни малейшим образом ни они, ни старик, приведший их, ни их женихи, оставшиеся за воротами замка, не выражают даже тени протеста. А потому — отчего бы и не позавидовать барону? Мамонтов говорит с Поленовым «как мужчина с мужчиной», и можно сколько угодно иронизировать по поводу этого доморощенного анализа произведения искусства, но нельзя отказать Мамонтову в тонком чутье, в понимании самого духа картины. И при всей доброжелательности критики ей нельзя отказать в справедливости. В картине — ни малейшего чувства возмущения средневековым правом. Все внимание Поленова занято верностью историческому антуражу — архитектуре, костюмам, изысканности колорита, отделке деталей. И неизвестно, кому еще больше отдано труда и вдохновения: барону, девушкам, архитектуре или борзым собакам?..
Но вот беда: работать — то он теперь работает — не то что в Риме — с утра до вечера, не замечает, как проходит зима, и вот уже март наступил, и надобно отдавать картину на конкурс, а она еще не доведена. Но Поленов решается. Конкурс, правда, громаден: весь Париж буквально наводнен художниками, и все работают — это вам не Россия и даже не Рим. Потому каждому художнику разрешено прислать на конкурс не более двух картин, хотя в нынешнем году Салон рассчитывает на новые залы. Так что если всегда на конкурс подают до семи тысяч живописных опусов, то теперь их можно будет подать едва ли не десять. К счастью, об этом нововведении не все осведомлены. И Поленов работает, работает. Его подбадривает присутствие в мастерской Боголюбова, его даже не отрывает от работы приезд в Париж Мамонтовых и Савицкого. Правда, когда вечереет, он гуляет с ними по Парижу, показывает то, с чем успел уже познакомиться… Но все же силы исчерпаны. Он отдает на суд жюри свою работу, хотя и понимает, что картина не закончена.
Спустя две недели он получает извещение, что его картина принята, что он имеет право за два дня до открытия выставки еще немного пройтись по картине, покрыть ее лаком.
Ах, как это лестно! Первая же его вещь принята в Салон!
— Вы не знакомы с этим молодым человеком? Его картину приняли в Салон.
— Очень, очень рад познакомиться.
Кто это? Неужто? Да, да! Боголюбов знакомит его с Тургеневым. Самим Тургеневым! И Тургенев приглашает его к себе в гости. Восторгу Поленова нет предела, с трепетом переступает он порог дома, где живет этот великий человек, великий писатель, этот кумир России, русской интеллигенции, русской молодежи. Он осматривает его собрание картин… А вот Monsier и Madame — великая певица Полина Виардо и ее супруг Луи, искусствовед. «Как лестно себя чувствовать среди очень известных людей», — признается Поленов родным.
После посещения Салона, где его картина повешена, правда несколько высоко, так что и не разглядеть ее («Ах, да не все ли равно? А может быть, и к лучшему…»), Тургенев приглашает его на прощальный обед: на лето он уезжает в Россию. И обед этот — в ресторане, да в каком! В ресторане этом, который находится в самом центре Латинского квартала, обедывали Герцен, Жорж Санд, Прудон. А вот теперь и он, Василий Поленов, художник, оцененный в Париже, принятый строгим жюри Салона, обласканный и Боголюбовым, и Тургеневым, и супругами Виардо.
После обеда он решается пригласить Тургенева в мастерскую, и Тургенев охотно приглашение это принимает. И назавтра тоже приходит, разглядывает некоторые этюды, привезенные из Олонецкого края… Они ему нравятся. Особенно вот это: что это?
Ах, это и не этюд даже, это так — по памяти, по впечатлениям и воспоминаниям, ну и по этюдам, конечно. Это река Оять во время дождя. Это написано в виде отдыха, когда глаз привыкал к основной картине — чтобы отвлечься. Но Тургенев разглядывает эту вещицу едва ли не внимательнее и любовнее, чем ту, висящую в зале Салона.
«Странная вещь — патриотизм, настоящая любовь к родине! — писал, живя во Франции, Гейне. — Можно любить свою родину, любить ее восемьдесят лет и не догадываться об этом; но для этого надо оставаться дома. Прелесть весны познается только зимою, и, сидя у печки, сочиняешь самые лучшие майские песни. Любовь к свободе — цветок темницы, и только в тюрьме чувствуешь цену свободе». Гейне, как истинный поэт, выражает свою мысль метафорично. Конечно, и живя на родине, чувствуешь свою любовь к ней, свою с ней неразрывность. И весной можно слагать майские песни. Но для нашего случая слова поэта как нельзя более приложимы.
Живя в Париже, вдали от России, от милого его сердцу Олонецкого края, Поленов с особой остротой ощутил свою любовь, свою привязанность к нему. И работая — для Салона — над темой, которая уже перестала его волновать, работая над картиной, которую он
Правда, влиянию Коро или вообще барбизонцев Поленов поддался, совершенно того не сознавая, как бы даже против своей воли. Поленов вслед за Репиным, который поначалу Коро и вообще-то художником не признавал (даже в одном из писем Крамскому назвал «аферистом»), отрицательно относился к барбизонцам, во всяком случае на словах. Вообще Репин имел на Поленова в то время немалое влияние. Но взгляд Репина на искусство современной Франции все время эволюционировал. После выставки Коро в академии Репин пишет уже, что там «есть восхитительные вещи по простоте, правде и наивности». Письмо это относится к середине 1875 года.
В письмах Поленова никаких высказываний ни о Коро, ни о барбизонцах нет. Мы можем только предположить, что он, еще не привыкнув к самостоятельности мышления, легко попадал под различные влияния. Так, отвергая на словах (как и Репин) барбизонцев, он чувствовал (ибо был прирожденным колористом) прелесть Коро, его серебристых тонов. А работая в одной мастерской с Боголюбовым, мог увидеть эти тона в работах своего старшего сотоварища. Так что барбизонцы вторглись в искусство Поленова прежде того, как он осознал всю значимость их исканий.
То, что это предположение основательно, можно заключить хотя бы из письма Боголюбова в академию, в котором он рекомендует посылать русских живописцев в Париж: «Под влиянием глубоких пейзажистов, каковы: Юлий Люпре, Добиньи или Коро и проч., можно серьезно вникнуть в составление и красоту картины, а также обратить внимание на серьезный колорит, составляющий неоспоримо превосходный отпечаток французской школы».
Вот так, иногда совершенно помимо воли художника, в его искусство вторгается нечто такое, что еще не осознано им.
Что касается данного мотива, то здесь можно подозревать, что Поленов и позднее не понял, что в 1874 году выполнил задачу данного мотива наиболее полно, ибо через несколько лет, в 1879 году, в России уже, делая по просьбе С. И. Мамонтова рисунок для предпринимаемого издания альбома рисунков русских художников, в котором, кроме него, приняли участие Репин, Крамской, В. Васнецов, Ярошенко, Шишкин, В. Маковский и Куинджи, вновь возвращается к старому мотиву. И опять выбирает первоначальное решение. На сей раз это уже откровенно жанровая сценка. Все внимание зрителя сосредоточено не на природе — она антураж, — внимание сосредоточено на телеге, на бабе, погоняющей хворостиной лошадь, которая некстати пьет воду из реки, когда вот-вот разразится гроза, а на мешке с мукой орет от страха мальчишка лет трех-четырех, а девочка постарше успокаивает его. Но в рисунке очертания берегов видны, они не лесисты: на берегу видны лодки и крестьянские дома. Короче — типичная жанровая сцена. Вот так — неожиданно — в течение целых двенадцати лет живет в творчестве Поленова этот нехитрый, но, вероятно, подсмотренный в натуре и хорошо запомнившийся мотив.
Однако то, что отметил своим вниманием Тургенев, скорее именно пейзаж. И, видимо, то, что на нем — Россия, и то, что пейзаж уже «французистый», и привлекло русского писателя, прожившего столько лет во Франции, хотя он и иронизировал над своим героем, патриотизм которого выразился в том, что в Дрездене, где герой этот поселился, «на письменном столе его находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя».
Несколько лет спустя Поленов сделает для Ивана Сергеевича Тургенева повторение другой своей картины, также написанной как бы «между делом», но оказавшейся самой значительной из его произведений, — небольшой этюд к «Московскому дворику». И картина эта будет находиться среди других картин коллекции Тургенева в особняке Виардо.
Пока картина «Право первой ночи» не была принята в Салон, Поленов писал о ней родным столь уклончиво, что они могли только догадываться (как всегда в таких случаях, ни о чем не догадавшись), каков сюжет картины их сына. «Отправил Васе длинное послание, — пишет Дмитрий Васильевич Чижову. — На днях мы получили от него известие. Он пишет, что кончил свою картину, но не говорит, какую именно, и представил ее в Парижскую комиссию о выставке… До нас дошел слух, что он писал ночлег парижских нищих, и Репин, который дал сюда это известие, прибавил, что вещь очень талантливая».
Лишь только когда картина принята в Салон, Поленов сообщает родителям название картины — только название. Причем даже несколько переиначенное: не «Право первой ночи», а «Право господина» («Le droit de Seigneur»). И это все. Больше о содержании картины — ни слова. Зато много, очень много о французских художниках и вообще о художественной жизни во Франции, о солидарности их, о доброжелательном отношении друг к другу. Нет, они совсем не захваливают, напротив — «как только подойдет автор, начинается беспощадное уничтожение ее (картины. —
Что хорошо у французов, и вообще за границей, что каждому отдают должное, у каждого стараются отыскать его хорошую сторону и уважают труд…
Чем больше сам работаешь, тем больше приучаешься уважать чужой труд, знаешь, как нелегко дается наше ремесло, как усидчиво и стойко надо идти и работать, чтобы достичь до хорошего!»
А о своей картине — опять-таки ничего. Только название — ведь даже отец не любит подобных сюжетов, а о Марии Алексеевне и говорить не приходится… Но картина принята в Салон Елисейских Полей, а это весьма и весьма лестно для родительского тщеславия.
О содержании картины они могли узнать только в июле, когда в Париж приехал Чижов. Этот умный старик очень верно оценил картину, которую видел и на выставке, висящей где — то под потолком, и потом — в мастерской. Чижов находит, что «она сильно выигрывает в мастерской; там лицо рыцаря почти не видно, то есть выражение его почти скрывается, потому что он был высоко повешен, — здесь видно сладострастие. Лица трех девушек с тремя совершенно разными выражениями. Но вся картина весьма и весьма не кончена. По самому предмету она держится на оконченности и может быть весьма недурна, когда будет хорошо окончена. Лицо рыцаря, его платье должно быть не набросано, а легко выработано; руки девушек, воздушная перспектива — все это требует работы, а во многих местах она только подмалевана. Думаю, что если Вася не поленится окончить, то она явится весьма недурною».
Поленов, разумеется, довел работу до того совершенства, до какого мог довести. Но окончательная судьба картины и перипетии, связанные с ней, произошли годом позднее, и мы — не будем торопить события — расскажем об этом в свое время.
А сейчас надобно рассказать о конфликте, который последовал вслед за успехом в Салоне. Собственно, никакого конфликта не произошло, он скорее померещился Марии Алексеевне, а потому стал только лишь конфликтом эпистолярным. Но он настолько характерен для эволюции характера Поленова и для эволюции взаимоотношений его с родителями, что рассказать о нем необходимо.
Успех в Салоне Елисейских Полей, приглашение в особняк Виардо, знакомство с Тургеневым — все это распахнуло перед Поленовым двери еще одного салона, где скорее баловались искусством, а больше говорили, вели непринужденную светскую беседу. Это был салон генерал-майора Дмитрия Александровича Татищева. Некогда командир лейб-гвардии гусарского полка, он несколько лет уже как был в отставке и, подобно Боголюбову, создал в Париже салон: у него собирались на воскресные завтраки (у Боголюбова были «вторники»). В молодости Татищев учился живописи у художника Сверчкова, специалиста по изображению лошадей. Специалистом по изображению лошадей стал и Татищев. Темами его картин были тройки, охоты и прочее, но при всем том некоторые его вещи попали в Салон, а одна из картин — «Черкес, скачущий галопом» — находилась в коллекции И. С. Тургенева.
В 1863 году Татищев участвовал в подавлении Польского восстания, а уйдя в отставку, поселился в Париже и благодаря своему немалому состоянию, давшему ему возможность стать хозяином салона, вошел в круг литературной и художественной интеллигенции русской колонии Парижа.
С Татищевым Поленова познакомил Репин в той самой русской церкви, построенной Кузьминым, куда Поленов попал тотчас же по приезде в Париж. Но тогда, занятый своим искусством, готовясь к выставке в Салоне, Поленов как — то не успевал попасть к Татищеву. Потом, в марте, знакомство возобновилось, на сей раз через Боголюбова, и Поленов стал изредка бывать в этом доме — так, для отдыха и времяпрепровождения. В письме родным Поленов характеризует общество, собирающееся в этом салоне: Татищев — отставной гусарский генерал, «страстный» любитель живописи, «стряпающий что — то вроде лошади», супруги Бове (она — урожденная Соловцова) — москвичи и, разумеется, добрейшие люди, с которыми живет мать madame Бове, помещица, весьма напоминающая покойную бабашу. «Разумеется, по взглядам на вещи мы совершенно расходимся, но это ничего, это лишний повод для разговора».
Однако что это за разговоры, выясняется лишь в мае из письма Поленова родителям, свидетельствующего не только о его духовном росте, но и о том, что он еще не понял своих родителей: не понял, чем можно делиться с ними, а чем нельзя. Вот отрывок из этого письма: «Мама спрашивала имя старушки Соловцовой, — ее зовут Анна Афанасьевна. Она ко мне очень благоволит и рассказывает всякие истории про былое, прошедшее, даже заступается за меня, когда начинается спор с остальною компаниею. Это бывает особенно в воскресенье после обеда. Начинается какой — либо разговор и переходит в спор. Недавно было бурное рассуждение. Заговорили о Польше и поляках. А надо сказать, что Татищев был командиром лейб-гусарского полка, Граббе — лейб-гвардейского конного, Бове — кавалерийский ротмистр и все они были в Польше во время восстания. Я стал за них, т. е. за поляков, ну, и можете себе представить, как все на меня бросились, впрочем, Граббе поддерживал, так как он панславист, хохол и гомеопат. Мадам Бове в душе тоже мне сочувствовала, но она еще мало привыкла высказывать вещи, прямо противоречащие всем принятым обыкновениям. Татищев очень остроумный и ловкий диалектик или, проще, краснобай, повел атаку довольно правильно, но без успеха. Под конец прибегнул к всегдашнему аргументу: „Душа моя, вы это по молодости, по неопытности так говорите, поверьте мне, уж я лучше это знаю, я опытнее вас“ и т. д. В таком случае не надо мне опытности, если от нее изменяются убеждения. Старушка Соловцова старается оправдать меня тем, что „это он все увлекается, и что это пройдет“. Точно будто мне пятнадцать лет… Татищев: „Да, по тому, что вы говорите, вам не больше“. Мадам Бове лукаво улыбается: „Свернете вы себе голову, Поленов, когда-нибудь“. Ее мать: „Ах, Саричка, разве можно такие ужасные вещи говорить, я знаю, он гораздо лучше, чем вы все об нем думаете“… Но когда дело доходит до крупной политики, тут происходят такие пассажи, что и пересказать трудно. Впрочем, я этих людей даже отчасти уважаю, потому что в них мало притворного, манерного, кривого, как у большинства их сословия, и потому есть убеждения довольно твердые и основанные на некоторой логике, а не на привычке или тупом чванстве… Самый сильный из этого общества Татищев, с которым я больше и спорю, он рассуждает логически и имеет теорию, во многом довольно основательную и твердую. Даже приятно с ним сражаться».
Впрочем, все это — салонные споры, это только Поленову, недавно вырвавшемуся из — под опеки родителей, они кажутся чем-то этаким… Татищев же, человек зрелый, даже симпатизирует в душе этому взрослому ребенку… Поэтому споры спорами, а светскость светскостью: «За поляков назначено мне было сопровождать мадам Бове на выставку и объяснять ей достоинства и недостатки картин, а за коммуну или, вернее, за теорию уничтожения наследственности, я еду с ними в Версаль, и так как наказание сие налагается дамой, и очень милой, то повинуюсь, хотя через это и много времени уходит».
Так что расхождение во взглядах — и на польские события десятилетней давности, и на наследственное право, которое Поленов — очень просто — путает с «коммуной», все это не более чем салонные споры во время воскресных завтраков и обедов, разве что разогревающие кровь, воспламеняющие воображение, дающие пищу уму и возможность потренировать полемические способности. А сам Татищев — глава враждебной партии, в оппозиции которой находится молодой Поленов, — даже благоволит к своему противнику в спорах «и советует изучать русскую историю по французским об ней сочинителям». Татищев подарил даже Поленову чудесно исполненную фотографию Венеры Милосской:
— Прохожу я мимо магазина и вижу портрет этой чиновницы, а вы о ней хорошо отозвалися, я и подумал, оригинал подарить ему не могу, ибо он не мой, а портрет поднесу.
Родителям бы только радоваться, что Вася попал в хорошее общество, где ему не дают спуску, где с ним спорят, вдалбливают благонамеренность, а в знак наказания обязывают сопровождать дам в Салон и в Версаль. Но Марию Алексеевну, с ее ригоризмом и впитанным с молоком матери страхом перед Аракчеевыми, Бенкендорфами, Дуббельтами, перед самим государем, не так уж интересует его будущее. И, получив письмо, она тотчас же садится за ответ: «Слушая некоторые твои рассуждения прошлого лета в Имоченцах, я часто думала, дорогой мой Вася, подобно Анне Афанасьевне Соловцовой, что тебе точно пятнадцать лет. Прочитав же последнее твое письмо, я еще более утвердилась в моем мнении. Но вот беда, что этому никак не поверят те люди, которые только тем и занимаются, что подбирают подобные рассказы, нанизывают их себе на память, а потом их при случае, чтобы удостоверять, кого нужно, в неблагонадежности нашей молодежи, выставляют на вид. Все эти твои излияния ничего другого не сделают, как принесут вред не только тебе, но и твоим самым близким. И все из — за того, чтобы геройски стать в позу и сказать: „А мне что? Я выше толпы!“ Признаюсь, что высказанный тобою образ мыслей нас очень огорчает, и тем более, что все это навеяно на тебя какой — то нездоровой атмосферой. Алеша находит, что все очень остроумно, если ты сам над собой посмеиваешься, и, описывая эти твои беседы, из себя выделываешь очень искусного фантазера… Он не хочет признать в тебе пятнадцатилетнего юношу, так, как я это делаю. Ты там сердись, бранись, а я всегда косточек ищу и до косточек хочу тебя пробрать. Но об этом довольно, и прошу тебя, дорогой мой Вася, мне на это не отвечать. Баста! Побереги нашу старость, ты горячо нас любишь. Это я знаю. Все это пишу серьезно и прошу исполнить с преданностью к нам».
Но что там! Он неисправим, этот «молодой человек» Вася Поленов, которому через месяц — тридцать. Он точно совсем как пятнадцатилетний, вырвавшийся на волю мальчик. И совсем не потому, что он, противореча самому себе, в одном и том же письме называет Татищева сначала краснобаем, а потом самым сильным в споре и рассуждающим логически, нет, совсем не потому. И не потому, что он разрешает себе спорить в салоне Татищева: Париж есть Париж — кто же там не спорит?! И кто принимает эти споры всерьез?! Разве что такие вот горячие молодые люди только что из России!.. Но кто же тянет за язык — исповедоваться в подобных материях живущей в России маменьке, да еще такой, какова Мария Алексеевна. Вот это уж и впрямь мальчишество. Ну, говорил он летом в Имоченцах, там это, хотя и возмутительно, но безопасно: Олонецкий край — местность дикая и от Петербурга, почитай, дальше, чем Париж…
Однако откуда у Васи Поленова появился вдруг такой интерес именно к польским событиям 1860-х годов? Здесь, как это ни покажется странным на первый взгляд, пути ведут — через Боголюбова — к Герцену. Еще в 1860-е годы, вслед за событиями в Польше, на которые с таким сочувствием откликнулся Герцен и которые парижане принимали так близко к сердцу, что поговаривали даже о войне с Россией, Боголюбов написал и подарил Герцену от имени колонии русских художников за границей картину «Апофеоз „Полярной звезды“ и „Колокола“». И совсем не исключено, что именно Боголюбов, работавший как раз в то время в мастерской Поленова, и рассказывал ему подробно о польских событиях 1863 года, и даже показал то, что Поленов в родительском доме, да и вообще в России, видеть не мог: номера «Колокола», в которых статьи Герцена, посвященные польским событиям, занимают немалое место.
Что ж, то, что правнук первого русского эмансипатора, оставшись с глазу на глаз с внуком Радищева, говорит с ним о Герцене, о «Колоколе», о Польше, — все это совершенно естественно (если, конечно, эти предположения верны). Но в салоне российского генерала, хотя и отставного, но лично участвовавшего в подавлении Польского восстания! Непростительное мальчишество! Только вот что: если Поленов и впрямь во многом моложе своего возраста, то маменька его явно старше своего: если кто и узнает в Петербурге об этих салонных разговорах… времена-то уже не те — и «мертвых с погоста не носят». Кончился век Николая Павловича! Кончился! Баста!
Только родных, обжегшихся в своей молодости на молоке и дующих по сей день на воду, не следует излишне беспокоить. К чему? Но Поленов уже закусил удила. Он не внемлет приказу маменьки «мне на это не отвечать», под которым подразумевается «не возражать». Он отвечает. Он возражает. И делает это в совершенно иронической и — вчера еще, казалось, непозволительной — форме: «Напрасно, мамочка, Вы так кипятитесь! У Бове говорят обыкновенно по-русски, так что французская прислуга ничего не понимает. Следовательно, опасности нет никакой. При том же я удивляюсь, как убедительные доводы Алеши Вас еще не убедили, что не вся прислуга из III отделения (здесь, пожалуй, Поленову следовало сделать оговорку: „во Франции“, ибо прислуга на службе у III отделения — в России явление обыденное. —
Далее я был в университете, читал много и действительно много заимствовал из этих источников, так что то, что я говорю, я не думаю выдавать за свои собственные изобретения: во-первых, я слишком слаб, чтобы изобретать подобные великие вещи, во-вторых, я занялся делом совершенно другим, которое берет у меня все мое время и не дозволяет мне самому додумываться до этого… И, наконец, странная у Вас, мамочка, нетерпимость к чужому мнению, — если что не по Вас, так сейчас и баста, и чтобы речи об этом не было. Вы сами высказываете свои соображения, а вслед за этим заставляете молчать своего собеседника… На этот счет папа гораздо терпимее Вас».
Здесь забегая несколько вперед надо рассказать о том, как относился Дмитрий Васильевич к подобным эскападам сына и в каком смысле был он терпимее, чем мама.
Год спустя, в конце мая — начале июня 1875 года, Поленов в компании Репина и еще нескольких человек побывал в Лондоне. Едва ли стоит пересказывать его письмо, наполненное описаниями английской столицы. Но совершенно необходимо привести вот какие его слова: «Надо непременно знать по-аглицки, чтобы ехать в Лондон. Как я сожалею, что вместо ненужной латыни или разных катехизисов, богослужений, чтения псалмов и т. п. бесполезностей не выучили меня по-аглицки, дело иное было бы…»
Здесь достаточно ясен адресат упрека — образовательная система в России. Но Поленов — отец почему — то относит упрек к себе. «С одним… я не согласен, — пишет он сыну. — Ты пишешь, что надо непременно знать по-английски, чтобы ехать в Лондон. Отчасти это может быть и правда, но ты говоришь далее, что как ты сожалел, что вместо ненужной латыни или разных катехизисов, богослужений или чтения псалмов и т. п. бесполезностей не выучили тебя по-английски. Это я нахожу совершенно ошибочным. Мы имели в виду дать вам, и дали, такое образование, каким не всякий из твоего круга может похвалиться. Поэтому и латинский язык, и другие называемые тобой бесполезности были необходимыми звеньями в длинной цепи вашего образования. Положа руку на сердце, мы смело можем сказать, что сделали для вас все, что было нужно, и до этой минуты укорить себя ни в чем не можем» и так далее все в том же духе.
Конечно, этот конфликт — совсем не той остроты, что предыдущий — о Польше и о восстании поляков. Да и ответ отца это скорее оборона, а не атака, как ответ матери, и ответ Поленова отцу также носит иной характер. Он совсем не обвиняет его — персонально, — он обвиняет образовательную систему: «Вы говорите, что латынь, катехизис и прочие бесполезности, как я их называю, были на деле необходимостями. Я со своей стороны совершенно с Вами согласен на этот счет, но я сожалею только о том, что столько трудных бесполезностей приходится одолевать из необходимости. Я очень хорошо знаю, что без них ни в гимназию, ни в университет не попадешь. Одно, что я могу сказать о нашем обучении, что в него элемент божественного был влит на несколько капелек через край. Из этого элемента была сделана какая-то особая система эдукации. Впрочем, и то правда, что с тех пор много воды утекло, много изменилось, и то, что тогда казалось совершенно необходимым, теперь уж совершенно лишнее. Вот про это я и говорю, что жаль, что много было божественного, в сущности, ни к чему не послужившего. Если от него половину отнять да заменить аглицким диалектом, никто бы в убытке не остался».
Здесь сразу бросается в глаза разница тона в переписке сына с отцом и с матерью. Правда и то, что предметы разногласий — не равноценны, но тон письма Поленова-отца — это скорее скорбь по поводу того, что выросла стена непонимания между ним и сыном, письмо матери — агрессивный деспотизм. И ответ отцу молодого Поленова — успокаивающий, объясняющий, что все дело конечно же не в вине отца, что все — время и образовательная система.
Совсем иное продолжение эпистолярного конфликта с матерью. Конфликт этот как бы исчезает, но он исчезает не совсем, он только «уходит под воду». Когда летом 1874 года в Париж приезжает Чижов, Мария Алексеевна пишет ему так, словно Чижов и впрямь агент — ну не Третьего, конечно, отделения, а ее собственный: «В Париже был у Вас Вася… Что он? Я получила от него письмо с очень завиральными и какими — то сбитыми мыслями. Увлекающийся господин, и к тому же иногда совершенный младенец, которого можно как угодно поднадуть».
К чести Чижова — ничего о «завиральных» мыслях Васи он не сообщил Марии Алексеевне, хотя говорил с ним в Париже много и о многом, главным образом, конечно, об искусстве. «Он сильно восстает против Академии — она убивает жизнь, а между тем искусство должно идти рука об руку с жизнью». Так записывает Чижов в своем дневнике суждения Васи Поленова.
Чижов совсем не против этой мысли. Но ему нужна ясная альтернатива. А он не видит ее ни у Поленова, ни у Репина. Картина Поленова, еще висящая в Салоне, нравится Чижову, он находит, что она «недурна, но сюжет сатиры, не искусства… Кто узнает предмет без подписи… Это фактор события, даже не события, а… бывшего скверного права, в изображении которого нет ничего говорящего».
Мы уже знаем другой отзыв Чижова об этой картине, сделанный позднее, когда он увидел картину не под потолком огромного зала, до отказа увешанного другими картинами, а в мастерской.
Не очень высокого мнения Чижов о выборе Репиным сюжета для картины «Парижское кафе». Этот сюжет он тоже считает нехудожественным. Не станем приводить его доводов: они умны, но опровергнуты временем. Может быть, не картиной Репина, а ходом искусства.
Не будем забывать, что это 1874 год — год первой выставки импрессионистов. В переписке Репина и Поленова
Через семь лет, в 1881 году, другой художник, Ренуар, создаст один из своих шедевров — «Завтрак гребцов», и это будет некая вариация темы Репина. Только помимо черных фраков и цилиндров, так шокирующих Чижова, гризеток с совершенно откровенными выражениями лиц, на картине Ренуара появится еще и то, что привело бы Чижова в совершенный ужас, — лодочники в белых безрукавках с обнаженными мускулистыми руками гребцов, непринужденно беседующие с девушками и ни капли не смущающие своим присутствием респектабельных господ в сюртуках, беседующих с такими же особами женского пола…
Так что при относительной правоте Чижова в том, что касается непосредственно картины Репина, все же «абсолютная» правота, правота принципа на стороне Репина: «Парижское кафе» — сюжет, достойный быть воплощенным в произведении искусства.
Однако приезд Чижова в Париж частично связан с новым конфликтом в семье Поленовых. Здесь, правда, Вася отступает на второй план. В центре конфликта — Лиля. И при неглубоком взгляде на вещи эпизод этот может показаться некоей вставной новеллой в биографии Василия Поленова. Но эпизод этот так же, как и эпизоды, ему предшествующие, в основе своей — на ту же больную тему: конфликт отцов и детей. А важен он потому, что его нельзя трактовать в плане «возрастном». Здесь к «партии отцов» примыкают «дети» — супруги Хрущевы, а Чижов — «дядя» — ровесник «отцов», как раз к своей «возрастной группе» не примыкает. Здесь, кстати, станет ясным намек Поленова в письме матери относительно того, что «с тех пор много воды утекло, много изменилось, и многие изменились», намек, произнесенный вслед за именем Хрущова…
Итак, центральное лицо конфликта — Лиля, Елена Дмитриевна Поленова. А причина конфликта и естественна, и совершенно неожиданна: Лиля полюбила.
В Петербурге она, как и в былые годы, очень тосковала, была меланхолична, ничто ей было не мило. Ни постоянного дела, которое увлекло бы ее целиком, ни друзей. К родителям, кроме дочерних чувств, никаких иных у нее не было. И родители ее не понимали. Дмитрий Васильевич дни проводил у себя в кабинете. Мария Алексеевна считала, что человек может, даже должен найти себе занятие, которое дало бы ему нравственное удовлетворение. Лиля и занималась: читала много, рисовала — понемногу. Чистяков ходил к Поленовым, он считал Лилю способной (тех, кого он не считал способными, он не учил). Но, постигая азы классического рисунка, Лиля все равно скучала. Душа ее пробудилась для более полной жизни. А ее не было, этой жизни, хотя бы в какой — то мере наполненной смыслом и содержанием.
Решено было, что Лиля поживет немного в Киеве у Веры, которая обосновалась там надолго, — Иван Петрович Хрущов, бывший вольнодумец, стал в Киеве директором Института благородных девиц. Вера в Киеве, разумеется, занималась делом, ибо праздность — величайший из пороков. Она организовала школу для восемнадцати «служительских детей», занимавшихся в этой школе четыре раза в неделю по три с половиной часа. Пыталась она заняться и творчеством, ибо была все же из семьи, одаренность которой — вне сомнений. Но творчество не очень — то давалось ей. От предков она унаследовала только аристократическую внешность: она была утонченно красива. Но книга, над которой она трудится, не выходит за рамки ординарности: увы, ни таланта художницы, какой есть у Васи и, кажется, у Лили тоже, у нее нет, ни таланта писательницы, как у мама… Зато у нее есть трудолюбие, прилежание. И она составляет что — то вроде хрестоматии — по всем, какие ни есть, предметам — для детей младшего возраста. У нее даже есть договоренность с Васей, что, когда она составит эту хрестоматию, Вася сделает к ней иллюстрации.
В школе она преподает все, решительно все, кроме грамматики и арифметики. Курс наук, который преподает она «служительским детям», называется так: «мироведение». Грамматику преподавала очень славная девушка, выпускница института, которым руководит Хрущов, некая Леля Подвысоцкая.
Лиле предстояло преподавать арифметику. Для этого ей самой пришлось сначала пройти специальные курсы.
Таким образом, день был занят. А вечером сестры читали, и чтение тоже было сугубо серьезным и необходимым для самообразования — отчасти для преподавания «мироведения»: читали геологию Лайэля, читали Канта, Дарвина. Сначала Лиля приободрилась, но потом такое искусственное взбадривание перестало действовать и Лиля опять стала хандрить. Весна принесла ей неожиданную радость: она познакомилась с врачом, молодым профессором Киевского университета Алексеем Сергеевичем Шкляревским. Взаимная симпатия очень скоро перешла в любовь, тоже взаимную.
Какое редкое совпадение чувств: взаимная любовь! Какое редкое необычайное счастье! Первая любовь — разделенная! Лиля преобразилась. Словно бы крылья появились за спиной. Такого подъема она не знала еще за всю свою — уже 23–летнюю — жизнь. И будущее предстало перед нею в радужных красках. С искренностью, непосредственностью, которые так отличали ее всегда, пишет она письма старшим братьям, родителям…
Во всем, разумеется, признается Вере, делится с нею каждым душевным движением, поверяет каждую мысль. А Вера делится с Хрущовым: единая плоть — единый дух… А Хрущов разузнает, кто же он, этот Шкляревский. Узнает не очень много. И даже не очень точно. Но что уж безусловно, так это что Шкляревский если и дворянин, то в лучшем случае — мелкопоместный и провинциал. Об аристократизме и помину нет. Не хочет ли он через Лилю в аристократический круг втереться, этот Шкляревский, который еще к тому же, кажется, и полячишка? Довольно того, что Вася, ставя под удар свое будущее, там, в Париже, в русском обществе ратует за поляков, критикует российские порядки, бог знает какой вздор городит, мальчишка, которому он сам, Хрущов, будучи таким же мальчишкой, вскружил голову — по глупости, по глупости (он этого простить себе не может!), — достаточно всего этого, казалось бы, так теперь еще Лиля, которую сами они привезли в Киев, Лиля тоже хочет за поляка замуж!
И полетели письма.
Братья — Вася, Алеша — рады, разумеется, за Лиленьку: дай ей Бог счастья. Мария Алексеевна тоже пишет письмо дочери. Но одновременно с письмом Лили она получила письмо Веры. До чего же умна старшая дочь Поленовых! А Хрущов-то Иван Петрович какой молодец: все выведал, все разузнал. И Мария Алексеевна младшей дочери пишет письмо очень доброжелательное, очень тонкое, очень хитрое, благодарит даже за «прямое» чувство и полное доверие к родителям: «Вперед ты можешь быть уверена в безграничной нашей к тебе любви, а кроме твоего счастья мы ничего не желаем».
Лиля читает это письмо с ликованием… Правда, мама просит ее не спешить, обещает сама даже приехать в Киев. Ну что ж, пусть приедет, пусть посмотрит, пусть познакомится. Ей кажется, что все смотрят ее глазами на человека, которого она любит. По чистоте душевной она и не подозревает о том, что Вера, такой близкий ей человек, может строить козни. Она пишет Васе письмо — письмо счастливого человека, совершенно уверенного в том, что и будущее сулит только счастье: ведь и Алеша на ее стороне, и Вася, а родители и сами пишут, что хотят ее счастья.
Но ведь это кто как понимает слово «счастье»! Для Лили оно — в разделенной любви, а для родителей, для Веры, для Ивана Петровича — чтобы брак был
Мария Алексеевна приезжает в Киев в конце мая.
Как хорошо в это время на юге: тепло, и все в цвету, не то что в промозглом Петербурге, где, впрочем, тоже есть свои преимущества: столица, все чинно, каждый учтен, каждый на виду.
А младшая дочь, Лиленька, сияет. Счастье!.. Ах, молодость! Знала бы она, в чем счастье!..
Ну, ничего, пусть поостынет, пообразумится. Вот ведь бесчестный он человек, помимо всего, этот Шкляревский, ведь ничего еще не решено (да и будет ли решено — подумать еще — как послушаешь Веру или Ивана Петровича), а он уж раззвонил на полгорода: Алексей де Шкляревский и Елена Дмитриевна Поленова сочетаются законным браком.
Подожди, батюшка мой!
А вы, сестрицы, дорогие мои доченьки, поезжайте-ка на некоторое время куда-нибудь. В Баден-Баден, скажем, на воды. Там чувства-то поулягутся, разум заработает. Вася, может, в Баден приедет. Только его подготовить надо! Того гляди, еще перекинется на Лилькину сторону, то есть не на Лилькину, конечно, Лилькина сторона — это они, мама и Вера! — а на сторону этого Шкляревского.
И вот Вера пишет письмо брату, что собирается за границу, приглашает его приехать, чтобы переговорить… о «Лилькином деле»: «Мама решается отложить и ждать, и я совершенно с ней согласна. Мы человека не знаем, и я, признаюсь, не верю в искренность его чувств». Тут она вспоминает строй мыслей своего брата и, словно бы заранее споря с ним, продолжает: «Тут, Вася, дело не в mesallianserax, не в породе или родовитости или, еще хуже, аристократизме…» Ложь, ложь: именно в этом, и мы еще убедимся, что именно в этом! Но ведь Вера — умница. Она знает, с кем как говорить надо. «…Это мелочь, — продолжает она письмо, — а дело в том, что он не довольно ценит Лилю и что его чувство к ней не довольно серьезное, — кроме того, мы не знаем ни его деятельности, ни среды, ни его самого как человека и, по — моему, не можем так рисковать Лилькой, которая, конечно, теперь находится в экзальтированном состоянии. Надо, чтобы все это успокоилось, чтобы Лилька пришла в нормальное состояние…»
Как это понимать? Видно, на языке Веры «экзальтация» — синоним любви. А «нормальное состояние» — это такое состояние, в каком была она сама, когда выходила замуж за Хрущова: чинно, благородно.
«…и тогда мы увидим, что она скажет». «…Ты многое можешь, чтобы успокоить ее, а еще больше экзальтировать ее какими бы то ни было идеями не следует теперь, не время».
Экая интриганка: вызвала мать в Киев, увозит сестру за границу, а теперь еще хочет, пользуясь особым расположением брата, перетянуть его на свою сторону, сделать союзником. И вот ведь что ужаснее всего: с твердой уверенностью, что творит благо!
Письмо примерно такого же содержания, как и письмо Васе, получил от Веры и Чижов. Он давно уже — почти что член семьи. Дети Поленовы апеллируют к нему, считаются с его мнением — Вася, во всяком случае, едва ли не больше, чем с мнением родителей. Письмо Чижов получил, видимо, прехитрое, ибо, несмотря на свой ум, он становится — на время — союзником Веры. Он почти убежден, что дело все же решится к добру, и пишет Васе письмо, в котором просит: «Как я рад, что дело Лили решается без сильных препятствий. Только, Вася, пожалуйста, ты не сильно увлекай Лилю и, писавши к Лиле, не закусывай удила. В самом деле, тут не аристократические взгляды…»
Ну как же он — то, умный же человек и опытный, не понял сразу то, что понял потом, когда было уже слишком поздно. Не понял, что коли часто говорят: «Не в аристократизме дело», то это явный признак, что дело именно в нем. Поймет, поймет, конечно, ошибку, да поздно будет. А теперь он верит, что дело в одном: «…насколько его имя подходит Лиле, иначе, пожалуй, посадите ее в такую среду, что и сами будете не рады. Ей теперь прямо говорить это довольно трудно, потому что она или совсем пьяна, или сильно навеселе, — следовательно, ее логика такова: „Все это пустяки — семья, среда, все это такие глупости, под именем которых стоит и род, и происхождение, и общественное значение“. Спорить с ней, только усиливать ее настойчивость. Вера пишет правду, что надобно же его поузнать; надобно же и Лиле посмотреть немного потрезвее: жена не лапоть, поносишь — с ноги не сбросишь».
Опять Вера! Опять Вера пишет, опять убеждает и, со стороны глядя, — права! И Чижов убежден, что все будет хорошо: «…от души рад, что Лиле готовится полнота жизни, что эта встреча взбудоражила ее природу, для меня бывшую всегда загадочною. Ума у нее очень довольно; душа проглядывается везде, но как-то все сковывается такой броней благоразумия, что никак не доберешься до сути. А известно и ведомо, что благоразумие есть родной отец всех пакостей человеческих. Передай-ка ты это Лиленьке».
Кому передавать это? Ведь благоразумие, которое «родной отец пакостей человеческих», как раз свойство именно Веры, а не Лили. Даже странно, что умный человек так оплошал.
Но Вася Поленов был уверен, что он пишет письма Лиле именно такие, какие надо, такие, каких от него ждут. Но не угождает ими никому. Лиля считала, что он мыслит хотя и не так, как Вера, и взгляд на вещи у него иной, а все же не то, чтобы взять и определенно поддержать ее. Но все-таки он был ей ближе всех, он лучше всех ее понимал.
Мать совершенно перестала даже писать Васе, гневаясь, что он не поддерживает ее и Веру безоговорочно. Лиля писала ему, она верила в него, в его поддержку: «…если бы ты знал, как мне теперь трудно, ты бы, наверное, приехал повидать нас в Баден, ты один у меня, который относится сочувственно. Вера не сочувствует, Хрущов первую минуту, но зато очень скоро изменил свой взгляд и образ мыслей. Остальные члены семьи только мне по губам помазали, а теперь я вижу ясно, что они все сделают, чтобы расстроить это и так далее… Они еще уверяют, что он поляк и это скрывает, а он настоящий малоросс (вот тоже важная причина: поляк, малоросс, великоросс!.. —
Да, Вера уже не близка Лиле, мать — увы! — тоже. Близок Вася. Вот бы она со Шкляревским поселилась в Москве и Вася тоже! А родители пусть себе живут в Петербурге, а Вера с Хрущовым — в Киеве.
Вася пересылает Лилино письмо Чижову, и тот предлагает: приехать Васе к нему в Виши, где он лечится, а оттуда вместе — в Баден. Но все получилось немного иначе: Чижов приехал в Париж и, узнав, что у Поленова, как он выразился, «карман пустоват», повез его за свой счет. Впрочем, сам Чижов чувствовал себя не очень здоровым и потому до Бадена не доехал, остановился в Праге.
В Бадене Поленов провел с сестрами неделю. Это была трудная неделя; ему стало ясно: Вера под любым предлогом хочет разбить брак сестры. Шкляревский — бесстыдный человек! Он растрезвонил на весь Киев, что женится на Лильке, не имея еще согласия мама! Ну, хорошо, хорошо, пусть не он, а другие, которым он сказал. Не он, а они оба? Хорошо, пусть так, оставим это. А семья его, среда, из которой он и в которой он, — какова? Серенькая, очень серенькая. Вася пожимает плечами: среда, конечно, вещь немаловажная. Но и не такая уж страшная, важно то, каков он сам: ведь вот Репин, с которым он все больше сближается, совсем уж из темной среды. А какой художник! Нет, милая сестра, Господь Бог и ум, и душу, и талант раздает совсем неразумно (прости), не сообразуясь с происхождением. Каков он сам — вот главное. Но, по словам Веры, он тоже хорош: хочет жениться на Лиле по корыстным соображениям — через женитьбу войти в аристократический круг.
Опять на сцену выступает этот вопрос об аристократизме!.. «По словам Веры и Лильки — это два разных человека», — пишет Поленов Чижову.
Пробыв в Бадене неделю, Вася уехал в Париж, так и не добившись толку. И теперь сестры ждут Алешу. Это тоже важный визит. Дело в том, что, уезжая из Киева, Мария Алексеевна в ответ на письмо к ней Шкляревского так и не удостоила его чести переговорить с ним самим, а написала письмо, в котором говорилось, что так как она его не знает (непонятно — зачем она приезжала, в таком случае, в Киев?), то откладывает свое решение на неопределенное время. Кроме того, так как Лиля уезжает в Баден-Баден, а оттуда поедет не в Киев, а в Петербург, то она запрещает какую бы то ни было переписку с нею.
Это равносильно отказу. Но ни Лиля, ни Шкляревский не хотят сдаваться. Шкляревский просит определить срок ожидания, ограничив его хотя бы годом, просит разрешения писать Лиле, хотя бы не прямо, а через Алешу, который пользуется большим доверием родителей, чем Вася, скомпрометировавший себя симпатией к полякам да и вообще набравшийся бог знает где вольнодумства. Может, он в прадеда своего пошел, да только не в того, в какого надо бы!
В конце августа Поленов жил с Репиным на северном побережье Франции, в Нормандии, в деревушке Вёль, писал там этюды. Там получил он от Лили ответ на какое-то свое письмо, не дошедшее до нас. Но ответ Лили в какой-то мере говорит о «расстановке сил» в этой великой битве за право любить и быть любимой: «Знаешь, Вася, твое письмо отличное, только не дай Бог, чтобы мама когда-нибудь догадалась о твоих воззрениях на ее хитрости и подкопы англичан под русское рукоположение».
Какая же она все-таки умница! Какой образный, какой колоритный язык, какие неожиданные повороты мысли, какая непосредственность. И какой это редкий (редчайший!) талант — эпистолярный. Среди русских художников им обладала одна Елена Дмитриевна Поленова. Мы еще не раз будем читать ее письма, в которых — искорками — образы-шедевры. И все это у нее вырывается само собой. Вот хотя бы только что цитированные строки… А ведь ей совсем не до того, чтобы изощряться в стиле.
Она продолжает: «А мамашину просьбу „лишней бумаги на письма не тратить“ (не правда ли, до тонкости аристократично выражена просьба?) он не исполнил, потому что Алеша прислал мне его письмо (к Алеше), написанное на тридцати двух страницах. А? Как тебе это покажется — тридцать две страницы написать обо мне! Я такого и во сне никогда не видала, не поверила бы, если бы сама не прочла и не пересчитала всех тридцати двух страниц. Отличное письмо и отличный человек, и я его очень люблю и вижу, что он меня любит и верит в меня. Это меня радует. Но мама с ее хитростями! О, мама!!!..
Это скучно, она запутывает дело, которое, в сущности, могло быть таким простым. Он любит меня без всякого романтизма, но горячо и искренно. Он не уступит меня, не откажется теперь, и я не хочу отказываться, надо будет как-нибудь уломать мама. Алеша и Вера, кажется, оба сдались, а мама без этих двух союзников не так опасна…»
К сожалению, Лиля ошибалась. Главным врагом оказалась даже не «мама с ее хитростями», а Иван Петрович Хрущов и во всем находящаяся под его влиянием сестра Вера.
В конце августа в Баден приехал Алеша. Перед этим он был в Берлине и познакомился с находившимся там Шкляревским; тот произвел на него очень хорошее впечатление. Алеша полностью занял сторону Лили. Она торжествовала. Вера отмалчивалась.
Между тем в Киеве побывал Чижов и потом писал Поленову: «…с видом постороннего человека разузнавал о Шкляревском и узнал: 1) что он чистый малороссиянин, а не поляк; 2) что он из семейства бедных дворян Черниговской губернии, что превосходный сын и потому нисколько не смущается тем, что мать его ходит в платке — для дам самое страшное преступление; 3) что он превосходный человек, весьма образованный и с весьма эстетическим вкусом, весьма и весьма душою предан искусству. Одним словом, все его хвалят. Сам по себе он не нуждается в средствах, потому что имеет большую практику медицинскую. Полагаю, что искание аристократических связей приписано ему Хрущовым, который (полагаю) и в движении собачьего хвоста, изображении псовых ласк тоже видит искание аристократических связей. Я не видел Хрущова, потому что пробыл в Киеве всего одни сутки, быв у него два раза, но не мог достучаться».
А жаль! Как знать, может быть, вмешайся Чижов в это дело своевременно, оно могло бы уладиться и исход его был бы иным.
Между тем в сентябре Вера и Лиля с присоединившейся к ним Марией Алексеевной приехали во Францию, сначала в Сен-Жан де Лю, а в середине октября — в Париж. Остановившись у некоей Конкордии Дмитриевны Сверчковой и наскоро позавтракав, отправились к Васе в мастерскую и в Салон. Лестно было видеть Марии Алексеевне произведение своего сына, выставленное в столь прославленном зале под номером 1502, весьма лестно. Да и работы его в мастерской ей понравились, особенно хорош неоконченный еще портрет Маруси Оболенской, да и другие работы недурны. Два этюда Вася дарит: один мама, другой папа. Неделя проходит в разговорах, по-видимому, совершенно мирных, потому что 20 ноября Мария Алексеевна записывает в дневнике: «Вера пошла с Васей в мастерскую, он хочет писать ее портрет масляными красками». Вася написал портрет Веры, неплохой портрет: утонченные черты лица, несколько болезненный и томно-усталый вид, умные печальные глаза… Все это как будто бы должно вызывать симпатию… А — не вызывает. Невольно сравниваешь этот портрет с другим — с портретом Лили, написанным тремя годами раньше. Никакого аристократизма во внешности, никакой утонченности: круглое лицо, гладкая прическа, глухое, по самое горло, платье. Но есть в облике Лили то, что не дается ничем: ни породой, ни воспитанием, ни образованностью: обаяние — качество, которого лишена Вера.
Но Лили в то время, когда Вася пишет портрет Веры, уже нет в Париже. Видимо, общение их сразу же сочли нежелательным. И Дмитрий Васильевич, сопровождавший семью, оставив жену и старшую дочь на попечение Васи, уехал с Лилей в Петербург.
Не дотянуться теперь Шкляревскому до Лили!..
А впрочем, родительское сердце — не камень. И Мария Алексеевна на просьбу Шкляревского разрешить писать Лиле предложила ему приехать в Петербург на рождественские праздники: там и познакомиться можно будет (словно нельзя было сделать это в Киеве), и узнать человека. Дмитрий Васильевич во всем с ней согласен, хотя и весьма скептически относится к этой затее: «Я старался разуверить ее в этом намерении и напрасном труде. Можно знать человека и год, и два, и десять, и больше лет, а все же кончишь тем, что не узнаешь его. Уж таков он есть этот человек».
Странно, как же тогда Хрущов-то оказался так быстро узнан?! А впрочем, бог его знает, кого имеет в виду Дмитрий Васильевич: на поверку он оказывается лишь на периферии большой дипломатической игры, призванной расстроить брак Лили со Шкляревским.
А заговор какой-то между матерью и старшей дочерью был. Ибо на приглашение приехать в Петербург — чего уж, кажется, лучше — Шкляревский не ответил ничем. Зато в Петербург полетели из Киева письма от Веры. Письма эти до нас не дошли, но отзвук их остался в письмах Лили, адресованных Чижову и брату Васе, письмах, исполненных такого отчаяния, такой тоски, какой ни один мезальянс никогда бы не вызвал (если даже и предположить, что брак ее со Шкляревским оказался бы и впрямь мезальянсом).
Приехав из Парижа в Клев, Вера увиделась со Шкляревским, был между ними какой-то разговор, после которого Шкляревский будто бы полностью согласился с мнением Веры. Больше того: он даже не написал Лиле письма. Что могла сказать ему Вера? С кем может поделиться Лиля своим несчастьем? С дядей, то есть с Чижовым, да с Васей. В феврале она пишет Чижову, что тотчас напишет Шкляревскому «в последний раз и такое письмо, которое не допускало бы ответа», а через месяц признается: «…не писала в Киев до сих пор. Напишу, если заставлю себя быть поспокойнее, иначе не хочу писать. Теперь еще рана слишком свежа. Стараюсь не растравлять ее воспоминаниями». А в том первом письме Чижову, писанном в феврале, такое, что любая живая душа должна содрогнуться: «В один день то, что было еще накануне близко и дорого, стало вдруг для меня давно прошедшим, далеким воспоминанием. Точно был у меня хороший несбыточный сон, после которого слишком скоро настало пробуждение. Теперь придется отучать себя от тех мыслей и планов, которые в эти последние десять месяцев наполняли собою всю мою жизнь. Кто виноват в том, что все это оказалось несбыточной мечтою — не знаю, но его винить не могу. Верю все-таки, что он любит меня сильно и искренно, и я его и теперь люблю по-прежнему, если не больше прежнего. Вместе с тем мы разошлись навсегда, между нами все кончено. Странно, что с самого начала меня грызло предчувствие, еще в мае (то есть десять месяцев назад. —
Это письмо — словно бы разрядка. Но результаты недолги. Меньше чем через две недели после этой исповеди человеку, который старше на сорок лет, письмо Васе — в сущности, о том же. Но как может находить новые и емкие слова человек, у которого душа очень уж болит!
«Очень перед тобою виновата, Вася, давно бы следовало написать тебе. Но мне больно писать тебе о моем деле, во-первых, потому, что я чувствую, что именно в этом отношении между нами стоит Вера, а она так дико на него смотрит, ты же невольно стал смотреть отчасти ее глазами. Так, по крайней мере, я поняла из ее слов».
Опять из
«…Знаешь ли ты состояние полного отчаяния, — продолжает Лиля, — когда судьба отнимает в лице одного человека все, что было у тебя, если знаешь, то поймешь мое состояние».
Он — понял! Не прошло ведь еще и двух лет, как умерла Маруся, которую он так нежно, безмолвно любил, портрет которой он еще пишет, и портрет этот — по фотографиям, по воспоминаниям — кажется, лучшее из всего им дотоле написанного. Ибо воспоминания подогреваются не охладевшей еще любовью, а фотографиями они оживляются.
«Теперь, — продолжает Лиля, — я поняла, как я любила, как я жила этой любовью, как она оживляла во мне каждую мысль, каждое действие, каждое предприятие мое. Теперь ее нет — это для меня живая смерть, все потемнело, похолодело во мне и вокруг меня. Самое искреннее и спокойное желание умереть заменило эту страстную лихорадочную потребность жизни, которую я чувствовала в эти последние десять месяцев. Вася, подумай, в течение шести месяцев сближаться, жить общей жизнью, и в ту минуту, когда, казалось бы, все препятствия устранились, потерять все и безвозвратно потерять. Это не причуда мамы и не слабость отца, как было прежде, это — КОНЕЦ, а не временная неприятная задержка. Когда этого не хотели мама и Вера, можно было бороться и верить в благостный исход, но теперь, что он сам этого не хочет, остается только подчиниться. Я его не виню нисколько — для меня ни на минуту не было разочарования. Что легче было мне: полюбить, а ты знаешь, что я редко увлекаюсь, а полюблю, так сильно, а потом увидеть, что я ошиблась, или, как теперь, полюбить сильно, ни на минуту не усомниться, любить до конца и после разрыва, и думать, что напутали другие и поставили между нами стену недоразумения, через которую нет возможности перейти. Мне кажется, что разочарование хуже еще. Тут, по крайней мере, целы воспоминания, прошедшее чисто и дорого…
Братья на днях уезжают. Я одна с моими черными мыслями. Алеша и Федор Васильевич советуют опьянить себя работой».
И она всячески пытается следовать этому благому совету, но работа не опьяняет ее. Она готовится к каким — то ненужным экзаменам и до того утомляется за день, что спит ночью хорошо и этому уж, бедная, рада.
По-прежнему приходит Чистяков, но здесь — она сама это видит — дело пошло хуже. «Теперь апатия, в которой я нахожусь, невольно сообщается тому, что я делаю, — пишет она брату. — К экзамену тоже готовлюсь, хотя очень трудно переломить себя и заставить зубрить года и тексты, когда голова занята другим… спасибо, что пишешь, очень тоскливо. Иногда просто места не могу найти».
«Сегодня было письмо от Васи, — сообщает она Чижову. — Вера тоже пишет, она, кажется, здорова, ее писем мне не дают читать. Что там происходит, не знаю». И в том же письме просит: «…может быть, Вы поедете в Киев. А в Киеве, может случиться, встретитесь с А. С. Шкляревским. Я бы желала этого, Вы, я уверена, перемените взгляд на него, он окажется гораздо лучше, чем Вы его теперь считаете».
Каким же считает Чижов Шкляревского, с которым виделся уже до того? Он пытается утешить милую Лилечку всячески: пишет, что среда, куда она попала бы, выйдя замуж за Шкляревского, действительно не та, к какой она привыкла. А «это при всей любви была бы невольно внутренняя ссылка. Положим, любовь украсит и ссылку», — признается он.
Тут Чижов все-таки, по-видимому, заблуждается. Искренне, конечно, но заблуждается. Нам не много известно о Шкляревском, но кое-что все же известно из воспоминаний сына Праховых. А. С. Шкляревский бывал у Праховых (это уже десятью годами позднее), то есть искренне интересовался искусством, хотел для себя именно
Значит, разговоры о «среде», в которой Лиля могла бы себя почувствовать как во «внутренней ссылке», — плод очень поверхностного знакомства Чижова со Шкляревским. Да и говорили они при встрече совсем не об искусстве. Вот далее в письме своем Чижов старается развенчать Шкляревского в глазах Лили тем, что при встрече с ним, Чижовым, во время разговора Шкляревский, оказывается, плакал…
Вот так «добровольно» отказался он от Лили!.. Чижов считает это недопустимой для мужчины слабостью. «Ты никогда не должна была знать его внутренних борений, и ты одна, а не сплетни барынь, кумушек и просвирень, между которыми Иванна Петровична занимала видное место, — должна была решить все».
Наконец-то назван точный виновник интриги, ставшей несчастьем Лили: Хрущов, бывший вольнодумец Хрущов, а ныне директор Института благородных девиц, кумушка и просвирня Иванна Петровична…
В письме Васе Поленову Чижов говорит обо всем без обиняков, не стараясь выставить дело так, чтобы и правду сказать, и поменьше огорчить, и найти что — то, что хоть отчасти утешило бы.
Вот когда он вспоминает картину «Право господина». Он считает, что Лиля, ее любовь, ее будущее, ее надежда на счастье — все было принесено в жертву предрассудкам из тех же времен, когда зарождалось «Право первой ночи».
Уже и Мария Алексеевна согласилась, чтобы дочь переписывалась со Шкляревским, отец, разумеется, тоже не возражал, но тут «подвернулся Хрущов с его узкой аристократоманией, и получила Лиля письмо от Шкляревского, — я не знаю его содержания, но знаю одно, что после получения его Лиля плакала и решила, что все разрушено».
Чижов искренне и горячо переживает трагедию Лили, этого и впрямь прелестного создания, но в письме Васе не старается в чем — то обвинить Шкляревского, а открыто признается: «Я не знаю Шкляревского, следовательно, не могу сказать ничего решительно, особенно при совершенно разноречивых показаниях: Алеша его защищает, мама обвиняет, Хрущов тоже не говорит в его защиту, слова Лили, как сидящей на скамье подсудимых, мало имеют значения». Вот как! Единственная, кто имеет право быть судьей, оказывается в аристократической семье Поленовых — подсудимой! «Ее жизнь потеряла всю радужность, — продолжает Чижов, — особенно теперь, когда она осталась одна со своей тоской и моими чудными стариками, славными, милыми, мне очень родными, а все — таки пеший конному не товарищ».
«Жаль мне Лильку, — пишет в ответ Вася, — не везет ей счастье, а хороший она человек… больно мне за нее. Мама и Вера, должно быть, довольны, это обидно!»
Да, мама и Вера были довольны. И пребывали в совершенной уверенности, что сотворили благо для Лили.
Лето Лиля провела в Имоченцах с родителями — одна из молодого поколения семьи. Родители всячески старались угодить ей в ее — как они думали, временном — страдании: подарили ей «баскет» — коляску из камыша, чтобы Лиленька могла сама править и ездить по окрестностям Имоченцев. «Все это мне сюрприз, который, разумеется, не имеет для меня никакого значения, но тешит отца. Смешно смотреть, как они, то есть родители, стараются меня утешить и показать мне, насколько я счастливее дома теперь, чем была бы, если бы… Бог с ними, не ведали бо, что творили».
Много лет спустя, уже после смерти Елены Дмитриевны, Стасов, который был горячим почитателем ее творчества, написал ее биографию. И повествование о начале ее жизни представляет собою письмо к нему, Стасову, Ивана Петровича Хрущова, написанное им по просьбе Стасова, что-то вроде воспоминаний. Вот что в этом письме обо всей рассказанной выше истории: «По приезде Елены Дмитриевны… в Киев, она получила предложение выйти замуж за одного медика, профессора, хорошего их всех знакомого. Но брак не состоялся по несогласию семьи Елены Дмитриевны. Она же сама была довольно равнодушна».
А и лгун же, оказывается, аристократ Хрущов Иванна Петровична, просвирня и кумушка…
На этом можно бы и окончить рассказ о несчастной любви Елены Дмитриевны — первой и последней ее любви, если бы время, которое, как гласит банальная, но справедливая мудрость, лучший лекарь, примирило бы ее со случившимся хотя бы впоследствии.
Но так не случилось. Елена Дмитриевна была незлобива. Она не сетовала ни на родителей, ни на Веру, но помнила о том, как исковеркали ей жизнь, до конца дней своих.
В 1895 году, уже после смерти отца, после смерти Веры (а смерть близких людей, как известно, со многим примиряет нас в прошлых неурядицах), Елена Дмитриевна пишет ничем внешне не вызванное письмо Елизавете Григорьевне Мамонтовой, с которой к тому времени очень сблизилась: «Несмотря на одну общую нам черту, проявляющуюся в отношениях к людям, ведь мы с Вами совершенно противоположные люди. У меня за последние годы, лет за
Вот так подошел к концу рассказ о трагедии Елены Дмитриевны, в ту пору еще Лили Поленовой, рассказ, изрядно выбивший нас из хронологической колеи повествования о Василии Дмитриевиче Поленове.
Но как было не рассказать об этом эпизоде, разве не формировал и он характер нашего героя?
Конец лета 1874 года Поленов провел на северном побережье Франции, в Нормандии, в местечке Вёль. Поработать в Вёле советовал молодым русским художникам Боголюбов; он как маринист хорошо знал французское побережье. Репин уехал в Вёль, как только началось лето, в июне, и прислал Поленову письмо о том, как в Вёле хорошо: цветут маки, воздух чудесный, свежий, вкусная еда: ягоды прямо с грядок, яйца прямо из-под курицы, парное молоко. И все баснословно дешево. Репин с семьей снял просторный дом и звал Поленова.
Поленов приехал в Вёль в конце июля и застал там целую колонию русских художников: Савицкого, с которым успел он подружиться, Беггрова, Добровольского и самого Боголюбова.
Поленов принял приглашение Репина поселиться вместе в снятом им доме. Василию Дмитриевичу очень хотелось, чтобы по приезде в Россию Репин был его гостем в Имоченцах, но Репин был щепетилен до крайности, пожалуй, не поехал бы. А таким путем Поленов хотел залучить его. Он поделился этой мыслью с родителями и получил письмо от Марии Алексеевны с полным одобрением. Он передает Репину приглашение родителей. Репин благодарит, он искренне рад такой возможности, ибо немало слышал от Поленова восторженных рассказов о прелестях Олонецкого края.
Вёльский период, хотя и длился чуть больше месяца, был едва ли не самым успешным за время пенсионерства Поленова. Он сделал три чудесных этюда белой нормандской лошадки, два этюда «Ворота в Вёле», «Отлив», «Пруд в Вёле», «Мельница на истоке реки Вёль». Кроме этого, уехав вместе с другими художниками на несколько дней в рыбачий поселок Этрета, пишет этюд «Рыбацкая лодка», этюд рыбака…
Вельские этюды (кроме, пожалуй, «Белой лошадки») элегичны по настроению. Влияние барбизонцев здесь несомненно. Разумеется, что как и в пейзаже, понравившемся Тургеневу, влияние это было опосредованным, «через» Боголюбова, который, как известно, очень высоко ценил эту группу художников. В картинах самого Боголюбова, причем именно в вёльских пейзажах лесов и озер, явно чувствуется то же, что и у барбизонцев: стремление передать природу правдиво, но не бездушно. Именно в 1870-е годы Боголюбов постиг пленэризм барбизонцев, стремление передать воздушную среду, игру рефлексов… если сравнить такой, например, пейзаж Боголюбова, как «Лес в Вёле», написанный еще в 1871 году, с этюдами Поленова «Ворота», «Пруд», «Мельница», можно убедиться в этом. Что касается настроения, то оно у Поленова более элегично, чем у Боголюбова, это настроение несколько похоже, если провести литературную параллель, на настроение повестей Тургенева, который не случайно всю следующую зиму весьма благоволил к молодому художнику, и тот стал совершенно своим человеком в доме Виардо. Но это случилось, повторяю, уже в начале следующего года после события, о котором будет рассказано в свое время. Во всяком случае, взгляды Тургенева и Поленова во многом сходятся. Даже на вопрос, какое из произведений Тургенева считать лучшим, Поленов отвечает: «Первую любовь»; Тургенев совершенно с ним согласен…
Но все же лучшая из вёльских работ — «Белая лошадка». Из трех этюдов, сделанных с этой лошадки, сохранился лишь один — на фоне стены, тоже белой. Здесь поражает, как ловко справился Поленов со сложной колористической задачей — передачей белого на фоне белого. Вот где больше всего сказался его дар колориста. Здесь солнце, яркое солнце, его свет, которым удивит он соотечественников несколькими годами позднее в этюдах, писанных в Московском Кремле и в картине «Московский дворик», этот яркий солнечный свет впервые с такой силой прорвался на его полотно.
Поленов точно бы снял с солнца некую пелену, через которую освещало оно картины других русских художников. Ни у кого из его предшественников картины не были такими солнечными, какими стали поленовские этюды и пейзажи.
Но не только солнечностью отличается «Белая лошадка». По этому этюду можно понять, что Поленов знаком уже с принципами импрессионистской живописи. Сам он в своем творчестве от импрессионистов достаточно далек, но влияние их на его работы, как и на работы Репина, можно усмотреть. Репин, так же как и Поленов, написал этюд белой лошадки, и автор наиболее капитального и авторитетного исследования творчества Репина И. Э. Грабарь совершенно определенно утверждает, что этюд этот «написан под влиянием импрессионистов, без цветового разложения, но со всей импрессионистической голубизной общего тона и с сильным солнечным светом».
Может быть, Репин пошел чуть дальше Поленова в постижении импрессионистических принципов и в применении их, но то, что принципы эти обоим художникам уже хорошо известны, — несомненно.
В письмах Поленова, написанных из Франции, об импрессионистах ничего определенного нет. Зато Репин уже пишет о них Стасову, впрочем, поначалу, естественно, не только не сочувствуя, но даже не сознавая, что же это за «новое реальное направление», считает, что это «скорее карикатура на него — ужас, что за безобразие», но тут же оговаривается: «а что-то есть». Но, по-видимому, это «что-то» подействовало все же на Репина. Год спустя в письме тому же Стасову он признается: «Я сделал портрет с Веры[5] (a'la Manet) — в продолжение двух часов». И в письме Крамскому: «…язык оригинальный всегда замечается скорей, и пример есть чудесный: Manet и все эмпрессионисты». Стасову: «Иван Сергеевич Тургенев теперь уже начинает верить в эмпрессионистов, это, конечно, влияние Золя. Как он ругался со мной за них в Друо. А теперь говорит, что у них только и есть будущее».
Так прогрессировали в Париже взгляды Репина, а параллельно с ними — есть все основания считать так — и Поленова.
В своих беседах Поленов и Репин, должно быть, обходили эту тему. То, что в письмах Репина в тот период эта тема четко прослеживается, а в письмах Поленова ее вообще нет, объясняется очень просто: Репин переписывался с Крамским и со Стасовым, Поленов — с мамой, с папа, с Верой… Чижов — он хотя и умный старик, но все же старик. Если Стасов не приемлет импрессионистов, если Крамской относится к ним с подозрительностью, то что уж говорить о Чижове.
Но сам Поленов, повторяю, и знал, и понимал импрессионизм. Для того чтобы утвердиться в этой мысли, придется забежать немного вперед. В 1882 году Поленов стал преподавателем Московского училища живописи, ваяния и зодчества. И, впервые взглянув на этюд ученика Константина Коровина, он тотчас же спросил: «Вы импрессионист?» Коровин тогда еще и не слыхивал такого слова. Поленов рассказал, кто такие импрессионисты. Разумеется, ученик Коровин не был в ту пору еще до конца импрессионистом, каким он стал в годы зрелого творчества, но его мировосприятие, его художественное мышление было — от природы — импрессионистским. Нужно было очень хорошо знать импрессионизм и быть очень чутким человеком, чтобы в ученике, пишущем классный этюд, разглядеть наиболее выраженного в будущем импрессиониста среди всех русских художников.
Что еще было сделано на нормандском побережье? «Рыбачья лодка», которую Поленов писал в Этрета. Рыбаки, сидящие около лодки, едва различимы на ее фоне. При всем том сам этюд — темное пятно лодки и паруса на светлом фоне — очень красив. По-видимому, там же, в Этрета, написал он «замечательный этюд немолодого рыбака», этюд, оказавшийся ныне в каком-то частном собрании в Японии. Вот что пишет о нем искусствовед О. А. Лясковская, видевшая его: «В фигуре рыбака чувствуется сила, скованная физической усталостью. Он опустился на камень, положив на колени руки со сплетенными пальцами, и тяжело задумался. За плечами рыбака ярко блестит море. Картина написана в темных свежих тонах. Выполненная с натуры, она удивительно правдива».
Полтора месяца, проведенные в Нормандии, были значительным этапом в развитии творчества Поленова.
Многие этюды, написанные в Вёле, стали потом картинами. Среди них самая значительная — «В парке». Основой картины стали этюды «Ворота в Вёле». Пейзаж остался тот же, хотя несколько изменились сами ворота. Картина вытянулась в высоту, чтобы дать простор небу и показать верхушки деревьев, а к столбу ворот привязана пара коней: белая и вороная, словно бы другая пара — людей — спешилась у ворот парка и углубилась в его аллеи.
А как же выглядят на фоне собственной художественной практики недавние декларации Поленова относительно преимуществ «объективных колористов» — ведь сам он оказался как раз «субъективным» колористом… Да никак. Просто Поленов находился и сейчас еще находится на перепутье. Он еще ищет себя, он себя не понял. А настроение — это то «субъективное», что объективно живет в нем, что заложено в его натуре, в его художественном «я», в художественном темпераменте. Настроения властвуют над ним. Это бесспорно.
Поленов продолжал развивать в русском пейзаже то, что стало потом называться «пейзажем настроения». Направление это, как уже говорилось, начато было Саврасовым. И высшее слово в нем принадлежит не Поленову, а ученику Саврасова, а потом Поленова — Левитану. Но без творчества Поленова, без его пейзажей, по-видимому, невозможен был бы переход от Саврасова к Левитану. Слишком велик скачок от «Грачей» к «Вечернему звону». И это еще вопрос: достиг бы Левитан тех высот, каких ему удалось достичь, если бы между «Грачами» и такими картинами, как «Вечерний звон» и «Над вечным покоем», не было этих солнечных, согретых сердечным теплом, окутанных воздухом
Вершина поленовского пейзажа — впереди. Но начало восхождения на эту вершину произошло в Вёле во второй половине лета 1874 года и осенью в Париже, где, по — видимому, и был написан первый из этих пейзажей — «В парке», не во всем еще самостоятельный, не во всем совершенный, но и все-таки во многом
Вернулся он в Париж из Вёля в самом конце августа. У Репина оказался ученик из России — девятилетний мальчик, коренастый и немного угрюмый, сын покойного композитора Серова, автора «Юдифи» и «Рогнеды». Репин очень хвалил своего ученика.
— Это мне Мордух устроил уроки, — говорил он. — Хороший мальчик. И будет художником. Вот, полюбуйся.
Рисунки маленького Серова были по — настоящему талантливы.
Мальчика звали Валентином, но Репин почему — то называл его Антоном.
— У него много имен, — сказал Репин. — Мать называет его Тоней или Тошей.
Поленов познакомился и с матерью маленького художника, Валентиной Семеновной, невысокой, с крупными чертами лица. Она, как и покойный ее супруг, занималась музыкой и сочиняла оперу «Уриэль Акоста». Но музыка ее ни Репину, ни Поленову не нравилась. А вот то, что она привезла ноты «Каменного гостя» Даргомыжского, «Псковитянки» Римского — Корсакова и даже «Бориса Годунова» Мусоргского (оперу автор не успел закончить, но она успела тем не менее попасть в разряд крамольных), — это было благом. Русские художники в Париже получили возможность узнать те (ставшие теперь классическими) произведения русской музыки, с которыми не успели или не смогли познакомиться на родине.
Впрочем, Валентина Семеновна оказалась особой хотя и несколько эксцентричной, но общительной. Она возобновила знакомство с Тургеневым, который при жизни ее мужа бывал у них в доме, а через него попала и в салон Виардо, и в кружок Боголюбова, где был отмечен должным образом талант ее малолетнего сына.
С этого времени Валентин Серов до конца его короткой жизни находился в поле зрения Поленова…
Осенью 1874 года, а возможно и зимой 1874/75 года, когда Поленов работает над картиной «В парке», он одновременно начинает еще одну картину: «Арест гугенотки» — эпизод Религиозных войн во Франции XVI века между протестантами и католиками. Картина изображала арест Жакобин, графини д'Этремон, второй жены адмирала Колиньи.
В конце ноября в Париж приехал наследник, будущий царь Александр III. Оказалось, что Александр Александрович весьма интересуется вопросами живописи, старается покровительствовать художникам (это продолжалось впоследствии, когда он взошел на престол, — к художникам он благоволил). Он обошел все мастерские русских художников, живших в ту пору в Париже, у некоторых приобрел картины. В частности — у Поленова неоконченную еще картину «Арест гугенотки» с тем, разумеется, условием, чтобы картина была все же завершена.
Это очень подбодрило Поленова, он с новым жаром набросился на работу и очень скоро закончил картину. Разумеется, она не была исторической картиной в полном смысле этого слова, никак не трактовала историческое событие, только лишний раз подчеркнула симпатии Поленова к «слабому полу», к женщине, которую может обидеть, унизить, оскорбить всякий, имеющий силу, власть, опирающийся на право, каким бы бесправием ни казалось оно сейчас…
Впрочем, об этом еще будет речь. Пока что обратим внимание на то, что героями (вернее, героинями) картин художника все годы были женщины, даже в конкурсной картине «Воскрешение дочери Иаира», хотя основной герой ее — Христос. Первой картиной будущего большого цикла «Из жизни Христа» стала картина «Кто из вас без греха?». Опять же формально главный герой Христос, но фактически — «женщина, стоящая посреди», как сказано в Евангелии от Иоанна и как произошло в окончательном варианте картины Поленова. Потом — «Право первой ночи», и опять жертвы — женщины. Даже в рисунке «Больная» героиня — девушка, «слабый пол», более подверженный болезням и смерти, вот как полунищая Лиза Богуславская и весьма состоятельная Маруся Оболенская; перед лицом смерти все равны. Наконец, нынешняя картина: «Арест гугенотки».
За время пенсионерства (а его оставалось еще два года) Василий Поленов много начал и ничего толком не окончил. Дело в том, что Мария Алексеевна настаивала, чтобы все было по традиции. Художники, уехавшие за границу, привозили оттуда большие исторические полотна: Брюллов — «Последний день Помпеи», Иванов — «Явление Христа народу», Бруни — «Медный змий». Она писала сыну: «Пиши, благословясь, большую картину. Не разменивай себя на мелочь, а главное, крупная, большая вещь — это будет хорошая школа, чтобы двигаться вперед…»
И он — в который раз — пытается внять совету матери. За оставшиеся два года пенсионерства он задумывает несколько «больших картин»: «Восстание Нидерландов» (или «Заговор Гёзов»), «Пир блудного сына», «Демон и Тамара», «Александрийская школа неоплатоников». Все они остались незавершенными. Тема сама должна «благословить» художника.
Он начинал все с энтузиазмом, Лиля шила ему костюмы определенных эпох. Но и для «Блудного сына», и для «Восстания Нидерландов» он написал только антураж, главным образом архитектуру, к которой был пристрастен. Лица, фигуры — до всего этого дело не дошло.
О намечавшейся картине «Пир блудного сына» Поленов писал Чижову: «Что касается до моей картины, то я теперь нахожусь накануне ее начинания, материалы собраны, главные этюды написаны, холст натянут, остается строго привести в перспективу архитектуру и фигуры…» Кажется, здесь — некоторая ирония над самим собой, ничего решительно за год не сделавшим для «большой картины», а только все пишущим архитектуру, перспективу, эскизы, разве что натянувшим холст на подрамник. Это ведь уже август следующего, 1875 года!..
А пока что, приехавши из Вёля, Поленов неожиданно увлекся техникой офорта. Об этом увлечении он не извещает родителей и сестер. Лишь в 1925 году, через пятьдесят лет, он рассказал об этом одному из первых своих биографов Всеволоду Воинову. Да Репин пишет об этом в письмах Стасову в ноябре 1874 года. Офортом занимались у Боголюбова по вторникам. В письме В. Воинову Поленов пишет: «Тогда думали, что он (офорт. —
Тем дело и окончилось. Офорт действительно недешев, дороже литографии, но когда вспоминаешь офорты Рембрандта или Гойи, то начинаешь жалеть, что эта техника не нашла должного места в творчестве Репина, Поленова и других художников, посещавших кружок Боголюбова. Получилось просто приятное времяпрепровождение: художники рисовали, потом резали доски, а в это время кто-нибудь читал стихи или прозу. Вот Репин пишет Стасову, что в один из таких вторников «один француз читал свои переводы Лермонтова на французский язык».
А между тем тот же В. Воинов, видевший все офорты, сделанные Поленовым в ту зиму, находит их очень талантливыми и считает, что Поленов, не оставь он это занятие, мог бы занять видное место в ряду русских офортистов; он очень тонко почувствовал своеобразие и выразительные средства этого вида графики.
Так закончился 1874 год, еще один год пенсионерства. Встречали Новый, 1875 год у Боголюбова. Был Тургенев, был Алексей Константинович Толстой, лечившийся во Франции. Художники превратили новогодний вечер в банкет в честь Боголюбова. Во — первых, каждый из приходящих оставлял у консьержа этюд, а потом уж консьерж приходил к хозяину, передавал ему подарок, неизменно говоря одну и ту же фразу: «Это для вас, но податель не пожелал назвать своего имени». На этюдах Боголюбов тотчас же ставил заветный знак: «Р. М.», что значило: «Радищевский музей». Кроме того, было устроено — неожиданно для хозяина и таких редких гостей, как Тургенев и Толстой, — несколько сюрпризов. Сначала маскарад: у Дмитриева-Оренбургского оказалось множество национальных костюмов: русские, украинские, мордовские… Потом вошел одетый мужичком Беггров и просит разрешения привести медведя с козой. В медвежью шкуру был наряжен Поленов… Танцевали, пели, плясали — кто что мог. Поленов особо отмечает трех девушек, племянниц художника Ге: «Одна из них учится петь, другая обучается живописи, третья — не знаю чему. Но дело в том, что одна красивее другой, а другая — красивее одной».
Вот так — так. А как же память о Марусе? А никак. Прошло уже полтора года. Портрет Маруси почти написан, да Поленов его все никак не может довести. Уже не любовь, а воспоминание о ней живет в его сердце. Только через год портрет будет окончен и отослан матери Маруси.
Антокольский в Риме продолжает трудиться над памятником. А Поленов в Париже заглядывается на «трех молоденьких хохлушек Ге». Дай ему Бог! Он еще будет увлекаться и любить… Но первая любовь — это такая загадочная штука… Он до конца дней своих все-таки окончательно не забудет о Марусе Оболенской.
Но мы отвлеклись. А между тем окончился маскарад, окончилась и «самодеятельность» (употребляя современное выражение), и началась «живая картина». Сейчас уже и не знают, что это такое: очень уж все это дорого и громоздко, а в результате — эфемерно. А в те времена живыми картинами увлекались очень. Картина, предоставленная на новогоднем вечере у Боголюбова, называлась «Апофеоз искусств». Все, какие ни есть, искусства были размещены в живописном порядке: скульптура (жена Дмитриева-Оренбургского), музыка (Валентина Семеновна Серова), живопись и поэзия (сестры Ге). Ниже располагались представители искусств: Гомер, Микеланджело (Поленов), Рафаэль (жена Репина), Шекспир, Бетховен. Венчал картину вензель Боголюбова, под которым стоял маленький Серов, одетый и загримированный гением (огромные белые крылья и лавровый венок в руках). За сценой кто-то исполнял «Полонез» Шопена.
Хозяин был, разумеется, растроган и со слезами на глазах благодарил устроителей всего этого торжества. «Тургенев сидел в первом ряду, прямо передо мною, — пишет Поленов родителям. — Я смотрел на его лицо — оно все просияло. Вообще Тургенев радовался, как ребенок».
Этот вечер еще более расположил Тургенева к Поленову. И уже очень скоро Поленов стал для Тургенева совсем своим человеком. К началу февраля Поленов окончил «Арест гугенотки» и, что называется, завертелся в вихре светской жизни.
Письмо его матери, написанное в середине февраля, носит характер несколько даже «хлестаковский»: «Последнее время немножко завертелся насчет плясу, ну и выходит неладно для дела, встаешь в одиннадцать, а работа и стоит. Третьего дня был прекрасный вечер у m-me Виардо, bel costume;[6] что за костюмы, какой вкус, какая историческая верность, как характерны народные костюмы и веселье какое, несмотря, что как сельди в бочонке, почти на одном месте толкутся. Впрочем, первый приз, как костюм, взял Харламов…»
Харламов вообще пользовался в салоне Виардо репутацией талантливейшего из русских художников, живших в ту пору в Париже. Так провозгласил мсье Луи Виардо, искусствовед. Вслед за ним и мадам Виардо, и Тургенев провозгласили, что Харламов — едва ли не крупнейший из русских художников вообще. Надо сказать, что это воспринималось русской колонией художников несколько болезненно, и такая реакция была, конечно, оправданна. Харламов ни в какой мере не может сравниться ни с Репиным, ни с Поленовым, ни даже с Савицким или Боголюбовым. Но престиж Харламова у Виардо был незыблем…
«Надо опять за работу приниматься, — продолжает Поленов письмо, — а завтра опять вечер у Бертье, а там у Боголюбова, у m-me Ге, потом опять у m-me Виардо и т. д.».
Поленов покорен мадам Виардо. Прежде она казалась ему «немного кривлякой», теперь же она — «прекрасная дама» и «просто обворожительна». Ну а о самом Тургеневе и говорить не приходится, до того уж он «хороший господин — серьезный, теплый и такой простой, что даже забываешь, что это Иван Сергеевич Тургенев». «На интимных вечерах он повесничает с молодежью, будто самому только третий десяток пошел».
Нравятся Поленову и отношения внутри этого исторического «треугольника», супругов Виардо и Тургенева, который любит знаменитую певицу, разумеется, «платонической любовью», она «с ним обращается как со старшим братом — холостяком, который на старости лет нашел пристанище у домовитой сестры. А Виардята к нему относятся как к любимому дяде».
И в том же письме (10 (22) февраля 1875 года): «Сегодня у меня был Иван Сергеевич, ему картина понравилась. Он даже сказал, что у меня есть талант, и крупный, и движение вперед большое! Я этому очень рад!»
Еще бы!
И всю вторую половину зимы 1875 года, и следующую зиму Тургенев проявляет необычайное внимание к Поленову, бывает в его мастерской, хвалит его работы. Все это очень, очень приятно. Но ко всему привыкаешь. Привык и Поленов к тому, что Тургенев такой же человек, как и все, он спорит с ним, а «вчера (это уже в апреле 1876 года.
Сейчас, правда, Поленов не пишет матери, почему и Тургенев вслед за Татищевым и самой Марией Алексеевной назвал его «пятнадцатилетним мальчиком», но, надо думать, причина все же была иной. Тургенев это ведь не Татищев, не генерал в отставке, балующийся живописью после подавления Польского восстания. Тургенев был долгие годы связан с Герценом, через Тургенева Герцен получал в свое время многие материалы для «Полярной звезды» и «Колокола». Через Тургенева Герцен знакомился с попадавшими за границу декабристами… Именно в 1863 году, вскоре после подавления восстания в Польше, Тургенев был привлечен к ответственности по делу «о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами».
Поэтому, хотя Тургенев почему-то и называет Поленова «пятнадцатилетним мальчиком» (что даже нравится Поленову), но сообщает ему, что скоро едет в Петербург, и предлагает ехать вместе. Поленов сокрушается: ему еще рано. Но об отъезде в Россию он в то время уже начал хлопотать и действительно вскоре уехал.
В салоне Виардо Поленов и Репин (писавший портрет Тургенева по заказу Третьякова) познакомился с Золя, с Ренаном. Здесь, по-видимому, начинается сознательное постижение принципов и приемов импрессионизма, апологетом которого был Золя.
Ренан Поленова интересовал совсем по-иному. Ренан еще в 1860-е годы опубликовал первую книгу грандиозного труда «История происхождения христианства». Первой этой книгой была знаменитая «Жизнь Иисуса», в которой Ренан очищал евангельские книги от всего сверхъестественного, показывая Христа не Сыном Божьим, а «Сыном Человеческим», как сам назвал себя этот проповедник, Иисус из Назарета. Образ Христа все больше увлекал Поленова. После того как он, мальчиком еще, восхитился картиной Иванова, его не оставляла мысль написать картину о жизненных деяниях Христа. И тема была ему уже ясна: эпизод, описанный в Евангелии от Иоанна о женщине, взятой в «прелюбодеянии». Его интересовала, разумеется, не столько сама история, сколько мудрость этого человека, изрекшего не для одного случая пригодную истину: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень».
Если бы те люди, которые искренне считают себя христианами, последователями учения этого самого назаретянина, всегда помнили это и действовали бы соответственно его проповеди!..
Но такая картина слишком грандиозна, чтобы сейчас думать о ее исполнении. Сейчас ему не терпится домой. И пока суд да дело, он пытается работать, перескакивая от одного исторического сюжета к другому. А вечера приятно проводит то у Татищева, то у m-me Ге и ее очаровательных дочерей, то у Виардо, которая обещает, что у нее «есть такой голосок, венгерка, что просто прелесть, и, кроме того, очень красивая женщина». До конца жизни с удовольствием вспоминал Поленов эти музыкальные вечера, вспоминал, как, стоя в углу, плакал Тургенев, слушая пение Полины Виардо.
И вдруг во все это непринужденное парижское вольное житье Поленова, такое приятное, опять ворвалась российская казенщина.
Через несколько дней после посещения Тургеневым его мастерской Поленов получил письмо от Исеева, конференц-секретаря Императорской Академии художеств, пенсионером которой жил он в Париже. Разумеется, письмо это было выговором.
Как раз за год до получения Поленовым письма, в апреле 1874 года, был утвержден «циркуляр», согласно коему: «1) пенсионеры Академии обязываются все свои работы представлять в Императорскую Академию художеств, от которой будет зависеть поместить таковые на тех или других выставках; 2) пенсионерам Академии безусловно воспрещается участвовать в иностранных выставках». Это был выговор за участие в Салоне. Кроме того, Поленову напоминалось, что к концу второго года пенсионерства он обязан был прислать в Петербург картину, которая явилась бы отчетом о том, что сделано им за эти два года. А картиной-то, которой Поленов ознаменовал этот срок, и была «Право господина».
Инициатива письма исходила от его императорского высочества, который еще за три месяца до того столь благосклонно отнесся к пенсионеру Поленову, что даже купил неоконченную его работу. Видимо, великий князь Александр Александрович не пожелал, чтобы купленная им картина также попала вначале в Салон Елисейских Полей, а уж потом в его коллекцию.
В пространном письме Исееву Поленов оправдывается тем, что картина его «Le droit le Seigment», фотографию с которой он своевременно послал в академию, не была еще в то время доведена до совершенства, а если он и выставил ее в Салоне (кстати сказать, добавим от себя, до того, как мог он узнать о новом «циркуляре»), то исключительно с той целью, чтобы, сравнив ее с другими картинами, яснее увидеть ее достоинства и недостатки, каковая цель и была достигнута, и вот теперь недостатки эти устраняются. «За что же отнимать у нас это могучее средство усовершенствоваться, запретив выставлять наши работы на заграничных выставках?» — недоумевает он. И далее ссылается на предшественников, также в недалеком прошлом пенсионеров академии: Боголюбова, Гуна, В. П. Верещагина; их «не связывало такое суровое правило, которое совершенно парализует цель нашего заграничного пребывания». Ссылается Поленов и на авторитет «его высочества», которому он «имел счастье показать» свои картины, и «удостоился заслужить милостивое одобрение его высочества». Пишет он и о том, что знакомство публики с произведениями молодых пенсионеров дает возможность продавать кое-какие работы, «ибо одного пенсионерского содержания хватает лишь на половину расходов годовой серьезной работы». И далее: «Никто более меня не желает вернуться на родину, чтобы моим трудом доказать на деле мою горячую любовь к ней и искреннее желание быть, насколько могу, ей полезным». Что касается отчета за проведенные за границей годы, то Поленов обещает прислать купленную цесаревичем картину и действительно посылает ее — вместе с «Правом господина».
Он подробно рассказывает обо всем этом в письме отцу и прибавляет: «Что касается до Академии, то пущай они нас вызывают назад, если им заграничное пребывание наше так солоно далось. Мы только этого и желаем».
«Мы» — это, разумеется, Поленов и Репин.
Вместе с тем Поленов все же выставил в Салоне еще одну работу — «Голова еврея» (вторую: этюд работника в лесу жюри Салона отвергло как неоконченную). Репин тоже решил последовать примеру Поленова и выставил в Салоне 1875 года «Парижское кафе». А Поленов послал просьбу владельцу «Ареста гугенотки» великому князю разрешить выставить принадлежащую ему картину на Передвижной выставке. Одновременно было направлено письмо Крамскому с извещением об этом намерении и просьбой позаботиться о принятии картины на выставку.
Этим демаршем, выглядевшим особенно дерзким после выговора академии, Поленов хотел, видимо, окончательно сломать ту стену недоверия, которая возникла из — за его происхождения и его окружения между ним и художниками, группировавшимися вокруг Крамского, и в первую очередь, конечно, самим Крамским.
Несмотря на то что при более коротком знакомстве Поленов произвел на Крамского уже достаточно благоприятное впечатление, идейный глава передвижников все же сомневался в последовательности молодого аристократа.
Да и не он один…
Поленов был искренне огорчен таким недоверием. «Здесь почему-то считают меня аристократом, — пишет он в одном из писем родным. — Это какое-то недоразумение. Я никаких дворянских качеств в себе не чувствую. Постоянно работаю, да и выше всего люблю работу. Всякую работу; конечно, больше всего живопись. Хотя подчас эта работа очень тяжелая или, скорее, трудная. Близкие мне люди все работники».
Видимо, он поделился своим огорчением с Савицким, с которым сблизился в Вёле. А Савицкий, находившийся в переписке с Крамским, написал ему после приезда из Вёля об успехах, сделанных Поленовым. Однако Крамской не очень-то верит в это: «Вы пишете, что Поленов хорош, т. е. сделал успехи… сомнительно, можете себе представить? Сомнительно! Не поверю, пока не увижу». Но Савицкий все же старается убедить Крамского: «Ваша ироническая фраза о Поленове заставила меня призадуматься. Вы можете, добрейший Иван Николаевич, сомневаться насчет его успехов в живописи, — а я, со своей стороны, наблюдаю его близко и долго, все больше и больше убеждаюсь в том, что если он еще не мастер, то по крайней мере стоит на этом пути — достаточно того, что он крепнет в сознании трудности и серьезности задач художника, надо отдать справедливость, подтверждает это делом: работает очень усидчиво и много… Подумайте об этом обстоятельстве и не найдете ли уместным и возможным сделать ему некоторые авансы, хотя упомянув в письмах своих Репину, Боголюбову или ко мне — я вижу ясно, что он на волоске от того, чтобы быть участником передвижных выставок и по примеру всех прочих, а больше всего из присущей ему осторожности и щекотливости не делает прямого шага. Примите это так, как я говорю, и не придавайте особенного значения — тут не протекторство или личная приязнь моя к нему, а просто пишу Вам то, что мне кажется хорошим в интересах нашего дела».
Но дальнейшая переписка между Крамским и Савицким была прервана обстоятельствами трагичными. Через несколько дней после этого письма жена Савицкого покончила жизнь самоубийством: она села перед жаровней с перегоревшими углями и отравилась угарным газом. Причиной самоубийства была ревность, — как уверен Поленов, и, по-видимому, так оно и было, — необоснованная. Во всяком случае, сам Савицкий совершенно подавлен горем. И в эти тяжелые для него дни он убедился, что среди окружения его самым чутким человеком оказался Поленов.
Савицкий уехал в Петербург, а Поленов просил родных в одном из писем принять его как можно лучше, пригласить на обед, что они и сделали, а потом передавали сыну слова Савицкого, что «тут только и узнаешь человека, никогда не забуду того, что сделал для меня в эти дни Василий Дмитриевич».
Несомненно, что у Савицкого были в Петербурге беседы с Крамским (который очень сочувственным, очень умным письмом отозвался на сообщение Савицкого о постигшем его горе). И надо думать, в этих разговорах Поленов поминался не раз. Савицкий, конечно же, в беседах сумел более обстоятельно рассказать Крамскому, что представлял собою Поленов.
Дальнейшие события — письмо Исеева, пересылка картин в Петербург, письмо Поленова (с просьбой прислать его картину на Передвижную выставку) — все это должно было окончательно рассеять сомнения Крамского. Крамской благодарит Поленова, изъявляя радость как свою, так и членов Товарищества по поводу поступка Поленова, «так геройски заявленного, к целям Товарищества перед лицом Академии».
Но на этот раз выставить свою картину на Передвижной выставке Поленову не удалось. Поначалу владелец картины согласился, но с тем, однако, чтобы картина была выставлена только в Петербурге, а в Москву чтобы ее не возили, не говоря уже о провинции… Но через несколько дней и это было отменено: начальство академии сумело убедить великого князя вообще не давать картину передвижникам.
Крамской очень жалел об этом: «…картина хорошая, колоритная, очень жаль, что ее не будет у нас; а Товарищество было радо, когда узнало о Вашем намерении. Во всяком случае, члены Передвижной выставки высказывали надежду, что если не удалось на этот раз, то со временем, быть может, препятствия устранятся, и мы будем иметь удовольствие видеть Вас в числе своих действительных членов».
Сейчас, когда передвижники только еще набирают силу, они рады каждому. Кроме того, у них есть Крамской. Ярошенко называли совестью передвижников, Крамского — их умом. Ярошенко был — вот именно — яростен, не злобен, не глуп, не мелочен, как Мясоедов, В. Маковский, а фанатичен. Эти люди, создающие сейчас такое грандиозное здание — передвижничество, своей прямолинейностью, узостью своих взглядов начнут его рушить, как только не станет Крамского. Ни Репин, ни Поленов, которые приобретут со временем в Товариществе значительный вес, ни Ге, никто из них не будет способен заменить Крамского. С Товариществом будут нелады у Виктора Васнецова, у Серова, у Коровина, у Нестерова, у Малютина, у Елены Дмитриевны Поленовой… у многих. Но это все через десять, пятнадцать, двадцать лет.
А сейчас члены Товарищества и вправду огорчены тем, что картины Поленова не будет на Передвижной. Крамской побывал у Поленовых, рассказал обо всем Дмитрию Васильевичу, который и сам огорчился искренне, как уверен Крамской — не меньше его самого. Тем более что и Чистяков видел картину и хвалит ее: «Живописец Василий Дмитриевич — колорист». Чистяков, правда, хвалит с оговоркой, находит, что картина по сюжету «слишком сладко написана». Это справедливо. Сюжет трагичен. А картина изобразительными средствами трагизм этот не передает. «Но это молодость, — утешает родителей Чистяков, — иначе и нельзя, но картина очень хороша».
Ученица Чистякова Лиля Поленова пишет брату: «Спешу сообщить тебе, Вася, весть о прибытии сюда твоей картины. Семнадцатого марта она прибыла благополучно в Петербург. Открыла ее сама Академия, а не Крамской, как ты желал. Он был у нас вчера вечером, видел картину, в восторге от нее, но далеко не в восторге от тех распоряжений, вследствие которых они ее лишаются. Дело в том, что твоя картина на Передвижной выставке стоять не будет, а будет выставлена после в Академии, когда будет (говорят, в апреле) академическая выставка».
Дмитрий Васильевич, после посещения его Крамским, написал письмо Исееву с вопросом, когда он и его семья могут увидеть картины, присланные их сыном. Тут уж Исеев оказался боек и скор — настоящий петербургский чиновник. Ответ Дмитрий Васильевич получил через два часа. Как только картина, находящаяся сейчас во дворце президента академии великого князя Владимира Александровича, будет возвращена в академию — будет это 25 марта, — семья Поленовых может беспрепятственно осмотреть всё, присланное их сыном. 26 марта родители с Лилей и еще одной родственницей отправились в академию. Картины не были еще установлены как следует, их откуда — то доставали. Дмитрий Васильевич был раздражен, рассержен. Ему обещали, что картины в ближайшем будущем развесят как должно. 3 апреля родители с Лилей опять поехали в академию. Картины уже стояли на мольбертах. Стояли и картины, написанные в Париже, и «Воскрешение дочери Иаира», которую кто-то копировал даже.
Впрочем, Дмитрия Васильевича предупредили, что сыну его готовится выговор за желание выставиться на Передвижной. Сын реагировал на предупреждение о выговоре — изъявлением радости: «Особенно мне понравился нагоняй, который мне собираются сделать. Это откровенно и по-приятельски. Такие прямые отношения люблю, знаешь, с кем имеешь дело и как вести атаку. Я понимаю, как они должны меня недолюбливать за последнюю мою выходку насчет Передвижной выставки, и в отношении ко мне они правы, ибо я их хитро подвел, из-за меня они сделали бестактность в политике, принуждены были высказать свое недоброжелательство к ней. Одно жаль, что принцип, за который стоит наш шеф,[7] неверен. Он находится под сильным влиянием чиновника,[8] который, может быть, в администрации и хозяйстве очень дельный и полезный человек, но слишком узко и старо смотрит на ход жизни, мало он дальновиден, точно как будто такими мерами, как всякого рода стеснения и запреты, можно до чего-нибудь истинно хорошего дойти. Временно тормозить можно, пожалуй, и задавить можно, но развить, дать ход, жизнь кому-нибудь нельзя, опыт доказал сие не раз…
Получил от Крамского очень милое письмо, где он описывает и жалеет о неудаче. Ну, да я свое дело сделал. Со временем, когда буду свободен, присоединюсь к ним — их учреждение хорошее».
И год спустя в письме к матери: «…при первой возможности примкну к Передвижной, составу и принципам которой я вполне сочувствую».
Между Поленовым и Крамским завязалась оживленная переписка. Поленов, как всегда, предельно откровенен, признается, что «можно идти напролом, ну да на это, чувствую, сил не хватает; что делать — слаб, сам в том сознаюсь».
Крамской и не претендует на то, чтобы Поленов так откровенно бросил перчатку академии, больше того, он даже и такого геройства от Поленова не ждал, какое тот совершил: «Говоря по совести, я был удивлен, уважаемый Василий Дмитриевич, Вашим решением поставить Вашу картину на Передвижную выставку и в то же время обрадован. Мне всегда казалось, что дело наше заслуживает сочувствия и поддержки (говорю именно настоящее слово — поддержки) от так называемого молодого поколения, и Ваша решимость в данном случае служит ручательством за будущее, в этом я теперь не сомневаюсь, но что же делать, я понимаю, что Вам иначе и поступать не следует, как Вы намерены. Было бы, по — моему, странно идти против, да еще одному…»
И вообще между Поленовым и Крамским в этот период устанавливается почти полное единомыслие. Во всяком случае, оба считают, что искусство не может и не должно стоять на месте. «Уж такая судьба русского общества, что то, что было вчера еще впереди, завтра, в буквальном смысле завтра, будет невозможно… Четыре года тому назад Перов был впереди всех, еще только четыре года, а после Репина „Бурлаков“ он невозможен».
И отвечая на восторги Поленова по поводу картин Фортуни, интерес к которому возник в связи с незадолго до того последовавшей смертью художника, Крамской пишет: «…я чуточку догадываюсь, что такое Фортуни! Вот Вам! Что ж делать, вперед так вперед, коли постоять нельзя; и черт их возьми, этих французов, испанцев и прочих; ведь заведутся же на свете такие беспокойные люди, что не дадут русскому человеку постоять и отдохнуть немножко, особенно после щей с кашей, кулебяк и прочей благодати».
И все-таки… все-таки Крамской предубежден в отношении Поленова. Хотя и Репин поступает также, как и Поленов, и Крамской ему пишет, что боится, как бы ему не повредило участие сейчас в Передвижных выставках, но в Репина он верит больше, хотя, как покажет будущее, Репин начнет выставляться на Передвижной всего на месяц-два раньше Поленова. Но у Поленова просто к тому времени, когда Репин дебютировал на Передвижной, еще не было ничего достойного. Первые же исполненные им после пенсионерства картины Поленов выставит именно на Передвижной.
Что ж, хотя и не получилось пока с передвижниками, зато получилось другое, очень, очень приятное: в апреле Поленов получил письмо Павла Михайловича Третьякова о том, что тот покупает за тысячу рублей «Право господина». Третьяков обычно торговался с художниками, особенно с начинающими, а тут дал сразу же столько, сколько было назначено. Да и то: ведь во Францию не поедешь выторговывать несколько сотен рублей — себе дороже.
Поленов извещает об этом родных, но они как-то не очень рады. Причина — «неприличное» содержание картины, которую Дмитрий Васильевич упорно называет по-своему: «Выпуск девиц из пансиона». В письме Чижову он пишет: «…думаю изменить ее название и наименовать: „Sorie d'ane Pension“.[9] Не правда ли, что это название идет к картине, а главное стушевывается нескромность. Я и Васе буду это советовать. Это для публики, jus[10] все-таки остается для немногих».
Вася все же не послушал папа. Он и хотел, чтобы был предан позору «jus», и даже сам писал о нескромном содержании, что он и хочет подчеркнуть нескромность. В одном из давних писем Чижову, еще до того, как Чижов увидел картину, он так описывал ее содержание: «Вышел он, хорошо пообедав, на дворик своего ястребиного гнезда посмотреть на девушек, приведенных к нему для ночлежного развлечения. Подбоченился и слегка усмехается, увидев, что девочки не совсем дурные и что стоит его баронской чести приложить некий труд для их просвещения. Крайняя девушка понимает, в чем дело, покраснела и потупилась; средняя стоит как бы выше своего положения и смотрит на него с легким презрением, а дальняя, еще глупенькая, не понимает. Мужья, матери, отцы, приведшие их, остались вдали, у ворот, их не пустили солдаты, а наверху на лестнице молодой приятель и капеллан замка пересмеиваются: не всех же трех он себе возьмет и на нашу долю будет».
Вот как развернуто представил себе Поленов содержание картины, которую отец упорно именует «Выпуском девиц из пансиона». Поленов — отец и прав, и не прав. Прав потому, что Поленову — сыну не удалось вместить в свою картину достаточно содержания и психологии. И капеллан с другом барона едва видны на ступеньках, и кто же знает: имеет ли право барон делиться «излишком» с кем-то — для этого нужно быть юристом… И психологически выражения лиц девушек становятся ясны лишь после пояснения автора. Только барон изображен поистине выразительно.
И все же картина принята в Салон. Все же она куплена Третьяковым. Все же она хороша, ибо справедливо сказал Чистяков: «Живописец Василий Дмитриевич — колорист».
Название картины осталось: «Право господина». И не «Право первой ночи», и не «Выпуск девиц из пансиона», а «Право господина». И не очень неприлично, и соответствует замыслу автора.
В июне Поленов жил некоторое время в Виши, где, как и в прошлом году, лечился Чижов, писал его портрет. Чижов хотел, чтобы портрет его написали и Поленов, и Репин.
Действительно ли хотелось Федору Васильевичу увековечить свой образ или это была своеобразная форма материального вспомоществования — неизвестно.
Репин так и не собрался при жизни Чижова написать его портрет, хотя относился к Федору Васильевичу с почтением. А Поленов с радостью поехал в Виши. Приятно было общаться с этим умным, искренне его любившим стариком, приятно было писать его портрет. И портрет вышел недурен. Поленов считал, что это едва ли не лучшая его работа. Того же мнения был и сам Чижов. Приехав в Россию, он рассказывал, что Вася Поленов написал замечательный портрет его, о чем Поленову немедленно сообщил с нетерпением ждущий его в России Мамонтов. «Очень любопытно будет взглянуть, — писал Савва Иванович. — Чижов доволен, а на этого ворчуна угодить нелегко». Репин тоже заявил совершенно определенно, что портрет Чижова — лучшая вещь, написанная Поленовым до сей поры.
Но, пожалуй, величайшим торжеством была похвала Тургенева. Придя как-то в мастерскую Поленова — сейчас уже эти посещения стали регулярными, — Тургенев сразу же обратил внимание на портрет:
— Да это Федор Васильевич. Очень похож! Только я его знал темным.
— То есть как «темным»? — не понял Поленов.
— Не седым еще. Тридцать пять лет назад. Как он побелел, однако… Да и я тоже…
Тургенев вспомнил молодость, старину. Уходя, похвалил еще раз Поленова за то, что не ленится, работает, идет вперед.
А в августе приехал в Париж Стасов. Поленов не был еще лично знаком со знаменитым критиком, однако слышал о нем много, сначала от Антокольского, потом от Репина.
Разумеется, из всех русских парижан Стасова больше всего интересовал Репин. Еще со времени окончания «Бурлаков» Стасов понял, что Репин — выдающийся талант и от него можно ждать многого именно в том направлении русской живописи, за которое он ратовал, то есть живописи жанровой. И не просто жанровой, но с обличительным содержанием. «Бурлаки» были величайшей картиной этого столь любезного сердцу Стасова направления. Он был вполне солидарен с мнением Крамского, что после «Бурлаков» и Перов, и Владимир Маковский, и Прянишников, и все другие художники — жанристы обличительного толка отошли на второй план.
Что касается живописи пейзажной — Васильева, Саврасова, — то этот вид искусства Стасов считал просто пустой забавой. Характер Стасова был резкий, жесткий. Разубедить его было невозможно. Мнения его к тому времени сформировались полностью и успели уже окостенеть.
Письма Репина из-за границы радости Стасову не приносили. Репин все больше хвалил Францию и приобщался к французскому искусству, хотя и тосковал по России и хотел как можно скорее вернуться на родину: «Сколько у нас мечтаний, предположений о будущей деятельности в России! Иногда и ночью долго не можем заснуть. Так один за другим несутся планы и прожигают насквозь. Сейчас бы полетел туда, окружил бы себя новой полной жизнью и начал бы действовать со всем пылом детства.
Поленов оказывается чудесным товарищем, все это он разделяет с восторгом (я рад, чем нас больше, тем лучше)!»
По этому письму, писанному еще в конце 1874 года, Стасов мог бы составить о Поленове самое лестное мнение. Но картины его, выставленные в Петербурге весной 1875 года, не понравились Стасову. Не понравилось ему и то, что он увидел в Париже и у Поленова, и даже у Репина. И у одного, и у другого понравились этюды белой лошадки. Стасову не понравилось ни «Кафе» Репина, ни та картина, которую Репин писал теперь: «Садко». Картина, по замыслу автора, должна была символизировать его, Репина, тоску по родине. Садко, богатый гость, на дне морском, и перед его взором проходят всевозможные красавицы, одна другой прелестнее: индийская, испанская, французская… Но Садко смотрит на стоящую вдалеке русскую девушку: она одна мила ему.
Мудрено понять мысль этой аллегории без объяснения.
Так что Стасов был, пожалуй, прав, когда заявил, что ему не нравится почти все написанное за границей и Репиным, и Поленовым…
Но спор между Стасовым и Поленовым произошел совсем не потому. Ортодоксальность Стасова в его взглядах на искусство была и впрямь попросту нетерпимостью ко всему, что не соответствовало даже в истории искусств тому, чего требовал он от искусства сейчас.
С той меркой, с какой он подходил к современному русскому искусству, он подходит и к Рафаэлю. Поленов, что называется, «схлестнулся» со Стасовым. Однажды в мастерской Репина между ними произошел спор, который Поленов описывает в письме отцу: «Что за взбалмошная личность, что за ералаш в голове. Точно он юноша, который до сих пор голубей гонял. И вот попались ему какие-то журнальные статейки, и начал он ляпать вкривь и вкось гениальности, которые создает его великий ум. Все это сыро, необдуманно и непоследовательно, совсем бездоказательно и основано только на том, что, мол, ни капельки мне не нравится, и что Рафаэль дрянь, а „Фауст“ — Гуно мерзятина. Словом, подобные остроумные определения так у него и выскакивают и часто неожиданно для самого себя. Разумеется, я не могу, я грызусь с ним чуть ли не на смерть. И что мне всего удивительнее, что он в диалектике крайне слаб. Казалось бы, кому, как не ему, в этом деле иметь навык, а он, оказывается, совсем другое, и сбить его в споре ничего не стоит, до такой степени его экспромты противоречат один другому. Словом, это умственный Помпадур».
И все-таки при всем том Поленов понял (может быть, не сам, может быть, в беседах с Репиным), что Стасов — крупнейший художественный критик. С ним можно не соглашаться, он горяч, в словесном споре действительно делает ляпсусы страшные, но все же статьи его серьезнее, чем, скажем, у того же Адриана Викторовича Прахова…
Чувство к Стасову у Поленова было двойственным… С одной стороны — Репин, примирявший со Стасовым, с другой — Тургенев, заявляющий, что в тот день, когда он в чем — нибудь согласится со Стасовым, его нужно будет отправить в сумасшедший дом. Тургенев даже написал стихотворение в прозе — «С кем спорить». Стихотворение это кончалось словами: «…Не спорь только с Владимиром Стасовым».
Естественно, что настроения Тургенева больше были по душе Поленову. И ему еще придется спорить со Стасовым. И результаты этого спора будут таковы, что ему, пожалуй, придется вспомнить слова Тургенева.
В конце сентября в Париж приехали Лиля и Вера и пробыли до конца октября. Вера не спорила теперь с Васей, поддакивала всему, что он ни говорил. И он серьезно поверил в ее, как он называл, «обращение». И эта вера в «обращение» вызвала невзначай еще один конфликт, опять, конечно, эпистолярный, ибо произошел он уже после того, как сестры вернулись в Россию.
Случилось так, что в конце 1875 года Поленов попал на лекцию в рабочем клубе. Читал лекцию, по-видимому, последователь Лассаля, так как в лекции часто упоминалось имя этого философа, умершего более десяти лет назад. Рабочие слушали внимательно, сосредоточенно. В тонкостях философии Лассаля Поленов не разобрался — да и мудрено было бы с налёту, — но Лассаль, который и сам читал некогда лекции в таких клубах, представился ему для своего времени тем, чем были для XVIII века его прадед и Радищев. И вот у него уже созревает новый замысел: написать картину «Заседание Интернационала», или «Публичная лекция Лассаля». Он захвачен и самой идеей коммунизма. И настолько поверил в «обращение» Веры, что делится своими мыслями не только с Лилей, но и с ней.
Больше того, он поручает Лиле прочесть его письмо родителям. Лиля этого не делает, и, конечно, она права: «Ты поручил мне прочесть письмо… родителям, а твое письмо, между тем, неудобочитаемо, так что мне было весьма неловко. Папа пристал, чтобы я непременно им дала твое письмо, прибавляя, что ты им ничего не пишешь, а там есть вещи компрометантные, во-первых, для тебя, ну, да это бы ничего. Ты пострадал бы по своей вине, но, главное, компрометантные для Веры, которая тщательно скрывает от родителей свое обращение».
Что же это за «компрометантные» вещи? Вот несколько отрывков из письма, которое не захотела Лиля читать родителям: «Да, брат, коммуна есть самое рациональное рабочее учреждение, и, пока до нее не дойдут, ничего общего и стройного не будет, поэтому
Очень нетрудно представить себе, какая была бы реакция родителей на подобный поступок сына…
Ну а что «компрометантного» для Веры? «С Верой я переписываюсь, и мне ее письма нравятся…»
Значит — единодушие?!
Как бы не так! Письма-то пока что были в основном о Вериной книжке — хрестоматии, для которой Вася «изобретает много всякой штуки». Но вот Вера получает письмо от брата после того, как он побывал на лекции, и приходит в ужас. Письмо она уничтожает и лишь только по отрывкам, переписанным ею в письмо Лиле, можно судить, что это было за письмо: «Работа эта (то есть социальная пропаганда. —
Приведя в своем письме Лиле эту филиппику брата, Вера продолжает уже от себя: «Теперь я пишу: правда, что было от чего смутиться?»
Правда, правда, Вера Дмитриевна! Даже не «смутиться», а скорее «испугаться». Просто Вера Дмитриевна в Киеве, Василий Дмитриевич в Париже не знают толком о том, что делается в России, не в Академии художеств, не там, где «милостивые государи». Глубже.
Уже движение народовольцев разворачивается, уже полиция следит, ловит и сажает… Уже существует организация «Земля и воля», не пройдет и года, в декабре 1876-го (а письмо Поленова писано в январе 1876 года) перед Казанским собором в Петербурге произойдет первая в России открытая политическая демонстрация. А вслед за этим начнется преследование царя и окончится взрывом на Екатерининском канале 1 марта 1881 года — всего через шесть лет после такого странного пророчества Поленова: «Постойте, милостивые государи, ваши дни сочтены, вы не будете забыты при расчете…»
Да, Вере Дмитриевне было отчего «смутиться». Впрочем, знай она все, что творится за стенами киевского Института благородных девиц, которому она готовит свою хрестоматию, да ей не смутиться, а ужаснуться бы можно!
«Только, Лилька, ради Бога, ты не подавай Васе вида, что мы с тобой в комплоте, — пишет она, — а то мы потеряем престиж. Сколько же этот человек у меня время берет, en permanence[11] пишу ему письма. Сегодняшняя тема была об осторожности. Пишу, что осторожность и трусость две вещи совсем не смешные, что, начав дело, надо идти прямо и, пожалуй, иногда осторожность побоку, а пока еще не начал никакого дела, бесчестно себе раскладывать поперек дороги палки и т. п….»
Все это верно, очень верно, только почему же бесчестно, скорее уж неразумно, безрассудно.
И в другом письме — ей же: «Лилька… повторяю тебе и прошу опять, не откладывая, написать Васе. Он гораздо больше тебя послушает, — помнишь, он говорил в Париже, что ты одна разделяешь вполне его мысли… Теперь, впрочем, он считает, что и я способна ко всему хорошему, и поэтому мне легче ему писать, но я знаю, что от тебя он примет эти вещи лучше и что твои слова на него больше подействуют… Я тебе столько раз говорила в Париже, что надо быть осторожнее с Васей и его удерживать, а ты его поддерживала, когда он говорил вещи совсем не сообразные… Мы должны стараться остановить его, а лучше бы всего вызвать в Россию. Последнее же может только папа. Поэтому-то, если ты найдешь нужным, сейчас же напиши мне, и я напишу папа, конечно, в форме как можно мягкой, о Васе… Мне кажется, что на него начинает вредно действовать это долгое отдаление от России. Ты знаешь, как за границей часто на нее сплетничают, как искажают и преувеличивают факты…»
Но ведь тот факт, о котором писал Поленов: относительно женщин, учащихся академии, не искажен и не преувеличен.
«Лучше же сказать папа все, как есть, нежели дожидаться чего-нибудь неприятного… Я уверена, что он до сих пор проникнут мыслью беречь и менажировать папа и мама, но между этой серьезной заботой и своими необдуманными письмами он не видит ничего общего. Я на всякий случай пишу тебе еще другое письмо, чтобы ты могла этого не показывать».
Вот это конспиратор! Нет, Васе до нее в этом смысле далеко. Выбери себе Вера поприще подпольной работы, она, право же, преуспела бы, но она выбирает другое поприще: всё ее письмо Лиле — это обстоятельное и хладнокровное обоснование целесообразности фискальства. И это в родном-то семействе!
Но Лиля уже раньше нее написала Васе все, что думала, написала кратко и умно, до всех этих заговорщицких подталкиваний.
Что же пишет брату Вера? Как она, «чтобы не потерять престиж», отвечает ему?
После всяких предисловий, после объяснений в любви, ввиду чего она считает себя обязанной быть особенно строгой к брату, Вера наконец приходит к тому, что объясняет суть своих возражений. Объяснение это скорее принципиальное: Вера обвиняет брата в недостаточной любви к России. «Твои теории грешат тем, что не имеют под собой никакой реальной почвы и поэтому страшно произвольны. А дай только ход произволу, и Бог знает до чего можешь дойти. Особенно же он незаконен в таком серьезном деле, как отношения твои к России. Так-таки повально хватать всех по головам, точно уж во Франции или Германии нет совсем ни подлых людей, ни ошибок, ни грубости? Это заграничное направление, и я его считаю страшно вредным, потому что оно, раздражая и возмущая часто преувеличенными и искаженными фактами, охлаждает к делу в ней, отбивает силы».
Как же все — таки слепа Вера в своем заблуждении! Разве в письме Поленова есть хоть одно слово хулы России? Его не устраивают российские установления, рвение в выполнении этих установлений, его возмущают российские порядки. В Россию-то он как раз верит, но совсем не в ту Россию, какою представляет ее себе Вера. Она пишет: «Работая теперь с русскими детьми, изучая русский дух, я все больше и больше привязываюсь к России и чувствую к ней что-то кровное, больное, как выражалась няня…»
Вот няня «выражалась» хорошо, по-народному точно, и уж она бы нашла, каким русским словом заменить французско-нижегородское «менажировать».
«Мне обидно, что тебя, такого русского душой, возбуждают против России, и что ты подобными письмами парализуешь себя и других».
Опять чепуха. Никто не «возбуждает» Поленова в Париже против России, и какое это имеет отношение к письмам, которыми он будто бы «парализует» себя и других. Да нет, напротив, он рвется в Россию! Ее многочисленные и многоречивые призывы в письмах вернуться в Россию, право же, ни к чему. Это все равно что ломиться в открытую дверь.
Ну а как же с мотивом осторожности? Вот здесь Вера Дмитриевна проявляет подлинные дипломатические способности. Кратко, но выразительно: «Теперь еще одно слово, но не знаю, сойдемся ли мы во взглядах: я еще нахожу, что во имя родителей ты должен быть обдуманнее и осторожнее. Ну, уж это дело твоей совести, на это я не могу напирать».
И хотя это — об осторожности — написано очень умно и тактически хитро, но насколько тоньше, а главное, искреннее, хотя и многословнее звучит тот же мотив в письме Лили: «Ты спрашиваешь, что я скажу насчет новозадуманной картины: собрание рабочих. По этому поводу сказать можно много; между прочим, твои же слова, сказанные мне: „Мы уже больше не дети, прошла пора выходок, которые по необдуманности и несерьезности могут сделать больше вреда, чем пользы“. Мне кажется, эти слова твои ко мне… ты теперь должен отнести к себе. Твои убеждения (конечно, я подразумеваю убеждения, касающиеся известной области), каковы бы они ни были, должны быть, по крайней мере, до поры до времени вполне неизвестны публике. Какое значение может иметь такая картина? Из нее узнают, что была публичная лекция Лассаля, да это и без того известно…»
Вот здесь, надо признаться, Лиля оплошала. А разве люди не знают, что произошла когда — то гибель Помпеи? И сюжет картины Иванова ни в чем не отступает от текста Евангелия. Ведь важно,
Ну что ж, Вася, кажется, взят в оборот обеими сестрами. Он еще пытается огрызаться, но это уже последнее письмо в «конспиративном» треугольнике Париж — Киев — Петербург: «Ты, Вера, точно с Лилькой сговорилась (еще бы не сговорилась! —
Вот этим письмом и кончается последний «эпистолярный конфликт» в семье Поленовых. Из письма этого мы узнаем, что, живя в Париже, Василий Поленов достаточно хорошо осведомлен об общественной и даже революционной ситуации в России и таким людям, как Перовская, сочувствует, однако же на этом, повторяем, все кончается. Да и в самом деле: чего ради писать сестрам? Зачем?
Вот картина, это другое дело. Но он не кончает и картину: эту так же, как и остальные. Осталось лишь несколько этюдов слушателей-рабочих, написанных при искусственном освещении. (Лекция, видимо, проходила вечером в закрытом помещении.) Лица рабочих суровы и сосредоточенны. Но и эта картина, повторяю, — как и те, что были начаты прежде, не была написана. Почему? Потому ли, что Поленов охладел к своему замыслу, или потому, что внял совету сестер?..
А что же он написал за то время, что прошло после того, как прежние картины были отосланы в Петербург? О портрете Чижова мы уже знаем. Портрет этот был выставлен в Салоне весной 1876 года. В ноябре или декабре 1875 года Поленов окончил портрет Маруси Оболенской, отослал его ее матери в Ментону и получил от нее очень теплое письмо. Одновременно с Репиным писал «Негритянку» и «Девушку в украинском костюме» (для этой вещи позировала одетая в соответствующий костюм Зоя Ге), написал картину «Забава Цезаря» — эпизод травли первых римлян-христиан; «Стрекоза», или «Лето красное все пела» — девушка с мандолиной у закрытой двери… К этой последней картине — совсем неудачной — был сделан этюд — весьма удачный — с натурщицы Елены Ормье.
В общем-то Поленову изрядно надоело в Париже. И он, и Репин начинают хлопотать перед академией, чтобы им разрешили вернуться в Россию. Видимо, в связи с предстоящим отъездом их в Россию была сделана групповая фотография (совсем как перед отъездом из Петербурга). В центре — Репин. Чувствуется, что он пользовался особым авторитетом даже у Боголюбова. Репин — центр компании, как бы вершина пирамиды (хотя ростом он и не вышел, а потому пирамида получается, так сказать, «усеченной»). На Репина смотрит Боголюбов — с одной стороны, одна из сестер Ге — с другой, у его ног сидит жена Дмитриева-Оренбургского.
Поленов — некоторым образом — подножие пирамиды. Он сидит с краю (рядом с Зоей Ге), он все так же хмур, как на петербургском снимке, хотя уже не так отделен от всех, а вместо непомерно широких усов — усы, вполне соответствующие лицу, красивая бородка и вообще весь он, несмотря на хмурость, вид имеет импозантный. Он даже красив. Именно таким, с такими усами и такой бородой, но только не таким сумрачным, напишет его Репин на портрете 1877 года. Репин даже называл его «рыцарем красоты». Поэтому вызывает удивление высказывание дочери П. М. Третьякова Веры Павловны Зилоти, которая пишет о Поленове, что он «был лицом невероятно дурен, но обладал громадным шармом». Насчет «шарма» все верно, а вот что касается лица, то мемуаристке изменяет память (в чем, впрочем, она сама признается). Но передает она очень колоритно характеризующие Поленова слова тети «Зины Якунчиковой» (двоюродной сестры Е. Г. Мамонтовой и двоюродной же сестры будущей жены Поленова Наташи Якунчиковой): «А вы все замечайте и учитесь, как Василий Дмитриевич себя держит, как просто и как внимательно ко всему окружающему. Обратите внимание, как чистит он апельсин, как все, что он делает, — эстетично». «Тетя Зина, — замечает В. П. Зилоти, — сама была эстетом».
Да что говорить, воспитание — дело немалое. Но немало значит и то, насколько восприимчив «воспитываемый», ведь одно и то же воспитание может привить одному шарм и эстетство, другому — спесь и высокомерие. Поленов же был от природы доброжелателен к людям. Мы знаем, что именно он проявил больше всех сердечного участия к Савицкому, когда у того произошло несчастье. Ему еще не раз придется выказывать свою не знавшую границ доброжелательность к людям именно тогда, когда им худо. Вот сейчас приехал в Париж Виктор Васнецов. Он разругался в Петербурге с академическим начальством, махнул рукой на конкурс и медали и прикатил в Париж. Поленов предложил ему поселиться в его мастерской. Васнецов так и поступил. Жить с одиноким Поленовым было не в пример удобнее, чем с семейным уже Репиным, который тоже приглашал Васнецова.
Весной 1876 года Васнецов, этот явный жанрист в духе Перова и Маковского, автор «Книжной лавочки» и совершенно замечательной вещи «С квартиры на квартиру», неожиданно в Париже пишет эскиз на тему русских былин: «Богатыри». Эскиз восхитил Поленова. Растроганный Васнецов просит Василия Дмитриевича взять его на память.
Но Поленов отказывается. Он предвидит, что этим эскизом открывается какая-то новая страница в творчестве Васнецова. И он договаривается с ним: эскиз этот принадлежит ему, Поленову, но остается у Васнецова до тех пор, пока не будет реализован в картину. Картина «Богатыри» прошла через всю активную творческую жизнь Васнецова. Он действительно вступил на новую стезю в своем искусстве, написал множество картин на мотивы былин и сказок, а картину «Богатыри» окончил только в 1898 году. Тогда и получил Василий Дмитриевич первый эскиз прославленной картины, эскиз, написанный на его глазах.
Эскиз «Богатыри» до сих пор висит на том месте, куда повесил его Василий Дмитриевич, в доме на Оке, висит под другой картиной Виктора Васнецова «Ворон».
Однажды, было это четырьмя годами позднее, в 1880 году, в Москве Савва Иванович Мамонтов в кругу друзей-художников прочитал стихотворение Лермонтова «Желание»:
Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?..
— Вот, господа, отличная тема для картины, — сказал Мамонтов.
Картина, конечно, больше соответствовала художественным пристрастиям Поленова. В стихах Лермонтова, потомка шотландских рыцарей, воспевается все, что так полюбилось Поленову в Баварии: замки, мечи, щиты, арфы…
Но Поленов уехал в ту пору путешествовать на Ближний Восток, а когда приехал, увидел на выставке картину Васнецова «Ворон». Он так пленился ею, что купил ее. Узнав о том, что картина куплена Поленовым, Васнецов сказал: «Высшая похвала художнику, когда его картину покупает собрат».
В начале июня в Париж приехал Крамской. По-видимому, в приезде этом не последнюю роль сыграли его переписка с Репиным (главным образом), а также с Поленовым и Савицким, их уверения, что в Париже при всех соблазнах, которыми полон этот город, работается удивительно плодотворно. Он решил в Париже, подальше от петербургской суеты, написать давно задуманную картину «Хохот», или «Радуйся, царь Иудейский». Картина должна была показать один из самых трагических моментов жизни Христа — осмеяние его толпой. Крамскому казалось, что он настолько детально обдумал все, что остается только натянуть холст, сделать рисунок и написать. Довольно просто и очень скоро. Он настолько уверен был в этом, что когда посетил мастерские Репина, Поленова и Савицкого, то вынужден был признаться, что они очень разочаровали его. В письме Третьякову он пишет, что Репин «захирел, завял как-то; ему необходимо воротиться, и тогда мы увидим прежнего Репина», что «Поленов… находится еще в потемках и недостаточно проснулся, при том, так как он плохо учился, а может быть, и не мог лучше, то все сделанное им — почти слабо; в колорите же он несколько успел. Савицкий не двинулся ни на волосок».
Крамского едва ли можно винить за подобные отзывы: ведь Поленов и впрямь ничего достойного внимания не сделал за годы пенсионерства. Репин — тоже. Несколько удачных этюдов — и только. Обидно предубеждение Крамского к Поленову как к личности. И все это из-за «аристократизма» Поленова, качества «врожденного», которое, несмотря на радикализм его мировоззрения, к тому времени достаточно определившийся, — казалось разночинцу Крамскому серьезной помехой для дальнейшей деятельности художника. А между тем именно как личность Поленов претерпел за прошедшие четыре года необратимые изменения…
В июле Поленов и Репин уезжают в Россию. Только Репин все же хочет после Петербурга поехать не в гости к Поленовым в Имоченцы (в Имоченцы как-нибудь в другой раз), а в Чугуев, к своей матери.
Но как бы там ни было, а Поленов счастлив, счастлив тем, что обнимет родных, увидит Павла Петровича Чистякова, вдохнет живительный воздух милых своих обонежских лесов.
Конечно, родина — это не только Имоченцы, не только близкие ему люди, это еще и Академия художеств… Это позднее, через много лет, он будет благоговеть перед памятью об академии… А сейчас она вызывает в нем противоречивые чувства. Да, это, конечно, «храм искусства», и он многому научился в этом «храме», но в то же время академия — это конференц-секретарь Исеев с его выговорами и его лицемерием, это президент великий князь Владимир Александрович, который потому только и стал президентом, что родился великим князем; Россия — это и Петербург, чиновный, чинный, холодный.
Но он, он сам уже не тот, не тот 28-летний Вася Поленов, уезжавший четыре года назад с университетским товарищем в его баварское поместье. И та же Бавария, и даже Италия, которая, казалось, его разочаровала, а главное, Франция, прекрасная Франция; годы независимости от каждодневного «глаза», общение с Антокольским и Мамонтовым, любовь к Марусе и ее смерть, сочувствие русским нигилисткам, помощь им, совместное житье с Репиным, работа, иногда бок о бок со своим более талантливым сверстником, кружок Боголюбова и сам Боголюбов (возможно также чтение «Колокола» и «Полярной звезды»), Лувр, Люксембургская галерея, Лондон и Британский музей, Салон Елисейских Полей, выставки отверженных, статьи Золя, беседы с Тургеневым, салон Виардо, лекция в рабочем клубе, страстные споры об искусстве, об общественном устройстве, а главное — самостоятельность, полная самостоятельность — все это сделало его совсем другим человеком.
Правда, он не написал за границей ничего по-настоящему значительного, но считает, что все же и в этом смысле он извлек пользу из пребывания там, как пишет он родным в последнем письме из Парижа, что заграница принесла пользу «главное в том, что до сих пор я делал, все это надо бросить и начать снова — здорово».
Да, это не письмо четырехлетней давности, где он подробно описывает Баварию с ее пейзажными прелестями. 32–летний Поленов, конечно, для родных все еще Вася и будет только Васей, но вообще-то он обрел наконец самого себя, он стал личностью. Ему, конечно, еще придется «манажировать» (как выражаются его сестры) родителей, но все равно: из — за границы вернулся Василий Дмитриевич Поленов, не сложившийся еще художник, но уже определивший себя человек.
Теперь у меня русские сюжеты в голове.
Мой талант всего ближе к пейзажно-бытовому жанру, которым я и займусь.
В первых числах июля 1876 года Поленов покинул Париж. Он знал, что родители в Киеве, и потому не спешил; поехал в Петербург через Бельгию и Голландию, осмотрел местные музеи, которые после Лувра и Лондонской галереи большого впечатления не произвели.
В Петербурге, когда он приехал, были Лиля и Алеша. Но с Алешей интересов общих совсем не оказалось, зато с Лилей он теперь сошелся еще ближе: она была милейшим человеком.
В конце июля прибыли родители. Ну, разумеется, разговоры и разговоры, рассказы и рассказы… Вася показал родителям парижскую газету со статьей о последнем Салоне, в которой отмечались достоинства портрета Чижова. Родители порадовались. В начале августа Поленов с Лилей уехал отдыхать в Имоченцы. Он был полон энергии и планов: опять стал писать этюды и сделал рисунок для жанровой картины, задуманной еще несколько лет назад. Сюжет картины выдержан в манере самого что ни на есть правоверного передвижничества. Одно название говорит уже об этом: «Семейное горе». Комната деревенской избы, в ней две молодые женщины: одна стоит, прислонившись к печи, другая сидит на лавке с ребенком на руках. Все предельно ясно: ее соблазнил кто-то в городе, она родила и вот приехала в родной дом мыкать горе — семейное горе.
Поленов очень старательно готовился к этой работе. Еще в 1870 году он, как уже было в свое время говорено, сделал два рисунка для нее: «Молодая женщина за прялкой» и «Молодая женщина, сидящая на лавке в избе», тогда же написан этюд маслом — «Топящаяся печь». В 1876 году он пишет еще пять этюдов маслом и начинает саму картину… Но не закончил ее, как не закончил последние парижские картины: охладел. Чистая «жанровость» не была его стихией.
Заметим только: опять сюжет — судьба обездоленной женщины.
Тем же летом он пишет в Имоченцах этюд, очень бесхитростный, такой, как его прежние имоченские этюды: «Горелый лес». Лучшее, что было им в то лето написано, — портрет сказителя былин Никиты Богданова. Вот это действительно замечательная вещь, хотя Поленов, по-видимому, не придавал ей значения. В письме Крамскому он говорит об этом портрете даже несколько уничижительно: «Начал я работать в деревне, сфотографировал мужичка и кое-что другое. Репин одобрил, говорит, что другой человек писал, что парижские вещи сравнительно с этими фотографиями — без натуры писаны».
Что ж, прав Репин.
Никита Богданов — настоящий «мужичок», не «мужик», а именно мужичок, он какой — то «легкий», примиренный с жизнью — вроде тургеневского Калиныча, которого даже пчелы не кусают, — и очень подлинный, так что примененное Поленовым в смысле несколько ироническом слово «фотография» здесь в какой-то мере к месту, ибо свидетельствует именно о подлинности образа. Но в этом — лишь половина правды, то есть портрет Богданова — при всем том — произведение искусства, может быть, лучшее из всего, что создано Поленовым до той поры. Трудно сказать — как всегда это бывает трудно сказать о подлинных произведениях искусства, —
И изображен он тоже очень характерно: на завалинке, но на самом углу избы, там, где скрещиваются бревна, вот в этом самом углу. Но он не опирается на стену. Он, правда, позирует: шапка в руках; но палка, с которой он ходит, — при нем: между ним и руками, держащими шапку. И котомка рядом. Он весь — «на отлете». Так и кажется, что он сейчас скажет: «Ну что, барин, срисовал? Можно итить?» И поднимется — легко так, «облегченно», — забросит на плечо котомку, наденет шапку и пойдет, опираясь на палку (больше для вида — палка-то тоненькая), от погоста к погосту: сказывать былины, петь песни, ночевать в чьих-то избах, есть хлеб, заработанный своим искусством — ой как нужным людям, которые не одним ведь хлебом живы.
Этой бы вещью и дебютировать Поленову на Передвижной, но, видимо, он и впрямь не очень-то ценит ее… Может быть, он не теряет надежды окончить «Семейное горе»?
Ведь вот и Репин то время, которое Поленов провел в Имоченцах, жил на даче у родственников своей жены — Шевцовых — и там написал совершенно прелестную вещицу «На дерновой скамье», которая, пожалуй, интереснее его капитальных парижских полотен, но он, так же как и Поленов своему «Никите Богданову», не придает ей особого значения. Вещь эта даже не привезена в Петербург, он почитает ее чем — то вроде пустячка; она оставлена в подарок Шевцовым. В течение тридцати лет картина эта никому не была известна, пока в 1916 году не попала в Русский музей.
В начале сентября оба — Поленов и Репин — в Петербурге: там в Академии художеств открылась выставка пенсионеров Репина, Поленова, Ковалевского. Ф. В. Чижов, посетивший выставку, подробно описывает в дневнике картины Поленова и верно замечает: «У Васи мысль — второе дело; содержание в красоте, в живописности, в чувстве, всего более в живописности, до сих пор не глубокой, не задевающей чувств зрителя, но нравящейся и большей частью приятной». И далее: «По мне, таланту у Репина больше, но мало сравнительно образованности.
Теперь Вася и Репин и многие из их собратий непременно хотят писать в России, непременно ищут содержания картины в русском быту».
Как видим, оба уже не только «хотят», но и начали. Однако перед обоими стоит сейчас один вопрос: где поселиться — в Петербурге или в Москве?
Когда в 1873 году, после года, проведенного в Риме, Поленов побывал в России, отдыхал в Имоченцах, он на обратном пути за границу — на этот раз в Париж — остановился ненадолго в Москве. Гостил тогда у Мамонтовых, был и в московском их доме на Садовой-Спасской, и в Абрамцеве, а его решение поселиться в Москве тогда почти определилось. Не случайно он писал Мамонтову письма, в которых просил подыскать ему в Москве мастерскую.
Нынешнее посещение Петербурга, вся атмосфера академии, все то, во что он опять окунулся, вызвало у него омерзение. Исеев, который недавно еще писал ему наставительные письма с выговорами за нарушение правил пребывания пенсионеров за границей и за вольнодумство, понимая, что коль скоро пенсионеры уже не пенсионеры и власть его над ними кончилась, вдруг разоткровенничался, сам даже некоторым образом впал в вольнодумство и конфиденциально сказал Поленову, что у них в академии свой драматизм, состоящий в интригах «одного против другого и другого против одного». «Ну и дай Бог им здоровья с таким драматизмом, а меня оно мало занимает», — пишет Поленов Крамскому, передавая ему это признание вчерашнего начальника.
Нет, Петербург ему явно не нравится. Вот ведь даже Крамской, решив писать большую картину, как бы итог его жизни и деятельности за все прошедшие годы, уехал из Петербурга в Париж.
В Петербурге суета. И холод. В людях холод. Слишком, слишком уж много субординации. Много обязательного: необходимость принимать визитеров, подчас скучных и неинтересных, необходимость делать ответные визиты. Все это отнимает уйму времени, и все это раздражает.
Даже в родительском доме после первых радостей встречи с близкими людьми он почувствовал скованность. В Имоченцах эта скованность прошла. Он видел, что и у Лили в Петербурге появилась скованность, которой не было в Имоченцах. (Не эту ли скованность Чижов именовал в свое время «благоразумием»? Если это и было «благоразумием», то благоразумием поневоле, благоразумием вынужденным.) Поленову жаль было сестру. Как — то он взял ее с собой к Репиным. Лиля очаровала и Илью Ефимовича, и Веру Алексеевну, у них она чувствовала себя свободнее, чем дома.
Нет, он, пожалуй, не останется в Петербурге. Он привык уже в Париже к самостоятельности, привык говорить и поступать без оглядки. Правда, с «Лекцией Лассаля» пришлось отступить. Но почему? Да потому, что он привык быть предельно откровенным с родными, забыв, что именно они-то и были колодками на его ногах, а иногда и шорами на глазах. Правда, он поделился своими мыслями не с родителями, а с сестрами. Но оказалось, что Вера недалеко ушла от родителей. А «обращение» ее было фикцией. О Хрущове и говорить не приходится. Вера даже и Лилю заставляла плясать под свою дудку.
За месяц совместного пребывания в Имоченцах Поленов увидел, что Лиля это все же не то, что Вера. К Вере у него была любовь особая, какая почти всегда бывает между братом и сестрой, если они — близнецы. Это была скорее любовь физиологическая, вроде любви к родителям. Он ощущал Веру как бы частицей самого себя.
С Лилей была общность духовная. И Лиля — он теперь почувствовал это острее, чем когда бы то ни было, — была человеком и очень глубоким, и очень чутким, и очень несчастным. Она ценила каждое искреннее движение души, направленное к ней, ценила даже самое малое добро.
Если Поленов, решив — почти точно — поселиться в Москве, и жалел о чем-либо, оставляемом в Петербурге, то это была его духовная близость с Лилей. Конечно, и родителей было жаль оставлять. Но это было не то, совсем не то. Он мог видеться с ними время от времени, приезжая ненадолго в Петербург, и этого было достаточно.
А сейчас он вдруг попал в круговорот страстей совершенно непредвиденных и необычных. Множество людей уезжали на Балканы, там начались события, всколыхнувшие всю Россию, да и не только Россию, а всю Европу.
Собственно, начало событий теряется в веках. Еще со времен Петра I Россия оттесняла Турцию с берегов Причерноморья. Уже в начале XIX века все Северное Причерноморье принадлежало России. Крым, Кавказ и часть Закавказья — также. Но Турция владела еще огромными территориями в Азии (весь Ближний Восток, часть Армении), в Африке (Египет) и в Европе (Балканы). В пушкинские времена молодые русские люди рвались сражаться за свободу восставшей Греции. Да и не только русские: там сложил голову Байрон. В 1870-е годы на Балканах существовали два самостоятельных государства, находившихся, однако, в вассальной зависимости от Турции: Сербия и Румыния.
В июле 1875 года восстали Босния и Герцеговина. Было распространено воззвание, в котором говорилось: «Кто сам не испытал турецкого варварства, кто не был свидетелем страданий и пыток христианского населения, тот не может составить себе даже приблизительного представления о том, что такое райя,[12] это немая тварь, поставленная ниже всякого животного, это существо, имеющее человеческий облик, но рожденное для всякого рабства… Ныне райя решила биться за свободу или умереть до последнего человека».
Сербия и Черногория поддержали герцеговинцев и боснийцев.
Поленов тогда был в Париже. Так же, как раньше он — задним числом — ратовал за свободу поляков, теперь он всячески проявлял симпатию к балканским повстанцам. Он даже написал две картины: «Черногорка» и «Герцеговинка в засаде» (опять его героини — женщины; но на этот раз не безвольные, не жертвы, а женщины восставшие). События разворачивались так, что Сербия и Черногория, объединившись с восставшими боснийцами и герцеговинцами, начали вести войну с Турцией. В Турции произошел военный переворот. К власти пришел султан Мурад V, ставший орудием в руках военной партии, руководимой Мидхад-пашой, фанатично ненавидевшим и христианство, и вообще европейскую цивилизацию.
Кровь полилась рекой.
Под давлением общественного мнения Александр II разрешил одному из своих генералов, Черняеву, перейти на сербскую службу. Это было лишь знаком. В Сербию хлынул поток добровольцев из России.
Поленов посчитал своим долгом не только картинами выразить солидарность с народом, сражающимся за свободу.
В середине сентября он выехал из Петербурга и 24 сентября прибыл в столицу Сербии Белград (Београд — как назывался он по-сербски), в тот же день начинает он вести дневник, вернее, путевые заметки, в которых описано его путешествие от Киева до Белграда, а потом от Белграда до Делиграда, тыла сербской армии. Дневник мирный, в нем множество наблюдений и рассуждений. Рассказ о знакомстве с генералом Черняевым, который, как выяснилось, получил разрешение служить в сербской армии лишь после того, как добрался до Сербии, вопреки запрещению Третьего отделения. В Сербию он, собственно, попал потому, что ему запретили ехать в Боснию и Герцеговину, куда он думал поехать вначале. Как видно из дневника, Черняев Поленову понравился. Сохранилось ли это впечатление до конца? Едва ли.
Вернувшись в Россию, Поленов рассказывал, что Черняев ведет себя совершенным мальчиком: демонстративно пьет шампанское, когда вокруг голодают, окружил себя почетным эскортом; все в национальных одеждах: боснийцы, черногорцы, сербы и т. д. — все в костюмах, шитых золотом…
В заметках есть такая фраза: «Идет болтовня об разном вздоре, об войне между прочим».
А положение на фронте было отчаянным. Черняев показывал Поленову ружья, которыми англичане вооружили турок: ружья эти могли делать восемнадцать выстрелов без перезарядки (нечто вроде прародителя современных автоматов). Сербские войска были плохо вооружены, не обучены, люди были взяты прямо от сохи. Сербы уже потерпели несколько поражений, но Черняев был настроен оптимистически. Вследствие ли бездарности командующего Осман-паши или вследствие трусости турки дальше не продвигались.
— Несмотря на наше поражение, мы одержали пассивную победу. Турки дальше не идут, — сказал Черняев.
Назавтра Поленов явился к своему непосредственному начальнику, носившему, по странной случайности, фамилию героя войны 1812 года — Дохтуров. «Он показал и рассказал, что мне нужно делать, обещал дать лошадей и двух ординарцев, поручил своему помощнику все это исполнить. Ничего этого, разумеется, не исполнилось, так как там вообще мало что исполнялось, всякий действовал больше по вдохновению, но, несмотря на это, и за доброе намерение спасибо».
Запись 1 октября: «Поутру идет канонада, впрочем, небольшая, так — от скуки. На нее мало обращают внимания. Днем бродим по окрестностям Делиграда в тылу армии. Что за живописная путаница, какого только народу там нет…» Этот отрывок сделан в виде словесного комментария к чудесному рисунку, композиционно довольно сложному: «Делиград. Тыл сербской армии». Это очень живая картинка, свидетельствующая об умении Поленова «схватить» характерные, особенности незнакомого быта и передать их ярко и мастерски. И еще: даже в этом рисунке чувствуется любовь его к солнцу. Видно, что время — около полудня (это легко, впрочем, определить по размерам теней), чувствуется, что небо безоблачно и что, несмотря на начало октября, здесь жара такая, какая в России бывает лишь в середине июля.
«2 октября. Надоело мне слоняться в Делиграде».
Поленов поехал на позиции, но, хотя турки были совсем рядом, так и не увидел их, не увидел позиций и вернулся в Делиград.
«3 октября встретил знакомого. Обрадовались друг другу. Предложили поехать на позиции к Андрееву в село Вукан — на крайний правый фланг. Я очень доволен этим предложением, — пишет Поленов, — ибо, в конце концов, жить при штабе, когда приехал, чтобы узнать, что такое есть война, скучновато».
В конце концов Поленов попал все же в передовой летучий отряд полковника Андреева. Этим днем — 4 октября — обрывается дневник Поленова. Видно, летучий отряд на передовой — место не совсем подходящее даже для кратких заметок. На последней странице дневника такая запись: «Исполнив поручение, мы миновали передовые посты и спустились в долину Турок нигде не было, но следы их остались. Проезжая по разрушенной деревне, мы увидели несколько сербских голов на кольях, между ними была одна женская».
Дальше пошли события серьезные. К концу октября военные действия активизировались. Сведений об участии в них Поленова, к сожалению, не сохранилось, кроме свидетельства полковника Андреева «о храбрости» в боях 7–9 октября. За участие в кавалерийской атаке Поленов награжден был 3 ноября воеводой Маш Врбица медалью «За храбрость», а 12 ноября получил золотой «Таковский крест» с надписью «За веру, князи и отечество». Крест этот — орден Такова — был учрежден еще в 1825 году.
А 16 или 17 ноября Поленов покинул Сербию и уехал в Петербург.
Почему? Посчитал, будто то, что ему полагалось сделать, он сделал? Что его доля в борьбу за освобождение славян внесена?
Нет, конечно. Но положение на фронте осложнялось не только в военном отношении. Вокруг балканского вопроса плели интриги чуть не все европейские государства. Это помогло турецкой стороне перегруппироваться. Войска генерала Черняева были разбиты. Турки вторглись в Сербию. В Турции произошел еще один государственный переворот. К власти вместо Мурада V пришел Абдул Гамид II, человек жестокий и решительный. Началось наступление на войска повстанцев по всему фронту. Армия добровольцев была ни к чему, да ее, собственно, уже и не существовало более. Разбита была и сербская армия. Турки, почти не встречая сопротивления, шли на Белград.
Общественное мнение России было возбуждено. Большое значение в возбуждении общественного мнения оказало Московское славянское общество, возглавлявшееся Иваном Аксаковым. Аксаков призывал Россию к борьбе за освобождение славян. Россия начала готовиться к войне. Турции был предъявлен ультиматум.
Даже Англия, обеспокоенная успехами Турции, заняла по отношению к ней жесткую позицию.
Под давлением этих обстоятельств Турция приостановила военные действия и объявила о перемирии.
Одновременно Поленов получил из Петербурга известие о том, что выставка в академии окончилась и ему, а также Репину и Ковалевскому присвоено звание академиков. Теперь нужно было устраивать свое будущее, свою независимость как человека и как художника…
Он известил родителей, что возвращается в Петербург. Они, разумеется, были счастливы. Письмо Дмитрия Васильевича, которое пишет он Чижову, дышит именно счастьем, как ни старается он скрыть его под маской иронии: «…вчера, в воскресенье, приносят нам телеграмму, в которой значится: „Пришлите карету завтра понедельник восемь вечера Варшавскую дорогу — Доброволец эскадрона Тернска Поленов“. Шут! Карету послали, и в урочное время доброволец в походной форме, украшенный знаками отличия, явился к нам, здоров и невредим, но много навирает…»
Всю зиму 1876/77 года Поленов прожил с родителями в Петербурге. Лишь на несколько дней — тотчас же после приезда с Балкан — поехал он в Москву, где повидался с Чижовым, с Мамонтовым, и решение его поселиться в Москве стало твердым и окончательным. Зимние месяцы 1876/77 года были для Поленова и свиданием с родителями после долгой разлуки, и отдыхом под их кровом, и прощанием перед предстоящей самостоятельностью, хотя и не за границей, а в сравнительно недалекой Москве, но все же…
Зима эта, проведенная в Петербурге, отмечена конфликтом со Стасовым. Конфликт, как и прошлые конфликты Поленова с родителями и Верой, — эпистолярный, хотя живут Поленов и Стасов в одном городе и, казалось бы, можно встретиться и поговорить. Но они оба, живя в Петербурге, переписываются.
Дело в том, что Стасов обещал написать статью о Поленове, но все медлил, ибо произошел совершеннейший скандал, вызванный его статьями о Репине. В статьях этих Стасов без ведома и разрешения Репина цитирует его письма из-за границы. Как мы помним, Репину поначалу за границей — особенно в Италии — все не нравилось. Под действием этой хандры, а из Парижа под влиянием ностальгии он нещадно бранил всё и всех вплоть до Рафаэля. Сейчас Поленов и Репин (живущий эти месяцы в Чугуеве) ведут деятельную переписку. От Поленова Репин узнает о том, какой скандал поднялся вокруг опубликованных Стасовым писем. Репин возмущен тем, что его письма публикуются без его ведома. «Ты очень хорошо сделал, — пишет он Поленову, — что остановил его (Стасова. —
За этим скандалом Поленов отошел для Стасова на задний план. Не выдержав, в конце декабря Поленов пишет Стасову письмо с просьбой высказаться, пусть не публично, о его работах. «Хотя я с Вами во многом не схожусь, — откровенно признается Поленов, — но ценю Ваше мнение и суждение больше, чем всех наших критиков и ценителей вместе взятых.
И чем прямее будут Ваши слова, тем с большей благодарностью я их приму».
Стасов ответил со свойственной ему прямотой, и, надо сказать, отзывы его в основном справедливы. Он хвалит только этюд нормандской лошадки, более или менее лестно отзывается о «Стрекозе» (купленной вскоре после этого Мамонтовым), а потом начинает давать Поленову советы. Часть из них также верна: надо «искать самого себя и собственной своей индивидуальности», «надо влюбляться в… сюжеты». Но следующая рекомендация звучит диковато: «Вы собираетесь поселиться в Москве, это не что иное, как несчастное подражание Репину, это (по словам Лермонтова), „пленной мысли раздраженье!“, а между тем Москва Вам ровно ни на что не нужна, точь-в-точь, как и вся вообще Россия. У Вас склад души ничуть не русский, не только не исторический, но даже и не этнографический. Мне кажется, что Вам лучше всего жить постоянно в Париже или Германии. Разве только с Вами совершится какой-то неожиданный переворот, откроются какие — то неведомые доселе коробочки и польются неизвестные сокровища и новости. Конечно, я не пророк!»
И ведь какой еще не пророк!
Письмо Стасова возмутило Поленова. Почему все твердят ему одно и то же? Сестра — что он не любит Россию; Стасов — что у него склад души не русский и что ему более свойственно изображение жизни Запада! Может быть, потому, что он не произносил громких фраз, не объяснялся вслух в любви к родине, не пускал слезу при упоминании о России, не сентиментальничал, не ахал?..
Нет, Россию он любил, любил просто потому, что родился в России; любил ее народ и природу; жаждал вернуться домой и писать русские пейзажи и русских людей. Но он не считал, что любовь к родине должна быть причиной отвращения от других стран и других народов. Он любил русскую историю (и сейчас обдумывал картину на сюжет из русской истории), но он любил и историю Франции, Германии, Греции, любил библейскую историю, историю древней Иудеи, страны, подарившей миру — и ему лично — Христа, «Сына Человеческого».
А если он что ненавидел в России, то это порядки, царившие там, государственные установления, принижавшие людей. Об этом он писал и говорил прямо и откровенно. (Разве вот только не везде и всюду, ибо приходилось все-таки «менажировать» папа и мама.)
Конечно, в ответном письме Стасову всего этого, накипевшего у него за годы, он не выкладывает. Ответ его Стасову деловой и рассудительный.
Поленов совершенно согласен с оценкой критиком всей его предыдущей деятельности, но он все-таки отвергает последнюю рекомендацию: «Что я, живя за границей в Париже, увлекался произведениями французских художников и волей — с одной стороны, а с другой — неволей им подражал, еще не значит, что я для России никуда не годен. Положим, что моя натура не типично русская, но из этого не следует, чтобы я был французом или немцем».
Репин, с которым Поленов в постоянной дружеской переписке, совершенно согласен с ним: «Он (Стасов. —
Нет, брат, вот увидишь, как заблестит перед тобою наша русская действительность, никем не изображенная, как втянет тебя до мозга костей ее поэтическая правда, как станешь постигать ее да со всем жаром первой любви переносить на холст — так сам удивишься тому, что получится перед твоими глазами, и сам первый насладишься своим произведением, а затем и все не будут перед ним зевать».
Репину, собственно, и убеждать-то Поленова не в чем, ведь тот и сам стремится всей душой в Москву, именно в Москву — не только из Парижа, даже из Петербурга… Он посвящает Репина в новый свой замысел. Опять это историческая картина, только это русская история, и опять — о трагедии женщины: «Пострижение негодной царевны». Что это за сюжет? Обыкновенная дворцовая интрига. Когда умерла первая жена царя Алексея Михайловича, царь повелел собрать во дворец на смотрины самых красивых дочерей бояр. Что поднялось: шутка ли?! Какая из боярышень станет царицей?! По наущению каких-то бояр (Нарышкиных, должно быть) самой красивой боярышне так стянули на голове кокошник, что она, бедная, на смотринах упала в обморок. Боярская дума признала ее «порченой», «негодной», и несчастную девушку постригли в монастырь. Алексей Михайлович женился на боярышне Нарышкиной, которая и родила государю будущего царя Петра.
Ну а пока что, для обзаведения в Москве, Поленов зарабатывает деньги, печатая в «Пчеле» свой дневник, делая для этого журнала по памяти рисунки, и признается Елизавете Григорьевне Мамонтовой: «Рисую для господина Прахова мое путешествие в его журнал, хотя с весьма малым удовольствием, ибо направление и весь дух этого господина мне сильно антипатичен. Но что ж делать, коли масляные дела идут в дефицит, надо испробовать карандашное дело, может, оно даст два-три лишних гроша. Вследствие этого сижу в Питере в ожидании праздника на своей улице».
Но против такого использования искусства резко восстает приехавший в Петербург Чижов. Он считает, что рисование в «Пчелу» есть «вывеска», во всяком случае, равносильно писанию вывесок. Разговор этот остался неоконченным, так как Чижов уехал, а потом долго еще выяснялись точки зрения в письмах. Чижов отстаивал ту позицию, что художник имеет право писать все, что ему заблагорассудится, но только искренне. Коль скоро Вася рисует в «Пчелу», не разделяя нравственную позицию издателей, то этим грешит в первую очередь против себя. Поленов в своих письмах больше защищался, чем отстаивал свою позицию, да у него ее, правду сказать, и не было. Он оправдывался тем, что был утомлен, после возвращения из Сербии устал и не готов для большой работы, что у него для настоящей работы и помещения нет и что нужно наконец заработать на первое время, чтобы жить, ни от кого не завися, и писать то, что хочешь.
Чижов и тут идет ему навстречу — предлагает деньги…
Переписка эта тянулась всю весну 1877 года. В самом начале июня Поленов в сопровождении Рафаила Левицкого приехал в Москву. Остановились они в доме Чижова, который незадолго до того опять уехал лечиться в Виши, и недели три искали квартиру, которая могла бы одновременно стать мастерской.
Наконец в конце июня такая квартира была найдена.
Действительно ли Поленов, как он впоследствии рассказывал, пленившись видом, открывающимся из окна квартиры, тут же сел и написал этюд московского дворика или события прошлого спрессовались, но он вспоминал, когда общество «Старая Москва» запросило у него о доме, из окна которого писан был прославившийся впоследствии «Московский дворик»: «Этого дома уже больше нет. Он находился на углу Дурновского и Трубниковского пер. Я ходил искать квартиру, увидел на двери записку и зашел посмотреть, и прямо из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его». Едва ли Поленов ходил искать квартиру с этюдником, кистями и красками… Скорее всего, именно благодаря тому, что из окна открылся такой вид, Поленов снял квартиру, а уж переехав в нее из квартиры Чижова, написал этюд.
В письме Чижову, датированном 23 июня, Поленов сообщает свой адрес: «Москва, Дурновский переулок близ Спаса на Песках, дом Бауигартен».
Именно в эти дни и был написан этюд «Московский дворик».
Но Поленов не придавал большого значения этой вещице, утвердившись в мысли, что ему предстоит писать большую историческую картину.
И он — один за другим — пишет этюды кремлевских интерьеров. Семь этюдов теремов. Все они солнечные, праздничные, по настроению совсем не такие, чтобы передать трагизм ситуации задуманной картины. Но он любит архитектуру и любит солнце. И он продолжает писать этюды: «Золотая палата царицы» — три этюда; наружный вид теремов — хотя это совсем не нужно для картины, так же как множество других этюдов Успенского и Благовещенского соборов (внутри и снаружи).
Сейчас даже точно неизвестно, сколько этюдов было написано. При жизни Поленова в Третьяковской галерее их было восемнадцать.
А саму картину он так и не начал писать. Даже эскиза, даже наброска композиции не сохранилось. Видимо, он и не пытался сделать этого, помня парижские неудачи. Но кремлевские этюды стоят того, чтобы о них поговорить.
Еще ни один художник в России не мог так передать свет солнца. Сколько ни бранил подчас Поленов новых французских художников, знать он их знал — не мог не знать, не мог не посетить первые выставки «отверженных», тех, кого сейчас без всякой иронии называют импрессионистами. Принял он их умом или нет — не имеет значения. Интуицией художника он их принял — это несомненно. Среди французских работ влияние их как — то само собой «прорвалось» и у него, и у Репина при первом же удобном случае — в этюдах белой лошадки. Потом в России у Репина уроки, волей-неволей взятые у французских пленэристов, импрессионистов, сказались в первой же написанной им на родине картине — «На дерновой скамье», у Поленова — в этюде к «Московскому дворику» и в кремлевских этюдах. Даже в таком этюде, как «Рака митрополита Ионы в Успенском соборе» — совсем темном, — каким-то чудом художник дает почувствовать солнечный свет — там, за стеной собора; свет этот едва пробивается сквозь какие — то маленькие окошки, не видные зрителю, а солнце чувствуется.
Из всего сказанного ранее совсем не следует, что у Поленова присутствуют какие — то элементы формальных импрессионистических приемов. Их нет ни в кремлевских этюдах, их не следует искать и в том, что он напишет в дальнейшем. Однако необходимо сказать еще раз: он стал несомненным пленэристом; воздух окутывает все, что он пишет. Это воздух передает так солнечный свет.
И еще. Поленов, как никто другой из русских художников, знал химию красок. Он знал любые нюансы, происходящие от эффекта смешения красок, их соседства, наложения одного слоя краски на другой, их взаимодействие. Потому его картины, написанные сто лет назад, и сегодня выглядят так, словно написаны вчера.
Он не скрывал никогда своих «секретов», которые, собственно, и не считал секретами. Когда он стал преподавателем, то много говорил своим ученикам о химии красок, их колористическом взаимодействии. А потом уже его ученик Левитан, став преподавателем, передавал своим ученикам этот несекретный секрет, и один из них, Липкин, вспоминает, как однажды Левитан продиктовал им, своим ученикам, эту «поленовскую палитру».
И еще поучительнее эпизод, касающийся солнечности поленовских картин. Поленов ради своих работ из жизни Христа совершил два путешествия на Ближний Восток. Второе было совершено в сопровождении ученика Егише Татевосяна, пейзажиста А. А. Киселева и друга Поленова Л. В. Кандаурова. И вот что впоследствии вспоминал Кандауров: «Когда мы были в Палестине, один и тот же пейзаж писали, сидя недалеко друг от друга, Поленов и Киселев. Когда я подошел к Киселеву, он сказал: „И откуда это Василий Дмитриевич берет такие яркие краски, совсем этого нет“. Вскоре я подошел к Василию Дмитриевичу, он мне говорит: „Плохая манера у Киселева прибавлять ко всем краскам какую-то грязь (черноту), и так краски со временем тускнеют и не передают всей яркости природы“».
Вот еще — помимо знания химии красок, помимо знания законов пленэрной живописи — источник обилия солнца в картинах Поленова: его отличное от того же Киселева и иных художников видение натуры. Он видел свет там, где другим казалось, что в природе «совсем этого нет». Разумеется, если бы Поленов еще постиг метод импрессионизма, то результат был бы более высоким.
Но это суждено было не ему, а одному из его учеников — Константину Коровину.
В начале лета 1877 года приехал в Москву Репин, снял квартиру для семьи и до осени опять уехал в Чугуев.
Из письма Репина А. В. Прахову известно, что он был у Мамонтовых в Абрамцеве, а по тому, что он тем летом в каждом письме Поленову передает поклон Мамонтовым (а в письме Прахову пишет: «Были мы у Мамонтовых»), следует думать, что Поленов, может быть и нерегулярно, навещал летом 1877 года Мамонтовых в Абрамцеве.
Во всяком случае, он чувствовал, что начал правильную жизнь художника, и рад был, что довольно много успел за это лето. Но когда в середине июля он получил письмо от Марии Алексеевны, то обрадовался ее предложению приехать в деревню Петрушки, старинное имение под Киевом, которое Хрущовы наняли на летние месяцы. Он думал немного отдохнуть там, но, приехав, почувствовал вдруг, что вовсе не устал, и здесь, в Петрушках, в августе написал еще два этюда — «Заросший пруд» и «Летнее утро» (или «Болото с лягушками», как называли потом эту вещь).
Это было удивительное лето. Такого творческого подъема он не знал еще никогда. Он не подозревал, разумеется, что картины, написанные им по этюдам этого лета, — «Московский дворик» и те, что он писал в Петрушках, — сделают его имя известным и будут почитаться и современниками, и потомками лучшими созданиями его кисти, хотя ему предстояла еще долгая и богатая замыслами и свершениями творческая жизнь. Он прожил в Петрушках почти весь август и возвращался в Москву удовлетворенный совершенно и результатами труда, и тем, что обрел самостоятельность, что нашел, кажется, свой путь в искусстве.
И вот случилось то, чего он никак ожидать не мог. Он запомнил эту дату на всю жизнь: 31 августа 1877 года.
Поленов вскочил, засуетился, помог разместить вещи. Она была молода, почти так же, как Маруся в те короткие месяцы… Но была она совсем другой: несколько скуластое лицо, чуть приподнятые уголки глаз, черные волосы. Что-то в ней восточное: японское, что ли. Она мило щурилась, когда улыбалась или смеялась.
Они познакомились. Оказалось, что она едет из Воронежской губернии, где живут родители, в Москву, чтобы поступить в консерваторию. Воронежские меломаны находят, что у нее неплохое сопрано.
Маруся тоже училась петь…
А как имя? Мария? Тоже Мария. Судьба… Мария Николаевна Климентова.
Нужно было во что бы то ни стало найти причину для продолжения знакомства. И он нашел: она — певица, он — художник. Они оба служат искусству. Он непременно покажет ей галерею Третьякова. Там есть и одна его работа.
Климентова дала Поленову свой московский адрес. Он был счастлив.
Но, приехав в Москву, он нашел письмо от дяди — Леонида Алексеевича Воейкова. Дядя очень просил племянника Васю приехать в Ольшанку, коей теперь, после смерти бабаши, он владел, и помочь: старый барский дом, в котором жила бабаша, очень уж обветшал, ремонтировать его и хлопотно, и не по средствам. Леониду Алексеевичу хотелось построить в Ольшанке домик вроде тех, что вошли сейчас в моду: стиль Ропета и Гартмана. Кроме того, Леониду Алексеевичу хотелось, чтобы племянник написал его портрет.
Отказывать было неудобно. Поленов скрепя сердце написал «милостивой государыне Марии Николаевне», что он, разумеется, не забыл своего слова, но дела призывают его на три недели из Москвы. «Тотчас по возвращении я извещу Вас и тогда…»
Поленов пробыл в Ольшанке весь сентябрь. По вечерам делали проект дома, в котором дядя думал проводить только летние месяцы. Правду сказать, ропетовский стиль не очень-то был по душе Поленову. Но — мода! Вот даже Мамонтовы поддались этой моде. И в Абрамцеве у них Гартман и Ропет построили мастерскую и баню. Стиль этот — псевдорусский — называли «петушковым» или — более изысканно — «рюсс». Да, это, конечно, не Россия, это как бы Россия. Поленову, знающему Россию всякую, и Олонецкую, ту, что сохранилась еще со времен до Батыя, до Чингисхана, знающему Новгород и ту Русь, что, даже находясь неподалеку от Казани, — выстояла, сохранила себя, это «псевдо» очень не по душе. Но дяде хочется именно такой домик, а племянник Вася — дядя это знает — любит архитектуру и знает ее. Ну, что ж, племянник Вася делает проект ропетовского домика. Пишет портрет дяди.
Но зато находит и пишет то, что ему по душе. Речку Ольшанку. Потом — тут же — то, что называл «пейзажно-бытовым жанром»: мальчишек-удильщиков, простых крестьянских мальчишек в закатанных штанах; двое их стоят по колено в воде, двое удят, третий насаживает на крючок наживку. Вот так мирно, неслышно протекает жизнь в Ольшанке вокруг барского дома…
А сам барский дом?.. Старый, в котором дяде-то неудобно, как он романтичен с его круглым прудом и с его милой, дорогой сердцу ветхостью! В нем, кажется, витают тени предков. Здесь доживала последние годы бабаша, здесь до его еще, Васи Поленова, появления на свет скончался от ран, полученных — подумать только! — в кампанию 1812 года, дедушка Воейков.
А какая буйная, не тронутая ножницами садовника зелень вокруг дома и пруда. И — солнце! Чудесное сентябрьское солнце, сентябрьская прохлада, позолотившая кое — где листву, ясное, с легкими облаками небо.
Вот этот мотив и стал для него предметом пейзажа, который так и называется «Пруд в парке. Ольшанка».
Пруд на переднем плане. Тихий, спокойный, романтичный. Заросли кустов. И сквозь них — белым пятном — старый обветшалый барский дом. Настроение несколько приподнятое и торжественное. И в то же время умиротворенное.
Поленов словно бы отдает дань тем человеческим чувствам, которые Пушкин выразил чарующими своими стихами:
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Он хочет, чтобы и в этом «родном пепелище», в памяти его о предках было солнце, чтобы память эта была светлой.
Да будет так!
1 октября он вернулся в Москву. Ах, господи! Теперь его зовут на Балканы. Исеев передал через родителей, что сам наследник Александр Александрович, руководящий военными действиями одной из балканских армий, хотел бы видеть — не кого-то другого, а именно его, Василия Дмитриевича Поленова, — художником при своей ставке.
Родители, разумеется, в восторге от чести, оказанной их сыну. У них нет даже тени сомнения, что Вася тоже будет польщен и поедет. Но он не польщен.
Сейчас его мысли занимает совсем другое: любовь. Он так ждал возможности увидеться с Марией Николаевной!
Раздосадованный, он прежде, чем кому бы то ни было, пишет ей, пишет, что только сегодня приехал и вынужден опять уехать — видимо надолго. Поэтому готов в любой из дней, когда у нее будет несколько свободных часов, сопровождать ее в галерею Третьякова.
Они встретились. Они были в галерее. Он обещал ей писать: ведь она просила его об этом (впрочем, кажется, больше ради приличия сказала: «Так вы пишите, Василий Дмитриевич», и он тотчас с готовностью отозвался: «Разумеется, разумеется…»). Назавтра он был у Чижова… Чижов после его ухода записал в дневнике: «Сейчас заходил ко мне Вася Поленов, только что приехавший из Тамбовской губернии, его вызывает к себе наследник на Дунай. Пожалуй, вызов лестный, тем более что он, т. е. Поленов, не напоминал о себе ни выставкой, ни новыми картинами, вызов приятный и в денежном отношении. Но, слава Богу, и, как я всегда люблю прибавить, честь времени, теперь уже не так восхищаются призывами царскими: Васе кажется весьма бесцеремонным такой призыв свободного художника; теперь мы уже очень не любим, чтобы нами распоряжались, как крепостными, крепостное право уже уничтожилось».
Поленов попрощался с «дядей»… Мог ли он подумать, что это их последняя встреча, последняя беседа, последнее прощание?..
Ровно через полтора месяца, 16 ноября 1877 года, Федор Васильевич Чижов скоропостижно скончался.
И вот тут Репин, сошедшийся за это время с Чижовым и полюбивший беседы с ним, написал его портрет: «Мертвый Чижов». Портрет он подарил Савве Ивановичу Мамонтову. Савва Иванович и Алеша Поленов назначены были покойным его душеприказчиками.
Репин приехал в Москву в то время, когда Поленов был в Ольшанке. Приехал и заболел: что-то вроде лихорадки. Но он был в унынии. Ему казалось, что жизнь кончена и все его чудесные замыслы уйдут с ним в могилу.
Поленов посетил и его. При нем Репин приободрился: кто знает — кому что суждено? Ведь на Балканах заваривается бог знает что. Натуральная война.
В эти дни он написал портрет Поленова, и, это, кажется, вообще единственный известный нам портрет Поленова. Портрет совершенно парадный, словно писан он в XVIII веке: овальная форма, и сам Поленов красив и импозантен…
Здесь, однако, придется ненадолго прервать рассказ о Поленове, чтобы объяснить, что же произошло на Балканах за те месяцы, что Поленов провел в Петербурге, Москве, Имоченцах, Петрушках, Ольшанке.
В конце 1876-го и в начале 1877 года велись открытые и одновременно секретные переговоры России с Англией, Германией, Австро-Венгрией, Турцией. Переговоры эти ни к чему не привели: Турция была уверена, что если Россия начнет войну, то великие европейские державы, как и в 1850-е годы, станут на ее сторону. 24 апреля Россия объявила Турции войну. Во главе балканской группировки были поставлены великие князья Александр Александрович и Владимир Александрович, во главе закавказской армии — Лорис-Меликов. Неожиданно для всех русская армия стала одерживать победу за победой. Настроение в России было радостное. Но у турок нашелся талантливый полководец Осман-паша. И конец лета ознаменовался успехами турецкой армии. В России была проведена дополнительная мобилизация. В войну на стороне России выступила Румыния.
В то время когда Поленов отправился на Балканы, положение еще не определилось, но было ясно, что великие европейские державы не выступят на стороне Турции. Сама же Турция почти исчерпала свои возможности: контрнаступление стоило ей больших жертв, а пополнение взять было неоткуда: слишком уж широко раскинулась Оттоманская империя, и всюду — от Египта до Армении и Балкан, — для того чтобы держать в покорности завоеванные народы, нужны были войска.
Россия готовилась к решительным сражениям. В эти дни, в начале ноября 1877 года, Поленов прибыл в район Рушука, где расположена была главная квартира, представился великому князю и… принялся писать этюды на приготовленных заранее маленьких дощечках. В сражениях он на сей раз не участвовал, никаких наград не заслужил, но навсегда приобрел отвращение к войнам. В иной день он делает до шести этюдов, но, как правило, эти этюды носят характер очень мирный: нечто пейзажно-этнографическое.
Это вызвало недоумение у всех. Поленов всячески оправдывался тем, что «русская армия не живописна, вот турецкая — другое дело». Это уже по возвращении в Россию перед Репиным. А в письме Климентовой (которой он, кстати сказать, писал больше, чем родителям и сестрам, хотя молодая певица была скупа на ответы; но такова уж природа любви) Поленов пишет, что «сюжеты… человеческого изуродования и смерти слишком сильны в натуре, чтобы быть передаваемы на полотне». И признается: «Во всяком случае, я чувствую в себе какой-то недочет, не выходит у меня то, что есть в действительности; там оно так ужасно и так просто».
В письмах Поленов пишет обо всем так, что жутко становится. Он видел, как один смертельно раненный солдат, обезумев от боли и жажды, сгребал и пил собственную кровь, смешанную с его же мозгом, как другой в исступлении рыл около себя рукой яму, пока не умер. Он с удивлением узнал, что убитые наповал умирают с открытыми глазами: под человеком лужа крови, а он смотрит открытыми и погасшими глазами в небо. «И странное дело, — пишет Поленов, — тогда я на все смотрел почти спокойно, даже многих зачертил у себя в альбоме».
Лишь спустя шесть лет, когда наследник Александр Александрович станет царем Александром III и напомнит Поленову, что за ним батальные картины, художник начнет делать нечто… совсем не батальное, во всяком случае, не батальное в общепринятом смысле.
В Русском музее есть картина «После боя. Близ селения Мечка». Датирована картина 1883 годом. Ярко-зеленая трава, мирный ландшафт. Среди камней лежит на этой траве убитый солдат. Его окружают вороны и шакалы. Что это? Попытка через пять лет запечатлеть обобщенный образ войны? Но почему тогда именно «Близ селения Мечка»? Сражение при Мечке произошло 30 ноября, а зима в этот год выдалась редкостно холодной. В начале января мороз достиг 25 градусов. Но уже и в середине ноября сестры Поленовы, организовавшие в Киеве госпиталь, писали об огромном количестве раненых с отмороженными ногами. Картина Поленова производит, разумеется, должное впечатление, причем впечатление это создается именно контрастом трупов и мирного солнечного пейзажа с яркой травой. Видимо, эту картину имела в виду исследовательница творчества Поленова, видимо, ее назвала «Долиной смерти». Тем более вероятным кажется это предположение, что, как сказано в упоминаемом исследовании, «Долина смерти» написана «по наброску, сделанному на следующий день после сражения при Мечке».
Разумеется, Поленов не был баталистом. О войне этой рассказывал другой художник — Верещагин. Его картины совсем не совпадают по настроению с тем патриотическим подъемом, какой вызвала Балканская война в России, но Верещагин хорошо знаком был с войной, он знал, как бездарно велась она, руководимая людьми, которые только потому и поставлены руководить, что они — великие князья. И Александр Александрович, и Владимир Александрович были воистину бездарными полководцами.
У Верещагина было много неприятностей с его картинами. На одной из них была изображена ставка в день именин царя — 30 августа. К этому дню решено было преподнести царю подарок: взять Плевну. Плевну 30 августа не взяли, но в тот день погибло 30 тысяч русских солдат. Великие князья готовились отпраздновать взятие Плевны и именины царя. На картине Верещагин изобразил справа столы с шампанским. Картину запретили; художнику пришлось отрезать правую ее часть.
Поленов приехал на Балканы позднее, и едва ли он не знал всего того, что произошло до его приезда. Но такой натурой, какая была у Верещагина, не обладал, пожалуй, ни один из русских художников.
И все же Поленов стал на некоторое время предметом если не прямого, то косвенного гнева начальства.
В декабре газета «Новое время», которая в те годы не была еще столь реакционной, какой стала впоследствии, опубликовала в трех номерах статью Крамского «Судьба русского искусства». Статья была направлена против Академии художеств.
Поленов писал интерьер комнаты, в которой работал наследник. Неожиданно ворвался в комнату великий князь Владимир Александрович, президент академии, тот самый, который когда-то благодарил Поленова-отца за картину Поленова-сына. Он бросил на стол газету и закричал:
— Вот, полюбуйтесь! Крамской написал статью, бранит академию. Только и хвалит вас, Ковалевского и еще кого-то!
— Что ж, ваше высочество, интересная статья? — спросил Поленов.
— Ну уж удалась, б…й потрох… — выругался великий князь и президент Академии художеств.
Поленов отошел от этюдника, пробежал глазами статью. Крамской писал: «Репин выдвинулся и занял свое место работами как раз противоположными тому, чему его Академия учила, и, как известно, не пользуется ее благосклонностью и даже получал выговоры. Ковалевский — давно выработавшийся и прекрасный художник только благодаря тому обстоятельству, что в Академии есть обособленный отдел, баталический, и так как он пришел уже прямо с любовью к изучению лошадей, то в этом случае совпали цели и средства; и если кто, так именно Ковалевский блистательно подтверждает все, что я старался доказывать. Он уже давно развился, переломов и переучивания у него быть не может, тогда как, например, Поленов находится только теперь в периоде проб и многое еще остается для него самого проблемой, хотя нет сомнения, что благодаря образованию (не академическому, а университетскому) его работа внутренняя разрешится счастливо».
Потом Поленов прочитал всю статью. Она действительно удалась — великий князь был прав. Это не были публицистические нападки, а дельный разбор того, как даже устав академии нелогичен, как противоречит по сути один параграф другому и как все это постепенно — одно, неукоснительно исполняемое, другое, как правило, невыполняемое — превращает академию в учреждение все более и более косное и все менее и менее отвечающее тому делу, для которого она предназначена: выявлять среди одаренных — талантливых и помогать им развить талант, чтобы они стали настоящими художниками. Крамской доказывал, что если отдельные художники и становятся художниками
Но если говорить правду, то главный интерес Поленова был сейчас отвлечен и от искусства, и от войны. Он все время думал о Марии Николаевне. Молодая певица не ответила ни на одно из двух его писем. Он пишет ей третье, причем в письмах к ней он, обычно выражающий свои мысли просто и непосредственно, — меняется. Фразы выспренные, остроты — натянутые, во всем письме чувствуется напряжение.
Наконец он вымаливает у нее письмо и в ответ пишет огромное, содержательное. Не то что сестрам — в Киев, где они, выбиваясь из сил, работают в госпитале…
Сколь бы ни было бездарно верховное командование российской армии, но Россия оказалась сильнее Турции. Оттоманская империя уже полтора столетия медленно клонилась к упадку. Не выдержала она и этого натиска. Турецкие политики не учли, что расстановка сил в Европе в конце 1870-х годов была не такой, как в середине 1850-х. Никто не вступился за Турцию. Ценой огромных человеческих жертв Россия одержала победу. 19 февраля (3 марта) 1878 года в Сан-Стефано был заключен мирный договор. Впоследствии результаты его были ревизованы на Берлинском конгрессе, ибо европейские государства не хотели, чтобы Россия стала значительно мощнее, чем была раньше, и приобрела бы себе союзников на Балканах, получивших благодаря этой войне независимость…
Но Поленову явно не по душе была война, а уж политика и совсем ни к чему.
Как только это стало возможным, он покинул действующую армию. Несколько дней февраля он пробыл в Петербурге. Был болен отец. Но все же бодрился. Поленов виделся с Крамским. Готовилась очередная — шестая уже — Передвижная выставка. Поленов очень жалел, что так много времени ушло на дело, ему не свойственное, и потому он ничего значительного еще не сделал. Он заверил Крамского, что первую же значительную картину выставит на Передвижной.
Репин предложил для выставки два портрета, написанные в Чугуеве: «Протодьякон» и «Мужичок из робких», а также портрет Елизаветы Григорьевны Мамонтовой.
Поленов с таким же успехом мог выставить и портрет Никиты Богданова, и работы, сделанные в Ольшанке. Но он еще не понял, не уяснил для себя, что можно считать значительным.
Во всяком случае, с Крамским у Поленова устанавливаются хорошие отношения. Крамской даже принимает приглашение прийти к Поленовым на обед…
В начале марта Поленов «у себя» — в Москве.
Первые люди, с которыми он увиделся, — Репин и Мамонтовы. Сын Мамонтовых Всеволод, оставивший воспоминания о русских художниках, пишет, что именно с этого момента хорошо помнит Поленова. С этого момента Поленов, а вместе с ним и Репин — постоянные гости Мамонтовых.
Репину, однако, сейчас Поленов почему — то не понравился. Не понравилось, что Поленов не написал во время войны ничего такого, где была бы сама война, — все только какая — то этнография. И на Передвижную пока не думает ничего выставлять. Ему кажется также, что Поленов преисполнен гордости оттого, что так близок с наследником престола государства Российского. Его письмо Крамскому таково, что Крамской даже считает необходимым вступиться за Поленова: «Что касается Поленова, то… говоря по совести, я начинаю думать, и серьезно думать, что у дворян кость в самом деле белая, а кровь голубая, тогда как у плебеев одна кличка остается навсегда: „подлый народ“. Хотя это не относится к этому хорошему парню, он только слабый, идти против отца и матери вещь очень трудная, такая трудная, что мы его положения не можем даже себе представить, а потому говорю решительно: я его не сужу. Пусть его. Поживем — увидим…»
Дело в том, что здесь и Крамской не совсем прав. Нерешительность Поленова теперь уже — не результат покорности… Просто он считает, что ничего не написал такого, чем можно было бы дебютировать на Передвижной.
Он поселяется в той самой квартире, из окна которой написал этюд «Московский дворик». Дворик сейчас не такой: тогда было начало лета, сейчас только март наступил: еще снег повсюду. Но этюд ему нравится: в нем много света, воздуха. Когда он смотрит на него, ему кажется, что лето уже наступило: от этюда исходит тепло. Он с подъемом, с каким — то удивительно радостным настроением пишет по этому этюду небольшую вещь — именно в «пейзажно-бытовом жанре», как сформулировал он однажды это направление своего искусства. Что причиной такого необычайного подъема?
Да он же влюблен! Мария Николаевна посещает их (ведь Поленов живет с Левицким) мастерскую. Он предлагает написать ее портрет. Она согласна позировать. Он пишет ее, а она после окончания сеансов поет им. Какой у нее дивный голос! Она так же любит свое искусство, как он — свое. Иногда ему кажется, что она любит его… ну, пусть не так, как он ее. Как же иначе: разве стала бы она в противном случае приходить к нему, позировать, петь? Он даже стал приходить с ней к Мамонтовым: в этом большом гостеприимном доме всем рады, особенно людям, так или иначе причастным к искусству.
Поэтому и работа его над «Московским двориком» идет так хорошо: быстро и удачно. Уже 13 апреля он извещает Крамского: «Картинка моя на Передвижную выставку готова (т. е. картинка давно готова, а рама только теперь). К сожалению, я не имел времени сделать более значительной вещи…»
Какая это грустная, но в общем-то обычная история: автор считает пустяком как раз то, что приносит ему впоследствии славу, что сберегает его имя от забвения… Ведь речь идет о «Московском дворике», картине, без которой теперь как-то даже трудно представить себе развитие пейзажной живописи в России. Картине этой отведено много страниц в книгах о Поленове и о пейзажной живописи в России, ей посвящено специальное исследование (никакая другая картина Поленова специального исследования не удостоилась).
Что же произошло при переработке хотя и очень удачного, но в общем невыдающегося этюда в картину? Этюд писан сверху, с уровня второго этажа; для картины точка зрения выбрана значительно ниже и отодвинулась несколько вправо, потому и пейзаж писан под другим углом. Это дало возможность разглядеть фронтон соседнего барского особняка, да и сам особняк стал выше, видны стали окна полуподвального этажа, более плавно ушел влево дощатый забор, отделяющий барский двор от крестьянского двора. Более четко стало видно очертание основного здания церкви Спаса на Песках. За домиком, который на этюде находится справа, появилась еще одна церквушка Николы в Плотниках, и сам этот небольшой домик несколько приоткрылся, появились новые здания, расположенные еще правее. Соответственно всему этому изменился формат: из вертикального он стал горизонтальным, небо понизилось. Пейзаж получился несколько «развернутым» по оси, находящейся на стыке особняка и сарая. Всем этим достигнута «панорамность» пейзажа. Поленов и раньше был склонен к горизонтальному, именно «панорамному» пейзажу, но если прежние его пейзажи нужно было разглядывать по частям, то сейчас он, кажется, достиг того композиционного мастерства, когда пейзаж можно охватить единым взглядом.
Но Поленов еще не может сделать так, чтобы человек присутствовал в картине незримо, как это удалось Саврасову, потом Левитану, а уже после этого и самому Поленову.
Поэтому Поленов «населяет» свой пейзаж. На переднем плане светлоголовый мальчишка сосредоточенно возится с чем-то, что он держит в руках. Другой, помладше, сидит на траве, ревет во все горло. Это не нарушает умиротворенности, которой проникнута картина. Еще двое мальчишек безмятежно возятся в траве. И тот, что стоит, и тот, что орет, и те, что лежат в траве, отделены друг от друга протоптанными в траве дорожками. Стоит крестьянская лошадь, впряженная в телегу, возятся возле сарая куры, женщина несет откуда-то (должно быть, из барской кухни) полное ведро.
Колорит картины более тонкий, более мягкий, чем колорит этюда. На этюде — раннее утро, на картине — время близится к полудню. Тень от колодца уже не достигает забора, а ушла вправо и вперед. Зато тень от крыши барской усадьбы опустилась до самых окон.
В этюде краски грубее, резче, соотношение светлых и темных мест контрастное. Картина — мягче. В картине ощутим воздух, он объединяет всё в колористическое целое. Отдельные более темные цветовые пятна (темная зелень и колодец слева, сарай посередине, лошадь и часть домика справа) тоже служат этому объединению. Эта картина — словно бы рывок от ученичества к мастерству.
Что помогло этому психологически? Возвращение домой с театра военных действий. Обретенная самостоятельность. Расположение Крамского в Петербурге и Мамонтовых в Москве. И, наконец, любовь.
Как мы уже знаем, Климентова приходила в квартиру, в которой поселились Поленов и Левицкий, позировала для портрета, пела. По тем временам — достаточно еще строгим в смысле нравов, невзирая ни на какие «эмансипации», — это могло означать, что у нее если не появилось еще, то появляется ответное чувство. Она называла его «мой друг», она была с ним в опере, слушала «Фауста», и она, эта будущая актриса, представлялась Маргаритой, называла его «мой Фауст». А он был счастлив безмерно. И надеялся, что счастье это станет прочным. Может быть, именно поэтому такая умиротворенность, такой душевный покой в этой его первой значительной картине.
Крамской получил письмо Поленова относительно картины и ее выставления на Передвижной на следующий день и тут же ответил, что очень рад его решению. Правда, выставка в Петербурге закрывается через неделю, а потому картине Поленова предстоит ждать приезда выставки в Москву, где она будет экспонирована. Это не беда, если картина не столь значительна, как хотелось бы автору, важнее то, что все новые и новые художники вливаются в общество передвижников. «Главное дело в том, чтобы Товарищество, обновившись, отвечало на все шипения и крики делом, достойным внимания».
Выставка в Москве открылась 7 мая. Здесь же картина была замечена Третьяковым и куплена им. Это было более чем приятно. Московская пресса тоже встретила работу одобрительно, хотя критик «Московских ведомостей» почему-то сосредоточил внимание не на том, что изображено на картине, а на том, что на ней не изображено, на жизни старого барского особняка…
Впрочем, нет худа без добра… Возможно, эта статья подала мысль Поленову написать вторую картину, изобразив на ней то, что происходит по другую сторону изгороди. И эта картина, известная под названием «Бабушкин сад», была написана быстро и вдохновенно, по-видимому, в начале июля.
Дом, который на первой картине изображен за забором, виден теперь весь. Он стар, он почти разрушен, хотя разрушения эти совсем не катастрофические: еще можно жить в доме, в котором несколько провалились ступени, ведущие на террасу, отвалились капители колонн и лепные украшения фронтона. Зато сколько в этом доме романтики «былого», «ушедшего». Невольно думаешь: как кипела там когда-то жизнь, когда старушка барыня — совсем такая, какой была бабаша, — что, опираясь на клюку, с трудом идет по дорожке, была еще молода так же, как сейчас молода ее изящная, вся в розовом, стройная внучка, которая бережно поддерживает ее. Внучка изысканно аристократична. Это Вера Хрущова, у нее именно такой вид. И Поленов писал для картины девушку так, чтобы она напоминала его старшую сестру.
Мотив очень элегичен, картина очень красива. Вокруг — не только в доме, но и в парке перед ним — полное запустение. Хотя дорожка и расчищена, но как буйно разрослась зелень — садовника в бабушкином саду уже давно нет.
Живопись Поленова этой поры давно и прочно связывают по настроению, царящему в ней, с прозой Тургенева. И это, конечно, верно. Об этом доме и парке, об этой старой усадьбе хочется сказать: «Дворянское гнездо», хотя ничто здесь не напоминает конкретно этот роман. Такие прямые параллели вообще рискованны. Если уж говорить о каком — то соответствии, то здесь больше к месту, как это ни неожиданно, тютчевское настроение:
Ущерб, изнеможенье — и не всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.
Впрочем, тютчевское ли только это настроение? Тютчев — из русских поэтов — только наиболее «чисто» его выразил.
А Пушкин — разве мало и у него таких же настроений? Его любовь к осени с ее «прощальной красой», «пышное природы увяданье», столь любезное его сердцу Пушкин, правда, философ в своей лирике, которую он случайно, мимоходом в частном письме назвал «глуповатой». И к картине Поленова, о которой мы только что говорили, в той же мере, что и тютчевские строки, относятся и другие — именно философские — строки Пушкина:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
Здесь нет никакого противоречия с тем, что сказано выше. Ибо у Поленова в картине именно «у гробового входа» играет «младая жизнь». Около символической «бабаши» символическая «внучка», «Вера», а у Пушкина, кроме приведенных строк, есть строки, совершенно сейчас в исторической ретроспекции созвучные с поленовской картиной. Говоря об этой любимой им «поре увяданья», Пушкин признается:
…Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет,
Она жива еще сегодня, завтра нет.
Почему приходят на ум именно эти строки (и именно, повторяю, в исторической ретроспекции)? Вспомним портрет Веры Дмитриевны Хрущовой, писанный братом Васей в Париже. Разве эта «младая жизнь», которая должна бы «играть у гробового входа», не кажется на портрете такой «чахоточной девой», которая «жива еще сегодня, завтра нет»? Ведь ровно через три года после картины «Бабушкин сад», ровно через три года, «младая жизнь» Веры Дмитриевны оборвалась… Она умерла, хотя и не от чахотки, но от легочной болезни, которая накладывает на внешность человека фатальный отпечаток обреченности… Обновления не состоялось. Нет, совсем не оптимистическое чувство в картине Поленова. Но это чувство, чувство «любования запустением», именно свойственно русской культуре. Это не временное романтическое, не скоропреходящее, а исконное, именно русское настроение. Ведь недаром же через много лет, уже даже после смерти Поленова, писатель совсем иного поколения, Иван Бунин, живя в эмиграции, где ностальгия обострила все, что было связано для него с Россией, писал, словно бы обобщая, осмысляя оставшееся позади: «Сколько заброшенных поместий, запущенных садов в русской литературе, и с какой любовью всегда описывались они! В силу чего русской душе так мило, так отрадно запустение, глушь, распад?» И дальше Бунин описывает дом и сад, которые точно бы подсмотрены на картинах Поленова, только дом еще старее, а сад уже наполовину вырублен. И нет ни бабушки, ни внучки… Все эти длинные рассуждения, все эти литературные параллели приведены здесь не просто так. Дело в том, что в искусствоведческой литературе о Поленове картине «Бабушкин сад» придан философский смысл, которого, на мой взгляд, в ней нет. Считается, что заключен он в мысли о неизбежном отмирании старого и замене его новым, с чем он, художник, находится в совершенном согласии. Ближе к истине кажутся мне те исследователи, которые видят в картине грусть по поводу «быстротечности существования человека».
Вернуть бы прошлое, воскресить, и если уж это невозможно, то сделать так, чтобы не стала через сколько — то лет такой же, как бабушка, эта прелестная юная девушка. Ведь давно ли старушка была юной! Когда построен этот особняк? Должно быть, вскоре после пожара Москвы, году этак в 1814-м, лет шестьдесят с небольшим назад. И какой-нибудь молодой офицер, вроде Алексея Воейкова, вел свою жену, еще молодую, свежую, прелестную, по этим комнатам, в которых сейчас запустение и старые фамильные портреты по стенам, а в каком-нибудь стареньком бюро, вроде бюро Алексея Яковлевича, лежат трактат об освобождении крестьян, и старые письма, перевязанные лентой, и альбом стихов, страниц которого, возможно, касалась рука Державина или Жуковского.
Поленов явно любуется этой жизнью, хотя и грустит оттого, что все проходит. Ему нравится здесь.
Он здесь родился и кровно привязан ко всему. Именно — кровно. (Не случайно ведь Вера Павловна Зилоти вспоминала много лет спустя, «как красиво он чистит апельсины, как все, что он делает, — эстетично». Вспоминала о его шарме. И ведь шарм этот был не напускной. Поленов совсем не глядел на себя со стороны, он не был «шармером» — человеком, который старается произвести определенное впечатление.)
Но ему любо и там, по ту сторону забора, в «Московском дворике», ему по душе и та жизнь. И это — главное противоречие его существования, почти трагедия.
Он так же искренне любил и тех, которые остались по ту сторону забора, ему хорошо было и с ними, с этими босоногими белоголовыми мальчишками, так рано становившимися взрослыми, с этими мужичками с ноготок с таким коротким детством, что и не заметишь его. Еще маменька в своей книжке «Лето в Царском Селе» писала, что «крестьянин очень много трудится. Усердный и трудолюбивый мужичок достоин уважения…» Это все так просто в детской книжке, написанной мама, которая скорее склонна обманываться, чем обманывать…
«Бабушкин сад», должно быть, последняя картина, написанная Поленовым в квартире дома Баумгартена близ Спаса на Песках. В июле Поленов с Левицким переехали во флигель старинного барского дома в Хамовниках; тогда это была окраина Москвы. Дом и флигель принадлежали двоюродному брату графа Олсуфьева, хорошего знакомого Поленовых. При доме — чудесный сад, «старый заросший барский сад, — пишет Поленов матери, — с оранжереями, храмами, фотами, прудами, горами, словом, какой-то волшебный сон». Не исключено, что зелень на картине «Бабушкин сад» написана Поленовым уже на новом месте…
Репин тоже жил неподалеку, в Большом Теплом переулке, близ Девичьего Поля. Отношения их, разумеется, давно уже вошли в обычную колею, стали вновь дружескими. Репин понял, что общение Поленова с сильными мира сего отнюдь не изменило ни его самого, ни его взглядов, не пошло во вред его искусству.
В марте поселился в Москве Васнецов, и теперь часто они вчетвером — Репин, Поленов с Левицким и Васнецов — бродят по окрестностям Москвы, вдоль берегов Москвы — реки, ездят к Мамонтовым в Абрамцево, от них в Троице-Сергиеву лавру, в Саввинский монастырь. Они все больше проникаются духом Москвы, тем, что осталось в ней от старины, и все больше этой стариной восхищаются.
Поленов — в силу обстоятельств — оказывается непоседливее всех. И у Репина, и у Васнецова — семьи. Он же одинок и в августе — вскоре после переселения в олсуфьевский дом — уезжает в Имоченцы, где живут сестры. После того как был закрыт госпиталь в Киеве, они открыли лечебницу в Имоченцах, где Вера, разумеется, руководит, младшей же сестре отведена роль вспомогательная. Они даже пользовали крестьян гомеопатическими средствами.
Поленов прожил с сестрами чуть больше месяца. Наиболее значительной работой этого месяца был этюдный портрет крестьянского мальчика лет десяти — двенадцати. Вещь эта называется «Вахрамей». Двумя годами позднее, в 1880 году, там же, в Имоченцах, написана другая вещь, которую принято рассматривать вместе с первой: «Ванька с Окуловой горы».
Если Поленов писал о своей склонности «к пейзажному бытовому жанру», то здесь, если можно так сказать, «портретный бытовой жанр», ибо оба портрета именно наполнены содержанием. Перед нами словно бы повзрослевшие мальчики из «Московского дворика». У одного кончается детство, у другого уже кончилось. «Ванька с Окуловой горы» еще мальчик, но уже начинающий постигать сложность жизни, а Вахрамей уже перешагнул этот порог, он смотрит немного сощурившись, словно уже понял все тяготы, ожидающие его впереди.
Как-то по инерции и эти вещи принято относить к циклу «тургеневских» по настроению. Но здесь, пожалуй, если уж непременно нужны литературные ассоциации, скорее напрашивается параллель с Некрасовым, с его «Крестьянскими детьми», как с самой поэмой, так и с другими стихами, многократно варьирующими ту же тему. У Поленова такая же, как у Некрасова, симпатия к этим рано повзрослевшим детям: и к по-детски трогательному младшему Ваньке, и несколько даже свысока глядящему на «барина», который «списывает» его, Вахрамею.
Но пребывание Поленова в Имоченцах было недолгим: он и сестры были вызваны в Петербург, где тяжело заболел отец. В середине октября Дмитрий Васильевич умер. Почему — то событие это было воспринято не столь трагично, как, пожалуй, могло бы быть. Хрущов тотчас же начал писать биографию покойного, и уже на следующий год она была издана. А сын его, художник Василий Дмитриевич, побыв еще некоторое время с матерью и сестрами, вернулся в Москву, где в новой мастерской принялся очень энергично за работу.
В начале 1879 года предстояла следующая, VII Передвижная выставка, и Поленов спешил приготовить что-нибудь к ней. В конце января Репин писал Чистякову: «Поленов написал очень хороший пейзаж „Паромик с лягушками“, очень свежо и солнечно и тепло».
Вот, собственно, и все, что можно сказать об этом пейзаже, который экспонировался на выставке под названием «Лето»; его купил коллекционер Дмитрий Петрович Боткин. Нынешнее местонахождение картины неизвестно.
Кроме этого пейзажа Поленов приготовил для выставки картину «Удильщики». «Бабушкин сад» давно был готов. Это все он отослал в Петербург, а сам писал новую картину по этюду, сделанному летом 1877 года в Петрушках.
Эта новая картина по теме и по настроению — словно бы вариант «Бабушкиного сада», это опять заброшенное «дворянское гнездо», где пруд не расчищался уже много лет и зарос кувшинками, где остались старые мостки, ведшие, должно быть, к некогда существовавшей и уже давно разрушенной купальне. Парк вокруг пруда разросся и одичал. Словно бы по контрасту с этим запустением — свежая «дикая» зелень в правом нижнем углу, а в противоположном углу — левом верхнем — солнечное светло-голубое небо с полупрозрачными белыми облаками, отражающимися в воде.
В этюде, написанном в Петрушках, центром композиции была женщина, удивительно похожая на ту, что поддерживала бабушку на другой картине, уже известной нам. И это была Вера, стоящая у начала мостков (дальше идти опасно — ведь они такие ветхие, того и гляди окажешься в воде). Однако стройная фигура молодой женщины диссонировала с общим настроением картины, и поэтому в окончательном варианте, в самой картине, на заднем плане — совсем в глубине, у начала темной и дикой зелени — появилась скамейка, а на ней, в тени, фигура сидящей в раздумье молодой девушки. А перед ней появился еще редкий куст, который совсем уж отдаляет фигуру от зрителя. И фигура молодой женщины «играет» теперь совсем по-иному, она так же элегична, как и весь пейзаж.
Автор наиболее обстоятельного исследования творчества Поленова Т. В. Юрова пишет: «Живопись картины обнаруживает высокое мастерство Поленова-колориста. Картина почти целиком построена на градациях одного зеленого цвета. Тонко разработанная в оттенках зеленая гамма отличается исключительной красотой и богатством нюансировки. Кажется, в пейзаже нет двух абсолютно одинаковых тонов, как нет в нем и той несколько нейтральной краски, которая сплошь покрывала отдельные куски холста в „Московском дворике“.
Картина „Заросший пруд“ завершала определенный этап творчества Поленова, знаменовала наступление творческой зрелости».
Правда, еще до этого анализа автор исследования рассматривает пейзаж «Старая мельница», в котором тот же элегический мотив запущенности, заброшенности, которую никак не нарушает мальчик, сидящий с удочкой около этой, теперь такой спокойной, воды. И она считает, что в картине этой «решается по сути дела та же тема», что и, скажем, в «Бабушкином саде». Что ж, это верно. Но только тогда написанный ранее «Заросший пруд» совсем не «завершает определенный этап» в творчестве Поленова. О. А. Лясковская, также основываясь на анализе колористических достоинств, считает одной из высочайших вершин творчества Поленова совсем другую работу «Благодаря умению передать тончайшие градации оттенков, — пишет Лясковская, — Поленов мог создать неимоверно трудный по мотиву пейзаж „Парит“… где все тонет в бесцветном мареве, где нет ничего останавливающего на себе взгляд, но все полно удивительной правды. Вместе с тем художник не поддался соблазну накинуть на пейзаж более плотную вуаль, что придало бы мотиву больше привлекательности. Песок, трава, повырубленные склоны за речкой ясно различимы, и все томится под бесцветным, как бы пустым небом».
Что сказать по поводу этих искусствоведческих анализов? Разве лишь то, что оба они справедливы и что многие иные картины Поленова можно было бы также ловко препарировать и найти в них бездну достоинств. И «Река Оять» (1889), и «Река Воря» (1881), и «Портик кариатид. Эрехтейон» (1882), и «Пруд в Абрамцеве» (1883), и «Вид с балкона в Жуковке» (1888), да мало ли что еще…
Младшие современники Поленова оставили множество воспоминаний о том, как завораживающе действовали на них, в то время еще юнцов, светлые, дивные пейзажи Поленова, которые были словно окном, пробитым сквозь стены тех зданий, в которых экспонировались передвижные выставки; окном, через которое проникало солнце, проникал воздух. Мы же привычно считаем высочайшими достижениями художника те его картины, что написаны в «пейзажно-бытовом» жанре: «Московский дворик» и «Бабушкин сад». Почему?
Видимо, потому, что в них он наиболее полно выразил себя, свое отношение к миру, о чем уже говорилось выше. Что же касается анализа профессиональных достоинств и недостатков… что ж, это занятие почтенное и необходимое, но, право же, ничего не определяющее… Александр Бенуа, художник и искусствовед, писал: «Не в моих принципах излагать принципы, согласно которым создается то или иное художественное произведение». Почему? Да потому, считает Бенуа, что «то неуловимое, что не поддается анализу, и составляет самое существенное в данном произведении».
Но кто же является непререкаемым судьей?
Время. Время и только время. Именно время вынесло свой приговор и произведениям Поленова. А в те годы — в 1878-м, 1879-м и далее — никто, даже сам автор, не понял, что эти небольшие и такие, казалось бы, скромные полотна бесценны.
Правда, поняла это чуткая ко всему новому молодежь…
А критики того времени? Вот о них мы сейчас и поведем речь.
В феврале 1879 года Поленов послал в Петербург Крамскому «Бабушкин сад», «Лето» («Болото с лягушками») и «Рыбачки». Крамской в письме Репину отмечает лишь нескольких художников: самого Репина, выставившего «Царевну Софью», Васнецова («Преферанс»), В. Маковского (который, кстати сказать, к этой выставке ни одной значительной вещи не представил) и Поленова.
Пресса довольно благосклонно встретила картины Поленова, они были отмечены в нескольких рецензиях. Даже Стасов писал, что «„Бабушкин сад“ и „Удильщики“ г. Поленова прекрасно задуманные и с большой свежестью тонов зелени в тех или иных местах».
Стасов — если бы не был столь упрям и если бы его взгляды отличались большей широтой и гибкостью — мог бы, взглянув на первые работы, созданные Поленовым в России, в Москве, отказаться от своих прорицаний и увещеваний, мог бы даже напомнить: «Я ведь предупреждал, что я не пророк…» Но он не сделал этого. И не сделает. Раз составленное о Поленове мнение он сохранит до конца, до конца будет считать, что Поленов как бы не совсем русский художник и Москва ему совсем ни к чему.
А ведь права О. А. Лясковская, автор цитированной выше работы: «Трудно было ожидать от петербуржца, только что приехавшего в Москву, такой прочувствованной передачи чисто московского уюта в светозарный весенний день». Эти слова сказаны, правда, о «Московском дворике», которого Стасов еще не видел. Но и увидев его в галерее Третьякова, Стасов не изменил своего мнения о Поленове. Правда, со временем он упоминает имя Поленова в своих статьях традиционно почтительно, но не более. А в обзорной статье «Двадцать пять лет русского искусства» даже имени Поленова не упоминается. Больше того, уже в 1900 году, публикуя в журнале «Искусство и художественная промышленность» биографию Елены Дмитриевны Поленовой, Стасов пишет: «Поленову еще менее (чем Репину.
Удивительный человек Стасов! Где же, кроме Москвы, можно было написать «Московский дворик», «Бабушкин сад»? Где, кроме России, — «Рыбачки», «Заросший пруд»?
А ведь к 1900 году, когда Стасов публиковал эту статью, Поленов был автором огромного множества русских пейзажей, восхищавших своей свежестью и именно тем, как в них передана Россия…
Мы будем говорить еще об этом позднее.
А пока… пока приходилось читать в газетах такие репортерские заключения, по сравнению с которыми слова Стасова — совсем не худшие.
Ну, отзывы нынешнего — 1879 года — и в Петербурге, и в Москве, где Поленов не показал проданных уже «Рыбачков» и «Лета», но показал «Бабушкин сад», а также законченный уже «Заросший пруд», «Речку» и «Летнее утро», даже благожелательнее прошлогодних, когда был показан «Московский дворик». Тогда некий «Z» в газете «Свет и тени» назвал картину так: «Дворик в Москве». Поневоле вспоминаются горькие слова Ренуара, сказанные им как-то Воллару: «Проклятая мания поручать статьи о живописи авторам, обычно занятым хроникой раздавленных собак… И вот извольте им объяснять, что искусство нельзя расшифровать до конца и что если бы оно подчинялось анализу, оно перестало бы быть искусством».
Но бог с ними, с критиками, газетчиками и пр., подумаем, каково место первых работ Поленова в истории русской пейзажной живописи.
Когда в 1871 году открылась I Передвижная выставка, Крамской писал Ф. А. Васильеву: «Пейзаж Саврасова „Грачи прилетели“ есть лучший, и он действительно прекрасный, хотя тут же и Боголюбов (приставший), и барон Клодт, и И. И. Шишкин. Но все это деревья, вода и даже воздух, а душа есть только в „Грачах“. Грустно!»
За прошедшие после этого восемь лет положение в пейзажной живописи мало изменилось. Шишкин остался Шишкиным, художником очень добросовестно и тщательно копирующим природу. Но живопись — не ботаника. Шишкин, на мой взгляд, скучный художник. Появился Куинджи, выставивший на той же выставке «Березовую рощу» с эффектными солнечными бликами. В следующем, 1880 году Куинджи откроет персональную выставку, на которой будет экспонироваться — в темной комнате — весьма эффектно освещенная (на сей раз лунным светом) картина «Ночь на Днепре». Картиной этой он приведет чуть ли не в шоковое состояние зрителей. Экспансивный Репин в своих воспоминаниях о Куинджи обронит даже слово «гениальный»… Но время ставит все на свои места. Куинджи не был гениален. Он не создал эпоху в пейзажной живописи. Правда, у него было много учеников, и первоклассных — Рерих, Рылов, Пурвит, Рушиц, — но ни один из них не пошел по стопам учителя.
А вот пейзажи Поленова, куда как скромнее рядом с куинджиевскими и даже шишкинскими, эпоху составили.
В «Грачах» Саврасова была «душа». Была она и в пейзажах Поленова, но несколько по-иному. Именно в пейзажах Поленова появляется, как было уже сказано, настроение, и его пейзажи, и впоследствии в еще большей мере пейзажи его учеников и младших современников — Левитана, К. Коровина, Серова — получат наименование «пейзажей настроения». Выражение это к концу 1880-х — началу 1890-х годов стало настолько расхожим, что употреблялось в таких журналах, как, скажем, «Семья»: «Никто, кажется, не спорит, что истинная задача пейзажной картины — создать в смотрящем на нее известное более или менее тонкое настроение, более или менее приближающее к тому, какое в самом художнике вызвала изображенная им действительность и какого непосредственно не может дать обыкновенному смертному».
Таковы были результаты первых шагов Поленова в России на поприще живописи. И надо сказать, что они удовлетворили не только Стасова и других критиков, но и самого Поленова. Может быть, именно благодаря отзывам прессы он не считал, что начал уже по-настоящему художественную жизнь. Он все думал начать ее большой исторической картиной из жизни Христа. Как Иванов. Это мы сейчас, в исторической ретроспективе, можем понять ценность сделанного им в пейзаже. Сам он этого не понимал, даже несмотря на приобретение его картин братьями Третьяковыми, Боткиным, несмотря на то, что его избрали в члены Товарищества передвижных выставок.
Для меланхолии его, впрочем, была еще одна причина. Он все яснее понимал, что любит Марию Климентову, но молодая певица непрестанно уклонялась от решительного объяснения. В марте он посылает ей письмо. Письмо преогромное, как и все вообще письма влюбленных. В нем множество воспоминаний о каких-то событиях, словах, намеках, которым влюбленные всегда придают гораздо большее значение, чем они имеют на самом деле. Он пишет ей о том, что для него полно сокровенного смысла, а для нее — случайный поступок, случайно оброненные фразы, о которых потом «даже не помнят, что сказали, и с веселым любопытством просят повторить, напомнить…».
И ему то кажется, что она кокетка и ветреница, то — что она «не кокетка, не ветреница… а просто еще дитя. Умное, интересное, милое дитя с огромным запасом жизни, веселья, чистоты…».
И в конце — то, из-за чего все это длинное-предлинное послание: «Да, я Вас беззаветно люблю, Мария Николаевна, — да что я говорю! Я не Вас люблю, а я тебя люблю, люблю тебя всей силой моей души, всей страстью моего сердца, — ты мое горе, ты моя радость, моя жизнь, мой свет…»
Ответное письмо Климентовой не сохранилось. Поленов уничтожил его, как и все остальные ее письма, кроме деловых. Но точно известно лишь то, что взаимностью ему она не ответила. Однако же продолжала бывать в мастерской, где был окончен ее портрет, начатый год назад, получила этот портрет в подарок.
Почти через три года, перед отъездом Поленова в первое его путешествие по Ближнему Востоку, вдруг опять подала надежду… Поленов написал ей из Каира письмо, опять огромное, с описанием путешествия. А когда он вернулся в Россию, то оказалось, что Климентова вышла замуж за адвоката Муромцева, впоследствии первого председателя Государственной думы. Она не была с ним счастлива, да и он с ней — тоже. Он женился на ней по любви, после того как стало известно о ее тяжелом и неудачном романе с неким театральным деятелем…
Как знать, может быть, это к лучшему, что Поленова не было в то время в России. Может быть, на месте Муромцева оказался бы он и стал тем «благородным героем», который принес в жертву не любившей его женщине и свою жизнь, и свою любовь, и свое искусство.
Климентова была талантливой певицей, первой исполнительницей партии Татьяны в «Онегине», и Чайковский высоко оценивал ее исполнение. Весной 1880 года Поленов присутствовал на дебюте Климентовой (еще до ее замужества); певица исполняла партию Гретхен. Он вспоминал, как она когда-то называла его «своим Фаустом». Он, должно быть, был очень грустен. Но рядом с ним сидел Тургенев, который продолжал благоволить к молодому — впрочем, не молодому, 36-летнему уже — художнику. Тургенев восхищался дебютанткой. И Поленов пишет ей письмо, в котором передает слова Тургенева, что у нее «крупный талант, как вокальный, так и драматический» и что она может многого добиться, поучившись «четыре-пять месяцев у хорошего профессора, как, например, Viardot». Ну, разумеется, кого может рекомендовать Тургенев, если не Полину Виардо?! Но Климентовой узнать это было, наверное, приятно.
Однако это еще до ее душевной драмы, до вынужденного замужества.
А потом… потом она, хотя и выступала с успехом, заглушала свою тоску вином, игрой в карты. Конечно, такая жена не способствовала бы развитию творчества художника, которое требовало покоя, внимания, заботы.
Но Мария Николаевна из женского тщеславия совсем не думала прерывать отношения с Поленовым. Отношения эти — такие неопределенные, в которых надежда сменялась отчаянием, — продолжались еще два года.
Отдушиной был дом Мамонтовых. Дружба, начало которой было положено в Риме, продолжалась, крепла. И Поленов, и Репин, и Васнецов, и Серов, еще мальчик, ученик Репина, — все находили привет и тепло в московском доме на Садовой-Спасской и в Абрамцеве.
Когда Поленов в конце 1878 года приехал в Москву после смерти отца, он тотчас же бросился к Мамонтовым. Близился Новый год, близилось Рождество. 31 декабря 1878 года у Мамонтовых, как некогда у Боголюбова в Париже, были поставлены живые картины, причем не одна, а пять. Был возобновлен парижский «Апофеоз искусств», кроме того, Поленов поставил еще две картины: «Русалку» и «Демона и Тамару». В зимние месяцы в большом кабинете Саввы Ивановича происходили чтения. Читали, распределив роли, «Бориса Годунова», читали пьесы русские и иностранные. Отношения становились все более теплыми.
Поленов с Мамонтовым перешли на «ты», стали называть друг друга просто по имени: Савва, Базиль.
Весной 1879 года, после объяснения с Климентовой, Поленов стал особенно частым гостем Мамонтовых. 23 марта Мамонтовы переехали в Абрамцево, потянулся и он за ними, в Абрамцеве вместе встречали Пасху. Левицкий поселился в Абрамцеве на все лето, а Поленов бывал наездами, были в тот год гостями Абрамцева Крамской и Боголюбов.
А зимой, 29 декабря 1879 года, кроме живых картин поставили пьесу А. Майкова «Два мира». И Климентова — вот уж несносная женщина! — проникла вслед за Поленовым в мамонтовский дом и играла в пьесе. Это была первая пьеса, поставленная у Мамонтовых (впоследствии их будет поставлено немало), и ставил ее Поленов. С этого времени начинается его деятельность как художника-декоратора.
Открытия, как это ни покажется парадоксальным, часто делают профаны. Поленов был профаном в декорационном искусстве. И он сделал открытие, ставшее основой декорационного искусства будущего. С домашних спектаклей в доме Мамонтовых это новое перешло потом на сцену Частной оперы, которая будет организована Саввой Мамонтовым в 1884–1885 годах, оттуда — в Художественный театр, который будет организован в 1898 году племянником Елизаветы Григорьевны Костей Алексеевым — Константином Сергеевичем Станиславским совместно с В. И. Немировичем-Данченко… А потом — временно — на казенную сцену, куда принес его ученик Поленова Коровин… А еще позднее — в парижскую антрепризу Дягилева, куда принес его Серов.
Все началось с декабрьских вечеров 1879 года в доме на Садовой-Спасской, где, как вспоминал впоследствии Васнецов, Поленов писал декорации «весь в белилах, саже, сурике, охре, глаз не видно и тут же роль разучивает. С Репиным чуть не побранились о праве писать декорации».
В чем заключалось новое, принципиально новое в декорационном искусстве?
На первый взгляд, казалось бы, в малом: в отказе от принципа кулис. Считалось, что именно кулисы создают иллюзию объемности. Но это не так. Всякое новшество со временем, попадая во владение ремесленнику, стареет, вырождается, становится рутиной. Стал рутиной и кулисный принцип декорации. На сцене появились картонные деревья — жалкая потуга на подлинность.
В то время на сцене Большого театра царствовал некий Валц, которого называли «магом и волшебником». Он не был художником, а был и впрямь магом и волшебником, ибо очень искусно устраивал на сцене пожары, морские бури, снежные метели. Зрители ахали, удивлялись. Зрители приходили в восторг. И было от чего!
Но не удивить людей было целью Поленова. Целью было: дать зрителю художественное впечатление, сделать декорацию по настроению адекватной содержанию художественного произведения. Для этого не нужны ни иллюзии пожаров и наводнений, не нужны будто бы натуральные деревья, стоящие посередине сцены. Вместо всего этого писался один задник, но он был высокохудожественной картиной. А при искусстве Поленова — колориста и перспективиста объемность достигалась куда в большей степени, чем при ремесленных кулисах. Это была объемность за пределами игровой площадки. А сама игровая площадка была объемной за счет мебели, движения, игры людей (сначала — любителей, потом, в театре, — актеров). В конце концов, и один и другой принцип условны, как условно любое искусство, все зависит от меры и характера условности. Мера старой условности была перейдена, стала чрезмерной. Новая «мера» была иной, а по характеру — более художественной.
Что касается воспоминаний Васнецова, относящихся к 1893 году (когда отмечалось пятнадцатилетие мамонтовского кружка), о том, что Поленов не только писал декорации, но и репетировал, то это верно: он играл одну из главных ролей — римлянина Деция, что очень «к лицу» было ему с его величественной внешностью и любовью к античной культуре. И то, что Поленов «с Репиным чуть не побранились о праве писать декорации», тоже верно, а не для красного словца сказано. Поленов и сам потом вспоминал: «При постановке „Двух миров“, когда я работал над декорацией римского зала, Репин написал там бюст Гомера, воспользовавшись гипсовой головой, которая находилась в мастерской Саввы Ивановича. Бюст вышел изумительно, натуральным, живым предметом. Тогда я убедился в значении художественной правды в декорации».
Слова эти в какой-то мере служат ключом к пониманию поленовского принципа декорационного искусства: «художественная правда». Ведь бюст Гомера можно было установить на сцене. Но он был — на декорации, на заднике. Ибо для игры он не был нужен. А все, что нужно для игры: мебель, костюмы — все должно гармонировать между собою и отвечать общему настроению спектакля. Таков был принцип.
Но Поленов не был художником-универсалом. Бытовая драма, вроде пьес Гоголя и Островского, была вне сферы его возможностей.
Впоследствии, много лет спустя, занимаясь проблемой создания типовых декораций для народных театров, Поленов сделал типовые декорации для пьес Островского и Тургенева, но здесь он шел — во имя просветительской цели — на нарочитое упрощение, примитивизацию, создавая элементы декораций, из которых потом можно было варьировать нечто цельное, нечто «в духе Островского», ибо очень скромны были материальные возможности народных театров, а Поленов всегда хотел сделать театр доступным народу.
В доме Мамонтовых, а потом в Частной опере его интересовали главным образом те спектакли, где можно было показать нечто возвышенное, романтичное, так, чтобы перенести зрителей из мира обыденности в мир прекрасного. В кружке его поэтому называли «классиком».
Не меньше, чем стремление сделать театр доступным народу, было у Поленова желание приобщить к миру прекрасного детей.
По-видимому, не без влияния Поленова Савва Иванович к следующему году к Святкам написал пьесу для детей «Иосиф», сюжет библейский. Поленов сделал эскизы для всех декораций, причем на эскизах были и действующие лица. Таким образом, Поленов выступает здесь не только как декоратор, но и как постановщик.
Впоследствии и этот принцип — совмещение в одном лице художника — декоратора и постановщика — станет одним из принципов Частной оперы Мамонтова. Поэтому не случайно именно Поленова считают создателем новых декорационных принципов, легших в основу постановок мамонтовского театра.
Следом за ним пошли другие: Васнецов, создавший эпохальные декорации для «Снегурочки», а потом, уже в середине 1880-х годов, молодые ученики Поленова — Левитан, Константин Коровин, превзошедшие даже своего учителя…
Сейчас надо лишь сказать, что только после декораций к «Иосифу» Поленов окончательно осознал и утвердил этот свой новый декорационно-постановочный принцип. «Мы сошлись с ним, — писал впоследствии Поленов о Мамонтове, — в стремлении сюжетами и обстановкой, взятыми из мира истории и сказок, поднять детей от обыденной жизни в область героизма и красоты».
Что ж, обыденная жизнь и впрямь мало давала красоты и героизма не только детям, но и взрослым. Вот хотя бы его, Поленова, собственные любовные неудачи. В действительности они были совсем не романтичны: ни смерть Маруси, ни отношение к нему Климентовой. И что было бы с ним, если бы не друзья-художники, объединившиеся вокруг Мамонтова.
Опять, как и в прошлом году, Поленов был в Абрамцеве во время Пасхи, потом летом, в июле, приезжал еще, и они, как писал Савва Иванович, «открывали воды».
Мы уже говорили, что Поленов был великим мастером «рекоплавания». Именно он основал в Абрамцеве речную флотилию, чем снискал огромную любовь мальчиков, сыновей Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны. Когда он увидел их впервые в Риме, они были еще совсем детьми, теперь же стали «взрослыми мальчиками» — и Сережа, и Дрюша, и Вока. Появлялись в Абрамцеве, чем дальше, тем во все большем числе, их двоюродные братья, сыновья Анатолия Ивановича Мамонтова. В этой веселой компании прижился и 14-15-летний Антон Серов.
Зимой 1879/80 года Репин устроил у себя в мастерской рисовальные вечера, на которых всегда бывали Поленов, Васнецов и Суриков. Антон Серов жил у Репина пенсионером. И Поленов сам мог убедиться в правоте слов Репина: Серов был редкостно талантлив.
Но когда этот же Серов, тоже, в сущности, «взрослый мальчик», попадал в компанию таких же мальчиков, он забывал о том, что он, как Репин говорил, «Божьей милостью художник». И он, и все остальные мальчики очень полюбили Поленова, полюбили за доброжелательность, за неистощимую энергию, за внимание к ним, мальчикам, на которых, кроме него, мало кто и обращал внимание.
Самые теплые строки в «Воспоминаниях о русских художниках» Всеволод Мамонтов посвящает именно Поленову: «Одно лето он занимался приведением в порядок речной флотилии Абрамцева и создал из нас, четырех мальчишек, носивших к тому же постоянно матросские костюмы, дисциплинированную лодочную команду».
Была построена пристань, были приведены в порядок все три, имевшиеся в Абрамцеве, лодки. Самая быстроходная получила название «Рыбка», другая — «Лебедь», третья — «Кулебяка», названная столь презрительно за то, что была она тяжела, истинно как кулебяка, и неповоротлива. Поленов установил в лодочной команде надлежащую дисциплину. По окончании плавания лодки привязывали в определенном порядке к причалу, весла, уключины, рули уносились в дом.
Больше всего любили мальчики плавать к железнодорожному мосту, по которому вечером проезжал поезд; в поезде этом возвращался из Москвы, из правления железной дороги, Савва Иванович. По команде Поленова весла поднимали вверх, приветствуя поезд, Савва Иванович махал из вагона рукой, затем лодки разворачивались и мчались обратно — встречать Савву Ивановича, едущего в дрожках, которые подавали к поезду на станцию Хотьково. «Одно лето, — пишет В. Мамонтов, — Поленов завел даже на абрамцевской речушке Воре плавание на лодке под парусом, приспособив для этого самую быстроходную „Рыбку“. На веслах доезжали мы до фабричного пруда, запруженной у деревни Репихово Вори, и тут переходили на парус. Жутко бывало нестись при свежем ветре в сильно накренившейся на бок лодке, но мы слепо верили в опытность капитана, Василия Дмитриевича, и неустанно рвались прокатиться с ним под парусом».
И все же у Поленова, как ни тепло было ему у Мамонтовых, на душе было тяжело. Неразделенная любовь, неудачная любовь — не отпускает. Гложет.
И до чего же чуток оказался Савва Иванович: в конце лета, когда Поленов отправился в Имоченцы, пишет ему: «Что ты поделываешь, как тебя встретил твой любимый север? Как твое расположение духа? Не знаю, верно ли, но мне как будто чувствовалось, когда ты жил в Абрамцеве, что у тебя не совсем легко было на душе, и у меня за тебя сердце побаливало».
В Имоченцах жила Вера с Хрущевым. Хрущов разбирал библиотеку Дмитрия Васильевича и, как всегда, был занят по горло делами, работал над очерком «К истории русских почт. Очерк ямских и почтовых учреждений от древних времен до царствования Екатерины И». Вера тоже была занята: писала исторический роман «Князь Курбский».
Вместе читали брошюру Алеши «Рыбачий полуостров» — о командировке на Мурман. А Вася? Что Вася привез? Вася привез… ноты. Зимой ставили у Мамонтовых пьесу «Два мира», и вот художник Василий Дмитриевич Поленов сочинил ораторию «Два мира». Ее исполнили в Имоченцах, и Вера с восхищением писала о брате: «Какой он талантливый!»
А писала она Лиле. В Париж. Дело в том, что Лиля в конце прошлого года начала работать в акварельном и керамическом классе Школы поощрения художеств, директором которой был писатель Григорович. Это было не только занятие любимым искусством, но и заработок. Теперь, когда Дмитрия Васильевича не стало, с деньгами у Поленовых сделалось потуже. Подумывали даже о продаже — не сейчас, конечно! — имения в Имоченцах.
В декабре 1879 года Вера писала брату: «Лилька молодец, — с осени заработала себе больше ста пятидесяти рублей, но, что гораздо дороже денег, это то положение, которое она себе составила там, где она работает. В школе Григоровича она теперь первая, и не только по таланту, но и как человек, как деятель».
В конце концов Лилю послали в Париж — изучать живопись на фарфоре и изготовление эмалей наподобие знаменитых лиможских. Лиля пишет об этом брату, и, читая ее письмо, как всегда, не устаешь восхищаться ее эпистолярным талантом и ее удивительной непосредственностью: «Какой скандал, Вася, меня посылают за границу от общества поощрения. Я думаю, что первый пример в истории, по крайней мере русской, чтобы особа нашего бабьего сословия получила поручение и отправлена была в командировку с целью изучения и т. д.». Это письмо написано еще в январе. А теперь, в сентябре, Лиля пишет брату из Парижа, как интересно в мастерской «Самого Дека», который, по мнению Поленова, «самый талантливый… фабрикант и на него работают замечательные художники».
Мастерские его находятся в глухом квартале Парижа — Вожираре. Мастерские — маленькие домики в большом саду, где повсюду декоративные керамические изделия: изразцы, вазы и пр.
Лиля старательно изучала различные виды керамической живописи, искусство поливы, технику изготовления лиможских эмалей. «Я послала в Питер несколько образчиков своих работ, не знаю, что мне скажут. Теперь такая хорошая пора для работы в Париже, я вообще осенью всегда лучше всего работаю, а теперь очень, кроме того, втянулась в Париж; все-таки нигде на свете так хорошо не работается (говоря про изучение чего-либо), как здесь. Вот еще деревня для вольного труда с натуры хороша. Работать — и в Имоченцах, и в Воейкове, и где угодно, а учиться — в Париже, а жить — в Москве. Как жаль, что год не состоит из трех осеней! Из них одну бы учиться в Париже, другую — наслаждаться работой с натуры в деревне, а третью — в Москве применять к делу свои знания».
Ну вот, и Лиле, как прежде Васе, Париж пришелся по душе, а жить она хочет не в Петербурге, а в Москве…
Между тем из Петербурга приходят нерадостные вести: заболела Вера. В Имоченцах она чувствовала себя совсем бодро, хорошо перенесла переезд из Имоченцев в Петербург. А в Петербурге в конце ноября простудилась и слегла. Приехала из Парижа Лиля и тоже заболела. Но у Лили организм был поздоровее, она быстро поправилась. А Вера все продолжала хворать.
Поленов, уехавший в Москву еще в октябре, очень встревожен вестями о болезни сестры, но пока опасности нет, и он продолжает работать много и усердно — с девяти утра до девяти вечера, даже у Мамонтовых редко бывает — предстоят две выставки: очередная Передвижная и совершенно особая: «25 лет русского искусства».
Летом он (из письма Лили) «писал все больше Оять с разных пунктов» и теперь по этим этюдам писал пейзажи. Работал он упорно, много, но вести о болезни Веры не давали покоя, и кисть валилась из рук. Однако потом Вере становилось лучше и работа шла успешнее.
Незадолго до отъезда Поленова из Имоченцев выпал снег, и он тогда сделал этюд, по которому написал теперь один из лучших своих пейзажей — «Зима в Имоченцах». Пейзаж этот также «населен», как и прежние его пейзажи, но что-то в нем есть новое. Может быть, то, что это первый зимний пейзаж? Или то, что он понимает: семья, еще недавно такая большая, пусть в чем — то деспотичная, но все же своя, родная, уходит; умерла бабаша — этого он почти не заметил, удрученный смертью Маруси Оболенской; смерть отца перенес тяжелее; теперь тревожно больна Вера — там, в Петербурге, с ней Лиля и Хрущов; мать раньше немедленно бы примчалась на такую тревожную весть, а теперь что-то долго собирается из Ольшанки, где проводила лето, как совсем еще недавно — бабаша; мать стара — много ли ей еще отпущено? Скоро не будет и Имоченцев…
И этот пейзаж — как бы прощание с Имоченцами.
Пейзаж летний — с Оятью — написан. И не один. Это тоже словно бы прощание. Несколько пейзажей с этюдами — это просто энциклопедия Ояти. И почти все они не будут проданы, останутся у Поленова.
А вот «Зима» — это что-то и впрямь новое. Здесь, как в ранних имоченских пейзажах, таких как «Огороды», как-то незаметно передан быт людей. Видно, что деревня не из бедных, дома крепкие. Все люди сидят по домам; только две женщины идут по тропинке, да мужик в санях — должно быть, из леса, который обступил деревню с трех сторон. А в избах тепло, из каждой трубы — дым. И, вероятно, не голодно.
Это последний, может быть один из последних, имоченский пейзаж. Он также, как давний — «Огороды», пейзаж-приглашение: приезжайте сюда не только летом, но и зимой, здесь и зимой хорошо.
А если смотреть на пейзаж, зная будущее, то есть смотреть на него сейчас — это и пейзаж-прощание, и пейзаж-сожаление. Сожаление потому, что Поленов никогда в Имоченцах зимой — не поздней осенью, когда только выпадает снег, а именно глубокой зимой — не бывал. А прощание потому, что больше ему там вообще бывать не придется: в 1884 году Имоченцы будут проданы…
А в Петербурге дела шли невеселые. Вера все хворала. То ей становилось лучше, то опять хуже. Зима принесла некоторое облегчение. «Вера вне опасности, но еще надолго, кажется, прикована к постели, — писала брату Лиля. — Болезнь такая, что требует внимательного и безотлучного ухода. Вот сегодня четыре недели, что я никуда».
А между тем у Лили могла бы сейчас начаться преинтересная жизнь. В школе Григоровича, которая командировала ее в Париж, ее ждут не дождутся. И сколько заманчивых предложений для работы! «Ну, да что ж делать, обстоятельства складываются не всегда так, как мы этого желаем, — лишь бы ее-то выходить от этого плеврита».
Это в декабре. Прошел Новый год с постановкой «Иосифа» у Мамонтовых. Открылась Передвижная в Петербурге…
Но Поленов в Петербург отправился еще раньше. Конец зимы — начало весны принесли с собою ухудшение состояния Веры. Легкие всегда были у нее слабы. А весна легочным больным часто приносит ухудшение.
Поленов не заметил, пропустил — не до того было — события одно другого важнее: и открытие Передвижной, и то, что потом так повлияло на судьбы страны: взрыв на Екатерининском канале, смерть Александра II, восшествие на престол так недавно еще благоволившего ему Александра III…
…Вера угасала. Ее оперировали раз, потом — второй; врачи «подавали надежду», но ясно было: дни ее сочтены. «Бедная, она сильно страдает от неумолкающего жару. Боже, какое тяжелое время», — пишет Поленов Елизавете Григорьевне 4 марта. А 7 марта 1881 года Вера умерла. Перед смертью она просила брата заняться, наконец, давно обещанной большой картиной из жизни Христа. Он обещал. Но пока что вспомнил о другой картине, той, которую задумал еще в Риме, когда смертельно заболела Лиза Богуславская, когда умерла Маруся Оболенская…
Тело Веры привезли в Москву и похоронили на Ваганьковском кладбище.
Вот теперь Поленов почти не уходил от Мамонтовых.
В мастерской работал над картиной «Больная». Лицо больной, как и лицо внучки на картине «Бабушкин сад», — это опять лицо Веры. Перед горем от потери Веры, такой еще молодой и ставшей теперь, после смерти, еще более близкой, померкло все, что он пережил раньше. Он писал «Больную», но чувствовал, что сейчас, когда горе еще так остро, он не может объективно оценить работу. И все же он продолжает ее и оканчивает — почти оканчивает — в 1881 году. Это одна из лучших его работ. Вся любовь к Вере, жалость к Лизе Богуславской, память о Марусе Оболенской, печаль об отце и «дяде» Чижове, обо всех этих родных, любимых, симпатичных ему людях, — все это нашло отражение в картине.
Лицу больной приданы, как уже было сказано, черты Веры. В постели молодая девушка (возраста скорее Маруси или Лизы) с иссушенным болезнью лицом; голова ее тонет в подушке, рука бессильно лежит поверх одеяла. И хотя лицо в тени, но явственны и перенесенные страдания, и попытка борьбы за жизнь, и то, что после этого наступило отчаяние, а теперь — примиренность.
В эскизе, сделанном в Риме, в ногах больной сидит другая девушка, читающая книгу. Сейчас на постели никого нет. Другая девушка (уже не Мотя Терещенко, а, вероятно, Лиля Поленова) стоит у ниши, погруженная в тяжелое раздумье. За окном сумерки, за окном догорает день, а здесь, в комнате, догорает жизнь. Ярко горит только керосиновая лампа, накрытая абажуром.
Здесь как-то не хочется говорить, даже думать о сложной колористической задаче, которую решил Поленов (да это и сделано уже в специальных исследованиях о его творчестве). Здесь видишь только, что книжка, которую читали больной, лежит на столике: она не только читать, но и воспринимать ничего не может. Она даже сама себе воды налить не может: графин стоит позади лампы, около нее только недопитый стакан.
И этот вечерний свет из окна, и свет лампы, и то, что свет этот выхватывает из тьмы только небольшой круг: столик, край постели, руку больной, — все это создает гнетущее впечатление обреченности, безнадежности. Да, конечно, жизнь продолжается. И после смерти этой девушки будет существовать эта лампа, и при ее свете другая девушка будет читать книгу, которую не успеют дочитать больной…
Поленов часто ходит на Ваганьковское кладбище, сажает цветы на Вериной могиле, ставит скамейку, решетку. В письмах он зовет Лилю с матерью уехать из Петербурга, где им вдвоем очень тяжело. «Побереги себя хоть для меня, — пишет он Лиле. — Один только и есть ты у меня близкий человек, не уходи же в себя, если что нужно, напиши, я все сделаю». Мария Алексеевна совсем выбита из колеи. Она полностью отдает себя в распоряжение детей. «Она желаний положительных не имеет, поэтому мы должны решить за нее…» — пишет Лиля.
В конце концов они все поселятся в Москве. Не сразу Как-то жутковато было тотчас после смерти Веры бросать насиженное гнездо, квартиру, где жили все вместе, большой семьей.
А Поленов почти все лето 1881 года провел в Абрамцеве. Там, как всегда, жизнь била ключом, там его любили. Там и веселились, и работали. Вот сейчас затеяли строить часовню или небольшую церквушку. Поленов рисовал проекты. Сначала сделал рисунок бревенчатой избушки-часовенки, каких много было в Олонецком крае, потом небольшой собор, но такой архитектуры, будто это большой храм с массивными стенами: это уже был стиль новгородских храмов, что-то вроде Спаса на Нередице.
В работу включился Васнецов, который тоже жил в Абрамцеве тем летом. Он-то и сделал, взяв за основу рисунок Поленова, окончательный проект церкви, именно по образцу новгородской Спаса на Нередице. Поленов нарисовал для этого проекта эскиз иконостаса.
Все это было весной. А в начале июня, вспомнив детство, поездку с отцом и Алешей по старым городам, он предложил абрамцевской компании поехать в Ростов и Ярославль. Поездка удалась. Вернулись с большим количеством зарисовок деталей старинной архитектуры и церковной утвари.
Приехал архитектор. Для церкви вырубили небольшую площадку леса, и работа закипела. Но это уже была работа архитектора и строителей.
Пока ездили в Ростов и Ярославль, Савва Иванович, как всегда экспромтом, написал комедию «Каморра». И опять — уже привычно — художником, написавшим декорации, был Поленов. 24 июня в Абрамцеве «Каморра» была исполнена участниками кружка.
Так Поленов понемногу приходил в себя после постигшего его горя.
Но он помнил об обещании, данном Вере, — написать давно задуманную картину из жизни Христа, и поэтому, узнав от Саввы Ивановича, что Адриан Викторович Прахов собирается еще с кем-то предпринять поездку на Ближний Восток, обрадовался, что будет не одинок. Хотя Прахов не был ему очень симпатичен, но все же лучше путешествовать с ним, чем одному. Он написал Прахову письмо и тотчас же получил согласие. Потом выяснилось, что Прахов был в поездке не главным лицом, он лишь сопровождал как историк искусства миллионера, князя Абамелек-Лазарева.
Семен Семенович Абамелек-Лазарев оказался совсем молодым человеком, ему было двадцать четыре года, он был образован и обладал огромной памятью. Общение с ним было бы совсем приятным, если бы не фантастическая скупость князя, несмотря на то что он был чуть ли не самым богатым человеком в России (князь печалился, что не самым богатым в мире).
Поленов вспоминал потом, что князь перебирал полученную за день в виде сдачи мелочь, отделял фальшивые пиастры и ими раздавал милостыню местным жителям и потом хвастал: «Я сегодня сбыл фальшивых пиастров на тридцать семь копеек».
Прахов втайне ненавидел своего благодетеля и как-то, когда они были на острове Филе — в верховьях Нила, сказал, что отдал бы все свои княжеские титулы, только бы всю жизнь провести на острове Филе. Это было глупо и бестактно. Глупо потому, что остров был безобразен, если не считать развалин древних храмов: глыбы гранита, среди которых торчат, точно неживые, пальмы и какие-то колючие растения. Бестактно — потому, что князем был один Абамелек. Чуть не произошло резкое объяснение, но Прахов вовремя спохватился и сказал — правду ли? — что он по женской линии происходит от польских князей.
И все же, несмотря на таких не совсем удачных спутников, путешествие удалось. Больше того, Поленов, хотя и помнил нрав своих спутников, диктуя сыну воспоминания, сказал о Прахове, что он «был образованный человек, но большой болтун, и зачастую сведения оказывались не соответствующими действительности», а об Абамелеке, что богатство было его «пунктиком». Но через тридцать лет после путешествия написал Абамелеку очень теплое письмо, в котором были такие слова: «Когда я переношусь в эти дни моей жизни, то всегда с благодарностью вспоминаю милого Адриана Викторовича, которому я обязан этим путешествием…» Впрочем, всегда приятно вспомнить то, что было в молодости.
Однако о самом путешествии.
Из Москвы выехали в середине ноября. Сделали остановку в Киеве, где осматривали Софийский собор и небольшую Кирилловскую церковь, реставрация которой была поручена Прахову. Потом поездом через Румынию приехали в Болгарию, в Варну. Поленов невольно предался воспоминаниям о том, свидетелем каких событий был он всего пять лет назад и сколько крови было пролито во имя независимости этой страны.
Из Варны пароход взял курс на Константинополь. В пути слегка качало, и это портило впечатление от путешествия.
Наконец, показался Константинополь, путники сошли на берег в Пере — европейской части города, побывали в таможне, где должны были осматривать их вещи. Весь осмотр вылился в то, что пришлось впервые познакомиться с тем, что такое бакшиш, которым весь досмотр и ограничился.
Из европейской части перебрались в азиатскую — Стамбул, переехали по мосту через Золотой Рог, узкий длинный залив Мраморного моря, делящий город на две части, и поднялись на холм, на котором стоит мечеть Айя-София.
Мечеть эта была когда-то христианским храмом, построенным еще в 325 году в царствование императора Византии Константина. Тысячу с лишним лет спустя, после того как Византийское государство распалось и место это было заселено мусульманами, собор превратили в мечеть. Теперь гяурам можно осматривать мечеть за вознаграждение. Впрочем, Поленов не жалел о деньгах, потому что впечатление было необычайное. «Ни Пантеон, ни храм Петра, ни Кёльнский собор не могут сравниться со свободным полетом мысли, создавшим этот храм, — пишет он. — Потом, осматривая подробности, встречаешь полуграмотные места в архитектурных частях, а особенно в строительной технике, но замысел и удача вылившегося целого изумительны».
1 декабря вечером погрузились на пароход, к утру достигли Дарданелл и вышли в Средиземное море.
Поленов писал этюд за этюдом. В Константинополе: «Золотой Рог», «Эски-Сарайский сад», «На хорах св. Софии», «Дарданеллы», «Пароход „Корнилов“ в Средиземном море», «Троада» — место, где была когда-то расположена Троя. В том письме Абамелек-Лазареву (написанном в 1912 году), о котором шла уже речь, Поленов пишет: «„Троада“ до сих пор остается одним из любимых моих набросков…»
Когда миновали побережье Малой Азии и корабль взял курс на Египет, начался шторм. Лишь на шестой день путешествия прибыли в Александрию.
Первое, что поразило Поленова, это… пальмы. Он всегда считал, что они очень красивы. Оказалось, совсем не так. Издали пальма действительно грациозна, но вблизи безжизненная и словно бы жестяная. Поразила толпа людей: тут и черные негры, и смуглые арабы, и турки, и европейцы всех национальностей, и жалкие феллахи, и чванные богачи.
В Александрии пробыли четыре дня и укатили в Каир. Каир — это как бы два города. Восточная часть его — и впрямь Восток: путаница маленьких тесных улочек, грязь и дурные запахи. Западная часть, прилегающая к Нилу, — совершеннейший Париж: высокие светлые дома, роскошные отели; только одно отличие: плоские крыши.
Утром Поленов с Абамелеком вышли на крышу — посмотреть пирамиды: но утро было пасмурное, хмурое, пирамиды были едва видны. Потом пошли осматривать мечети, надгробия калифов, потолкались на базарчиках, прошлись по тесным кривым улицам восточной части.
В пригороде Каира, называемом Булак, египтолог Мариет основал музей археологических памятников Древнего Египта.
Среди всех произведений искусства Поленов выделяет «царскую родственницу Неферт», ныне столь широко известную Нефертити. И вот его резюме, которое звучит сейчас более чем актуально: «Вообще, что удивительно в египетском искусстве, это что оно сразу является на высшей точке своего развития, за которым идет застылое повторение того же самого и постепенное падение».
Побывали, разумеется, у пирамид и на пирамидах. Там несколько конкурирующих групп бакшишников помогают взобраться на вершину пирамиды, причем каждая группа заявляет, что именно они-то и есть настоящие проводники. Все знают необходимые для характеристики пирамид слова и по-английски, и по-французски, и по-русски тоже. И все их речи оканчиваются одним словом: бакшиш.
Но что оказалось неожиданно и хорошо, так это уважение их к труду. Как только Поленов раскрывал альбом и начинал рисовать или писать этюд, так тотчас же появлялись проводники и пальмовыми ветками отгоняли назойливых мух и не менее назойливых попрошаек. Впрочем, этим услужливым проводникам тоже приходилось давать бакшиш. Без бакшиша на Востоке — ни шагу.
Из Каира на пароходе поднялись по Нилу до Асуана, а там наняли «дахабие», огромную барку, где был общий салон и у каждого своя крошечная каюта. На дахабие этой поплыли вниз по Нилу. Это было очень удобно, потому что можно было останавливаться где угодно, сходить на берег, осматривать то, что нравится, писать этюды.
В Асуане, в то время маленьком торговом городке, жили главным образом негры, попадались даже, как пишет матери Поленов, «джентльмены Центральной Америки, у которых весь костюм состоит из веревочки с кисточками вокруг талии», а на острове Элефантине даже и этой одежды не признают.
На острове Филе, том самом, который так почему — то полюбился Прахову, «находится особое племя, которое по-русски называется баловниками». Впрочем, это племя — такие же бакшишники, как и все остальные, они и живут только бакшишем, потому что остров считается священным, на нем несколько полуразрушенных храмов: совершенно древний, египетский еще, храм Изиды; небольшой храмик Тифониум, развалины древней христианской коптской церкви и храм Воскресения.
«Надоедают нам эти баловники или бакшишники до одурения…»
Впрочем, и здесь, как только человек начинает работать, бакшишники удаляются и появляется один, который отгоняет мух. У Поленова даже появился постоянный провожатый, «лийб-бакшишник», как он его называет. Джума, прелестный, очень смышленый мальчик, — нубиец. Расстались они совершенными друзьями: вероятно, Поленов был очень уж щедр, потому что на память Джума подарил ему пальмовую ветку, которой отгонял мух.
Одна из самых больших остановок была у Карнакского храма — величественных, колоссальных развалин, замечательного архитектурного памятника древнеегипетского зодчества.
Пока Поленов писал этюды, Абамелек узнал, что в храме водятся шакалы, и где-то в другом конце затеял охоту на них. Испуганное его выстрелами, чуть не набежало на Поленова стадо овец. Среди огромных колонн бродили туристы, устав бродить, присаживались отдохнуть и закусить; к ним приставали бакшишники. Нескольких бакшишников Поленов уговорил позировать — за бакшиш, разумеется.
Так добрались до Асиута, где пересели на поезд и вернулись в Каир. Из Каира переехали в Порт-Саид и оттуда морем — в Палестину, которая, собственно, главная цель путешествия Поленова, потому что именно в этой стране произошли все события, связанные с жизнью Христа, и материал для будущей картины надо искать там, где расположены были некогда государства Иудея и Израиль.
Прибыли в Яффу, портовый городок, маленький и грязный, окруженный с трех сторон чудесными апельсиновыми садами. Из Яффы по шоссе в таратайке прибыли, наконец, к главной цели путешествия Поленова — в Иерусалим. Русский консул встретил их и отвез в приготовленное заранее помещение. Консул оказался радушным человеком и любителем живописи: поленовские этюды привели его в восторг. Прежде всего путешественники направлялись, конечно, «к гробу Господню». Над гробом церковь III века, потом над нею еще и еще: три церкви одна над другой. «Что за живописная эта вещь этот лабиринт церквей, алтарей, переходов, лестниц, подвалов, балконов и т. д., и все это живет. Какая разнородная толпа богомольцев движется перед вами: начиная от наших русских старушек всех губерний (их тут огромное количество) и кончая черными нубийцами и абиссинцами христианами». Это из письма матери 2 февраля 1882 года. А вот из письма 5 февраля: «Два дня мы осматривали достопримечательности этого великого местечка…»
Да что и говорить: к концу XIX века некогда великий город претерпел столько нашествий и против Христа, и за Христа, и бог знает за что и против чего еще, что стал поистине «местечком». И все же в это «местечко» стекаются к гробу Господню со всех сторон света.
Вот теперь и Поленов приехал. Приехал не столько поклониться гробу Иисуса из Назарета, сколько увидеть, почувствовать, запечатлеть те края, где проповедовал Иисус свое учение, посмотреть своими глазами на храм, в котором произошло то, о чем собирался он писать картину, храм, куда толпа приволокла грешницу, храм, в котором сидел со своими учениками Христос.
Увы, завоеватели мусульмане переделали храм Соломона в мечеть Омара, так же как Святую Софию в Айя-Софию. Но все же первозданная прелесть этого строения сохранилась. «Я торжественнее ничего не видел», — пишет Поленов. Он стал зарисовывать детали храма, писать этюды. Неожиданно пошел снег — явление редкое в этих краях. «Иерусалим превратился в русский город. Один мужичок в тулупе стоит и крестится: „Слава Богу, совсем как у нас“».
В Иерусалиме и вообще в Палестине — главная часть работы Поленова, цель его поездки. В Иерусалиме он делает множество этюдов и рисунков.
Из Иерусалима поехали втроем в Иерихон, к Мертвому морю, в Назарет, Тивериаду, в Иорданскую долину, в Самарию…
Потом Абамелек и Прахов поехали в Сирию и дальше, в Пальмиру, искать не открытые еще древности, а Поленов остался в Палестине, пробыл там почти месяц, написал огромное множество этюдов. Сейчас даже невозможно учесть — сколько: несколько десятков находится в Третьяковской галерее, часть в музее «Поленово», много — в провинциальных музеях и у частных владельцев. Здесь и памятники архитектуры, и пейзажи, и люди: старики, дети, мужчины, женщины…
В Дамаске Поленов опять соединился с Праховым и Абамелеком, и они направились в Ливан. Пять дней провели в Бейруте и морем поехали в Грецию. Наконец Поленов увидел то, что так давно хотел увидеть, то, о чем рассказывал ему отец: Акрополь, белые колонны Парфенона, Эрехтейон со знаменитым Портиком кариатид.
В Афинах пробыли одиннадцать дней. Опять огромное количество этюдов, рисунков…
Потом — опять Турция, и в начале апреля 1882 года Поленов вернулся в Москву.
Различные мнения существуют относительно этюдов Поленова, сделанных во время этой поездки: и относительно их художественных достоинств, и относительно значения их для будущей его картины. Безоговорочно высоко оценивает их младший современник Поленова И. С. Остроухов, который как раз в 1880-е годы начал сближаться с мамонтовским кружком художников. Остроухов пишет, что ближневосточные и греческие этюды Поленова, выставленные на Передвижной, произвели огромное впечатление. «Этюды большей частью не имели прямого отношения к картине. Это были яркие записи с поразивших художника картин Востока: кусочки лазурного моря, рдеющие в красках заката вершины южных гор, пятна темных кипарисов на синем глубоком небе и т. п. Это было нечто, полное искреннего увлечения красочною красотою, и в то же время разрешавшее красочные задачи совершенно новым для русского художника и необычным для него путем. Поленов в этих этюдах открывал русскому художнику тайну новой красочной силы и пробуждал в нем смелость такого обращения с краской, о котором он раньше и не помышлял».
Позднее исследователи творчества Поленова, признавая плодотворность новых его достижений, будут говорить об отходе его от пленэрной живописи. Едва ли это справедливо. Пленэр в России или, скажем, во Франции — совсем не то, что пленэр в Египте и Палестине. Там воздух суше, прозрачнее, он не так смягчает, не так приглушает основные тона. Сравнивать пленэрные работы Поленова в России и на Ближнем Востоке все равно что сравнивать пленэрные достижения Тёрнера, сделанные в туманной Англии, с пленэрными работами барбизонцев.
Едва ли стоит анализировать работы Поленова, даже если придерживаться только анализа образов, слишком уж много он написал этюдов и среди них десятки замечательных: «Храм Изиды», «Нил у Фиванского хребта», «Троада», «Погонщик ослов в Каире», «Олива в Гефсиманском саду», «Парфенон», «Эрехтейон», «Храм Эш-Шериф», «Нубийская девочка», «Еврейский мальчик из Тивериады», «Золотой Рог», «Сад в Константинополе», «Вифлеем». К слову, многие из этих мотивов даны с разных точек зрения. Например, «Храм Изиды на острове Филе» — изнутри, в виде интерьера, и со стороны Нила, так что храм виден целиком, видны крутой берег, пальмы и гранитные глыбы рядом с храмом. Что же еще сказать об этих работах? Для того чтобы не описать даже, а просто перечислить их, пришлось бы заполнить несколько страниц. К чему это? О лучших сказано много.
Можно лишь прибавить, что когда Поленов начал работать над большим циклом картин о Христе, то оказалось, что сделанных им в Палестине этюдов — мало. И он предпринял еще одну поездку на Восток. А сейчас он сделал столько, сколько мог, и, удовлетворенный, поехал в Россию.
В первой половине апреля 1882 года Поленов вернулся в Москву.
Он, разумеется, тотчас же узнал о том, что Климентова, которая перед самым его отъездом кокетничала с ним, неожиданно вышла замуж, и понял: ему не писана на роду сильная любовь. Оболенская умерла. Климентова попала в какую — то неприглядную историю, вышла замуж — лишь бы выйти…
Как и во времена прежних своих горестей, он нашел сочувствие и тепло у Мамонтовых. Мамонтовы были в Абрамцеве, и, наскоро устроив свои дела в Москве, Поленов поспешил туда. 24 апреля Савва Иванович пишет в «Летописи сельца Абрамцева», большой книге, куда с прошлого года начал подробно записывать все события, происходившие там: «Василий Дмитриевич был в первый раз, вернувшись из Палестины, и вечером рассказывал свои впечатления».
Не думал и не гадал Поленов, что именно здесь обретет он то, к чему так стремился: и любовь, и семейные радости.
Увлеченный Климентовой, он, конечно, и не подозревал, что сам стал предметом любви чистой, восторженной, пылкой. И полюбила его девушка, которая была на четырнадцать лет моложе его. Это была двоюродная сестра Елизаветы Григорьевны Мамонтовой Наташа Якунчикова.
Глядя на Поленова, участвуя с ним в спектаклях и постройке церкви (она вышивала по его рисункам хоругви), Наташа до поры только тайному, очень тайному дневнику открывала свои чувства. Лишь весной 1881 года, когда Поленов приехал из Петербурга после смерти сестры, она, видя его безмерное горе, призналась в своем чувстве к нему. Причем характерно, что призналась совсем не Поленову, а своей кузине, и не сказала, а написала:
«Я свои чувства к Поленову никогда не выражаю, разве иногда только прорвется оно, но потом я опять овладеваю им. Особенно уже последнее время я стараюсь подавить его. Но ведь, Лиза, оно страшно сильно и время только сильнее развивает его. Я не требую взаимности, эти золотые мечты прошли теперь, а если когда найдут опять, я скорее гоню их. Я жажду доверия как к человеку… Я живо за него чувствую, что он теперь должен испытать, потеряв лучшего друга… Я душу рада отдать, чтобы облегчить это страдание его, а что же я могу сделать — ничего… Да и к чему ему вдруг мое участие, сочувствие; эта еще что выскочила, что она мне… А он для меня самый близкий сердцу человек… его образ неразлучен со мной во всех моих думах, во всех моих действиях».
После этого письма прошел год, пока приехавший из путешествия Поленов не узнал, что предмет его обожания — Климентова — уже замужем.
Он провел в Абрамцеве почти все лето. Там достраивали церковь. И — трудно сказать, как это получилось… Видимо, Елизавета Григорьевна как-то дала знать Поленову… Да и Савва Иванович со свойственной ему чуткостью понял состояние Наташи. В «Летописи сельца Абрамцева» не раз (очень, впрочем, тактично) упоминается о загадочных недомоганиях Наташи Якунчиковой и чудодейственном выздоровлении ее, чуть появится Поленов.
Может быть, специально для того, чтобы сблизить Поленова с Наташей, Елизавета Григорьевна и попросила его сделать рисунки для хоругвей, которые она с Наташей вышивала. Поленов, естественно, был консультантом. Написал он под впечатлением поездки в Палестину для абрамцевской церкви икону «Благовещение» и еще несколько других.
В июле состоялось освящение церкви, и вскоре после этого Поленов женился на Наташе, женился, не спрашивая, видимо, у матери, а может быть, Марии Алексеевне было сейчас не до того — на ком женится ее сын: на аристократке или же на купеческой дочери. Может быть, она поняла, что смысл жизни в самой жизни, в том, чтобы тебя окружали близкие и любящие люди, независимо от того, аристократы они по происхождению или же, выражаясь несколько вычурно и старомодно, — «аристократы духа». А Наташа Якунчикова принадлежала, как и все вообще окружение Мамонтовых, именно к «аристократам духа».
Итак, вскоре после освящения абрамцевской церкви состоялось венчание Василия Дмитриевича Поленова и Натальи Васильевны Якунчиковой.
Всеволод Мамонтов очень тепло и очень колоритно описал это первое в абрамцевской церкви венчание: «И сейчас, как живая, стоит у меня перед глазами любимая стройная фигура Василия Дмитриевича во время венчания с венцом на голове. Он не захотел иметь шаферов, которые по обычаю того времени держали во время венчания над головами венчающихся венцы, а надел себе на голову венец скромного вида, исполненный по древнему образцу специально для абрамцевской церкви».
Заметим, что эскизы этих венцов были сделаны Поленовым во время поездки в Ростов и Ярославль.
После венчания молодые поселились в Абрамцеве во вновь отстроенном доме, который с тех пор стал называться «поленовским».
Все лето Поленов работал, писал этюды Абрамцева. В конце августа в Абрамцеве были поставлены сразу три пьесы: «Комоэнс» Жуковского, третий акт оперы «Фауст» и пьеса Мамонтова «Веди и мыслете». Поленов опять оказался в роли декоратора, а в «Комоэнсе» — еще и артиста. Осенью молодые переехали в Москву и поселились на Божедомке в Самарском переулке в доме П. И. Толстого. Там они прожили шесть лет — до 1888 года.
Зная дальнейшую жизнь Поленова, можно сказать, что женитьба на Наташе Якунчиковой была для него благом. Едва ли сразу возникла в его душе любовь к жене, может быть, такой пылкой любви, какая была когда — то к Оболенской, а потом к Климентовой, не было вообще, но любовь, которая рождается духовной близостью человека, беззаветно любящего, — пришла все же. Пришла, вероятно, четырьмя годами позднее. Об этом скоро будет рассказано. Сейчас лишь надо сказать вот что: Наталья Васильевна так вошла в круг интересов своего мужа, создала ему такие идеальные условия для работы, настолько жила его жизнью, его интересами, что — трудно, конечно, утверждать — едва ли в этом смысле кому-нибудь из русских художников повезло с женитьбой так, как Поленову.
Правда, она тоже пыталась влиять на него «идеологически», зачастую в том же направлении, что Мария Алексеевна и Вера Дмитриевна, хотя мягче и умнее, но этому влиянию он не поддавался. Здесь он был тверд, хотя те ее советы, которые считал справедливыми, принимал: он не был упрям и всегда внимал голосу разума. Но, повторяю, здесь он был тверд. Конечно, твердость эта была по-поленовски мягкой: он не горячился, не спорил, не возражал, он просто, если не соглашался, делал так, как считал нужным. Правда, он почти исчерпал к этому времени отпущенный ему природой заряд бунтарства. И еще беда в том, что Марию Алексеевну он продолжал слушать. Но об этом — в свое время.
А сейчас надобно забежать на четыре года вперед, чтобы тематически окончить эту главу.
Через два года после женитьбы у Поленовых родился сын Федя. Здесь, видимо, и начинается любовь Поленова к жене, сначала как к матери своего сына (и уже помощницы в работе, ибо зиму 1883/84 года Поленовы провели в Италии, где Поленов, подобно Иванову, начал работу над своей «большой» картиной о Христе).
В июле 1886 года Поленовы поехали в Меньшово — деревню Костромской губернии. Ребенок был совершенно здоров, но вскоре после приезда заболел, сначала, казалось, совсем несерьезно. Потом ему становилось все хуже и хуже. Наталья Васильевна вызвала на подмогу Елену Дмитриевну. Но помочь ребенку было уже невозможно. В начале августа первенец Поленова умер.
Василий Дмитриевич был совершенно сражен горем. Жизнь стала казаться ему невозможной бессмыслицей. У него наступило такое страшное нервное потрясение, что с тех пор у этого человека, всегда отличавшегося отменным здоровьем, началась неврастения, продолжавшаяся потом всю жизнь. Начались страшные головные боли, он беспрестанно думал о самоубийстве.
И тут спасением для него опять стали Мамонтовы (супруги, как только случилось несчастье, приехали в Абрамцево) и Наташа, которая первая взяла себя в руки. «Наташа меня удивляет своей нравственной силой, — писал Поленов матери, — ни одной жалобы, ни одного упрека. Видно, так уж было суждено». Поленов вспоминал, что сын его поражал очень быстрым умственным и слишком запоздалым физическим развитием. В последнее время у него появились страхи. Приехал друг Саввы Ивановича профессор Спиро, с которым у Поленова завязались дружеские отношения. Он, выслушав все, сказал, что это готовилось, видимо, давно, что у Федюка (так называли родители своего сына) «нервная система была слишком натянута и тонка, поэтому и не выдержала первой, немного серьезной, болезни… По всему, как я теперь припоминаю, — пишет Поленов, — я вижу, что он был не жилец… Мы перебрались в Абрамцево, где мы немножко успокаиваемся…».
Поленов с женой часто уединялись и сидели все в одном и том же углу абрамцевского парка. Поленов написал впоследствии пейзаж, на котором было изображено это место, и пейзаж они с Натальей Васильевной стали называть так: «Федюшкино воспоминание».
Боже, сколько смертей перенес он, начиная с Оболенской и Богуславской и кончая собственным сыном! И всегда эта страшная болезнь, когда ждешь, надеешься, а природа безжалостно забирает то, что было ею же сотворено.
«Вот уже три месяца, как я с ним навсегда простился, а точно как будто он еще вчера у меня на руках засыпал, — писал Поленов в ноябре В. М. Васнецову. — Страшные эти законы природы: сделают они что-то такое живое, прелестное, радостное и так беспощадно сами же его уничтожают. К чему все это? Кому они необходимы, эти страдания? Я последнее время плохо себя чувствую, к общему расстройству прибавилась какая — то не то желудочная, не то сердечная боль, гложет она меня потихоньку, а конца как — то не видать. Силы понемногу уходят, с трудом могу работать два-три часа в день. Картину мою начал опять писать, но по тому, как дело идет, мало надежды на хороший конец. Ах, если бы удалось ее кончить, я бы с радостью ушел бы отсюда».
Но он не ушел из жизни. В том же 1886 году у Поленовых родился второй сын — Митя…
И тогда, по-видимому, началась настоящая любовь Поленова к жене, с которой он до конца дней своих прожил в мире и согласии. Он делился с ней всем: и радостями, и невзгодами. А в дальнейшей его жизни было, как и в прошлые годы, много радостей и много невзгод.
В искусстве я совсем равнодушен к направлениям, хорошее оно или плохое, либеральное или консервативное — мне все равно, ибо я делю искусство и художников на два сорта — на талантливый и бездарный. Поэтому во всяком направлении талантливый художник интересен, а бездарный плох. Что касается до декадентства, то это понятие настолько широко, что Маковский и Мясоедов называют этой кличкой все свежее, живое и талантливое, за такое декадентство я горою стою
Если кто отстает от движения, то он уже не удерживается на месте, но идет назад и большею частью погибает.
В октябре 1882 года, вскоре после женитьбы Поленова, в Москву переехали из Петербурга Мария Алексеевна и Лиля. Они остановились в доме, который сняли Василий Дмитриевич с женой. Дом Лиле нравится. При доме «чудесный сад с прудом, и караси есть в пруду, но по контракту ловить их нельзя иначе как на удочку — это недурно: при найме дома в столице возникает вопрос о способе ловли рыбы!».
Вот отличие Москвы от Петербурга, которое удивило и насмешило Лилю. И дальше: «Мамаша очень довольна Москвой и Наташей, которая, в самом деле, удачно выбрана».
Предыдущее лето Мария Алексеевна с дочерью провели в Ольшанке, куда к ним ненадолго приезжал Поленов. Лиля писала там акварели, и брат был о них очень высокого мнения. В одном из писем к матери он спрашивает: «Очень рад, что Лилька занята. Что ее акварели? Сделала ли она на выставку, как полагала? Ужасно сильно врезались они мне в память. Даже самому хочется попробовать учиться акварельному мастерству».
Елена Дмитриевна выставила свои акварели в Петербурге, и теперь Репин в письме Поленову передавал отзыв о них Чистякова, заявившего, что такие «этюды акварельные сделают честь самому пресловутому мужчине художнику».
Очень скоро после переезда в Москву Елена Дмитриевна сближается с Мамонтовыми. В декабре началась подготовка к очередному домашнему спектаклю. Это была сказка, известная под названием «Аленький цветочек». Но Савва Иванович, драматизируя ее для детей, перенес действие в средневековую Испанию и назвал пьесу «Алая роза».
Эта постановка, осуществленная в январе 1883 года, стала как бы этапной. Свои поиски нового стиля декорационной живописи Поленов закрепил именно здесь.
За год до того (когда Поленов путешествовал по Востоку) у Мамонтовых готовили «Снегурочку» с декорациями Васнецова, и эта постановка была совершенно поразительна по красоте. Она потом не раз до конца 1890-х годов повторялась в доме Мамонтовых. Декорации Васнецова, переработанные, перешли потом на сцену Частной оперы.
Но все же именно «Алая роза» была завершением принципиальных поисков новой эстетики в декорационном искусстве. Это признавал и сам Васнецов. «Надо быть волшебником, чтобы перенести нас в эти сказочные дворцы и сады», — говорил он.
Елена Дмитриевна тоже приняла самое деятельное участие в мамонтовской постановке: она сделала все костюмы для участников; эскизы костюмов сделаны были Поленовым. Таким образом, и Елена Дмитриевна вслед за Василием Дмитриевичем обосновалась в Москве и стала своим человеком у Мамонтовых, сблизившись, разумеется, больше с Елизаветой Григорьевной. Но Савва Иванович был всегда самого высокого мнения о ней, считая ее очень талантливой художницей.
С этого времени в Петербурге она только гостья. В апреле 1883 года она ездила на акварельную выставку, где Репин заявил, что ее акварели «куда лучше», чем у Шишкина. Хвалил ее акварели и Савицкий.
Увлекла она своей работой и Наталью Васильевну, и жена Поленова, которая, по выражению Елены Дмитриевны, до сих пор «кисти не макала в воду», оказалась талантливой художницей. Лето 1883 года супруги Поленовы проводят в Абрамцеве, к ним в гости приезжает Елена Дмитриевна и за три дня делает три акварельных этюда.
В Москве у нее появляется и заказная работа, и она жалуется: «Какая невообразимо тяжелая вещь заказ». Заказ этот был: образа керамическими красками для дальнейшего их обжига. Делать их тем более не было желания, что сад при доме, в котором продолжала жить Елена Дмитриевна, до того был хорош, что все хотелось писать там этюды. «Я сделала уже одиннадцать этюдов, два начала», — пишет Елена Дмитриевна. Но заказ был исполнен, и исполнение это оказалось настолько удачным, что один из образов ее работы был повешен в Екатеринославе на главной станции. Видимо, заказ этот был устроен Елене Дмитриевне Мамонтовым.
Таким образом, Елена Дмитриевна окончательно утверждалась в Москве. «То, чего я боялась, совсем не основательно. Василий совсем не имел на меня того подавляющего влияния в искусстве, как я боялась. Напротив, столкновения с ним и с его друзьями-художниками оказались положительно с пользою, и я теперь вижу, что в этот год я сделала шаг вперед», — писала она в октябре 1883 года.
Но лишь в декабре 1884 года она наконец убедилась, что она — художница
С Периодической выставки, открывшейся в Москве 26 декабря, две ее акварели были куплены. «Как ты думаешь, кем?! — с торжеством пишет она приятельнице. — Самым большим галерейным Третьяковым!»
Что ж, это действительно событие. Покупка картины Третьяковым — это как бы «аттестат зрелости» художника или, как выразилась Елена Дмитриевна, «перевод в старший класс для самолюбия».
Да, ее признали. Признали художницей: «Не поверишь, как приятно попасть в Третьяковскую коллекцию. С этой минуты только поверилось, что я точно художник; крупно ли, мелко ли делаю, но делаю дело, то самое, какое они все делают. Почувствовала какое — то общение с художниками… Суриков пришел в неистовство, когда мое имя увидел не только рядом, но ниже Стрелковского. Говорит: „Хорошо, что не послушал вас, не выставил, разве можно перед такими неучами выставлять“».
Все это очень подбодрило Елену Дмитриевну, она работает много, и когда темнеет, то ждет не дождется утра. Даже спать стала плохо. И удивляется: «Глаголев… все повторяет „работайте с умеренностью“. Разве можно?»
Вот так вся семья Поленовых поселилась в Москве.
В 1882 году, осенью, Поленов начал преподавать в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.
Ему нелегко было взяться за эту обязанность. Он заменил в классе пейзажа и натюрморта Алексея Кондратьевича Саврасова, которого ученики очень любили. Его и было за что любить: он был тонким, проникновенным пейзажистом, чутким, отзывчивым человеком, замечательным педагогом. Еще три года назад один из его учеников, Левитан, показал на ученической выставке свой пейзаж «Осенний день. Сокольники», и пейзаж этот приобрел Третьяков. Но Саврасов был несчастнейшим человеком. Он сильно пил, совершенно не мог работать в прежнюю силу, не мог преподавать.
Теперь Поленову предстояло завоевать любовь и доверие юношей, боготворивших прежнего своего учителя.
Явившись на первое занятие, Поленов не стал говорить ненужных в этом случае слов. У него не было специальной программы «завоевания любви и авторитета». Больше того, он предложил ученикам сделать то, чего наверняка не предлагал Саврасов, который большей частью взывал к чувствам (и пробудил чувства у тех, у кого их можно было пробудить). Но одних чувств для живописца мало. Слов нет, без них картина никуда не годится, но для выражения этих эмоций нужна техника…
Этому, пожалуй, Саврасов не учил.
На первое занятие Поленов принес кусок красной материи, привезенной с Востока, и череп лошади. Материю набросил на подставку и положил череп. Сказал:
— Я вам поставил натюрморт. Вы будете его писать после живой натуры.
Пообещал прийти через несколько дней и ушел.
Ученики были в недоумении. Они уже писали пейзажи, писали живую натуру — ведь это несравненно труднее.
Натюрморт стали писать немногие: Коровин, Левитан, Головин, еще несколько человек. Через два дня Поленов пришел. Стал смотреть натюрморты, сказал ученикам, что у большинства написано неверно — не те отношения красок, что в натуре.
Об «отношении красок» ученики слышали впервые.
— В натуре разнообразнее оттенки, — сказал Поленов.
Ученики начали прислушиваться: работы Поленова были им известны, их заметили и ценили главным образом за колорит. Сейчас им, кажется, предстояло познать тайну этого колорита.
Поленов шел от мольберта к мольберту, объяснял ошибки. Наибольшим колористическим даром обладал Константин Коровин. Поленов сказал ему об этом, предложил прийти в гости, посмотреть этюды, привезенные с Востока; написал свой адрес на визитной карточке.
Коровин пришел и был приветливо встречен Поленовым; познакомился с его женой, совсем еще, как оказалось, молодой женщиной, очень сердечной. Поленов повел Коровина в мастерскую. Это было богатое и красиво украшенное помещение: какие — то археологические коллекции, восточные материалы, оружие, замысловатой формы кувшины. И тут же огромное количество ближневосточных этюдов. Коровину особенно понравились Генисаретское озеро, храм Соломона, часовня Гроба Господня.
Поленов сказал, что величайшим колористом Нового времени считает Фортуни, показал фотографии с его картин и свою копию. Видно было, что Поленов учился у Фортуни именно колористическим приемам.
— Фортуни отличный художник, — сказал Поленов, — он пишет как бы мозаикой, накладывает один за другим мазки, разные по тону и цвету.
Но Коровину Фортуни не пришелся по душе. Почему — то Поленов спросил:
— Вы импрессионист? Вы знаете их?
Но Коровин не знал. Поленов пожал плечами…
Несколько позже появился у Поленовых Левитан. Он был совсем другим человеком. Коровин — темпераментный, быстрый, Левитан — мягкий, лиричный, задумчивый. «Левитан был одним из тех редких людей, — пишет А. Я. Головин, — которые не имеют врагов, — я не помню, чтобы кто-нибудь отрицательно отзывался о нем. Поленов буквально его обожал, и он был у него принят как свой человек, как родной».
Поленов и с Левитаном говорил о Фортуни и об импрессионистах. Левитан тоже не знал их. Тогда на одном из занятий Поленов начал рассказывать ученикам о выставках отверженных в Париже.
И Левитан, и Коровин позировали Поленову по его просьбе. Этюды эти были использованы Поленовым для картин о Христе, написанных значительно позднее.
Головин вспоминает о том, что натюрморт с лошадиным черепом писал и сам Поленов. Головин, когда написал свой этюд, пошел показывать его Поленову и вспоминал, что Поленов потом об этом их знакомстве рассказывал так: «Подходит ко мне какой-то франтик и просит посмотреть его этюд. Я посмотрел и сказал „хорошо“. Франтик обрадовался и просиял».
Головин выделялся в училище тем, что выглядел действительно «франтиком». Он был, пожалуй, единственным из учеников, посмевшим нарушить неписаные законы училища. Неписаные эти законы возникли в 1860–1870-е годы в результате, с одной стороны, бедности студентов, с другой — общих демократических преобразований в стране. Левитан зачастую ходил чуть ли не в опорках, потому что был ужасающе беден, но едва ли он посмел бы одеться «франтиком», если бы и был богат. Так что неписаные эти законы были в какой-то мере благом для студентов, живших на грани нищеты. Но была у этих законов и другая сторона, отрицательная: отвергалась вообще красота — и в жизни, и в искусстве.
С приходом в училище Поленова многое стало меняться. Впрочем, не сразу: велика была сила инерции «жанризма», который привили художникам да и вообще обществу — Перов, Прянишников и другие художники этого направления.
«Между учениками и преподавателями вышел раздор, — вспоминал впоследствии К. Коровин, — к Поленову проявлялась враждебность, а, кстати, и к нам: к Левитану, Головину, ко мне и другим пейзажистам. Чудесные картины Поленова — „Московский дворик“, „Бабушкин сад“, „Старая мельница“, „Зима“ — обходили молчанием на Передвижных выставках. „Гвоздем“ выставок был Репин — более понятный ученикам.
Ученики спорили, жанристы говорили: „важно, что написать“, а мы отвечали: „нет, важно, как написать“.
Но большинство было на стороне „что написать“: нужны были картины „с оттенком гражданской скорби“».
Коровин здесь «в исторической ретроспективе» несколько обобщает события и смещает их во времени. Все было более дифференцированно, и все было сложнее. Репин в те годы еще не стал «гвоздем» выставок, больше того, группа Перов — Прянишников ополчилась и против Репина, и против Поленова. Но Поленов работал в совсем иной области живописи и к общению с этими художниками, к их отношению был равнодушен. Репин же близко принял к сердцу отчужденность группы Перова, он, в сущности, был одинок именно как жанрист. Хотя его и окружали друзья: Васнецов, Поленов, Суриков, Мамонтовы, он все же долго не мог оставаться в Москве. Еще в 1878 году, он, убедившись во враждебности художников, прочно уже обосновавшихся к тому времени в училище, пишет Стасову: «Москвичи начинают воевать против меня… Противные людишки, староверы, забитые топоры!! Теперь у меня всякая связь порвана с этим дрянным тупоумием».
Раздражение против художников, сгруппировавшихся вокруг Перова, выливается в раздражение против Москвы вообще: «Ведь это провинция, тупость, бездействие, нелюдимость, ненависть, вот ее характер».
А тут еще события 1 марта 1881 года, казнь народовольцев, начало реакции царствования Александра III. Москва, в которой было сконцентрировано ядро славянофильства, восприняло политику царя спокойно. Силы сопротивления там были слабы или их не было вообще. А в Петербурге — Крамской и Стасов, в Петербурге Щедрин. Репин же пишет жанровые картины, которые навеяны настроениями 1870-х годов: после картин, вызванных балканскими событиями, таких как «Проводы новобранца» и других, он пишет в Хотькове, близ Абрамцева, «Не ждали», готовит «Крестный ход в Курской губернии», «Отказ от исповеди».
В Москве он в этом смысле действительно одинок. И осенью 1882 года он уезжает в Петербург. Только после этого, с середины 1880-х годов, Репин становится, как выразился Коровин, «гвоздем» Передвижных выставок…
Но как бы там ни было, а Поленов сначала многим пришелся не по душе в училище. Он не старался подладиться под традиционный тон этого учреждения и потому выглядел несколько «барином». Но постепенно
Правда, после смерти Перова, как раз в 1882 году, позиции приверженцев этого художника начали постепенно ослабевать. Но пройдет еще немало времени, пока Поленов и руководимые им пейзажисты будут оценены по достоинству. А поначалу было даже изменено положение о присуждении звания художника. За пейзаж звание классного художника не присуждалось, только за жанр или за портрет.
Первым пострадал от этого Святославский, подготовивший для выпуска именно пейзаж. А после него и Коровин, и Головин, и Левитан вышли из училища «неклассными» художниками.
Но то, что мог Поленов сделать для учеников, он делал. Его целью было добиться, чтобы ученики стали писать грамотно и поняли, что такое воздух. Коровин вспоминал впоследствии: «Поленов так заинтересовал школу и внес свежую струю в нее, как весной открывают окно душного помещения, он первый стал говорить о разнообразии красок».
Уроки Поленова оказались особенно полезны именно для Коровина: в 1882 году ему была присуждена Малая серебряная медаль за этюд маслом, а год спустя стипендия Долгорукова.
Коровин всю жизнь с благодарностью вспоминал Поленова. «Милый мой, — писал он ему в 1900 году, — никто бы никогда не поощрил меня, и поэтому никто бы не поднял мой дух, если бы я не встретил Вас. Это всегдашнее мое сознание. Знайте, Василий Дмитриевич, что Ваш образ, искренность и честность всегда во мне». И в том же письме: «В Париже меня спросили, чей я ученик и где учился? Я написал: Professor Polenoff. Moscou». Запрос был сделан Коровину в связи с присуждением ему международной премии на Парижской Всемирной выставке.
Подобные мнения о Поленове Коровин высказывал не раз. И в связи с этим необходимо внести коррективу в истолкование одного весьма знаменательного эпизода, говорившего об отношении Поленова к творчеству Коровина, истолкования, безусловно, неверного, сделанного исследовательницей творчества Коровина Д. Коган.
Эпизод состоит вот в чем. В 1883 году в Харькове Коровин написал женский портрет, известный теперь под названием «Портрет хористки». На обороте этой картины Коровин сделал впоследствии такую надпись: «В 1883 году в Харькове портрет хористки. Писано на балконе в общественном саду коммерческом. Репин сказал, когда ему этот этюд показывал С. И. Мамонтов, что он, Коровин, пишет и ищет что-то другое, но к чему это — это живопись для живописи только. Серов еще не писал в это время портретов, и живопись этого этюда находили непонятной??!! Так что Поленов просил меня убрать этот этюд с выставки, т. к. он не нравится ни художникам, ни членам — г. Мосолову и еще каким-то. Модель была женщина некрасивая, даже несколько уродливая. Константин Коровин».
Совершенно справедливо исследовательница замечает, что в «Хористке» «Коровин, независимо от какого бы то ни было влияния, делает уже первые шаги по пути импрессионизма». И здесь нужно вспомнить, что Поленов еще в ученическом этюде Коровина и в словах его по поводу Фортуни уловил в нем импрессионистические черты. Они и были — не только в творчестве Коровина, но в самом его мировосприятии. Однако же слова Коровина о том, что Поленов просил убрать портрет с выставки, истолковываются в том смысле, что «Поленов связывал измену Коровина передвижническому реализму — уход художника от психологического анализа в портрете… с его нерадивостью». Но это совершенно неверно! Исследовательнице не были известны воспоминания Коровина об этом эпизоде; эти воспоминания были опубликованы позднее. Из них явствует, что дело было вот как. В 1884 году Мамонтов начал подготовку к давно задуманному предприятию: Частной опере. Поленов рекомендовал ему лучших своих учеников, Коровина и Левитана, в качестве декораторов. Тогда же он показал Мамонтову «Портрет хористки», перед этим убранный с выставки, но находившийся у него.
Мамонтову портрет понравился. Поленов и показал этот портрет Мамонтову именно как удачную работу Коровина. А Мамонтов показал портрет Репину, который был как раз в Москве. Именно Репин сказал, что «это живопись для живописи», а присутствующий тут же Поленов сказал вот что: «А вот представь, поставил я этот этюд на выставку Общества поощрения художеств, и все были против. Не приняли его». Вот как, со слов самого Коровина, было дело: Поленов совсем не винил его за «измену передвижническому реализму — уход художника от психологического анализа». Поленов и сам не силен был в психологическом анализе. Да дело и не в этом даже. Дело в том, что Поленов отлично понимал искания молодых художников и сочувствовал им, выгодно отличаясь этим от Репина, который к этому времени и впрямь стал мэтром, а на Передвижных выставках «гвоздем»: с 1882 по 1885 год, когда произошел этот разговор, Репин успел написать и выставить на Передвижной множество своих картин: портреты А. Г. Рубинштейна, Н. И. Пирогова, П. А. Стрепетовой в роли Лизаветы (в «Горькой судьбине» Писемского), И. Н. Крамского, А. И. Дельвига, выставил «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван» и много иного. Репин стал к тому времени нетерпим к новым веяниям. В Петербурге, где он поселился, он сначала продолжал поддерживать самые близкие отношения с учившимся в академии Серовым, чьим учителем был когда-то, а потом и с Врубелем. Но с 1883 года пути их расходятся.
Так что ничего нет неожиданного в том, что именно Репина смутило в этюде Коровина, что это «живопись для живописи», а совсем не Поленова. Напротив, Поленов сам поставил этюд на выставку и вынужден был его убрать по настоянию других, но оставил этюд у себя и вот теперь этим этюдом «представил» Коровина Мамонтову.
И в тех же воспоминаниях Коровина о Поленове, из которых взят рассказ об этом этюде, приведены слова Поленова, сказанные им Коровину: «Трудно и странно, что нет у нас понимания свободного художества».
Вообще Коровин «прижился» в семье Поленова сразу же, сразу же стал «Костенькой» и для Поленова, и для Натальи Васильевны, которая была старше его всего на три года. Поленов начал преподавать в училище в ноябре 1882 года и в этом же году Коровин написал этюд «Семья Поленовых за столом». Вечер, на столе керосиновая лампа с колпаком, Поленов читает, жена его что-то вышивает. В этом этюде, как и в этюде «Хористка», нет никакого психологизма, просто будничная бытовая сцена, но написана она удивительно легко и живо.
Артистка Н. И. Комаровская, человек, близко знавший Коровина, передает такие его слова: «Семья Поленовых была для меня оазисом, куда я стремился, чтобы уйти от тягот жизни, которых немало было в моей юности».
Да, Коровин поистине мог сказать, что его учитель — во всех смыслах — Professor Polenoff.
Левитан, Головин были более замкнуты, более застенчивы, но в конце концов все лучшие ученики Поленова находили приют и привет в его доме.
Для того чтобы контакт с молодежью стал более тесным, Поленов организовал в 1884 году «рисовальные вечера» по четвергам и «акварельные утра» — по воскресеньям. И вот тут рисовали и писали все лучшие ученики Поленова и вообще все художники, главным образом молодые, примыкавшие к поленовскому и мамонтовскому кругу. Правда, «вечера» и «утра» эти были нерегулярны. Были они в 1884 году. Потом с 1887-го по 1890-й. «Мы собирались в одной из больших комнат поленовского дома, — рассказывал Коровин Н. И. Комаровской. — Комната ярко освещена, посередине большой стол, на нем краски, кисти, палитра. Кругом расставлено три-четыре мольберта. Кто пишет маслом, кто акварелью, кто рисует цветными карандашами. Для портрета позирует кто-нибудь из присутствующих. Василий Дмитриевич участвует в общей работе. Прерывается работа обсуждением, спорами».
Обстановка этих вечеров замечательно передана и на одном из рисунков Коровина, и на акварели Елены Дмитриевны, хранящихся в архиве поленовского музея. Там же, в этом архиве, хранится и множество других рисунков и этюдов тех, кто были учениками Поленова в первые годы его преподавательской деятельности и впоследствии, и много рисунков тех, кто не были его учениками в прямом смысле этого слова, но на кого он оказал благотворное влияние и для кого его дом был, как выразился Коровин, «оазисом».
Это и Константин Коровин, и его брат Сергей, и Левитан, и Головин, это Сергей Иванов, Николай Кузнецов, Нестеров, Остроухов, Андрей Мамонтов (сын Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны), Бакшеев, Виноградов, Пастернак, Щербиновский, Серов, Врубель, наконец, сестра Лиля и проявившая неожиданно огромный художественный талант сестра Натальи Васильевны — Маша Якунчикова.
В 1884 году рисовали еврейку в восточном покрывале. Сохранились этюды Левитана и Поленовых — брата и сестры. Очень интересен сделанный многими в 1887 году портрет Левитана в костюме бедуина. Рисовали очень живописных мальчиков-итальянцев. Особенно интересен этюд, сделанный Остроуховым. Он написал их маслом.
Вообще Остроухов сам признает, что именно его восторг перед картинами Поленова привел к тому, что он стал интересоваться живописью и сам сделался художником. Его восхитили «интимные», как он их называет, пейзажи Поленова: «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд» и другие. Они побудили его учиться живописи. Учителем его стал пейзажист А. А. Киселев. Под его руководством Остроухов скопировал этюд Поленова, принадлежавший Киселеву.
За вторым этюдом пришлось отправляться к самому Поленову. Остроухов поговорил с Поленовым, потом изложил просьбу. «Я замер, — вспоминает Остроухов. — Добрейшая, приветливая улыбка осветила строгое, несколько мрачное лицо художника, и он, не колеблясь ни минуты, предложил целую папку. „Выбирайте, что понравится, — судить вам, держите, сколько хотите“. Я, помню, выбрал чудный этюд с натуры его „Заросшего пруда“ и принялся его горячо благодарить. Он даже смутился».
Этот эпизод произошел в 1881 году. Следующим летом, в Абрамцеве, Остроухов с восхищением рассматривал ближневосточные этюды, этюды кремлевских теремов. А осенью 1882 года, накопив 50 рублей, начинающий художник и коллекционер Остроухов отправился к Поленову с просьбой продать ему какой-нибудь этюд. Но Поленов категорически отказался от денег и подарил Остроухову прелестный этюд с белой лодкой. «Он… никогда не ценил высоко свои произведения на выставке, поражая часто нас прямо ничтожностью назначенных цен. Бывало, попрекнешь его и всегда получишь в ответ: „Пусть люди со скромными средствами получают возможность порадовать себя художественными произведениями“. Со мной и другими приятелями-собирателями он был прямо расточительно щедр».
Об этюдах Поленова, подаренных им младшим товарищам и ученикам, упоминают в своих письмах и Левитан, и Нестеров. По — видимому, этюды свои Поленов дарил действительно в изобилии. Остроухов, во всяком случае, свидетельствует, что только один крупный эскиз к «Христу и грешнице» Поленов продал ему за умеренную цену. «Все остальные вещи его из моего собрания, все до одной подарены им. Он часто, бывало, раскрывал сундук со своими этюдами и предлагал нам брать из него, что нравится. Он ценил свои работы этюдного характера, — пишет Остроухов, — в несколько десятков рублей. Истинные шедевры раздавал друзьям в изобилии».
Вообще короткие воспоминания Остроухова о Поленове так содержательны и насыщенны, что представляют собою как бы энциклопедию сведений о Поленове. «Как художник я очень и очень обязан Василию Дмитриевичу. В прямом (общепринятом) смысле он не был моим учителем, но по существу был и очень большим воспитателем, создавшим мою художественную физиономию…
Василий Дмитриевич меня не учил и не пытался учить, предоставляя учиться самому у натуры и вдохновляясь ею… В нем была прирожденная способность создавать исключительную художественную атмосферу».
Рассказывает Остроухов, как влиял Поленов на молодых художников собственным примером вплоть до мелочей, как чисты были его палитра и кисти, как аккуратно обращался он с красками, как читал — не на официальных занятиях в училище — свой курс перспективы, над которым работал долгие годы.
В 1886 году на Передвижную была впервые принята картина Остроухова. И на традиционном обеде по поводу очередной выставки Поленов подошел к Остроухову с бокалом вина, предложив выпить на брудершафт.
— С этого дебюта ты товарищ мне по вкусу, — сказал он.
«В нашей среде он был старшим товарищем у „Костеньки“ (Коровина) и „Антона“ (Серова), он выражал желание „учиться самому“».
Он не только «выражал желание», но и действительно учился. Об этом рассказывает сам Коровин, рассказывает, как однажды Поленов пришел в его мастерскую и сказал:
— Я к тебе по делу… Прошу тебя, не можешь ли ты дать мне возможность здесь у тебя в мастерской работать с натуры, ну, модель — мужчину или женщину, все равно. Но только давай мне уроки. Я мешаю краски несколько приторно и условно. Прошу тебя — помоги мне отстать от этого.
Коровин изумился, но ответил согласием.
«Поленов писал в моей мастерской натурщика старика, и я тоже. И я помню, что всегда старался искать верные контрасты красок. Поленов мне помог обратить на это более глубокое внимание. И не он, а я все больше постигал тайну цвета».
И надо сказать, что учиться у своих учеников, у младших современников, открывавших в искусстве нечто еще неведомое ему самому, Поленов не переставал всю жизнь. Художник Павел Кузнецов, который уже в начале XX века был учеником Коровина и Серова, вспоминает, как пришел однажды к Коровину показать свои работы… «Коровин… широко улыбнулся и гостеприимным жестом пригласил меня располагаться и начинать писать. Там работала компания его друзей: Серов В. А., Поленов В. Д., Средин, сам Коровин, Тархов. Писали с обнаженной модели, которую искусно ставил сам хозяин. Писали с большим интересом и художественным вдохновением. Полагалось писать смело, широкой кистью, обобщая вначале, а потом уже доводя до тонких нюансов и деталей.
Василий Дмитриевич Поленов, хоть и старший и прекрасный уже опытный художник, был так увлечен, что ему казалось, будто он только еще начинает учиться и постигает тайны живописного искусства. Он вкладывал всю волю и все чувства для сохранения чистоты художественного образа, дабы не утерять его по мере работы».
Вот так он учил и учился всю жизнь.
Головин рассказывает, как однажды Поленов пришел в училище вместе с Суриковым. Поленов поставил ученикам натюрморт с котлом из красной меди. «Край этого котла ярко блестел, и нужно было передать неподдающийся красочным сочетаниям блеск». Ни один из учеников не сумел справиться с задачей. Сурикова увлекла трудная колористическая задача. Он очень хотел сделать то, что никому не удалось. «Он долго бился, — пишет Головин, — насажал целые горы краски и хотя достиг иллюзии блеска, но тон меди был передан не совсем точно. Позже за эту же тему взялся Поленов, и ему удалось добиться нужного блеска: он применил краску lague d'or,[13] которую Суриков не признавал».
«Живопись Поленова, — пишет Головин, — явилась чем-то совершенно новым на общем сероватом, тусклом фоне тогдашней живописи. Его этюды — палестинские и египетские — радовали глаз своей сочностью, свежестью, солнечностью. Его палитра сверкала, и уже этого одного было достаточно, чтобы зажечь художественную молодежь».
А вот письмо Поленову Нестерова, писанное 7 сентября 1910 года, то есть тогда, когда Нестеров был уже очень известным художником: «На этих днях я видел у А. А. Грабье один из Ваших евангельских эскизов, на мой вопрос — какими красками эскиз написан? — Грабье, к сожалению, ответить не мог. Приступая к стенной росписи… я хотел бы избрать способ наиболее красивый для стенописи, вместе с тем гарантирующий прочность живописи.
Не найдете ли Вы, Василий Дмитриевич, возможным познакомить меня с теми красками, которые Вы применяете в Ваших последних работах, сообщить, как они называются, где их можно достать?
Можно ли клеем писать по масляной грунтовке, прочны ли они, можно ли протирать или промывать их, и чем, и как?»
Вообще художественная молодежь, да и не только молодежь, во все времена проявляла интерес именно к колористическим способностям Поленова: и Коровин, и Левитан, и Нестеров, и другие — его ученики следующих поколений и младшие современники.
К. Коровин: «Перед окончанием Московского училища живописи, ваяния и зодчества мы, пейзажисты, узнали, что к нам поступает профессором В. Д. Поленов. На Передвижной выставке был его пейзаж: желтый песчаный бугор, отраженный в воде в солнечный день, летом. На первом плане большие кусты ольхи, синие тени и среди ольхи, наполовину ушедший в воду, старинный гнилой помост, на нем сидят лягушки.
Какие свежие, радостные краски и солнце. Густая живопись.
И я, и Левитан были поражены этой картиной. Я тоже видел синие тени, но боялся их брать, — все находили: слишком ярко».
Восторженные отзывы художников младшего поколения и о картинах Поленова, и о нем самом как человеке можно приводить на многих страницах.
Нестеров писал, какое впечатление на него, еще молодого, произвели первые появившиеся на выставках картины «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Болото с лягушками». Об этом он писал самому Поленову в 1924 году, поздравляя его с восьмидесятилетием. И это не было просто фразой по случаю юбилея. Нет, еще в пору молодости он в письмах осведомляется о том, над чем работает Поленов. «Хотелось бы знать, что работают Василий Дмитриевич и Елена Дмитриевна Поленовы, — пишет он Е. Г. Мамонтовой. — При свидании Вашем с ними прошу передать им мой поклон». А самому Поленову вскоре после того письма, в котором просил совета относительно красок, писал: «Для меня и художников моего поколения работа Ваша в области родного художества еще тем драгоценнее, что Вы первый поставили нам на вид, что увлечения, господствующие в то время, не исчерпывают всего в искусстве и что красота цвета и формы, а равно и прелесть пейзажа как фона для композиции в огромной степени расширяют область художественного творчества. Вы первый своими прекрасными произведениями, своим исключительным художественным образованием и горячей проповедью указали нам и новые пути, по которым мы разбрелись теперь и работаем каждый по силе способностей своих».
Из воспоминаний Головина: «…Яркой фигурой представляется мне В. Д. Поленов. Его картины восхищали всех нас красочностью, обилием в них солнца и воздуха. После пасмурной живописи „передвижников“ это было настоящее откровение… По сравнению с ними живопись „передвижников“ казалась чем — то вроде фотографии.
Влияние Поленова на художественную молодежь 80-х и 90-х годов было весьма заметно. Около него и его сестры, художницы Е. Д. Поленовой, группировались начинающие художники. К их отзывам прислушивались, их похвалой дорожили».
Весною 1883 года Поленов начал, наконец, обретя покой и утвердившись в училище, работать над большой картиной из жизни Христа. Но когда начал, то оказалось, что материала, который привез он с Ближнего Востока, недостаточно. Он привез множество пейзажей, и пейзаж тех мест чувствовал хорошо. Были привезены этюды архитектуры… Но не было главного: не было людей.
И вот после года преподавания в училище Поленов вынужден был взять годичный отпуск, чтобы уехать из Москвы — опять за этюдами. Он решил год поработать в Риме, в городе, где он, прожив год пенсионером академии, ничего не сделал. Что побудило его принять такое решение? Возможно, рассказ Елизаветы Григорьевны Мамонтовой о посещении Римского гетто, где столько истинно библейских типов, что и в Иерусалиме сейчас не найдешь?
А тут еще приехал из Италии Савва Иванович, когда летом 1883 года Поленовы жили в Абрамцеве, и привез несколько фотографий с картин итальянских художников. Поленов поразился: какие благотворные перемены произошли в Италии за годы, прошедшие после его пребывания там! И он пишет Репину: «Савва привез из Италии несколько фотографий, неплохо работают пустоголовые итальянцы, даром что у них, по уверению одного очень умного писателя,[14] колеса в голове не так вертятся, как у него…»
А может быть, Поленов решил поехать в Рим потому, что именно в Риме работал когда — то Иванов…
Но, так или иначе, а получив в училище на год отпуск, Поленов уехал с женой в Рим.
Ученики его, уже успевшие к нему привязаться, были опечалены, тем более что этот год его должен был заменить Прянишников, человек, который и Поленову, и его живописи, и его методу преподавания совершенно не сочувствовал.
Выехали Поленовы из Москвы 26 октября, сделали небольшую остановку в Вене, осматривали главную достопримечательность города — собор Святого Стефана. Побывали в Венеции, во Флоренции: Поленову хотелось показать жене лучшее, что есть в Италии.
Работа в Риме началась с поиска необходимых людей, которые согласились бы позировать. И такие люди находились. Поленов был очень доволен. Доволен он был также и Италией, Римом. Теперь страна предстала перед ним совсем другой. «Любо-дорого смотреть на итальяшек, — пишет он Крамскому, — добились они до света, несмотря на все препятствия и невзгоды, и радуются ему, не теряют времени, а действуют во всю мочь».
Теперь ему уже и климат Италии нравится. Вот только скучно сейчас в Риме: друзей и русских художников нет никого, если не считать братьев Сведомских и Котарбинского, но ведь это не то что Мамонтовы, Антокольский, даже Праховы.
Но зато существует цель: работа. Он знает, что делает.
Поленов пишет не так много, как во время путешествия по Ближнему Востоку, но зато много думает. За границей удалось достать книги, которые в России еще запрещены: «Жизнь Иисуса» и «Апостолы» Ренана. В них — именно то, что нужно Поленову. В них Иисус — не Бог, не сын Божий, а сын человеческий, в них жизнь его, обросшая легендами и преданиями, от этих легенд очищена. Иисус предстает историческим лицом, мудрым, самоотверженным, человеколюбивым, проповедником добра и творцом добра.
Читали также книгу Вогюэ «Иерусалимский храм». Это — капитальный труд, из которого Поленов узнал нечто очень важное для воссоздания той исторической правды, которой он добивался. Эпизод о Христе и грешнице, женщине «взятой в прелюбодеянии», рассказан в Евангелии от Иоанна. И там есть такое не поддающееся логическому разумению место. Иисус, когда привели к нему эту женщину, «наклонившись низко, писал перстом на земле». О какой
Неожиданно работа была прервана. У обоих супругов началась лихорадка, и врачи предложили на время переехать в Альбано. Поленов, попав в этот городок, вспомнил этюды Александра Иванова, увидел тот самый мотив, который знаком ему был давно по одному из этих этюдов, сначала захотел его написать, но потом — «не дерзнул». А впоследствии, в старости, — жалел; осталась бы память, даже если он и не достиг бы в своем этюде высот Иванова.
А из Москвы между тем шли письма от Мамонтова. Там, как всегда в конце года, готовилась новая театральная затея. Сотрудник Саввы Ивановича, некто Кротков, обнаружил вдруг у себя талант композитора и написал музыку к «Алой розе». Теперь эта сказка должна была стать оперой. Декорации, разумеется, прежние — поленовские. И Поленов заскучал в Альбано без работы. Так хорошо было бы сейчас оказаться в Москве, в этой милой суете, какая бывает всегда у Мамонтовых, когда готовится новый спектакль. А тут еще из России письмо за письмом — и от Саввы Ивановича, и от Елизаветы Григорьевны. Елизавета Григорьевна пишет, что в работу втянулась Елена Дмитриевна, которая «взялась за костюмы и у нее дело кипит», а Савва совсем на седьмом небе, и все очень жалеют, что нет Поленовых. Правда, приедет другая Поленова, Фаня, жена Алексея Дмитриевича, у нее чудесный голос, и ей приготовлена партия в опере.
Приехал в Москву из Одессы Петр Антонович Спиро. С ним Савва Иванович сдружился еще в гимназии. Спиро был единственным из всего класса, который так же, как и Мамонтов, любил театр, литературу, искусство. Потом он стал врачом, профессором Новороссийского университета,[15] сотрудником знаменитого Мечникова.
Увлекся спектаклем Виктор Михайлович Васнецов, переписывает прошлогоднюю поленовскую декорацию — «Волшебная зала».
Впрочем, Елизавета Григорьевна пишет кузине, что скоро, сразу же после Нового года, Рождества, спектакля, — сама она приедет в Рим, а пока что «об Василии все постоянно вспоминают и жалеют, что его нет, его прямо ужасно недостает…». То же пишет и Савва Иванович: «Очень и очень жаль, что Вас нет здесь, — Вы, более чем кто — либо, сумели войти в тон того поднятия художественного духа, которое нас всех оживляет теперь».
Эти дни подготовки к спектаклю так сблизили Елизавету Григорьевну с Еленой Дмитриевной, что в предвкушении встречи она пишет: «Рассказов у меня… страх как много. Жалею очень, что буду рассказывать одна, без Елены Дмитриевны».
И Елена Дмитриевна тоже очень привязалась к Елизавете Григорьевне. Нравится ей также Спиро, старый друг Саввы Ивановича и новый друг Поленова. Он оказался чудесным актером и славным человеком, и она даже хочет подарить ему свой эскиз. В одном из писем сообщает, что была в училище: «…ученики вздыхают о тебе и Прянишниковым недовольны».
Вылечившись от лихорадки, Поленовы вернулись в Рим. Самую большую картину Поленов решил писать в Москве, в Риме же он ищет компоновку, в чем очень помогают ему книги Ренана и Вогюэ. И он, и Наталья Васильевна в восторге от Ренана: «Чувствуешь, что человек, писавший эту повесть жизни Христа, глубоко, поэтично проникнут ею, а не сухой исследователь». Потом читали еще одну французскую книгу: «Христианство и его происхождение» Гавета.
В середине января приехала в Рим Елизавета Григорьевна. В Риме стало повеселее. Зато в Москве совсем заскучала Елена Дмитриевна. «Живя в одиночестве, ничего не добьешься, — пишет она брату, — для этого надо собираться нескольким более или менее единомыслящим лицам: „Где двое или трое собраны“…»
В Риме Елизавета Григорьевна неожиданно встретила Сурикова, привела его к Поленовым. Это общение, конечно, поинтереснее, чем со Сведомскими или Котарбинским, которые, правда, в восторге от этюдов, сделанных Поленовым в Риме. Этюды эти — всё портреты: мужчин, женщин, стариков, которых действительно очень много оказалось в Римском гетто, и как раз таких, какие нужны.
Наталья Васильевна оказалась чудесной помощницей, какой и должна быть жена художника: она и читает вслух, пока Поленов работает, и шьет по его рисункам костюмы, какие должны были носить жители Иерусалима два тысячелетия назад.
Костюм, надо сказать, почти не претерпел изменения. Жизнь этого края застыла, словно бы впала в летаргию после римских и арабских завоеваний. Впрочем, во многом костюм определялся климатом.
В феврале Наталья Васильевна пишет Елене Дмитриевне: «…подводя итоги за все это время, я прихожу к такому заключению, стараясь на все смотреть объективнее. Для постороннего человека кажется, что ничего не сделано; но человек, стоящий близко к труду и знающий, что стоит творчество и как трудно дается эта суть, которую постороннему и не видно, — скажет, что время не потеряно. Василий напишет эту картину, в этом сомнения больше нет. Она стала для него необходимостью, она получила форму и образ; то, что смутно представлялось, стало сутью».
Но это написано в феврале. А уехали Поленовы из Рима в мае. За эти месяцы они часто виделись с Суриковым. Перед приездом в Италию Суриков побывал во Франции и влюбился там в импрессионистов. Теперь он, как пишет Наталья Васильевна, «все твердит, что для него графин Manet выше всякой идеи. Искусство для искусства, всем буду бросать в глаза это слово. В России будут на меня глаза таращить, и волосы дыбом встанут (при этом сразу подымает свои густые волосы), а я все же буду говорить».
Удивлен и несколько удручен был Суриков, когда увидел, как живут художники в Италии, и сопоставил с жизнью художников в России. В России художники — парии, в Италии даже посредственные художники имеют роскошные мастерские. О тех, кто более или менее известен, и говорить не приходится. А какие здесь удобные квартиры! А какие здания строят за счет правительства для художественных выставок и галерей!..
Однажды, придя к Поленовым, Суриков увидел «Новое время» со статьей Боборыкина, в которой прочитал: «Жанровый этюд старика обличает в г. Сурикове наклонность следовать чересчур реальной манере Репина в выписывании мозолей, багровых пятен, грязного белья». Суриков был возмущен так, что метался по квартире Поленовых с криком: зачем бы ему подражать Репину! Наталье Васильевне казалось, что сейчас начнет посуду бить. «Беда так принимать к сердцу газетные критики, особенно у нас, где умеют только ругать», — пишет она, рассказывая Елене Дмитриевне об этом случае.
Все это, однако, не отвлекает Поленова от работы. Жизнь его идет правильно и однообразно: ежедневно до трех часов он пишет этюды, потом снимает фотографии с костюмов, сделанных женою. Уже и эскиз самой картины хорошо обдуман и почти окончен. В середине апреля в Рим приехал Савва Иванович. «Савва очень мило отнесся к его работе, — пишет Наталья Васильевна, — и разбирал его эскизы искренно и не пустословно. Это придает Василию нового рвения».
В конце мая Поленовы были уже в России.
И тут нам придется, опустив на время преподавательскую деятельность, которую Поленов возобновил в 1884 году, рисовальные вечера, взаимоотношения его с молодежью, проследить историю создания самой капитальной его работы, картины, носящей до сих пор, вопреки воле автора, название «Христос и грешница».
В июле 1925 года Поленов писал В. Воинову: «Картина была названа мною „Кто из вас без греха“. В этом был ее смысл. Но цензура не разрешила поставить эти слова в каталог, а разрешила „Христос и грешница“, так как этак назывались другие картины, а в музее потом ее назвали „Блудная жена“, это совершенно противоречило евангельскому рассказу, где ясно сказано, что это согрешившая женщина. Впоследствии мою картину можно было назвать „Кто из вас без греха“, так как в этом главная мысль картины».
Чтобы убедиться в том, что главная мысль картины именно в этом, в мысли Христа, а не во внешнем содержании эпизода, посмотрим, как изложена эта история в 8–й главе Евангелия от Иоанна (единственном из четырех Евангелий, где эта история вообще рассказана): «Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему; он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказал ему: „Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?“ Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И опять, наклонившись низко, писал перстом на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: Женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она ответила: никто, Господи! Иисус сказал ей: и я не осуждаю тебя: иди и впредь не греши».
Таково содержание картины, задуманной Поленовым еще в молодости. Именно содержание, а не фабула. И содержанию, конечно, соответствовало название «Кто из вас без греха», а не ставшее традиционным «Христос и грешница», которым называют ее все поныне, которым и мы будем поэтому называть ее.
В чем смысл этого евангельского эпизода? «Фарисеи и книжники», как называют в Евангелии врагов Христа, желавшие его погубить, решили скомпрометировать и самого Христа, и его учение. Христос не отвергал законы Моисея, по которым жил народ Израиля, но закон, в котором говорилось, что согрешившая женщина должна быть побита камнями, противоречил проповеди человеколюбия, которое нес в народ Христос. Таким образом, он должен был, по мнению тех, кто привел к нему женщину, отвергнуть либо закон Моисея, либо — свою проповедь. И в том и другом случае он оказался бы в ложном положении.
Таков смысл эпизода, рассказанного в Евангелии.
И для Поленова смысл был, повторяю, не во внешней фабуле, а в проповеди добра, в том, что можно этой проповедью добра спасти человека. Для него Христос — олицетворение человеколюбия.
Когда кто-нибудь из «столпов» передвижничества — Суриков, Репин, В. Маковский — готовил к выставке нечто особенное, то сюжет картины принято было держать в секрете. Картину можно было увидеть только накануне выставки, да и то среди избранного круга. Лишь на вернисаже с ней могли познакомиться все.
У Поленова было совсем не так. Задумав картину почти два десятилетия назад, он много раз возвращался к ней, набрасывал эскизы, компоновал, ездил специально ради нее на Ближний Восток, а потом — в Рим. О том, что он пишет, знали все близкие ему люди: и Мамонтов, и Спиро, и Васнецов, и Репин, и Суриков, и многие другие, совсем даже не близкие.
Когда летом 1884 года Поленов привез в Москву все, что было сделано в Риме, то, естественно, это заинтересовало его друзей, и — это тоже естественно — каждый высказывал свое мнение.
В картине, вернее, в эскизе к будущей картине, а еще вернее — эскизах (ибо их было много), как бы две части. Композиционный центр — Иисус. В левой части картины — его ученики, люди, принявшие его учение, люди будущего, в правой — толпа, приведшая грешницу и поставившая ее «посреди». И вот что пишет в июне Наталья Васильевна: «Василий совсем под впечатлением, скорее обаянием Саввы и Спиро… Давно Василий не был в таком настроении, в которое, между прочим, его вводит всегда Спиро, и не поверишь, как мне просто — таки больно, что он будет писать картину в этом настроении теперь. Для Спиро не существует Христа, и картина Василия имеет для него интерес чисто внешний и пикантного анекдота. Василий совсем иначе относился к ней, и мне больно видеть в нем пробуждение старого несимпатичного отношения к ней. Может быть, я и утрирую, все кажется таким ужасным, но в настоящую минуту совсем тяжело, лучше бы он бросил картину…»
Сейчас невозможно сказать, что именно говорили Поленову о его картине Мамонтов и Спиро, но думается, Наталья Васильевна не права, считая, что в некотором шаржировании толпы повинно влияние Мамонтова и Спиро, которое пробудило в Поленове
Эта загадка так и остается загадкой. Мы даже предположительно на нее не можем ответить.
И еще. Наталья Васильевна совсем недавно из Рима писала о благотворном влиянии бесед Мамонтова, что Поленову эти беседы придают «нового рвения». Не совсем, видимо, права она и в том, что касается Спиро, для которого, как она считает, «не существует Христа». Сохранилось письмо Спиро к Поленову, написанное в 1886 году, в котором очень подробно написано о картине, о том, что в ней «злоба людская (узкая, гадкая, нечеловеческая страсть) тонет в доброте, разлитой по всей картине, даже в воздухе ее; а разлилась она у Вас оттого, что Христос Ваш так просто, так обыкновенно добр. И так трактован сюжет, что будь толпа, накинувшаяся на женщину, еще более разъяренная, еще страшнее разнузданная, мне бы не было страшно за женщину и за людей вообще… тут дело будет покончено самым гуманным образом, утешительным: тут есть человек, Христос…».
Так что для Спиро, как и для Мамонтова, все-таки существовал Христос, и можно, повторяю, только гадать о том, что и как говорили они, разглядывая один из ранних эскизов Поленова. Возможно, этот разговор напоминал письмо Мамонтова, написанное некогда о «Праве первой ночи», ибо кое-кто из толпы — даже в самом последнем варианте картины — смотрит на женщину, «взятую в прелюбодеянии», не осуждающим и гневным, а скорее вожделенным, похотливым взором.
Но письмо Спиро, как сказано выше, написано двумя годами позднее. А пока, летом 1884 года, Поленов варьирует эскизы и, не скрывая, подобно другим передвижникам, своего «гвоздя», то и дело слышит «голоса». Все считают своим долгом высказать свое мнение о незаконченной картине. Все это исправно описывает Наталья Васильевна в письмах Елене Дмитриевне.
Через пять дней после Мамонтова и Спиро Поленовых посещает Васнецов. Его мнение гораздо ближе Наталье Васильевне, скорее всего, оно даже совпадает с ее мнением: «Виктор Михайлович напал на шарж и, между прочим, сказал фразу, которая глубоко подействовала на Василия: „Я не хочу, чтобы картина эта первым впечатлением вызывала у меня улыбку“. Василий сейчас же принялся за работу с большой искренностью».
И еще один голос — Марии Алексеевны. Она против того, чтобы голова Христа была покрыта так же, как и головы его учеников и простолюдинов из толпы. Это, кажется, последнее из дел сына, в котором Мария Алексеевна хочет продиктовать свою волю. Сын не хочет отступать от своего, но не хочет возражать с таким задором, как прежде: после смерти отца, после смерти Веры мать стала ему дороже, чем была. Да и надобно посчитаться с тем, что эти потери и для нее не прошли бесследно.
И все же уступать он не хочет. Он достаточно добросовестно изучал все материалы, связанные с эпохой и с тем, что касается внешнего облика Христа. Каноническое изображение Христа на современных иконах, на картинах и западных, и русских художников таково, что Христа принято изображать с непокрытой головой. Но именно канонического Христа Поленов и не хочет. Он хочет как можно ближе подойти к подлинному Христу. Он выслушает в связи с этим еще немало нареканий цензоров, академиков, критиков и газетных репортеров, но это после того, как картина будет окончена и выставлена. А сейчас — домашний спор.
Мария Алексеевна, как, впрочем, и все образованные люди того времени, понаторела в священных книгах. Ее аргумент: строки из «Книги судеб» — не Евангельской даже, а относящейся к Ветхому Завету.
Но для Поленова важно то, что он сам обнаружил в научных изданиях, и то, что увидел он своими глазами на Ближнем Востоке. Там и сейчас не встречается непокрытых голов, и дело здесь совсем не в религиозных убеждениях, а в нещадно палящем солнце.
В эскизе углем, который Поленов считал самостоятельным законченным произведением, Христос так и остался в шапочке. Был он в шапочке и на основной картине. Но чуть ли не накануне вернисажа Поленов все же уступил — последний раз в жизни — настоянию матери, убрал шапочку.
Некто А. Соболев, написавший об этой картине большую статью, изучивший все материалы, которыми пользовался Поленов, выпустивший впоследствии эту статью отдельной брошюрой, а к выставке напечатавший значительную часть ее в «Русских ведомостях», вспоминает: «На всех эскизах, на всех этюдах собственно головы Христа и на громадном картоне, предшествовавшем написанию картины, да и наконец на ней самой, незадолго до отправки ее на выставку, всегда мы видели голову Иисуса покрытою почти точно так, как покрыта она на фигурах Петра, Иоанна и др. Только за несколько дней до отправки мы нашли голову Христа уже открытую, и это обстоятельство тогда же поразило нас: привыкнув к покрытой голове Иисуса, нам все казалось теперь, что чего-то в фигуре Христа стало недоставать, эта открытая голова изменила отчасти лицо Иисуса».
Незадолго до выставки картину видел П. М. Третьяков и в письме Поленову писал: «Я кое-что Вам заметил и еще могу после заметить, да Вы сами отлично знаете. Мне жаль, что у Христа короткие волосы — вот с этим Вы, кажется, никак не соглашаетесь».
Но эти «голоса» — уже позднее, раздавшиеся после того, как картина была завершена. Это — 1887 год.
А пока что, выслушав все голоса, раздавшиеся после приезда из Италии, Поленов совсем оставил на время работу над картиной, занялся другими вещами.
Возобновил он работу лишь на следующий год, сделав рисунок углем, о котором уже шла речь. А большое полотно красками, основную картину, стал он писать лишь осенью 1886 года.
Мастерской, достаточно большой, у него не было. Ему предложил свой большой кабинет Савва Иванович, и те месяцы, что Поленов работал над картиной, он все дни проводил у Мамонтовых. Туда приходил к нему Лев Толстой — так широко стало известно о том, что пишет Поленов.
Всеволод Мамонтов вспоминает: «Как-то, вернувшись из гимназии домой, узнаем, что к Поленову пришел Л. Н. Толстой и что они давно уже беседуют в большом кабинете. Мы несемся со всех ног в переднюю и подробно осматриваем пальто-куртку Льва Николаевича и наперерыв суем руки в правый рукав ее, где привыкла покоиться рука, написавшая „Войну и мир“…
Идти в большой кабинет нельзя, и мы только украдкой разглядываем Льва Николаевича, когда он, провожаемый Поленовым, спускался по лестнице к выходной двери».
Для мальчиков Мамонтовых, как и для всей просвещенной России, Лев Толстой был именно автором «Войны и мира». Но сам Толстой уже несколько лет как отстранился от литературного творчества и занялся поисками «смысла жизни», узрев этот смысл в учении Христа. Он изучил древнегреческий язык, древнееврейский язык, чтобы добраться до корней учения Христа, вычленить то, что было там истинным, и понять, что было напластованием веков, когда учение Христа стало официозным и, следовательно, было искажено.
Во многом плоды размышления Толстого и Поленова схожи, но во многом и различны.
Поленов лишь раз — по академической программе — написал Христа, совершающего чудо.
Толстой в «Кратком изложении Евангелия» — книге, составленной из всех четырех канонических книг Нового Завета, — также исключил все, что касается чудес: «…Чудеса Иисуса в Кане и Капернауме, изгнание бесов, хождение по морю, иссушение смоковницы, исцеление больных, воскрешение мертвых…»
Так же смотрит на Евангелие и Поленов, но что-то не устраивает Толстого в картине Поленова. Не устраивает Толстого и Ренан. Почему? «Я искал ответа на вопрос жизни, а не на богословский вопрос или исторический, и потому для меня главный вопрос не в том, Бог или не Бог был Иисус Христос…»
А для Ренана Иисус — заведомо не Бог. Толстой обвиняет Ренана и других историков в том, что те «не потрудившись выделить из учения Христа того, чему учил сам Христос… стремятся понять смысл явления Иисуса и распространения его учения из событий жизни Иисуса и условий его времени».
Но именно это — вслед за Ренаном — хочет сделать Поленов: в живописи дать исторически достоверный образ и выразить философию учения Христа. Для Толстого же, коль скоро он ищет в христианстве смысл жизни, Христос все же Бог. И спустя три года, в 1890 году, он пишет П. М. Третьякову: «Католическое искусство изображало преимущественно святых, Мадонну и Христа как Бога. Так шло до последнего времени, когда начались попытки изображать его как историческое лицо, но изображать как историческое лицо, которое признавалось веками и признается теперь миллионами людей Богом, неудобно; неудобно потому, что вызывает спор, а спор нарушает художественное впечатление. И вот я вижу много всяких попыток выйти из затруднения. Одни прямо с задором смотрели, — таковы у нас картины Верещагина, даже и Ге „Воскресение“, другие хотели трактовать эти сюжеты как исторические, — у нас Иванов, Крамской, опять Ге „Тайная вечеря“, третьи хотели игнорировать всякий спор, а просто брали сюжет как всем знакомый и заботились только о красоте, — Дорэ, Поленов, и всё не выходило дело».
Некто Лазурский, Владимир Федорович, сотрудник Спиро по Одесскому университету, профессор западноевропейской литературы, преподавал летом 1894 года греческий и латинский языки сыновьям Толстого. Это лето он провел в Ясной Поляне и вел дневник. Вот его запись от 23 июня: «Вечером по поводу „Распятия“ Ге завязался разговор о наших художниках. Я сказал, что люблю больше всех Поленова. Мария Львовна выше всех ставит Ге, требует, прежде всего, глубокой мысли… Красоту считает ни к чему. Вошел Лев Николаевич. Она и ему на меня донесла, что я, мол, „Христа и грешницу“ выше всех картин ставлю.
— Да, Поленов красив, но бессодержателен, — сказал Лев Николаевич. — Правая сторона этой картины написана очень хорошо — сама грешница, евреи; левая никуда не годна: лица банальные, Христос у него — какой-то полотер, а апостолы плохи; сзади — декорация».
Ранее мы приводили слова Толстого, что люди привыкли к тому, что Христа изображают Богом, а изображение его историческим лицом «нарушает художественное впечатление». Поленов изобразил Христа именно историческим лицом, и Толстому поленовский Христос кажется «полотером».
Но если бы сам Толстой был причислен к лику святых (причислила же церковь к лику святых Жанну д'Арк, сожженную как еретичку), и если бы вера в Бога и святых продолжалась бы еще тысячелетия, и если бы через тысячелетие лицо Толстого, лицо простолюдина, а не графа, показали таким, каким оно было в действительности, то его с таким же успехом можно было бы назвать «полотером» или «сапожником» (если вспомнить, что он шил сапоги). Сейчас нам трудно это себе представить, мы слишком привыкли к его многочисленным портретам и фотографиям, а Толстой для нас если и святой, то совсем не как создатель какого — либо учения или толкователь Христа, а как великий писатель. И нас конечно же не шокирует то, что граф Толстой оброс мужицкой бородой, ходил за плугом и одевался в зипун.
Поленов не носил зипун, не пахал землю, он сохранил обычную свою наружность аристократа, аристократа не столько по рождению, сколько по духу. И Христос его все же не «полотер» — Толстой был слишком горяч в вынесении приговоров и часто даже противоречил сам себе. Не надо забывать, что Поленову для Христа позировали Левитан и Коровин. И впоследствии, когда Поленов закончил огромный цикл картин из жизни Христа (было это уже в 1909 году), Толстой с симпатией отозвался о его работе.
Но для этого понадобилось более двадцати лет. И разговор об этом еще впереди.
Мы уже выслушали много «предварительных» и «постпредварительных» мнений о картине. Что же представляет она собою? Почему она вызвала столько разноречивых толков (мы сказали только о некоторых, о других еще будем говорить), сколько не вызывала, должно быть, ни одна другая картина в истории русской живописи?
Содержание ее сегодняшнему зрителю говорит, разумеется, гораздо меньше, чем зрителю 1880-х годов. Теперь нам непременно нужен комментарий, чтобы понять «кто есть кто» на этом полотне. Впрочем, кое-какой комментарий нужен был даже и современникам. И этот комментарий появился: упоминавшаяся уже статья А. Соболева в «Русских ведомостях», напечатанная одновременно с открытием выставки. Соболев довольно долго наблюдал процесс работы Поленова над полотном. Для него Наталья Васильевна делала переводы с французского отдельных мест книги Вогюэ, которую Соболев цитирует.
Короче, комментарий, пояснения к картине подготавливались самым тщательным образом. Не будь этой книжки, мы, конечно, сейчас ни за что бы не догадались, где какой из учеников Христа: где Петр, где Иуда, где Иоанн. Да для нас это не так-то уж и важно. Мы, разумеется, никак не подумали бы, что мальчик, сидящий на уступе храма, — будущий евангелист Марк. Почему, собственно, это именно будущий евангелист, а не просто какой-то случайно оказавшийся мальчик? Так решил сам Поленов. И надо сказать, не очень удачно решил: ведь в Евангелии от Марка ни словом не упоминается об эпизоде, свидетелем которого он, по мысли Поленова, случайно оказался.
Два старика — организаторы всей этой сцены, те под чьим «водительством» толпа влечет женщину, — фарисей и саддукей. Тот, который наиболее яростен, — фарисей, другой, жирный, рыжий с ехидной улыбкой, — саддукей. Обе эти секты — фарисеи и саддукеи — враждуют между собою, но они объединились, чтобы уничтожить Христа. Это ясно. Это вполне достоверно и оправданно в картине. Но почему человек, едущий на осле, — Симон Киренеянин, которому вскоре придется еще раз столкнуться с Христом, помочь ему нести крест на Голгофу? Это не понятно.
Из статьи Соболева мы узнаем, что человек, стоящий позади всех учеников в тени кипариса и закрывший нижнюю половину лица, — молодой фарисей Никодим, приходивший к Иисусу ночью и беседовавший с ним. Никодим уже следует за Христом, но еще боится делать это открыто.
Узнаем мы, что на ступенях храма стоит евангельская вдовица, о которой Иисус сказал тем, кто восхищался великолепием храма Соломона, что эта женщина прекраснее великолепных мраморных плит. И еще: из храма выходит старик с молодым человеком. Так вот этот старик — член синедриона фарисей Гамалиил, о котором упоминается в книге деяний апостолов. Уже после казни Христа он заступился в синедрионе за его учеников. Важно ли все это? По-видимому, для Поленова было важно, так как за долгие годы работы над картиной, за годы изучения всего, что касалось евангельской легенды, все персонажи ее стали для него живыми людьми. Зрителям же даже в XIX веке, то есть почти поголовно знавшим Новый Завет, нужно было все это объяснить.
К счастью, Поленов очень хорошо уже знал к тому времени законы композиции, так что даже и современный зритель, не зная роли каждого в жизни Христа, не считает лишним ни человека, едущего на осле, ни мальчика, сидящего на уступе храма, ни старика, выходящего из двери, ни вдову, обернувшуюся, услышав рев толпы, приведшей грешницу.
Что же представляет собою композиция?
Искусствоведы наших дней ставят в упрек Поленову то, что композиция его картины академична. Это верно. Тут сказалась сила инерции: картина задумана еще в годы учения в академии.
Но все-таки художник-академист не дерзнул бы написать картину так, как написал Поленов. Мы еще увидим, какие страсти вызовет эта картина, когда появится на Передвижной выставке.
Картина жива не той или иной суммой формальных приемов; в конце концов, искусство всегда условно, и если абстрагироваться от сюжетики и идеологии, то история искусств есть история изменения меры и характера условностей. Искусство живо чувством художника, его любовью, ненавистью, состраданием. И мастерством, с которым выполнена картина. Есть чувство, искренность, мастерство, значит — есть и произведение искусства, нет всего этого — нет и произведения, каким бы новаторским ни было оно по форме.
«Академический прием группировки с помощью треугольника, — справедливо пишет Т. В. Юрова, — …помог сделать группу компактной, собранной, отметить фигуры акцентами основных точек треугольника».
Ну и что же?! Важно то, что цель достигнута: тем ли путем или иным, но фигуры акцентированы.
Поленов, разумеется, понимал, что картина, которую он пишет в большом кабинете мамонтовского дома, для искусства как такового — пройденный этап. Может быть, больше, чем чье бы то ни было, его интересовало мнение Коровина, который был не только самым близким человеком среди учеников, он был художником, дальше других ушедшим вперед. И Поленов, должно быть не без робости, спросил его:
— Вот что, Константин, скажи мне правду, тебе нравится моя картина «Христос и грешница»? Скажи искренно, что тебе в ней кажется не так.
— Василий Дмитриевич, — ответил Коровин, — мне все равно, что там: и действие, и что женщина испуганно смотрит на Христа, который решит ее участь. Но в картине есть пейзаж, написанный словно бы с натуры: в нем есть солнце страны. Но ваши картины и этюды русской природы нравятся мне больше. Ваша картина, вернее ее тема, заставляет, так сказать, анализировать вопросы жизни, тогда как искусство живописи имеет одну цель — восхищение красотой.
В словах Коровина явственно различима определенная тенденция, знамение времени. В конце 1880-х годов передвижничество начало медленно клониться к упадку, картины, которые заставляли «анализировать вопросы жизни», еще волновали зрителей, но среди художников уже назревали новые веяния, проводниками которых станут и Коровин с Левитаном, и Серов, и Нестеров, и Врубель. В своих воспоминаниях Коровин передает мнение еще одного художника: Цорна, который значительно выше большой картины Поленова оценил его пейзаж «Зима в Имоченцах».
Но не следует забывать слов Коровина о пейзаже в картине «Христос и грешница». Несомненно то, что Коровина больше привлекали русские пейзажи Поленова. Коровин в то время, кроме России, нигде не бывал. Да, впрочем, что ж, родной пейзаж всегда дороже — и Поленову так же, как и Коровину. Поэтому не такое уж достижение сделать пейзаж родного края. А вот суметь так проникнуться пейзажем другой страны!..
А. Я. Головин как-то писал, что никто из русских художников не мог так проникнуться обаянием Венеции и так передать это обаяние, как Суриков и Серов. Вот так же никто из русских художников не мог так проникнуться обаянием пейзажа Ближнего Востока и так передать его, как это сделал Поленов. Ибо никто не мог передать того главного, чем живет и дышит пейзаж Ближнего Востока, — солнца, его яркого, ослепительного света. Правда, на картине Поленова не полдень, тени уже тянутся к востоку, и стены беломраморного храма освещены уже мягко, местами они приобретают золотистый оттенок, и Елеонская гора вдали покрывается предвечерним маревом, и человек на осле совсем темный.
Да, Коровин был прав, пейзаж, хотя он и не волнует так, как пейзаж России, исполнен мастерски.
В середине февраля 1887 года Поленов уехал в Петербург. Там уже собрались многие москвичи — участники предстоящей выставки: Суриков, Неврев, Левитан, Остроухов.
Через несколько дней после приезда Поленова прибыл и его холст. Его стали натягивать на подрамник, устанавливать в раме. И тут оказалось, что на выставке будут два «гвоздя», и оба — из Москвы. Кроме картины Поленова из Москвы прибыла огромная и чудесно исполненная картина Сурикова «Боярыня Морозова».
Выставка открылась 25 февраля в школе Высших женских курсов.
Но за несколько дней до выставки пришел цензор Никитин и так был удивлен картиной Поленова, что не решился разрешить ее к выставке, сказал, что доложит Грессеру, петербургскому градоначальнику. Градоначальник прислал какого-то чиновника особых поручений, военного в чине полковника, и разрешил картину, учитывая, что до открытия выставки ее увидят члены царской фамилии: президент академии великий князь Владимир Александрович и сам царь с супругой.
Действительно, вскоре на выставку приехал великий князь; Поленова там не было. Великий князь сказал, что картина освещена плохо (что было совершенно справедливо, Поленов и сам жаловался в письмах жене на плохое освещение картины), осмотрел ее внимательно и потом заявил, что для образованных людей картина интересна своим историческим характером, но для толпы весьма опасна и может возбудить всякие толки… Спросил, когда можно привезти на выставку государя. Выставка не была еще надлежащим образом устроена. Назначили срок.
Но в тот день, когда предстояло приехать на выставку царской фамилии, утром, часов в десять, на выставку в сопровождении Грессера прибыл обер-прокурор Святейшего синода Победоносцев, известный своими крайне реакционными взглядами. Несмотря на сравнительно небольшую должность, Победоносцев пользовался громадным влиянием, ибо был воспитателем Александра III. И воспитал он его так, что после смерти Александра II новый царь зажал Россию в кулак так, что 60–70–е годы стали казаться чуть ли не раем небесным.
Жесткая политика, какую проводил Александр III, была реакцией на волну террористических актов конца 70-х и начала 80-х годов, окончившихся взрывом на Екатерининском канале, взрывом, в результате которого на престоле оказался Александр III.
Новый царь принял крутые меры. Пятеро народовольцев, участников заговора, были повешены, и это зловещим образом напомнило казнь пятерых декабристов в начале царствования Николая I. «Народная воля» еще существовала в глубоком подполье и перед казнью пятерых товарищей распространила угрожающие прокламации. Минированы оказались некоторые улицы близ Зимнего дворца. Поэтому зимней резиденцией царя стал Аничков дворец, летней — Гатчинский (излюбленное местопребывание в летние месяцы прадеда Александра III — Павла I).
В первые же месяцы после воцарения Александра III были закрыты такие в общем-то безобидные, разве что чуть — чуть либеральные издания, как «Порядок» и «Молва», потом — самая влиятельная газета «Голос». В 1884 году по инициативе Победоносцева закрыты были издававшиеся Щедриным «Отечественные записки».
Восстановив против себя писательскую интеллигенцию, царь всячески заигрывал с художниками.
Итак, в 10 часов утра, упреждая появление царской фамилии, на выставку приехал Победоносцев в сопровождении Грессера. Они, не останавливаясь у других картин, прошли прямо к полотну Поленова. Победоносцев, осмотрев все очень внимательно, сказал, что картина серьезная и интересная, и запретил печатать каталог.
В два часа дня приехал президент академии Владимир Александрович, бросился к Поленову:
— Сколько лет, сколько зим!..
И начал расспрашивать о картине: сколько Поленов над нею работал, откуда взял материал?..
Через двадцать минут после Владимира Александровича приехал царь с женою и великими князьями Георгием Александровичем и Константином Константиновичем. Выставка произвела на них приятное впечатление. Царь купил картину Мясоедова «Косцы», пейзаж Шишкина, четыре картины Владимира Маковского, одну — П. Брюллова, с особенным удовольствием — две картины Беггрова: «Севастопольский рейд во время пребывания государя императора» и «Прибытие государя императора в Севастополь». Вот какие картины стали появляться на Передвижной…
Наконец настал черед картины Поленова. Царь остановился перед ней, пожалел, что она плохо освещена, сказал:
— Как интересно…
И потом долго беседовал с Поленовым.
Государыня сказала по-французски, что выражение лица чудесно…
— Правда, правда, — подхватил царь, — издали мне показалось, что он немного стар, но вблизи действительно чудесно.
Опять посетовал, что картина плохо освещена, и пошел в следующий зал.
Поленов остался около своей картины. Через несколько минут к нему буквально подбежал Владимир Александрович:
— Поленов, ваша картина свободна?
— Никому не принадлежит.
— Государь ее покупает.
Поленов поклонился.
Александр III вернулся в зал, где висела картина Поленова, спросил:
— Ваша картина никем не заказана?
— Никем.
— Я ее оставляю за собою.
Поленов опять поклонился.
Приобретение картины царем было непростым событием. Для Поленова это было формальным утверждением права на экспонирование картины, вообще на ее существование, ибо, когда царь уехал с выставки, Грессер подскочил к Владимиру Александровичу:
— Ваше высочество, как же насчет картины?
— Государь ее не только одобрил, но и приобрел!
«Грессер шаркнул ножкой и исчез, — пишет Поленов в письме матери, описывая всю церемонию посещения выставки царской семьей, и продолжает: — Итак, моя картина осталась на выставке».
После этого и каталог был напечатан, и картина перевешена на другое место, где она стала освещена гораздо лучше.
Для царя это приобретение было так же важно, как и для Поленова. Во-первых, потому, что, рассорившись, как было уже сказано, с литераторами, царь искал поддержки у художников, справедливо считая, что изобразительное искусство не столь взрывоопасно, как литература. Во-вторых, купив картину Поленова, царь на долгие годы запер ее в Эрмитаже, куда вход был доступен лишь избранным. Если бы он этого не сделал, картина наверняка попала бы в Третьяковскую галерею.
Третьяков предлагал Поленову приобрести картину за 20 тысяч при условии, если ее не захочет купить царь, а если захочет, то цена ей будет уже 24 тысячи.
Поленов всегда охотно отдавал свои картины Третьякову по самой низкой цене. И то, что он продал сейчас картину царю, произошло не потому, что двор уплатил ему 30 тысяч: в момент продажи никакого разговора о цене не было. Но приобретение картины двором легализовало ее, делало доступной для Передвижной выставки и в Петербурге, и в Москве, и в провинции. В противном случае она могла быть удалена с выставки стараниями Победеносцева, а следовательно, могла быть запрещена для экспонирования и в Третьяковской галерее.
Судьба картины особенно тревожила Наталью Васильевну. Ей хотелось, разумеется, чтобы картина осталась в Москве и в музее, наиболее доступном для народа. Она писала мужу: «Боюсь, что она не попадет в Эрмитаж (да и там несимпатично будет стоять), а попадет в одну из многих зал дворцов и пропадет там для нас и для всех рядом с разными бесчисленными батальными картинами. Там, в залах, назначенных для холодных приемов, так как — то тяжело будет за нее… Мысль эта теперь не отходит от меня и просто тревожит. Я бы на твоем месте просто уступила Павлу Михайловичу за двадцать тысяч, только бы она была здесь. Конечно, поступай, как тебе кажется лучше и более по душе, но все ж мне хотелось это высказать, потому что это меня беспокоит, да и не может не беспокоить, как судьба слишком мне близкого и дорогого существа».
Письмо это послано вслед Поленову, уехавшему в Петербург. Написано оно 16 февраля. Через три дня, 19 февраля, она пишет мужу еще одно письмо: «Когда же вы кончите с Павлом Михайловичем? А ну как царь перебьет? Воображаю, с каким трепетом он ждал твоего отъезда — уступил или нет. Вероятно, на днях он решит, чтобы предупредить царя. А ведь правда хорошо, если она будет у него? Там она увековечена и не будет уже за нее страшно, что ее постигнет судьба Ивановской картины. Для меня ужасно отрадно, что она попадет к Третьякову. Воображаю мамино отчаяние, если бы она знала, что я сама тебя поддерживаю в том, чтобы продать ее не правительству».
Но мы сами видели, как необходимо было продать ее именно царю, чтобы картина вообще могла быть выставлена.
Уже в день открытия выставки, 25 февраля, появилась краткая рецензия в «Петербургском листке», было много других незначительных статей.
1 марта в «Новостях и биржевой газете» появилась большая статья Стасова. На первое место — и тут он несомненно прав — он ставит «Боярыню Морозову» Сурикова. Ей уделено полстатьи. Правда, со многим, о чем пишет Стасов, трудно согласиться. Например, он сетует на то, что Суриков, вопреки даже исторической истине, не поместил около Морозовой «мужественных людей», хотя даже протопоп Аввакум, единомышленник Морозовой, писал (Стасов сам приводит его слова), что около Морозовой были только «овцы», а она — «лев среди овец».
Поэтому Стасов ставит выше суриковской картины «Никиту Пустосвята», что, конечно, несправедливо.
Неверно и его утверждение: «Суриков — это наш Матейко». Суриков, несомненно, выше Матейко! И еще: Стасов пишет о резкости и негармоничности колорита у Сурикова, сетует на отсутствие воздуха, пестроту, «не везде тщательно выделанный рисунок». Это все неверно. Но это частности. Общая оценка картины верна. Верно замечание, что у Сурикова есть сила выразить среди толпы общего «хора» тоже и «солистов». Верно и то, что, хотя нас теперь и не беспокоят те вопросы, «которые двести лет назад волновали эту бедную фанатичку», мы сочувствуем ей, ибо преклоняемся перед силой ее духа, перед готовностью ее отдать жизнь за свои убеждения.
Отдает Стасов дань и другим художникам: Владимиру Маковскому с его «Харчевней», «Охотниками», «На бульваре». Отмечает «Спасов день на Севере» Прянишникова и «Страдную пору» Мясоедова, пишет о многих других интересных картинах, так что его утверждение, что пятнадцатая Передвижная выставка — лучшая из всех, что были, совершенно справедливо.
Только картине Поленова он уделяет удивительно мало места. Неприязнь к этому художнику, какая — то необъяснимая неприязнь, сквозит в его словах, которые хотя и хвалебны, но… Впрочем, вот эти слова: «Кончая эту часть моего отчета, я всего лишь несколько слов скажу про огромную картину Поленова „Христос и грешница“. Рассказать подробно это большое сочинение, занявшее холст в десять аршин, требовало особой статьи, которую я, быть может, и представлю читателям впоследствии. Много вопросов возбуждается сюжетом. Теперь же я покуда скажу, что В. Д. Поленов очень тщательно отнесся к своей задаче, совершил путешествие в Палестину, изучал на месте архитектуру, местные типы людей и природы, световые эффекты и пр. Все это дало, конечно, очень интересные и веские результаты…
Все передано колоритно и изящно, освещено ярким палестинским солнцем. В общем, Поленов остался изящным, элегантным живописцем, каким мы его знаем давно уже, с самого начала его карьеры в 1871 году. Но к этому он еще прибавил большое мастерство и живописность в передаче пейзажа».
Большую статью о картине, обещанную читателям, Стасов, разумеется, не написал. А писал он быстро и писать любил. И то, что он не написал статьи, тоже достаточно красноречиво. Конечно, статья Стасова при всей его предвзятости по отношению к Поленову — это все же статья порядочного человека. Совершенная мерзость появилась в руководимых Катковым «Московских ведомостях», где некий М. Соловьев в статье, опубликованной 15 марта, а потом, когда выставка переехала в Москву, в той же газете в заметке от 6 апреля обвиняет Поленова в «натурализме», в том, что «псевдоисторический элемент» превалирует над «идеалистически-религиозным», что вместо «древних евреев» художник показал современных «жидов». (Кстати, как выглядели «древние евреи», никто не знает. Изображений людей в Палестине не осталось; закон Моисея гласил: «Не сотвори себе кумира». Древним евреям, вырвавшимся из египетского рабства, из страны, перенасыщенной «кумирами», много еще столетий невыносимы были «кумиры»…)
В заметке «Московских ведомостей» о московской экспозиции Поленову предъявлялись требования, чтобы он показал «земной образ Христа не в возможно реальном по предположениям, но в высшей идеализации человеческого образа, какая только доступна средствами искусства».
А после того как выставка была увезена из Москвы в провинцию, в журнале «Русский вестник» появилась статья «Библейские мотивы в Русской школе», автор которой скрылся под псевдонимом «Г». «Так вот каков, по мнению г. Поленова, спаситель мира, Мессия, Бог! — восклицает автор. — Отчего он так прост и обыкновенен? Где печать божественного призвания, которому он служит, чем он отличается от остальной толпы неряшливых оборванцев, окружающих его?»
Но все эти статьи, и условно-хвалебные и явно порицающие, обвиняющие, шельмующие — ничего не стоят рядом с двумя статьями, написанными выдающимися писателями: Гаршиным и Короленко.
Статья Гаршина появилась в «Северном вестнике» в марте, то есть когда выставка была еще в Петербурге. Гаршин, как и Поленов, участвовал в Балканской войне и прославился первым же произведением, в котором рассказывает об ужасах этой войны, — «Четыре дня». Он довольно регулярно печатал статьи об искусстве. Его рассказ (скорее маленькая повесть) «Художник» написан со знанием специфики труда художника, с пониманием искусства и с определенным, сложившимся уже демократическим взглядом на его задачи. Его сочувствие передвижникам — несомненно. О художнике и другой рассказ Гаршина — «Надежда Николаевна».
Короленко о художниках, правда, не писал, но он сам неплохо владел карандашом. Он, конечно, не был профессионалом, но его любительские рисунки «для себя», «для памяти» характеризуют его как человека наблюдательного, человека с «острым глазом». И статья его столь же глубока, сколь и гаршинская (если только не глубже).
Однако обратимся к самим статьям. Стасов полстатьи посвящает Сурикову, его «Боярыне Морозовой», остальным картинам — другую половину статьи, а о Поленове — мимоходом. Статьи Гаршина и Короленко исследуют именно эти две картины, наиболее интересные, на этой более интересной из Передвижных выставок. Статья Короленко так и называется «Две картины»; статья Гаршина — «Заметки о художественных выставках», хотя рассматривается лишь одна выставка, а на ней — две картины.
Но помимо этих двух картин у Гаршина — некая «преамбула», он пишет вообще о состоянии художественной критики, хвалит Стасова, хотя в описании «Боярыни Морозовой» невольно вступает с ним в спор: «Толкуют о какой-то неправильности в положении рук, о каких-то неверностях рисунка. Я не знаю, правда ли это, да и можно ли думать об этом, когда впечатление вполне охватывает, и думаешь только о том, о чем думал художник, создавший картину, — об этой несчастной загубленной женщине».
Таково противоречие между Гаршиным и Стасовым. Впрочем, Гаршин, видимо, и сам не понимает, что спорит именно со Стасовым, ибо ему он вначале возносит хвалы и бранит газетных репортеров, которые с карандашом в руках бегают за художниками, а потом неумело выражают их часто профессиональное мнение: «…Недурной колорит, но отсутствие жизненной правды; лепка портрета (и черт ее знает, что это за лепка такая! — думает критик) представляет собою что-то невиданное…»
«И мы, толпа, читаем это, иногда даже основываем на подобных писаниях свои, так называемые, мнения. „Это хорошо, то плохо“, говорим мы в полном убеждении, что наше отношение к художникам заключает в себе главным образом оценку их достоинств и, заметьте, чисто технических. Мы не можем понять, что нашего мнения в технических вопросах никто не спрашивает, что художник сам всегда знает, что у него в технике слабо, что хорошо. Он не просит у нас отметки за рисунок, письмо, колорит и перспективу. Ему хотелось бы заглянуть в нашу душу поглубже и увидеть то настоящее, что мы так упорно скрываем, то впечатление, на которое он рассчитывал всею своею работою, не думая о контурах и колоритах, наше отношение к нему, как нехудожника к художнику, ибо художник менее всего пишет для художников и присяжных критиков, а только для себя (в смысле потребности и удовлетворении ее) и для толпы».
И Гаршин, и Короленко пишут не о рисунке, не о колорите, не о «лепке», они исследуют образный строй картин, содержание их, их идейную направленность, соответствие выполнения замыслу. Короленко пишет больше о левой части картины, той, где Христос и его ученики, а толпы касается гораздо меньше, Гаршин поступает наоборот, хотя и один, и другой пишут, разумеется, о картине в целом. Просто исследование ее смысла идет от разных отправных пунктов, но приходят они к общему мнению, которое полностью совпадает с мыслями самого Поленова.
Не случайно Поленов послал Короленко гравюру картины с дарственной надписью. Гаршину он сделать такой подарок не сумел: 24 марта 1888 года Гаршин погиб, бросившись в лестничный пролет…
Как же трактуют писатели поленовское произведение и как сравнивают его с суриковским?
Гаршин пишет о толпе как о стаде, где «большинство… — равнодушные, повинующиеся только этому (стадному) чувству, которое велит бить — будут бить, велит плакать — будут плакать, велит кричать „Осанна“ и подстилать одежды — будут сами ложиться под ноги Грядущему… Многие, быть может, и не знают, кого ведут и за что будут бить. Таков высокий фанатик, держащий преступницу за плечи… Он только старательно исполняет чужое веление и с добросовестностью современного полицейского тащит туда, куда, как он полагает, почему-то тащить следует». Далее Гаршин перебирает еще несколько персонажей картины и размышляет: кто, почему грешен, коль скоро не оказалось такого, кто первым бросил бы в нее камень, и завершает свои рассуждения словами: «Такова толпа».
Далее — некоторое разногласие между Гаршиным и Короленко, не принципиальное, разумеется. У Гаршина: «фарисей, разъяренный до последних пределов, готовый растерзать в куски сам, своей волей». У Короленко психологически сложнее: «В исступленной фигуре седого раввина, несмотря на всю ее суровость, много искренности и одушевления. Учение, осуждающее целые народы на поголовное истребление и считавшее милосердие в таких случаях преступлением против Бога, должно было выработать такие суровые натуры. Но есть в этой фигуре что-то вызывающее оправдание и, пожалуй, уважение. Савл тоже гнал Христа и, быть может, испытывал при этом то же, что испытывает седой раввин. Новое учение встает против его веры, стремится пошатнуть ее, и он с яростью кидает к ногам Христа выхваченный из жизни факт: „Возьми его, примерь на нем твое учение и скажи, богохулец, что наш Моисей не прав“. Он верит и потому каждый удар Христа, нанесенный его вере, отзывается болью в его сердце, и эта боль говорит ему вопреки его воле и сознанию, — о силе нового учения».
Поленов, прочитав статью Короленко, сказал, что еще никто так глубоко не понял его картину.
В чем же суть картины, по мысли Короленко и, значит, самого Поленова? Суть в том, что Христос «подымается против факта во имя истины». Вот основная мысль картины, как ее толкует Короленко.
«Христос принес меч, которым старый мир рассечен на две части. И картина тоже разделена на две части: любовь на одной стороне, вражда на другой».
Как и что говорят Короленко и Гаршин о той стороне, где злоба, о старом мире, от которого Христос мечом, принесенным им на землю, отсек новый мир, пока еще небольшой численно, что говорят они об этом старом мире, мы уже отчасти знаем. Что же говорят они о новом мире? Прежде всего о самом Христе.
«Я не могу согласиться, — пишет Гаршин, — что Христа будто бы „искать“ надо было, что в его изображении художник претерпел полную неудачу…
Христос Поленова очень красив, очень умен и очень спокоен. Его роль еще не началась. Он ожидает; он знает, что ничего доброго у него не спросят, что предводители столько же, и еще больше, хотят его крови, как и крови преступившей закон моисеев. Что бы ни спросили у него, он сумеет ответить, ибо у него есть в душе живое начало, могущее остановить всякое зло».
Гаршин эмоциональнее, чем Короленко, но Короленко и здесь тоньше и глубже Гаршина, хотя в плане «идейном» они — единомышленники.
Короленко как бы соглашается поначалу с хулителями картины. Да, «с первого взгляда на картину вы как будто не замечаете ее главной фигуры», «…что это за человек, сидящий на камне, освещенный солнцем? Неужели это… Христос?
Да, это он, убеждаетесь вы с чувством, похожим на разочарование. Это человек — именно человек, — сильный мускулистый, с крепким загаром странствующего восточного проповедника. Ничего тонкого, полувоздушного, неземного, никакого сияния, которые мы привыкли соединять с представлением об этом образе. И невольно в первые мгновения острое ощущение недовольства».
Но чем дальше и пристальнее вглядывается зритель в этот образ, тем все больше он утверждается в мысли, что Христос иным и не мог быть. Он не мог предстать перед людьми в том сиянии, каким окружают его художники ныне в «канонических» его изображениях. Почему у Поленова, вопреки принятому, «высокий образ является в настоящей плоти»?
«В этом образе, — пишет Короленко, — я вижу замечательный успех художественного реализма и думаю, что религиозное чувство тоже не может быть оскорблено подобным приемом. Христа не признало большинство, его распяли. Но если бы он появлялся в толпе постоянно окруженный сиянием, постоянно так непохожий на человека, то кто же мог бы его не признать? Да, среди людей это был Человек и в нем светился только внутренний свет, видимый чистому, искавшему истину взгляду…
Христос был странствующий проповедник. Ему нужна была физическая сила, чтобы носить бремя великого деятельного духа. Он, как и мы, загорал на солнце, уставал от трудного пути, ел и пил. Художник изобразил нам человека с чрезвычайной правдивостью. Это реально».
Здесь Короленко как бы вступает в спор не с невежественными газетными репортерами, а с самим Львом Николаевичем Толстым, который десятью годами ранее писал в письме Страхову по поводу книги Ренана: «…новая у Ренана мысль это то, что если есть учение Христа, то был какой-нибудь человек, и этот человек непременно потел и ходил на час. Для нас из христианства все человеческие, унижающие реалистические подробности исчезли потому, почему все исчезает, что не вечно; осталось же вечное. То есть песок, который не нужен, промыт, осталось золото по неизменному закону. Ренан говорит: если есть золото, то был песок, и он старается найти, какой был песок. И все это с глубокомысленным видом».
Толстой, разумеется, не прав. Ренан (как после него и Поленов) действительно хотел реставрировать образ живого
Да, всякий человек «потеет» и «ходит на час». Но почему-то, когда мы читаем произведения Толстого, в которых такие живые, едва ли не более живые, чем в жизни, люди, мы не думаем о том, что и Анна Каренина, и Наташа Ростова, и Андрей Болконский «потели» и «ходили на час».
Впрочем, Короленко, хотя он и не мог знать, что писал Толстой в частном письме, предусматривает возможность оппонентов и с этой стороны. Он пишет, что да, Христос, как и всякий человек, ел, пил, спал, и если бы художник изобразил Христа во время обыденной еды, сна или беседы, а не во время события значительного, он погрешил бы против реализма, ибо
Поленов, считает Короленко, изобразил Христа именно в согласии с требованиями реализма: «Поленов художник. Вглядитесь в лицо Христа на его картине, и оно надолго останется в вашей памяти». Короленко спорит и с оппонентами с другой стороны, которые, изверившись «в силу логической мысли», говорят, критикуя образ Христа, что он слишком мудр: «Апостолы были простые рыбаки, а не ученые». «Но мы забываем, — возражает Короленко, — что Христос был для своего времени замечательным ученым, что он еще в детстве поражал глубоким проникновением в „учение“».
Ну а что же говорят писатели о «грешнице»? Короленко, к сожалению, ограничивается очень беглым, почти внешним описанием ее. Гаршин с его эмоциональностью уделяет ей много внимания. Он, когда описывает толпу, человека, который держит грешницу за плечи, сравнивает с современным полицейским. Он и о грешнице пишет, имея в виду современность:
«Не видим ли мы каждый день на наших улицах таких же грешниц, только что вступивших на путь греха, за который в библейские времена побивали камнями? Взгляните на грешницу Поленова: не то ли это беспрестанно проходящее перед нами наивное лицо ребенка, не сознающего своего падения?»
Гаршин жил как бы с обнаженными нервами. Всякое зло он воспринимал трагично. Не случаен его прыжок в лестничный проем. Не случайно чуткий Чехов для сборника памяти Гаршина написал рассказ о студенте, с которым случился припадок душевной болезни после того, как беззаботные приятели повели его туда, где сами уже не раз бывали, — в дом терпимости, и он, этот студент, был сражен обыденностью и пошлостью того, во что превратился «грех» через девятнадцать веков после Христа.
Гаршин пишет и о достоинствах самой картины как произведения живописи. Он пишет, с обычной своей склонностью к частностям, об осле Симона Киренеянина, которого он, конечно, не признал за такового, пишет, что одна только морда осла, «вырезанная из полотна», могла бы под названием «Портрет осла» служить украшением иной выставки. Радует его также «отсутствие сухой академической условности в одежде действующих лиц. В картине нет ни одной, что называется, драпировки; все это настоящее платье, одежда, и художник, пристально изучивший Восток, сумел так одеть своих героев, что они действительно носят свою одежду, живут в ней, а не надели ее для подмостков или для позирования перед живописцем».
Очень велико искушение рассказать о впечатлении обоих писателей от второй выдающейся картины XV Передвижной выставки — «Боярыни Морозовой», но наше исследование картины Поленова и без того уже затянулось и предстоит рассмотреть еще несколько проблем, связанных с нею, а потому приходится ограничиться лишь действительно необходимым.
Короленко связывает обе картины тем, что и в одной, и в другой виден тот меч, который принес на землю Христос и который разделил толпу, отделил добро от зла. «Но в этих двух картинах одна эпоха как бы зовет на суд другую».
Сейчас, когда со времени описываемого события прошло более ста лет, мы можем с уверенностью сказать: да, как произведение живописи картина Сурикова стоит неизмеримо выше, чем картина Поленова. Да, именно благодаря этому мы и по сей день любим это произведение, по сей день сочувствуем Морозовой и ее приверженцам, хотя это «старый мир», а будущее за новым, ибо именно новому миру, который, впрочем, по изуверству не отличается от старого, суждено породить Петра с его реформами и «окном в Европу», новому миру суждено двинуть Россию вперед, к прогрессу, к свету.
Но картина Поленова выгодно отличается от картины Сурикова тем, что ему удалось найти такой сюжет, когда с трудом, с жертвами идет борьба не за старое, а за новое, когда старое еще сильнее нового «административно», а новое — духовно. У Сурикова — все наоборот. Да и за что суждено страдать Морозовой? За то, чтобы креститься не тремя перстами, а двумя? За то, чтобы писать «Исус», а не «Иисус»?
Если позволить защитнику «грешницы» — Христу, он затопит мир добром, он умирит зло, а если дать волю Морозовой? Да она так же пошлет на дыбу и в ссылку своих врагов, как те посылают сейчас ее, страстную фанатичку, готовую принести в жертву не только себя, но и сына: «Христа люблю более сына. Вот что прямо вам скажу. Если хотите, выведите моего сына на Пожар и отдайте его на растерзание псам, устрашая меня, чтобы я отступилась от веры… не помыслю отступить благочестия, хотя бы и видела красоту, псами растерзанную».
Поленовский Христос во имя любви к человеку совершает свой подвиг, христианка Авдотья Прокопьевна Морозова через семнадцать столетий после того готова отдать на растерзание псам человека, своего сына ради канона.
И вот здесь, кажется, Короленко и Гаршин не вполне сходятся. Эмоциональный и экспансивный Гаршин превозносит Морозову, хотя пишет о приверженцах Морозовой и Аввакума, что «все они говорили о Христе, но под „Христом“ подразумевалось только бессмысленное сложение перстов…», но заключительный аккорд его — восторг перед подвигом этой сильной женщины: «Она радовалась, когда ее подняли на дыбу, и говорила: вот что для меня велико и поистине дивно: если сподоблюсь огнем сожжения в срубе на Болоте. Это мне преславно, ибо этой чести никогда еще не испытала».
Короленко тоже восторгается героизмом и твердостью духа этой женщины: «Она так бесстрашно идет на муку и этим будит невольное сочувствие. Есть нечто великое в человеке, идущем сознательно на гибель за то, что он считает истиной. Такие примеры пробуждают веру в человеческую природу, подымают душу. В этом невольном сочувствии первая основа душевного настроения зрителя». Но переходя от эмоциональной стороны вопроса к «рациональной», пишет вот что: «…Она вся горит огнем, но это огонь, который только сжигает, а не светит… Перед ней, несомненно, маячит какой-то свет. Так где же он, и свет ли это, или только блудящий огонь над трясиной? Боярыня поднимает два перста — символ своей идеи… И только… Какая убогая бедная мысль для такого подвига. И чувства зрителя не находят логического завершения. Господствующее ощущение — разлад, дисгармония».
Итак, по Короленко, идейное родство между картинами Поленова и Сурикова состоит в том, что и в одной, и в другой виден меч, которым Христос отделяет старое от нового, различие же в том, что Христос «подымается против факта во имя истины», то есть против зла во имя добра именно у Поленова, у Сурикова же все наоборот: «…в этих двух картинах одна эпоха как бы зовет на суд другую».
Поленов мог быть доволен обеими статьями. Не только подарок его Короленко свидетельствует тому. И Короленко, и Гаршин его идейные сторонники, его единомышленники, эти молодые представители передовой интеллигенции.
Поленов сам высказал свои мысли об этом в частном письме, причем высказал еще более резко и категорично, чем это сделали в подцензурных изданиях Гаршин и Короленко. Письмо это Анне Александровне Горяиновой, троюродной сестре, писано как раз через десять лет: «Вы называете мою картину „нигилистической“. Так ли это? Я вполне согласен, что она не каноническая, т. е. не такая, как принято изображать. Действительно, я не придерживаюсь установившихся правил. Мне все хочется доискаться исторической правды, но это не отрицание… Я ищу только истины. Истина, какая бы она ни была, для меня несравненно выше вымысла…»
Далее Поленов рассказывает о своих поисках, как он по материалам литературным, археологическим, по собственным своим наблюдениям во время путешествия на Ближний Восток восстанавливал, реставрировал то, что было в Иудее девятнадцать веков назад. В то время, когда Поленов писал это письмо, он работал уже над циклом картин о Христе и некоторые из них — лучшие — были окончены, поэтому он продолжает: «И вот всем этим я стараюсь воспользоваться в моих картинах. Я несказанно люблю евангельское повествование, люблю этот наивный правдивый рассказ, люблю эту чистую и высокую этику, люблю эту необычайную человечность, которой насквозь проникнуто все учение, наконец, этот трагический, ужасный, но в то же время и грандиозный конец…
И что же? Из этого высочайшего учения любви создали узкое и жестокое притворное изуверство, называют его религиею Христа и под ее охраной в лице православия и католицизма творят самые возмутительные дела. Люди, называющие себя христианами, убивают, вешают, насилуют, лгут, развратничают, грабят и прикрываются самым нравственным, самым любвеобильным, самым чистым учением.
Недавно в Петропавловской крепости жандармы изнасиловали девушку и сожгли ее, чтобы скрыть следы, и когда возмущенная молодежь собралась отслужить панихиду, ее забрали и рассажали по тюрьмам, а высшее правительство через надлежащую власть сделала ей строгое отеческое внушение. При этом рассказывают, что обер-прокурор подыскивает из писания тексты, которыми санкционируются все эти деяния. Куда ни взглянешь, всюду творятся ужасы».
Так что мы видим: Поленов отлично понимал диалектику событий и судьбу учения Христа, которое он решительно отделяет от официозной церкви, как католической, так и православной.
Летом 1887 года, после того как выставка из Петербурга переехала в Москву и оттуда — в провинциальные города, Адриан Викторович Прахов предложил Поленову работать в Киеве, во Владимирском соборе, где работали Васнецов, братья Сведомские и Котарбинский — невольные товарищи Поленова в Риме три года назад, где мыкается гениальный, но не признаваемый пока Врубель, куда, как дипломатично сообщает Прахов, стремятся попасть художники Бодаревский и Селезнев.
Но Поленов страшно устал, у него что-то вроде нервного кризиса после смерти Феди, после окончания работы над большой картиной, от всего того, чем было для него ее создание и ее дальнейшая судьба. Он то ли совсем не отвечает Прахову, то ли отвечает отказом.
Осенью он едет в Крым. В Киеве надеются, что Поленов проездом в Крым заедет посмотреть работы Васнецова и вообще взглянуть на собор. Но он проезжает мимо.
В конце декабря Поленову пишет Васнецов, поздравляет с успехом картины («…судя по всем отзывам, она необыкновенна!») и, коль скоро Поленов вступил на стезю религиозной живописи, Васнецов, вслед за Праховым, приглашает его в Киев, ибо среди людей, окружающих его, «едва ли кто-нибудь понимает ясно» то, что он делает.
Вот так так! А Врубель, автор образов в Кирилловском храме?! В том, что его третирует Прахов, ничего необъяснимого нет — это отдельная история, — но почему Васнецов не хочет замечать этого гениального мастера? Уж не потому ли, что чувствует у Врубеля силу большую, чем у него самого? Или он, подобно многим другим, не понимает Врубеля?
Одно из двух…
Поленов Врубеля еще не знает, даже не подозревает, что такой художник существует. Когда они познакомятся, Поленов Врубеля оценит, поможет ему так, как только сумеет. Потом, когда Поленов окажется в Киеве (проездом во второе путешествие на Ближний Восток) и будет осматривать Владимирский собор, он оценит его, в общем, отрицательно как художественное произведение («Пестро, ярко, всюду золото, всюду раскрашено и спереди и сзади, но единства и гармонии мало»), у Васнецова отметит как «очень талантливые» «отдельные места» и как безусловно удачные назовет фрагменты Врубеля — единственное, что разрешено было исполнить Врубелю в соборе.
Но чем же Поленов ответил на письмо Васнецова? Ведь Васнецов когда-то очень строго судил не оконченную еще картину Поленова, судил, не понимая, разумеется, всего того сгустка мысли, который хотел вложить в нее автор. Он и не мог понять. Они — разные, Поленов и Васнецов. И вот теперь Поленов наконец получает возможность ответить одному из своих оппонентов, на один из «голосов», которые слышал он, пока работал над картиной. Вот что он пишет Васнецову: «Что касается работы в соборе, то я решительно не в состоянии взять ее на себя. Я совсем не могу настроиться для такого дела. Ты — совершенно другое, ты вдохновился этой темой, проникся ее значением, ты искренне веришь в высоту задачи, поэтому у тебя и дело идет. А я этого не могу. Мне бы пришлось делать вещи, в которые я не только не верю, да к которым душа не лежит; искреннего отношения с моей стороны тут не могло бы быть, а в деле искусства притворяться не следует, да и ни в каком деле не умею притворяться. Ты мне скажешь, что я же написал картину, где пытался изобразить Христа. Но вот в чем дело: для меня Христос и его проповедь — одно, а современное православие и его учение — другое; одно есть любовь и прощение, а другое… далеко от этого. Догматы православия пережили себя и отошли в область схоластики. Нам они не нужны».
Вот так ответил Поленов на «голос» Васнецова, услышанный еще несколько лет назад. В том же письме он пишет: «К великой моей радости, многие поняли то, что я хотел сказать, и отозвались с сочувствием».
В газете «Новости» была получена в то время статья студента — медика Викентия Смидовича, который впоследствии стал известен как писатель Вересаев. Много лет спустя Вересаев, вспоминая об этом, писал Поленову: «Вы — моя давнишняя любовь, еще со студенческих времен, когда я в первый раз увидел на Передвижной выставке „Христа и грешницу“. Картина на меня произвела потрясающее впечатление — и особенно фигурой и ликом Христа: меня возмущали критики, писавшие только о колоритах и „восточных типах“… Я написал большую статью о картине и отправил ее в „Новости“. Статья безвестного студента, конечно, не была напечатана. Я в ней писал, что картина дает именно такого Христа, каким мы теперь только и можем мыслить — не Бога, а Человека с огромной душой».
Получил Поленов письмо и от певицы Климентовой-Муромцевой: поздравление, восторг («Счастливец, какой у Вас талант!») и просьба: «Нельзя ли попасть на выставку в незаконный час — без публики», желание увидеться…
Неизвестно, как откликнулся Поленов на это письмо. Едва ли оно его обрадовало.
Зато, несомненно, обрадовало письмо Спиро, которого зря так нехорошо характеризовала Наталья Васильевна. Спиро в восторге и от самой картины, и от статей Гаршина и Короленко, статью Стасова называет «позорной», считает, что Стасов «впадает именно в ту ошибку, за которую он так нападает на „академиков“, — в нетерпимость и отвержение ко всему, что не вполне соответствует им усвоенной и проповедуемой „религией в искусстве“. Между тем красота жизни двигается вперед не шаблонами, а творчеством, и чуют это движение вперед не те критики, которые только „учены“, но не творцы, а которые не только учены, но и сами творцы. Воображаю, как бы Тургенев восхищался такой картиной».
Далее Спиро передает Поленову, что картина его очень понравилась его сотруднику по университету, известному лингвисту Федору Ивановичу Буслаеву. Мы знаем уже из дневника другого сотрудника Спиро по Новороссийскому университету, Лазурского, как он любил эту картину и спорил из — за нее с Толстым.
Да и молодые художники не все отнеслись к ней так, как К. Коровин, видя в ней только чудесный пейзаж. Другой ученик Поленова, Егише Татевосян, вспоминал: «Это было событие, это был настоящий праздник, особенно для нас, молодежи, учеников его. Мы праздновали точно свою победу. После традиционных, почти черных картин… „Грешница“ была светлым, жизнерадостным, горячее-солнечным произведением в холодной снежной Москве, к тому же она была дерзким вызовом для религиозных ханжей. Совершенно необычно, Христос в костюме восточного дервиша…»
Произвела впечатление картина и на художественную молодежь в провинциях.
Оригинал выставлен был только в Петербурге и в Москве. С него сделал копию брат Константина Коровина — Сергей; Поленов написал на этой копии лишь головы. Именно этот вариант был на Передвижной в провинции. И будущий видный деятель Передвижных выставок, оставивший о передвижниках интересные воспоминания, Минченков, пишет: «Картина произвела на меня ошеломляющее впечатление. Передо мной открылось какое-то волшебство». «Что пережил я от картины на выставке, полагаю, пережили и другие, решившие потом отдать себя искусству». «Мы изучали каждый его мазок, следили за его красками и узнавали про лак, которым покрывал свои картины Поленов. Словом — перед ним преклонялись». «И даже жаль, что с летами, по мере знакомства с техникой, с анализом и критикой, теряешь потом непосредственное восприятие красоты».
Есть основания считать, что к картине Поленова проявил большой интерес молодой Валентин Серов. Свидетельств, то есть чего-то эпистолярного или мемуарного, Серов не оставил, но сохранился рисунок его: поленовский Христос совсем в иной психологической трактовке. Здесь надобно сказать, что Серов часто вступал в некое соревнование с теми, кто был и старше его, и более признан, и высоко им ценим. В начале 1880-х годов после поездки с Репиным в места запорожских сеч он, зная эскиз Репина для будущей большой картины «Запорожцы», трактует запорожцев — в нескольких работах — совсем иначе. Потом в Академии художеств он вступает в соревнование с Врубелем, совсем по-иному трактуя мотив обручения Марии с Иосифом, еще мальчиком, учеником Репина, в Париже он делает свой вариант «Садко». Есть и еще примеры.
Теперь, наблюдая, как работает Поленов в кабинете Мамонтова, — а Серов в те годы буквально дневал и ночевал у Мамонтовых, — потом, увидев картину на выставке, читая все газетные и журнальные отзывы, слыша толки о поленовской картине, Серов делает свой вариант Христа, именно Христа, одной его фигуры. У Поленова Христос уже глядит на толпу, уже не только слышит обвинения в адрес женщины, но и знает, как ответит на них, у Серова момент более напряженный психологически: Христос уже все слышит, но еще «чертит пальцем на земле», он еще обдумывает, ибо, как ни умен он, как ни искушен в словесных баталиях, но ведь нужно время, чтобы подумать, что ответить и в какую форму облечь ответ. И Христос у Серова продолжает машинально чертить на земле, но уже мучительно думает. Едва ли Серов стал бы состязаться с Поленовым подобно тому, как он состязался с Репиным и Врубелем, если бы картина не задела его за живое, причем не пейзажем, как Коровина, а именно трактовкой образа Христа.
Но этот год — 1887-й — волею судеб оказался переломным и для творчества Серова, и для всего русского искусства.
Осенью 1887 года, находясь в Ялте, Поленов встретился с Серовым, приехавшим туда к своей невесте, которая лечилась в Крыму. Серов показал Поленову снимок с последней своей работы: портрета старшей дочери Мамонтовых Верушки. 1 октября Поленов пишет жене: «Сегодня Антов написал лошадку с татарином. Вот так прелесть. Он мне показывал фотографию с Верушкина портрета, должно быть, замечательная вещь: судя по фотографии — это живая действительность».
Поленов не ошибся, даже судя по фотографии. Портрет Верушки Мамонтовой, широко известный теперь как картина «Девочка с персиками», и впрямь вещь замечательная, живая действительность. И эта вещь стала гранью между двумя эпохами в русской живописи.
Серов — вот кто с большим правом, чем другие, мог бы осудить Поленова за приверженность старому передвижничеству и за дань академизму. Но именно он этого не сделал. Едва ли он понимал, что Поленов со своим культом красоты, которая иным из передвижников претила, указал путь ему и всем тем, кто, следуя за ним и одновременно с ним, самостоятельно пошел по этому пути.
Поленов, как было уже рассказано, выражал желание учиться у своего ученика Коровина и у Серова и действительно учился у них. Но он уже начал отставать от века. Учеба у молодежи не много дала ему. Мы увидим довольно скоро, что ветераны-передвижники с неприязнью отнесутся к новому направлению в искусстве. Почти все. Но не Поленов. Он стал как бы главою оппозиции передвижникам, когда почувствовал, что они из силы передовой превратились в силу косную, в силу, которая не движет уже искусство вперед, а, напротив, тормозит его поступательный ход. Разумеется, процесс отхода Поленова от передвижничества был не простым и долгим: он, собственно, организационно не порвет с передвижниками. Последний раз его картины появились на Передвижной в 1918 году (после 1918 года были лишь две крохотные выставки — в 1922 и 1923 годах). Но, неизменно пользуясь влиянием на этих выставках и в этом обществе, Поленов всегда, подчеркиваю —
Он не мог угнаться за теми, кому он отчасти «прорубил окно» в новую эстетику, — К. Коровиным, Левитаном, Серовым, Врубелем, — но признал их сразу же, признал коровинский «Портрет хористки», всячески способствовал тому, чтобы художник был признан и другими, помогал, чем мог.
Здесь невольно напрашивается — по контрасту — аналогия с другим художником, который начал как отчаянный новатор, а закончил не только как консерватор, но и как деспот, навязавший всем свои приемы. Речь идет о французском живописце Жаке Луи Давиде.
В юности он написал картину «Клятва Горациев» — по тем временам дерзко новаторскую, а затем другую: «В дом консула Брута ликторы приносят тела его сыновей» и получил полное возмущения письмо академика Пьера: «В Ваших Горациях Вы поместили три фигуры по одной линии, чего никогда не было видано с тех пор, как существует живопись. Теперь вы помещаете главное действующее лицо (Брута. —
По мысли Давида, французское искусство, изнежившееся при Бурбонах, давшее миру таких мастеров, как Ватто, Буше, Грёз, в лучшем случае — Шарден, необходимо было вернуть на путь героического искусства, приняв за образец античное искусство. К счастью для Давида, разразилась французская революция, к которой он примкнул. Он стал как бы «главным художником государства» и деспотически прививал свои принципы всему искусству. Он был, однако, изрядный протей. Когда к власти пришел Наполеон, он объявил себя приверженцем империи и написал грандиозное полотно «Коронование Наполеона в соборе Парижской Богоматери». «Революция и Империя сделали из него то, чем был Лебрён при Людовике XIV, именно — диктатора искусства», — пишет историк искусства С. Рейнак. Он же пишет, что «один из скульпторов времен Революции, льстивший Давиду, требовал… чтобы всякий „не патриотический“ сюжет был запрещен для искусства». В 1813 году империя пала, к власти пришел «обозный» король Людовик XVIII. Давид, кажется, готов был признать новый режим и служить Бурбонам, как служил он Робеспьеру и Наполеону. Но он вотировал казнь Людовика XVI и Антуанетты и должен был удалиться в изгнание. Последние годы его жизни прошли в Бельгии. Но он успел за время своего диктаторства в искусстве многое. Тот же Рейнак пишет: «В начале XIX века Луи Давид безраздельно господствовал над французским искусством. С чисто якобинской нетерпимостью он возвел в догмат подражание античным статуям и барельефам, пренебрежение к жанровым сюжетам и полное презрение к чувственной или просто приятной живописи».
Вот художник, который человеческими своими качествами являл полную противоположность Поленову. Поленов мог бы пользоваться огромным влиянием. Александр III, который, будучи еще наследником, специально вызвал художника Поленова в свою ставку, а теперь купил за 30 тысяч «Христа и грешницу», мог если не юридически, то фактически сделать Поленова в русском искусстве таким же диктатором, каким был в свое время Давид. Но Поленову, должно быть, сама мысль о подобном повороте событий показалась бы дикой. Напротив, он старается уйти в тень, а если и появляется на свету, то лишь щитом, чтобы помогать молодежи, которая обогнала его. «А трудно Тоне[16] пробиваться, — пишет мать Серова его кузине, — он ждет все Поленова, думает, что тот ему поможет».
Вообще тема «Поленов и художественная молодежь» — большая, сложная и едва ли не центральная в биографии Поленова. Для того чтобы рассказать о ней с должной полнотой, необходимо вернуться к тому времени, когда в 1884 году Поленов с женою возвратились из Рима и в квартире Поленовых начались рисовальные и акварельные собрания.
И так как эта линия биографии Поленова в той или иной форме проходит через всю вторую половину его жизни, то волей — неволей придется возвращаться к некоторым моментам его биографии, о которых говорилось ранее. Придется нарушать хронологию. Это неизбежно, ибо так лучше для исследования личности Поленова.
«Акварельные утра» организовывались по воскресеньям, «рисовальные вечера» — по четвергам. Почти все рисунки и акварели, сделанные на этих собраниях, сохранились у Поленова и сейчас находятся в поленовском музее, а большая часть сведений о них содержится в письмах Елены Дмитриевны, адресованных давней ее корреспондентке и большой приятельнице Антиповой, с которой она сошлась в годы учения в Школе поощрения художеств в Петербурге. Позднее Антипова жила в Ярославле, где была начальницей Ярославской женской гимназии.
Когда начался учебный год, в октябре 1884 года, Елена Дмитриевна пишет, что после рождения Федюка (ведь это еще 1884 год) Поленов совсем забросил большую картину (то есть «Христа и грешницу») и весь его интерес сосредоточен на учениках и ученики очень увлечены затеей Поленова, особенно «Левитан и Коровин, самые даровитые ученики здешней Школы живописи и ваяния».
О том, что именно рисовали и писали, уже говорилось выше. Здесь интересны просто свидетельства Елены Дмитриевны, в сущности, почти единственные, дающие представления чуть ли не о каждом из сеансов.
15 ноября она пишет о себе (ибо была участницей — и очень горячей — этих собраний): «Работаю, и жадно. Работа ладится, даже Василий, который во время работы всегда страшно строг, и тот одобряет».
18 ноября: «Коровин писал масляными красками (покуда он один), а Левитан сделал акварельку — разовую голову, — прелесть что такое! И такие молодые, свежие, верующие в будущее. Новой и хорошей струйкой пахнуло…» 18 ноября в собрании, сообщает В. Д. Поленова, было уже десять человек. Стали приходить Остроухов, Николай Третьяков (племянник Павла Михайловича).
Инициативу Поленова подхватили Мамонтовы. 23 ноября Елена Дмитриевна пишет: «…сейчас вернулась с собрания мамонтовского. После чая рисовали карандашом голову старика, очень интересно освещенного и характерного. Елизавета Григорьевна читала „Декабристов“ Толстого. Был очень вообще удачный и симпатичный сеанс. Что Левитан сделал! Ну просто восторг!» И дальше в том же письме: «Левитан всех с ума сводит… Меновая торговля (этюдами) в разгаре».
«Меновая торговля этюдами» была начата стихийно на этих собраниях. Вероятно, инициатором ее был Остроухов, сдержанный собиратель художественных работ. Дарили друг другу и Левитан, и Коровин, и Остроухов, и Елена Дмитриевна. Включались художники постарше: и Васнецов, и сам Поленов. «У нас до того вошло в моду собирание этюдов, — пишет Елена Дмитриевна 29 декабря, — что мы друг перед другом упражняемся стащить что-нибудь поинтереснее. На днях получила ужасно драгоценный для меня подарок: эскиз последней картины Васнецова». И там же: «Сегодня получила два этюда от Левитана и один Третьякова».
Вообще Поленов первым в России начал придавать такое большое значение этюдным работам, что в 1885 году выставил на Передвижной около ста этюдов, привезенных с Ближнего Востока.
Выше уже говорилось, что в 1876 году он написал в Имоченцах этюд «Горелый лес», потом в 1878 году по этому этюду написал картину под тем же названием. Так вот, этюд, написанный под непосредственным впечатлением увиденного, оказался удачнее, чем картина. Этюд драматичнее, он насыщен настроением. Этюд — это как бы «трагедия леса», а картина — просто приятный пейзаж.
В 1889 году по инициативе Поленова в помещении Общества поощрения художеств была устроена первая этюдная выставка, на которой первенствовали ученики Поленова: К. Коровин, Левитан, Остроухов, Головин, Архипов, Виноградов, Иванов, незадолго до того приехавший из Одессы Л. Пастернак, Д. Щербиновский, а также кое-кто из старших. Суриков, например, да и сам Поленов, разумеется. Но подготовкой этой выставки он заняться не мог, так как лечился в это время в Париже у знаменитого невропатолога Шарко. Поэтому организацию ее он передоверил жене и сестре.
Теперь Елена Дмитриевна информирует и брата, и приятельницу о подготовке выставки и о ней самой. «Говорят, что Левитан привез удивительные этюды из Плёса. Видела этюды Сурикова, очень интересная коллекция».
Этюдная выставка открылась в конце октября. Наталья Васильевна и Елена Дмитриевна были главными ее устроителями. Устанавливали щиты, обивали их темно — синей и темно — красной материей, заказывали рамы. 21 октября собралось жюри общества под предводительством Сергея Михайловича Третьякова, и Наталья Васильевна писала мужу: «В первый раз сегодня ужасно жалею, да все молодое жалеет, что нет тебя, единственного друга и покровителя молодежи… Наша молодежь вся двинулась. Архипов выставил прелестные вещи, Виноградов тоже…» И в другом письме: «Молодежь охает, что тебя нет, а молодежь наша художественная очень симпатична…» И хотя Поленов продолжал лечиться в Париже, Наталья Васильевна и Елена Дмитриевна возобновили рисовальные вечера. «Иванов и Архипов очень обрадовались. Сейчас просидели у нас вечер; славный народ, с ними можно жить — это свет».
На первом же вечере были Виноградов, Хруслов, Архипов, Романов, Щербиновский, Голоушев и Пастернак. «За чаем разговорились, — пишет Наталья Васильевна, — и тут выделились университетские: Щербиновский, Романов, Голоушев и Пастернак».
Приходил, пока не было Поленова, Левитан, уже признанный. Сергей Тимофеевич Морозов устроил ему прекрасную мастерскую, Левитан пригласил жену и сестру Поленова прийти посмотреть. Они пришли. Теперь Наталья Васильевна писала мужу, что «Левитан шагнул громадно за это лето. Работает страшно много и интересно».
Таких близких, чуть ли не родственных отношений, какие возникли со временем у Поленова с Коровиным, с Левитаном не было. Но в моменты отчаянной депрессии Левитан писал Поленову, когда у того было уже имение на Оке, просил разрешения приехать, и Поленов всегда звал его к себе подышать чистым воздухом, поработать, а если Левитан захочет, то и поохотиться (Левитан был страстным охотником).
Когда в 1899 году Поленов уезжал во второе путешествие на Ближний Восток, он специально зашел к Левитану — попрощаться, словно бы чувствовал, что Левитан доживает последние месяцы. Левитан был очень растроган, написал своему учителю: «Я давно собирался к Вам, да в последнее время у меня сердце ведет себя непорядочно, а у Вас лестница „порядочная“».
По возвращении в Россию Поленов еще успел увидеться с Левитаном, он возмущался тем, что на Всемирной выставке в Париже летом 1900 года «дали награду такой посредственности, как Дубовской, и не дали крупному и оригинальному таланту, как Левитан».
А потом — смерть Левитана, и Поленов пишет Остроухову: «Какая тяжелая утрата — смерть Левитана! Хотя мы уже давно знали, что жизнь его в большой опасности, но когда пришло известие об его смерти, не верилось этому, сердце больно сжалось. Он умер в самом расцвете таланта».
Левитан умер в 40 лет… Еще недавно худенький застенчивый мальчик, поражавший окружающих своими этюдами, своей влюбленностью в природу, один из питомцев Поленова, участник его рисовальных вечеров и акварельных утр…
Вернемся же к ним. Итак, 1889 год; Поленов в Париже лечится у Шарко, а в Москве появился новый художник, совсем Поленову не знакомый, друг Серова и Коровина, — Врубель. Наталья Васильевна сообщает мужу, что на очередном вечере был Врубель: «Он на вид очень неказист, он очень образованный человек и страсть любит философствовать».
Придет время, когда Поленов и Врубелю станет помощником в жизни. Совершенно верно написала исследовательница творчества Поленова С. А. Лясковская: «Поленов стал руководителем московской художественной молодежи».
И Остроухов, воспоминания которого «Поленов и художественная молодежь» уже не раз цитировались здесь и которые, как было уже сказано, являются как бы энциклопедией этой темы, пишет: «Как художник исключительной величины, Василий Дмитриевич стоял в центре этой интимной художественной жизни и направлял ее, но делал это незаметно и не касаясь кого бы то ни было, точно открывал широкое окно, в которое лился светлый и бодрый художественный воздух. Когда я ближе сошелся с ним и вошел в круг семьи его, я вступил не в художественный кружок, а в художественную семью, ибо все, кого я нашел там… члены семьи и посторонние семье, были связаны крепким, художественным родством. Как — то сразу почувствовал и я себя ее равноправным членом; так было и с каждым товарищем».
В 1886 году под руководством Елены Дмитриевны был организован «археологический кружок» для изучения древних памятников Москвы и Подмосковья. В 1889 году рисовальные вечера были перенесены на субботу, но начались «керамические четверги», ибо в Абрамцеве Савва Иванович Мамонтов затеял керамическую мастерскую. Керамикой увлеклись многие: и сам Поленов, занимавшийся ею еще в годы парижского пенсионерства, и Елена Дмитриевна, которая, как известно, специально ездила для изучения росписи керамики в Париж от школы, руководимой Григоровичем, и сын Мамонтовых Андрей, и Головин с Серовым; но больше всех увлекся керамикой появившийся как раз в это время и обосновавшийся надолго в Москве Врубель. Его достижения в этой области блестящи.
В 1887 году, после окончания работы над «Христом и грешницей» и истории с «устройством» этой картины, Поленов получил письмо от Антокольского из Парижа: «Москва может много дать художнику, но тем не менее художник там может скоро сгореть… Поддаваться этому не следует ни за что на свете! Бог дал тебе талант, состояние и прекрасную семью. Ты сам брал от природы все, что было возможно. Ты честный человек с солидным образованием, а потому — израсходовать это ни на что будет с твоей стороны грешно. Напротив, мы все ждем от тебя много, много прекрасных творений. Твой дом должен быть рассадником искусства, теплым центром для всех, кто желает отдохнуть после прозы и перейти в область поэзии. Одним словом, ты должен всех ободрить и обласкать, ты должен поддерживать духовные силы молодых и старых. Вот твое призвание. Бог дал тебе средства для этого, и ты твоим примером должен указать другим, как трудиться и как любить труд. Говорят, кому Бог много дал, от того много и требует, — это целиком можно отнести к тебе, друг Василь Дмитриевич».
Значит, к этому времени роль Поленова в художественной жизни Москвы стала общеизвестна и известность эта докатилась до Парижа.
Еще бы, ведь деятельность Поленова, педагога и наставника молодежи, была так обширна, что невозможно было не узнать о ней. Тем более что Антокольский каждый свой приезд в Россию бывал непременно у Мамонтовых, а там тоже организовали рисовальные вечера, душою которых был Поленов. Потом у Мамонтовых вместо рисования с натуры Поленов начал читать молодежи курс перспективы. Он, еще живя в Париже, начал писать большой труд по теории перспективы, так что эта сторона искусства была ему ведома не менее химии красок и колористических отношений.
В начале 1885 года Мамонтов открыл первый сезон организованной им Частной оперы. Таким образом, достижениям Поленова в декорационном искусстве предстояло из квартиры Мамонтовых, где их видел избранный круг лиц, перейти на общественную сцену, доступную для всех. Сам Поленов не мог стать декоратором, он готовился в то время к работе над «Христом и грешницей», да и семья не давала ему такой возможности.
Однако декорационные работы сулили неплохой заработок, и Поленов предложил Мамонтову для этой работы своих учеников: Левитана и Коровина. К ним присоединился Виктор Симов. Работал одно время в мастерской Николай Чехов.
Левитан написал декорации к «Жизни за царя», причем совершенно чудесно была написана декорация «Ипатьевский монастырь», по эскизам Васнецова написал он декорации к «Снегурочке», к «Русалке». Но ни он, ни Н. Чехов долго декорациями не занимались. Чехов много пил, работал мало, а в 1889 году умер. Декорации Симова на фоне декорации Левитана и Коровина меркли. Но он получил в этом театре неплохую школу и впоследствии, когда начал работу в Художественном театре, перенес туда то, чему научился в театре Мамонтова.
Коровин же буквально окунулся в свою стихию. Первые написанные им декорации были к «Аиде», действие которой происходит в Египте. Поленов привел Коровина к себе домой, вновь показал свои египетские этюды: Нил, египетские пейзажи, Карнакский храм, храм Изиды, а также фотографии, которые он делал в Египте. Все это Поленов предложил Коровину использовать как подсобный материал.
Коровин стал писать декорации. Поленов часто приходил в декорационную мастерскую. Однажды сказал:
— Как я люблю писать декорации! Это настоящая живопись. Превосходно. Сильные краски.
Взял синюю, сказал:
— Я немножко вот тут колонну… Лотос сделаю.
Пришел Мамонтов, с ним певица Мария Дюран, итальянка.
— Что вы делаете! — сказал Мамонтов. — Слишком ярко.
Поленов ответил:
— Нет, так надо. Сначала и я испугался. Но так надо.
В семье Поленовых, однако, очень жалели, особенно Наталья Васильевна и Елена Дмитриевна, что Коровин стал декоратором. Декоративное искусство недолговечно. А «Костеньке», как называли Коровина у Поленовых, надо писать станковые картины, которые сохранятся навсегда. Это было верно и одновременно неверно.
А. Головин пишет: «Имя Коровину создали не столько пейзажи, сколько работы для Мамонтовского театра». Это одна сторона дела. Другая заключалась в том, что театр развил специфические черты таланта Коровина, его склонность к широкой живописной манере, к обобщению, яркости, смелому мазку. Кроме того, живопись Коровина еще мало кто понимал тогда. Едва ли он смог бы просуществовать, продавая свои картины. Декорационные работы обеспечивали ему возможность безбедно существовать и заниматься станковой живописью.
Летом 1885 года, после того как зима и весна были отданы декорациям, Коровин приехал в Меньшово, где Поленовы впервые проводили лето.
Поленовы были недовольны им, считали, что декорационные работы усилили те тенденции коровинской живописи, которые были ему свойственны, и что его широкая живописная манера привела его, благодаря работе над декорациями, к тому, что он стал писать «с недописками и недохватками». Поленов пошел с Коровиным в соседнюю с Меньшовым деревню Тургенево, выбрал интересный мотив, и они начали работу. Поленов нарочно сделал сначала тонкий, с прорисовкой всех деталей рисунок этого лиричного пейзажа с тихой речкой, ручьями, впадающими в нее и образующими вместе с речкой что — то вроде маленького озерца, сараями, избами, старой мельницей и деревьями. Потом в несколько измененном виде рисунок был перенесен на холст и написан так, что работа эта стала одним из лучших пейзажей Поленова.
Коровин писал рядом. Мотив у него и тот, и не тот. Та же речка, те же дома и деревья, но манера — своя.
Поленов понял: Коровин нашел свой путь в живописи, и едва ли следует его искусственно менять. У Коровина, во всяком случае, свои, интересные поиски, да и не поиски даже, а уже и находки.
В следующем, 1886 году Коровин оставил училище. Ему, так же как и остальным ученикам Поленова — пейзажистам, было присвоено звание «неклассного художника». Но к семье Поленовых Коровин словно бы «прилип» на долгие годы.
Головин вспоминает, что Коровин, который был «беспечен и способен к самым курьезным поступкам, однажды, например, придя к Поленовым в день Нового года… неожиданно остался жить у них целую неделю, не снимая фрака».
Второе лето в Меньшове было для Поленовых, как мы уже знаем, трагичным. Тело маленького Феди было перевезено в Москву и похоронено на Ваганьковском кладбище рядом с могилой Веры.
Поленовы перебрались в Абрамцево. Василий Дмитриевич работать не мог. Наталья Васильевна, начавшая недавно заниматься живописью, превозмогая себя, работала. Работала и Елена Дмитриевна, но как-то неестественно, не так, по ее словам, как прежде: «Чувствуется что-то добровольно — принудительное».
Осенью переехали в Москву, там была организована акварельная выставка, где брат и сестра Поленовы выставили несколько своих работ.
Наталья Васильевна стала посещать Училище живописи, чтобы учиться систематически… Стал посещать училище Остроухов. Переехал в Москву, оставивши академию, Серов и тоже стал посещать училище.
Всю осень и зиму Поленов писал «Христа и грешницу», потом были хлопоты с ее экспонированием. И после всего этого страшного нервного напряжения у него возобновились и стали нестерпимыми головные боли. Что это была за болезнь, теперь определить трудно. Поленов в письме Васнецову писал: «Доктора называют мою болезнь неврастенией с истерической подкладкой и ипохондрическим верхом (шуба хорошая) и даже лечат меня. Один Петр Антонович[17] сказал правду, что лечить тут нечего, а надо терпеть, может быть, со временем и само пройдет… И такие жестокие гадкие боли, что, не испытав их, нельзя себе представить, и находит на меня такое уныние, что волочишь изо дня в день свое существование без радости, без отдыха. Что особенно тяжело, что состояние это доводит меня до какого-то озлобления, с которым подчас совладать не можешь. Работать трудно, хочется отдохнуть, а отдыха нет, и ждешь, ждешь, придет же когда-нибудь настоящий отдых».
Летом 1887 года Поленовы поехали в Жуковку, красивый дачный поселок на Клязьме. К ним приезжала младшая сестра Натальи Васильевны Маша Якунчикова, милая семнадцатилетняя девушка, умная, не по годам развитая интеллектуально и духовно и в то же время детски наивная. Приехали Остроухов с Серовым. Серов начал портрет Маши, но не закончил его.
Маша Якунчикова с двенадцати лет серьезно занялась искусством под руководством члена поленовского кружка С. С. Голоушева. Еще прошедшею зимою она сблизилась в Москве с поленовским кружком, подружилась с Еленой Дмитриевной, участвовала в походах «археологического общества». Она особенно увлеклась эпохой царя Алексея Михайловича и даже сделала два эскиза из этой эпохи: «Царь посещает заключенных» и «Царь в молельне». Этот последний ее эскиз был отмечен как лучший на вечерних занятиях Училища живописи, которые она посещала одновременно с Натальей Васильевной, Серовым и Остроуховым. За него она получила 1-й номер. Лето 1887 года она почти все время проводила в Жуковке, лишь ненадолго отлучаясь в имение родителей — Морево.
В июне в Жуковку приехал Коровин, привез, кроме красок, палитры и холста, еще и удочки. Он был таким же страстным рыболовом, как Левитан — охотником. Но в Жуковке не оказалось лодки. Коровин с Поленовым поехали в Москву, купили лодку, привезли ее в Жуковку.
Здоровье Поленова не улучшилось в Жуковке. Врачи рекомендовали ему уехать в Крым. Он уехал туда в конце августа удрученный, подавленный; мысль о том, что жизнь окончена, что жить не для чего, не покидала его.
1 сентября Поленов приехал в Ялту, которая напомнила ему не то средиземноморские города, не то Бейрут или Смирну. Ялта в те времена действительно была двунациональным городом: остатки многовекового владычества крымских ханов и проникающая из России европейская цивилизация.
В Ялту приехала и Маша Якунчикова, она, как пишет Поленов, «в упоении от природы и купания и одета таким же матросом, как у нас в Жуковке». Да и сам Поленов в восторге от купания: «…чудесное купание, море тихое, прозрачное, не вышел бы из него, так оно ласково тебя гладит».
За год до Поленова в Крыму побывал Левитан и привез много крымских этюдов. И сейчас, наблюдая крымскую природу, Поленов сравнивает работы своего ученика с работами прославленного «царя моря» — Айвазовского и считает, что работы Левитана несравненно лучше передают Крым, чем чьи бы то ни было: и Айвазовского, и Лагорио, и Шишкина, и Мясоедова. «Сегодня только одно время были облака вроде Айвазовского — пухлые, бело — серые и приторно стушеванные, как это умеет Айвазовский один, но у него это доведено до большей слащавости. Молодец, Левитан…»
Отдал Поленов дань и местной экзотике: на базаре обнаружил татарскую лавочку медной посуды, выбрал несколько предметов, но они были еще не закончены, их нужно было лудить, а в мастерской один мальчик, и он один не может это сделать: кто — то должен раздувать огонь в горне. Поленов предложил, что это будет делать он, работая как бы подмастерьем. И работа была исполнена, и Поленов узнал, как лудят медную посуду. В другой раз в маленькой лавочке увидел чашечку родосского фаянса.
— Это персидская вещь, — сказал хозяин, — стоит три рубля пятьдесят копеек, но я отдам вам за три.
Поленов купил. Потом обнаружил в той же лавочке другую такую же, но немного разбитую. Ее хозяин лавки отдал за шестьдесят копеек.
Постепенно настроение у Поленова улучшалось, головные боли мучили реже, он начал понемногу работать. Перечитывал Тургенева, Толстого, увлекся биографией Грановского. «Ты знаешь, — пишет он жене, — как я люблю эту эпоху, т. е. людей этой эпохи, и именно людей так называемого западного направления. В них что меня привлекает, это человеческая сторона, которая преобладает над национальной. В этом главная их сила и превосходство над славянофилами».
В середине октября Поленов был уже в Москве. После отдыха в Крыму, после морских купаний он был весел и бодр.
Но зима 1887/88 года прошла плохо. Головные боли, утихшие было в Ялте, опять возобновились. А в училище и у Поленовых все шло, как шло раньше. Приходила все та же молодежь на рисовальные вечера, а Маша Якунчикова стала рисовать все больше и успешнее.
Лето опять провели в Жуковке и, как всегда, в окружении молодежи. Василий Дмитриевич, если голова не болела, работал, писал этюды. Работали — и очень много — Коровин, Елена Дмитриевна, Остроухов, Маша Якунчикова. Приезжали Серов, Левитан, Нестеров. Нестеров написал пейзажный этюд и портрет Елены Дмитриевны и оставил их в подарок «гостеприимным хозяевам».
Елена Дмитриевна очень увлеклась фольклором, слушала и записывала сказки и песни, делала к ним иллюстрации. Однажды, как пишет она Е. Г. Мамонтовой, «попала на старика, который упросил… написать его портрет… Во время сеансов он сидит, как манекен, так старается, а во время отдыха я заставляю его сказывать сказки, а сама записываю. Это очень увлекательно. Старик в таком восторге от своего портрета, что после первого сеанса вдруг — бух мне в ноги».
Этим летом в Жуковке Коровин написал чудесную вещь, которую можно причислить к лучшим созданиям его кисти: «За чайным столом». Это очень светлая, очень жизнелюбивая вещь. Стол со сверкающим медью самоваром стоит на террасе, окна которой широко распахнуты, и за террасой — чистая, чудесно светящаяся на солнце зелень; за столом — четверо: у самовара — хозяйка дома Наталья Васильевна, по левую руку — Маша, напротив Маши гость Поленовых офицер Зиборов, четвертая — со спины — Елена Дмитриевна. От картины веет утром, гостеприимством и таким миром и покоем, какой царил тогда не столько, пожалуй, в Жуковке, сколько в душе добродушного оптимиста Костеньки Коровина.
Нестерова Елена Дмитриевна называет художником — страдальцем и сравнивает с героем известного романа Золя Клодом Лантье. И хотя, по ее же словам, Нестеров «более собой доволен и окреп, и поправился физически, но нравственно все такой же нервно — ненормальный».
А Коровин между тем продолжал работать много и радостно. Женская часть семьи Поленовых относилась все же к нему с недоверием, искренне считая его шалопаем, — не только Наталья Васильевна, но и Елена Дмитриевна. В сентябре она уехала в Кострому к Антиповой и оттуда писала: «Ужасно радуюсь, что у Коровина продолжают ладиться его работы. В его лодочную картину я, правду сказать, не очень — то верю. Мне кажется, мало у него для нее материала. Хоть бы чайный стол — то он кончил».
Как мы знаем, «Чайный стол» был все-таки окончен. Но этим летом он написал в Жуковке и «лодочную картину», в осуществление которой так мало верила Елена Дмитриевна. И эта картина — «В лодке» — одна из самых пленительных коровинских картин: он сам — сидит на скамье и читает, а на корме Маша Якунчикова внимательно слушает его. Лодка у берега, у густых зарослей кустарника. Вокруг прелестная тишина, и только голос читающего Коровина. Вещь эта — удивительная, кажется, лучшая из написанных Коровиным до нее. В ней передана и неподвижность лодки, и неподвижность теплого воздуха и кустов, и сосредоточенная неподвижность этой чудесной юной девушки, с жадностью воспринимающей то, что ей читают.
Эта вещь удивительно напоминает один из лучших рассказов Чехова — «Дом с мезонином». Так и кажется, что здесь изображены герои этого рассказа: художник и нежная, кроткая Женя Волчанинова — Мисюсь.
Написал Коровин портрет еще одной сестры Натальи Васильевны — Веры.
Четвертая значительная вещь этого лета называлась «Настурция». На ней — та же терраса, на которой стоит чайный стол, но показана она снаружи. Внизу у террасы цветут настурции. На перила террасы опирается какой-то мужчина, у лестницы, положив руку на перила, — женщина. И здесь, в этой картине, такая же обстановка мира и покоя, как на всех Жуковских вещах Коровина, написанных тем летом.
Поленов мог быть совершенно доволен результатами работы своего ученика — для Коровина лето 1888 года в Жуковке было очень плодотворным.
Но оно было плодотворным не для одного Коровина.
Левитан провел почти все это лето в Плёсе на Волге. Теперь Плёс считается самым, употребляя выражение Чехова, «левитанским местом» в России. Он привез оттуда множество чудесных пейзажей.
А Серов провел все это лето в имении своих родственников — Домотканове и также привез две значительные вещи: «Пруд» и «Девушка, освещенная солнцем» — портрет его кузины Маши Симонович.
Это был совершенно необычайный год для молодежи, окружавшей Поленова.
В конце года в Москве была устроена очередная Периодическая выставка, на которой, по словам И. Грабаря, «ясно определились Левитан, К. Коровин и Серов».
Коровин выставил «У чайного стола», несколько вещей выставил Левитан, Серов выставил «Пруд», «Девушку, освещенную солнцем» и прошлогодний портрет Верушки Мамонтовой, который Поленов предыдущим летом видел на фотографии. Оригинал же был просто шедевром — откровением в русской живописи.
Все три художника получили премии Общества любителей художеств, в котором состояли и Мамонтов, и Поленов. «Вечер на Волге» Левитана и «Девушку, освещенную солнцем» Серова купил Третьяков. «У чайного стола» купил у Костеньки Поленов.
Поленов, как пишет Наталья Васильевна, «принимал участие в juzy (жюри)» и по случаю получения премий тремя его любимцами «ужасно счастлив и радуется их радостью». Радовались и сама Наталья Васильевна, и Елена Дмитриевна: «Друзья мои процветают, из нашего кружка трое на днях получили премию в Обществе любителей: Коровин, Серов и Левитан».
На очередной Передвижной выставке, открывшейся в Петербурге 26 февраля, Поленов выставил первую свою картину из задуманной серии «Из жизни Христа» — «На Генисаретском озере». На этой же выставке были три волжских пейзажа Левитана, «Пустынник» Нестерова, две вещи Архипова: «На Волге» и «Пересуды», была картина Сергея Иванова «Переселенец», два пейзажа Остроухова, который, надо сказать, сумел уже в третий раз выставиться на Передвижной выставке. Пастернак выставил интересную работу «Письмо с родины». Елена Дмитриевна — «Шарманщиков».
До выставки еще Третьяков купил две из выставлявшихся картин: Пастернака и Нестерова, «и этим, — по словам Елены Дмитриевны, — сделал двух вполне счастливых людей».
Но случилось досадное недоразумение с Коровиным. В конце 1888 года он ездил с Мамонтовым в Италию, оттуда в Париж, из Парижа поехал в Испанию. Из Испании в начале 1889 года он привез один из своих ранних шедевров: «У балкона. Испанки Ленора и Ампара». Этот год Коровин был вообще на взлете…
Поленов перед открытием выставки поехал в Петербург и сообщил оттуда о результатах голосования. Но в телеграмме, присланной им, не было ни Коровина, ни Н. Третьякова.
Поленовы, оставшиеся в Москве, были опечалены за Костеньку. «Это не делает чести художественному пониманию передвижников», — резюмирует Елена Дмитриевна в письме Е. Г. Мамонтовой. А в письме брату: «Уж и досталось же передвижникам».
Пришел Коровин и, узнав, впал в уныние. Поленову в Петербург была послана телеграмма. Тотчас же пришел ответ: произошла ошибка, Коровин принят. Бросились его искать и в декорационную мастерскую, и в другие места, но его нигде не было. Наконец он сам пришел и, как сообщила Поленову жена, «прыгает и кувыркается» по случаю удачи.
Потом пришло письмо от Поленова: «Какая досада, что я наделал столько неприятных часов Костеньке, виноват не телеграфист, а я; я теперь даже припоминаю, как я в черновой вычеркнул одного Коровина и, переписывая, забыл вставить другого. Прошу у Костеньки прощения за такую большую неприятность».
Итак, Передвижная выставка, семнадцатая по счету, окрылила молодежь, вселила уверенность в свои силы. Но на следующий год, 1890-й, передвижники заняли к молодым своим товарищам совершенно иную позицию.
Собственно, кризис назревал уже несколько лет. В 1888 году умер Крамской. Но и не в Крамском было уже дело. Крамской сам — возможно, из-за прогрессировавшей болезни — изменился. Он оставил мысль об окончании своей главной картины «Хохот» или «Радуйся, царю Иудейский», писал парадные портреты, за которые брал огромные деньги, построил на эти деньги дачу. И на даче, и в петербургской квартире полным-полно было родственников и всяческих знакомых приживалов. «Дом его был полная чаша, — вспоминает Репин. — Но самого его теперь бы не узнали».
Ему не было и пятидесяти, но на вид это был глубокий старик, приземистый, обрюзгший, поседевший. Он все больше усваивал взгляды тех, чьи портреты писал, он уже стыдился своего былого радикализма. Во время работы над портретами он был одет в серый редингот с шелковыми створами, модные туфли и алые атласные чулки, и сам о себе говорил, что стал теперь «в некотором роде особой». Он сблизился с Сувориным, который тоже был когда — то либералом, но чем дальше, забирал все более и более вправо. Забирал вправо и Крамской. «На общих собраниях Товарищества, — пишет Репин, — он открыто ратовал за значение имени в искусстве, за авторитет мастера, показывал, что все это дается художнику не даром и должно же быть когда-нибудь оценено».
Сами собрания он предлагал сделать публичными и приглашать на них репортеров, ибо знал, что каждое его слово будет подхвачено и станет достоянием широкой гласности. У него появились привычки вельможи: на собрания он приходил теперь последним. «Он становился тяжел желанием импонировать». Он даже начал склоняться в пользу академии, доказывая, что ее выставки «перетягивают», а что касается до передвижения, то теперь уже и академические выставки возят по провинциальным городам.
Но при всем том он, как пишет Репин, «был неподкупно честен и справедлив в приговорах… пристрастия его в оценке чужого труда никогда не было».
Но изменения, происходившие с Крамским, роковым образом сказались на судьбах Товарищества. После смерти Крамского наибольшее влияние приобрели такие «патриархи», как Мясоедов, Владимир Маковский, Карл Лемох.
По поводу выставок устраивались традиционные обеды передвижников, на которые приглашались наиболее влиятельные меценаты. И вот на обеде 1889 года Маковский горько упрекнул Третьякова за то, что тот приобрел такую вещь, как «Девушка, освещенная солнцем» Серова. Но упрек Маковского никак на Третьякова не повлиял. Он покупал для своей галереи то, что считал талантливым, не внимая ничьим сетованиям.
На выставку 1890 года была принята картина Серова (впервые) — портрет его отца композитора Александра Николаевича Серова, но было отказано Пастернаку. Чуть ли не баталия произошла из-за «Видения отроку Варфоломею» Нестерова, купленного уже — прежде выставки — Третьяковым. Потом и Мясоедов, и Маковский, и Суворин, ставший как бы душеприказчиком Крамского (он сразу же после смерти художника издал сборник его писем и статей), уговаривали Третьякова отказаться от покупки.
Репин вышел из состава членов выставок, но картины свои выставил как экспонент. «Это… крайне неприятно, — комментирует его поступок Елена Дмитриевна, — что за комедия, в самом деле? Не сочувствуешь? Выходи откровенно и бросай их, а то из Товарищества вышел, а сам у них же ставит — чепуха!»
Елена Дмитриевна была в России как бы представительницей своего брата, лечившегося той зимой в Париже. К ней пришли Сергей Иванов, Архипов и отвергнутый на сей раз передвижниками Пастернак, пришли за советом. В то время «душою передвижников» стал Ярошенко, и было решено написать коллективное письмо ему от имени многих экспонентов. Елена Дмитриевна сказала, что сама мысль о таком письме ей очень нравится, но не нравится форма коллективного письма одному из членов общества. Если уж писать, то обращаться не к одному Ярошенко, а ко всему Товариществу. С нею согласились. «Нравится, — пишет она брату, — что за обиженных товарищей возвышают голоса такие художники, как Иванов и Архипов, которые ни разу не были отказаны, которые вещи свои продавали на Передвижной. Словом, такие художники, которым Передвижная ничего, кроме пользы, не принесла».
В оппозицию к молодым стал Остроухов. Он позднее всех приехал из Петербурга и явился к Поленовым, рассказал об организационных изменениях, происшедших у передвижников. Был переделан весь устав. Вместо широкого и довольно демократичного правления и общего собрания передвижников был образован совет из десяти членов-учредителей.
Остроухов соглашается со всем, что делалось у передвижников, — так ему хотелось утвердиться, попасть из числа экспонентов в члены Товарищества. И Елена Дмитриевна пишет брату: «Это все, вероятно, сильно изменит ход дел и… я думаю, несколько изменит даже физиономию Передвижных выставок, т. е. закрепит за ее членами тот несимпатичный характер генеральствующих, который и без того уже проглядывал за последние годы. Семенычу[18] ничего не сказала об проекте протеста, я ждала, что Иванов скажет, так как он главным образом завел дело. А Иванов настолько чуток, что нашел неловким подымать этот вопрос, раз я, хозяйка, молчу об нем».
Но, разумеется, Остроухову не удалось остановить протест, Иванов был очень настойчив, считал, что общество передвижников перестало выполнять свои функции и превратилось в некое объединение «по сбыту продукции». Но это бы еще полбеды. Главное, что своей нетерпимостью старшие передвижники, из которых лишь немногие продолжали писать в прежнюю силу, отбивали всякое желание работать у молодых: «Кого вы возьмете теперь, кто бы работал с верой, с увлечением, весь отдавшись своей картине? Два-три, много пять человек. Большинство, масса пишет так, чтобы только участвовать на выставках… пишет для того, чтобы только написать что-нибудь». И Иванов, хотя самому ему на Передвижных выставках очень везло, решил уехать из Москвы в провинцию.
Он и уехал двумя годами позднее, но парадоксально то, что уехал он не из-за «стариков», а как раз из-за того, что, увидев рисунки Врубеля к «Демону» и услышав, как Поленов восторгается ими и всем, что делает Врубель, понял, что, кажется, сам он уже устарел. Но это, повторяю, случилось в 1892 году. Он поселился в имении Марфино в Калужской губернии, в 12 верстах от Тарусы. В 1894 году он уезжает за границу, в Париж, там внимательно учится у новых художников и после семилетнего перерыва, словно обновленный, опять возвращается к творческой работе.
Да, к этому человеку можно было относиться с уважением.
И Елена Дмитриевна пишет ему, чтобы он зашел за ее подписью, в получении которой он почему — то не уверен: «…делу, Вами начатому, я глубоко сочувствую, несмотря на то, что моя, и без того поколебленная, вера в успех нашего предприятия перешла теперь в уверенность полного успеха». Это предчувствие связывает она с тем, что такой энергичный и честный человек, как Иванов, собирается покинуть Москву, собирается именно теперь, когда возникло «ощутительное сознание необходимости чего-то нового, потребности освежить затхлый воздух». «Заметьте, — пишет она, — в настоящее время везде попризадумались — и в академии, и у передвижников, и даже на нашей, глубоко дремавшей, Дмитровке. Одни ищут, как бы устроить дело на новый лад, другие думают о том, как бы только изгнать ненавистные новшества, незаметным образом вкравшиеся в их среду, и оградить себя от них вперед, чтобы защитить свои „здоровые“ традиционные взгляды и принципы от того бессмысленного вздору, что вносит подрастающее поколение художников в искусстве. Словом, все насторожились и ждут. Мне кажется теперь, что каждый день может принести что-нибудь новое, а Вы хотите в такое время бросить пост и отойти в сторону».
Но ко времени этой переписки, к середине марта, вернулся в Москву Поленов. Он немедленно поддержал демарш молодежи, более того, он сам составил тщательно продуманное письмо — протест «В общее собрание Товарищества передвижных выставок». Он подписал его сам, подписали Елена Дмитриевна, Иванов, Архипов, Серов, Коровин — всего 13 человек.
Перед закрытием выставки в Москве туда приехал Ярошенко. И тут вдруг развил бурную деятельность Остроухов. Он заявил, что составит контрпослание и пошлет в Общее собрание, чтобы парализовать «послание 13-ти». Непонятно, правда, что, собственно, хотел писать в своем контрпослании Остроухов: просить, чтобы передвижники были построже в соблюдении «традиций» ортодоксального передвижничества, чтобы отвергали картины его, Остроухова, сверстников и друзей, такие, например, как «Девушка, освещенная солнцем» Серова или чудом попавшее на Передвижную «Видение отроку Варфоломею» Нестерова?
Он даже распространил слух, будто бы Серов готов взять назад свою подпись и взамен этого подписаться под остроуховским «контрпосланием». Но Серов тут же слух этот опроверг. Не в его обычаях было принимать скороспелые решения, он тщательно обдумывал то, что делал, а решив, оставался тверд. Передавали, будто бы он сказал: «Подписи я назад не возьму, и если сделал ошибку, то сам и расплачиваться должен». Это больше было похоже на истину, но едва ли Серов сказал даже так. Никакой ошибки он, подписав послание, не сделал: это было выступление и за его собственные права, так что о какой расплате могла идти речь?
Маша Якунчикова в это время жила в Париже и, сдружившись с Еленой Дмитриевной, вела с нею оживленную переписку. Вот что пишет Елена Дмитриевна о начале бунта художественной молодежи, о планах на будущее и о том, что «здешние передвижники, исключая Василия Дмитриевича, страшно возмущены такого рода смелостью со стороны московской молодежи. Из экспонентов против этого движения восстал Илья Семеныч, который очень за это время изменился. Многие отказались подписаться, так что экспоненты разбились на два лагеря. На нашей стороне оказалось все-таки много талантливых имен: Серов, Коровин, Левитан, Архипов, Пастернак. Из отказавшихся назову Остроухова, Нестерова, Святославского… Что из этого выйдет, сказать трудно, — как, по всей вероятности, откажут и притом в форме довольно резкой, т. е. будет откровенно высказано то, что уже чувствуется в воздухе. Тогда придется откланяться и расстаться с передвижниками. Но куда идти, вот вопрос, на который ответа никто себе не дает».
Было решено, что если передвижники действительно отрежут путь к себе молодежи, то она должна выставляться на академических выставках. Путь туда никому не закрыт, ни ретроградам, ни новаторам. Академия тоже посылает свои выставки в провинциальные города, с академических выставок тоже можно продавать свои работы. Более того, министерство двора начало подумывать об изменении устава академии именно под влиянием раскола передвижников, начавшегося под давлением молодых сил.
Стали подумывать и об организации нового общества. Но для этого нужен был энергичный организатор. А его не было…
Однако обструкция Остроухова и его сподвижников привела к тому, что «послание 13-ти» удалось передать передвижникам только к выставке 1891 года. К этому времени Поленов получил уже письмо от академии, что она действительно желает пересмотреть устав и приглашает его в комиссию по пересмотру. Комиссия эта начала работать 21 января. Передвижники на этот раз затянули открытие выставки до 9 марта. А 13 февраля Поленов после заседания комиссии по пересмотру устава был приглашен на квартиру к Шишкину на обсуждение письма московских экспонентов. И, как сообщает Поленов жене, «говорили без раздражения, а Брюллов даже как будто с симпатией».
Письмо экспонентов дало все-таки свои плоды и, вопреки уверенности Остроухова, на первых порах, во всяком случае, — положительные. Прошли на выставку картины Елены Дмитриевны, Пастернака, Коровина, Левитана, Архипова… Впервые попала на выставку картина молоденькой ученицы Поленова Эмилии Шанкс.
Очень понравился Поленову новый экспонент — молодой художник Рябушкин. Зная о Поленове как о человеке, выступающем в защиту молодежи, Рябушкин пришел к нему до начала работы жюри, и Поленов пишет домой: «Ко мне на днях приходил Рябушкин, маленький, худенький, немного картавый, страшно интересный юноша. Я звал его к нам, когда приедет в Москву, он хотел там поселиться». Картину его «В ожидании молодых» Поленов называет «чудной», и хотя у нее «немного странный желто-зеленоватый тон, но ужасно много правды, какая была у примитивных мастеров».
В ожидании результатов голосования все молодые москвичи приходили к Поленовым. Наконец была получена телеграмма, что приняты все, кроме Головина. Коровин был особенно счастлив, целовал руки Наталье Васильевне, клялся, что перестанет писать декорации и начнет писать картины. «Ничей прием нас так не радует, как коровинский: может быть, это даст ему толчок. Если бы только ее еще купили, то он, наверное, стал бы сейчас работать и отказался бы от декораций Саввы. Хоть бы царь купил…»
Но вопреки желанию и надежде Натальи Васильевны царь не купил картину Коровина. Царь купил пейзаж Шильдера, царица — головку Харламова и маленький пейзаж Маковского.
Около коровинской картины царь сказал:
— Это из школы импрессионистов.
На что августейшая супруга ответила:
— И не на высоте этой живописи.
— Это оставляет много лучшего желать, — дополнил ее слова государь.
Из поленовских картин был выставлен пейзаж «Ранняя зима», написанный им на Оке, там, где он успел уже купить кусок земли около деревни Бёхово и строил дом. Поленов рассказал об этом государыне, которой вещь понравилась настолько, что она даже пожелала купить ее. «Но государь, — пишет Поленов, — заметил, что зимние пейзажи наводят на него уныние. „И так у нас зима почти полгода“. По той же причине не позволил ей купить Касаткина „За хворостом“, даже сказал оппозиционное слово: „Я протестую“. Вообще они экономию сильно соблюдают».
Итак, царь не купил картину Коровина. Зато в разговорах о Коровине с передвижниками Поленов с удовольствием узнал, что «Ге его больше всех понял и оценил». Вообще с Ге на этот раз Поленов нашел много общего во взглядах…
Ну а протест москвичей, как же с ним?
6 марта Поленов пишет жене: «Три с половиною часа ночи. Я вернулся с общего собрания. Много было на нем тяжелого, но Ге меня совершенно обворожил. Чудесный человек, умный и высоко человечный. <…> Была прочитана петиция и вызвала страшную ругань со стороны Волкова и большое неодобрение Ярошенко, Маковского и Прянишникова и удивительно умное и человечное возражение им со стороны Ге».
Здесь же был избран совет. Так как членов — учредителей осталось мало, то в совет попали и Суриков, и Поленов, и Савицкий. И вопреки злобе «маститых» из экспонентов переведены в члены Товарищества десять человек, причем кроме верноподданного Остроухова и некоторые «протестанты»: Левитан, Архипов. Зато люто возненавидели Иванова (который ничего не прислал на выставку) и Ярцева — ученика Поленова. Было предложено два варианта ответа: Ярошенко и Прянишникова. Суть ответа Ярошенко заключалась, по выражению Поленова, в слове «молчать», а Прянишникова — «убирайтесь к черту». Этот ответ и был принят. В кулуарах было решено, что Серов и Иванов, как наиболее твердо стоящие на своем, будут наказаны. «Словом, мудрецы», — характеризует Поленов политику передвижников.
Вечером 7 марта было заседание совета, на котором Поленов сделал несколько предложений: первое заключалось в том, что необходимо привлечь нескольких экспонентов к экспертизе картин наравне с членами. Это предложение было поддержано только Ге и П. А. Брюлловым. Второе предложение было такое: пусть и картины членов Товарищества проходят процедуру баллотировки, а не принимаются бесконтрольно: кто что хочет, то и ставит. Тут уж и Брюллов не поддержал Поленова. Поддержал только Ге.
«Во-первых, я убедился, что я не один, — резюмирует Поленов результат события, — а второе — мне стало ясно, кто они такие. Они прямо боятся молодежи… На слова Ге, что экспоненты не чужие нам люди, а младшие братья, Мясоедов сказал, что это игра в либерализм, а Ярошенко, что экспоненты, пока мы не признали их достойными членами, нам посторонние люди, потому что между ними могут быть и мерзавцы».
Впрочем, Коровин на сей раз передвижникам очень понравился, а Репин, пригласив Поленова на обед, сказал, что по живописи ему особенно нравится именно Коровин:
— Чудесный прием, чисто испанец старинный, только строже надо рисовать и вообще учиться — талант огромный.
Через несколько дней Поленов получил письмо от жены. Она писала, что гораздо приятнее получать письма, в которых описывается работа по изменению устава академии, чем письма с описанием свар у передвижников, и даже удивилась, почему Поленов не откажется от участия в совете: «Мне кажется, ты так и хотел и не сделал по слабости, те одолели. На меня все это производит грустное впечатление. Долго так не продержится».
Но Поленов не вышел из совета. Его доводы отчасти справедливы, отчасти же он, как верно написала Наталья Васильевна, не вышел из совета «по слабости». «Я слишком люблю Товарищество, — пишет Поленов, — слишком твердо верю в его главную цель и слишком уважаю самих товарищей как людей, немного выше стоящих всего остального строя, чтобы уходить оттуда: напротив, я остаюсь, чтобы бороться и приносить, сколько могу, пользы общему делу».
Здесь только последняя фраза звучит достойно Поленова. К сожалению, многие «товарищи» уже не заслуживали уважения: Маковский с его огромным счетом в банке, и Лемох с его преподавательской работой при дворе, где он давал уроки рисования и живописи великим князьям, да и некоторые другие стояли совсем не выше «всего остального строя». Поленов пишет в очередном письме: «Вчерашний обед прошел как никогда симпатично, особенно благодаря Ге, который сказал превосходную речь…» А потом Поленов пишет, как В. Маковский пел малороссийские песни, аккомпанируя себе на гитаре: «Я ужасно люблю его слушать». Поленов действительно очень любил слушать пение Маковского, его игру на гитаре и особенно на скрипке (у Маковского был чудесный Гварнери), и когда слушал его, то готов был все простить Маковскому. Вот и сейчас он пишет: «Я внутренне совсем примирился с Маковским».
Впрочем, на этот раз казалось, что молодежь одержала победу, что «старики», хоть и с камнем за пазухой, отступают. На традиционный обед был приглашен не только Остроухов, но и оппозиционер Левитан. И Поленов очень доволен и этим, и «тем, что приняли так много молодежи. Действительно почувствовалась возможность обновления, какой — то молодостью повеяло».
Но уже на следующий год ортодоксы перешли в контрнаступление. С. Иванов прислал на выставку свою картину «Этап». И хотя по настроению и тематике она была совершенно «передвижническая», но вызвала, по словам Поленова, «целую бурю». Иванова отстаивали сам Поленов, Ге, Савицкий, Киселев; «зато Мясоедов… и главное Семеныч принял его картину за личное оскорбление: как осмеливается быть такая неприятная для Ильи Семеныча вещь на выставке, где будут стоять его произведения!». На голосовании за Иванова было подано семь голосов из двадцати двух, причем кроме Поленова и Ге за Иванова был, вопреки ожиданиям, Ярошенко.
17 февраля было заседание совета, как пишет Поленов: «бурное и абсурдное. Маковский говорил такие наглости, что повторять гадко… В конце концов я и Ге провалились по всем проектам и выходим из совета. Пользы я там не принесу, а себе только порчу». В этот же день Поленов послал письмо с просьбой вывести его из состава совета. Ге также послал заявление о выходе из совета. Это был уже скандал. На общем собрании Ге и Поленова просили взять назад заявления. «Я не мог отказаться», — признается Поленов. Потом было поставлено на голосование предложение Поленова (мысль об этом подала Елена Дмитриевна), чтобы экспоненты, достаточно проявившие себя, имели право наравне с членами общества выставлять без жюри хотя бы две свои картины. Предложение это прошло двенадцатью голосами против восьми. Среди восьми, голосовавших против, был Остроухов.
Правда, осуществление этого предложения было отложено на год, но Поленов все же был рад: «Что-то более светлое видится впереди, это первый раз, что крупное мое предложение прошло».
Таким образом, Поленов был все же прав, считая, что его присутствие в совете может принести пользу. В письме Наталье Васильевне он объясняет, почему исполнение принятого предложения отложено на год: «Членов, а теперь, значит, и тех экспонентов, которые должны стать „получленами“,[19] предлагает Совет, а утверждает общее собрание. Но в этом году общего собрания уже не будет…»
«Сегодня, — пишет он 23 февраля, — был обед, на котором Ге и Маковский сказали хорошие речи. Ге сказал, что он радуется, что наше Общество благодаря молодежи идет вперед и чувствуется свежая в нем струя, а Маковский выразил убеждение, что Общество наше, несмотря на новые молодые и свежие силы, вошедшие в него, осталось все тем же сплоченным обществом». (Подчеркнуто мною. —
Ну а потом, как водится, «Маковский чудесно пел».
В 1894 году умер Ге. Поленов остался совершенно одиноким среди своих сверстников. И Товарищество, еще двадцать-двадцать пять лет назад такое прогрессивное, такое «бунтарское», неудержимо катилось под уклон.
Прошло несколько лет, и к ретроградам примкнул Репин. В 1897 году Поленов писал А. А. Горяиновой: «На днях я вернулся из Петербурга, какое там самодовольство, какое к нам презрение, я виделся с товарищами, они теперь все на страже реакции. Репин называет меня устарелым человеком, другие отсталым нигилистом.
Но я против этого протестую, я никогда не был ни нигилистом, ни анархистом, я всегда был противником всякого разрушения и цинизма, напротив того, я всегда стоял за созидание и устройство. Ненавидел, да и теперь ненавижу, динамит, смертную казнь, произвол, а это главная сила современной России».
Это высказывание Поленова о передвижниках — последнее, завершающее… Оно как бы подводит черту, оно свидетельствует: все надежды на то, что они поймут, в чем состоит веление времени, — не сбылись. Более того, они «на страже реакции», то есть произвола и смертной казни, того, что всегда было ненавистно гуманисту Поленову.
В сущности, счеты его с Товариществом покончены. Он будет еще выставляться у них, но никогда не примирится с тем, что Коровин так и не стал членом Товарищества, Врубель не смог даже выставить на Передвижной ни одной из своих работ…
А Врубеля Поленов ценил по достоинству, то есть очень высоко. В 1896 году в Нижнем Новгороде была Всероссийская выставка. Оформление художественного павильона было поручено Мамонтову. Мамонтов заказал Врубелю два панно для заполнения в павильоне искусств пустых мест, имевших форму арок. Врубель сделал эскизы на темы «Принцесса Греза» и «Встреча Вольги с Микулой Селяниновичем». Но времени для окончания самих панно у Врубеля не было: он как раз в ту пору стал женихом и набрал много заказов. И вот Поленов с Коровиным заканчивали во дворе мамонтовского дома в Москве эти огромные панно, которые вскоре были забракованы академической комиссией. Но это уже особая история.
«Поленов радовался каждому талантливому мазку своего ученика, увлекался всяким новым подходом к живописи, проявлением своего „я“», — пишет Я. Д. Минченков. Добавим только, что он радовался каждому новому таланту — независимо от того, его это ученик или нет: Коровин это или Серов, Левитан или Врубель.
Поэтому, когда в 1900 году группа передвижников, уже не самых молодых, во главе с Серовым вышла из состава общества, Поленов душою был с ними. Сам порвать с передвижниками он все же не мог — слишком многое его с ними связывало: они были знаменем его молодости. Но когда была образована новая художественная организация «Мир искусства», куда вошли и Серов, и Коровин, и Врубель, и Левитан, и С. Иванов, и многие другие, он поддерживает эту организацию словом и делом. Но силы его к тому времени слабеют. Он все больше времени проводит в своем имении на Оке (о нем речь еще будет идти) и в 1895 году даже отказывается от преподавательской деятельности. Ученики направили ему письмо, в котором, в частности, говорилось: «Ваша гуманная, высокообразованная личность невольно влекла учеников под Ваше руководство… Благодаря Вашему мягкому, сердечному отношению к ученикам и необыкновенно искусной вполне современной системе художественного образования Ваш… класс стал как бы „школой в школе“, во всех бывших в нем он на всю жизнь оставил самые светлые воспоминания, и немало выдающихся художников считают его фундаментом своего художественного образования.
Многие из нас, не будучи Вашими непосредственными учениками, во многом обязаны своим художественным развитием Вашим произведениям, которыми так гордится русская живопись…»
Письмо это подписали Борисов-Мусатов, К. Сомов, Бялыницкий-Бируля, Конёнков, Юон, Милиоти, Жуковский, Виноградов, Сапунов. Всего под письмом стояли 262 подписи. О том, что представляло собою училище после ухода Поленова, пишет Н. Ульянов: «…никто из преподавателей не входил в положение учеников, не интересовался их особенностями — формально считался только с выставленным на экзамене номером, причем ценились работы, сделанные, как говорили тогда, в „раздраконенной“ манере».
Лишь два года спустя, в 1897 году, когда в училище пришел Серов, обстановка изменилась, тем более что у Серова характер был бойцовский. Но в отношениях с учениками Серов придерживался тех же принципов, что и Поленов: так же выделял талантливых учеников, помогал им, доставал для них заказы, способствовал экспозиции лучших картин на выставке — не Передвижной, разумеется, а «Мира искусства», где влияние его было огромно. Словом, Серов по-своему продолжил в училище поленовскую традицию.
Однако, рассказывая о преподавательской деятельности Поленова, о его баталиях с передвижниками, мы оставили в тени очень важный эпизод его жизни: участие в учрежденной правительством комиссии «Для всестороннего обсуждения необходимых в устройстве Императорской Академии художеств изменений и для составления соответственного этим изменениям проектов нового устава».
Как это ни печально, как ни странно, но министерство двора оказалось более чутким к веяниям времени, чем передвижники. Некоторая закономерность этого явления, может быть, заключается в том, что новые веяния зародились все же под знаком 1880-х годов, когда идеалы 60–70-х в результате ужесточения всей внутренней жизни страны, проводившейся правительством Александра III, постепенно утрачивались.
Это отразилось и на психологии передвижников.
Поиски молодыми художниками тематики своей редко бывали похожи на те, с чего начинали передвижники. Тогда даже самый ярый академист, который был, однако, «членом учредителем» Товарищества (но ни в одной выставке не участвовал), профессор Якоби, в 1861 году написал картину «Привал арестантов» — хрестоматийный образец искусства шестидесятников.
Теперь времена изменились. Все сложно переплелось. Теперь передвижников похлопывает по плечу сам царь, покупает картину Поленова, которую цензор боялся даже показывать на выставке. Теперь передвижники чуть не со скандалом и уж буквально «со скрежетом зубовным» пропускают на выставки кое-что из молодой живописи. Теперь молодые художники, за редким исключением, совсем не пишут картины на остросоциальные темы. Живописные их приемы резко отличаются от живописных приемов художников предыдущих поколений. И среди передвижников старшего поколения, как известно, лишь Поленов и Ге понимали и принимали эти новые искания. Что же касается большинства руководящего ядра передвижников, то и В. Маковский, и Мясоедов, и Ярошенко, и Лемох всех молодых — и К. Коровина, и Серова, и Головина, и Левитана, и Нестерова, и Врубеля называли «декадентами»… Это, конечно, ни в малейшей степени не соответствует действительности, и сейчас едва ли стоит доказывать, что никто из этих художников декадентом не был. Однако же те принципы изобразительности, которые несли с собою молодые художники, были революционны для искусства. А царь, хотя и был «не на высоте такой живописи», все же понимал, что революция, происходящая в искусстве, престолу не угрожает.
Престолу угрожало другое: польская рабочая партия «Пролетариат»: четыре члена ее были повешены в 1882 году. Престолу угрожала группа студентов, готовивших покушение на царя: Осипанов, Ульянов, Генералов и другие; группа эта была раскрыта, и участники ее казнены. Гораздо больше угрожала престолу «Группа освобождения труда» во главе с Плехановым. Но группа эта была вне пределов досягаемости и на жизнь августейшей особы намерений покушаться не имела, но с 1883 года вела глубокий подкоп под всю систему императорской власти. Подкоп велся из-за границы, куда Плеханов, предвидевший провал народничества, эмигрировал еще в 1881 году. К нему присоединились Дейч, Аксельрод, Засулич. В 1885 году была создана первая подпольная группа в России, но она осталась нераскрытой, ибо никаких трагедийных актов не замышляла… Однако же атмосфера была пропитана чем-то взрывчатым.
Потому царь по отношению к художникам был, как уже говорилось, либерален. Вот теперь даже академию решил реформировать. Во что выльется эта реформа, мы увидим очень скоро, а пока… Пока Поленов, да и другие художники-демократы были полны радужных надежд.
Комиссия по пересмотру устава и деятельности академии была учреждена в апреле 1890 года, то есть как раз тогда, когда московские художники составили протест передвижникам. Работа комиссии в составе 18 человек началась в январе 1891 года. В комиссию были включены из художников лишь Репин, Поленов и Боголюбов. Но Боголюбов из-за болезни не приехал. Были еще архитектор Н. Л. Бенуа (отец Александра Бенуа), П. М. Третьяков, несколько архитекторов, искусствоведов, директор Московского училища философии. Возглавлял комиссию президент академии великий князь Владимир Александрович.
Больше, чем остальным участникам комиссии, Поленов симпатизировал поначалу Никодиму Павловичу Кондакову, искусствоведу и археологу: «С ним я гораздо больше сошелся, чем с Репиным». Вообще первые дни работы комиссии принесли радостные надежды. 21 января он пишет, «что все желают Академию представить в полное распоряжение Чистякова, Репина, Васнецова и Поленова, это мне с каждым днем все становится яснее». 23 января: «По всему видно, что главную роль будут играть Репин, я да Кондаков. Я отправился к первому и провел у него много часов, чтобы сговориться. Очень это трудно с ним, он такой летучий и неопределенный, при этом мелочный и невежественный, что долго я бился, пока чего-то добился. Но сегодня в заседании я боюсь, что он снова меня продаст. Сейчас пойду к Кондакову, чтобы с ним потолковать».
Но Кондаков оказался, как пишет через короткое время Поленов, «какой — то алчной силой», «Репин улыбается и кивает головой в ту сторону, где раки зимуют», Третьяков «на стороне света». И вообще получилось так, что на каждом новом заседании комиссии каждый вел себя как-то по-новому.
25 января: «Вчера было третье заседание. Дело идет до сих пор (страшно сказать) так хорошо, что я и думать не смел. Председатель Петров[20] во главе всего светлого и разумного. Мы с Репиным не нарадуемся. Я бываю у Репина каждый день, и до сих пор он меня в важных случаях поддерживает. Вообще мне сдается, что верховная власть на стороне нашей партии, т. е. выборного начала, а не на стороне Хомякова,[21] который по болезни вчера не присутствовал и написал в собрание, что президент может швырнуть мнение собрания Академии в печку. Все собрание удивилось. А умный и очень умный человек…»
Хомяков действительно, как подтвердится впоследствии, оказался если и не самым умным человеком, то, во всяком случае, самым большим провидцем.
Уже 26 января в письме Поленова проскальзывает грустная нотка: «В конце концов, мне кажется, что в Петербурге что ни придумывай, какое начало ни устанавливай — в силу вещей все кончится все-таки Исеевым». Намек на Исеева, еще совсем недавно всесильного конференц-секретаря, вызван уголовным делом, открытым в академии: он присвоил часть денег, собранных на постройку церкви Спаса на Крови (на месте убийства Александра II на набережной Екатерининского канала).
Но все же Поленов надеялся, что все закончится хорошо, и даже начал составлять новый устав в надежде, что он ляжет в основу устава преобразованной академии. Но уже через несколько дней сокрушается: «Все члены переползли на сторону Хомякова по его личной просьбе. Остался один Жуковский[22] на моей стороне, единственный человек с открытым свободным взглядом и независимым мнением. Другие, т. е. Толстой,[23] Философов и Кондаков, просто холопы, а Хомяков — наглец, который прямо в заседании говорит Толстому: „Граф, поставьте ваше мнение вместе со мною“. Тот отвечает: „С удовольствием“… За выбор членов остались я да Жуковский».
Поленов передает слова Жуковского:
— Мне хотелось бы, чтобы меня нация выбрала в академию, а не правительство назначило.
На что Хомяков по-французски ответил:
— Это зависит от вкуса.
«Вообще этот господин, со своей православной живописью вместо живописи, только и говорит, что на французском диалекте с татарским акцентом», — характеризует Хомякова Поленов.
В редакционную комиссию устава Поленов все же вошел, но там ему противостояли Толстой, Кондаков, Хомяков и Философов.
Уже 30 января, через десять дней после начала работы комиссии, Поленов понял: «Ужасные здесь трусы», ибо на заседании редакционной комиссии «Кондаков упирался и отпирался от всего. Что за тупая личность (а ведь еще несколько дней назад Поленов с ним сошелся ближе даже, чем с Репиным. —
Единственное светлое пятно — Жуковский: «Он мне каким-то Лоэнгрином показался в сравнении с этими лакеями по крови».
В конце концов поручили составить новый проект устава Поленову и Кондакову — двум, как теперь стало ясно, антиподам. «Ужасный человек, — пишет о нем Поленов. — Относительно бескорыстности тоже какой-то сомнительный. Впрочем, здесь в Питере все, в конце концов, свою статью гонят… Надо бы как-нибудь их на пользу обратить, а как посмотришь на это бездушное чиновничество, тупоумную военщину, словом, поголовное холопство во всех видах и проявлениях, как-то жутко становится».
Дело все же двигалось вперед, Петров, представитель министерства двора, удивил даже Поленова «широким взглядом на дело», он оказался человеком «с очень широким, даже светлым умом», желающим «узнать мнение каждого для пользы дела».
Однажды в гости к Поленову пришел Павел Петрович Чистяков. Оказалось, что, видя, как плохи дела в академии, он давно уже составил проект ее реформы.
— Там у меня написано, — сказал он, — только под другими названиями.
«Если в этой реформе, — пишет Поленов жене, — удастся дать ему, т. е. Павлу Петровичу, хорошую мастерскую для его учеников и независимое положение, то уж и это можно считать за великую пользу в деле развития искусств. Остальное вряд ли выйдет удачно, несмотря на хороший ход. Людишки мелковаты…»
Прошло менее двух недель после начала работы комиссии, а Поленов уже сменил мажорный тон на минорный. И тут уж оказался прав.
4 февраля: «Я бы… с удовольствием постарался для Академии, для молодежи принять участие в преподавании, но как вспомню голос, манеры, а главное нравственный облик и умственный склад нашего президента и повторения его в разных вариантах, так и станет до невозможности скверно. И порядочные люди делаются дворняжками».
И вот этак до конца марта надежда сменяется разочарованием…
6 февраля: «…Как — то все теперь более или менее друг друга узнали, делают обоюдные уступки, начальствующих лиц в этих заседаниях нет, и дело идет жизненно и запросто, но все-таки до главного вопроса еще не добрались, на котором я с Жуковским остаюсь с одной стороны, а Хомяков, потом Толстой и другие — с другой. Хотя Жуковский мне вчера сказал, что Хомяков делает уступки».
7 февраля: «Сегодня опять заседание редакционной комиссии, битых четыре часа говорили, т. е. Хомяков главным образом ораторствовал. Такого определенно и резко выраженного холопства я не слыхал». Поленов приводит слова Хомякова: «„Мне гораздо приятнее, чтобы меня единоличная власть сослала, куда ей вздумается, чем коллегия возвысила“. Так что наш бедный Философов уже совершенно ничего не понимает, потому что он очень хорошо понимает, что быть сосланным и единоличной властью не особенно приятно».
А 9 февраля: «Опять очень симпатичное заседание. Дело идет для меня хорошо».
12 февраля «было совещательное заседание у Толстого».
14 февраля: «…наши враги совершенно разбиты».
19 февраля: «…опять дело шло очень симпатично, так что я этот раз спал. Да вообще я не могу пожаловаться на бессонницу. Это было исключение, кроме того, и волнение теперь не так сильно, главное, основные положения уже решены и очень хорошо решены, а уж подробности не так важны и будут решаться жизнью».
Но уже на следующий день, 20 февраля: «Опять Хомяков начал гадить со своим президентом, которому он, во что бы то ни стало, хочет опять отдать всю Академию на растерзание, и Философов с Толстым сейчас же на его сторону, а Жуковский… то там, то тут. Темное все-таки царство петербургская Россия».
Да, вот уже и Жуковский «то там, то тут». Поленов, в сущности, один. Не встречает он сочувствия и со стороны Репина, хотя поддерживает с ним добрые отношения, принимает приглашения на обед, пишет что-то у него в мастерской: «…ужасно хорошо у него работается», «…такое наслаждение работать в большой мастерской с хорошим светом».
Обстановка в комиссии, где один Поленов оказался твердым сторонником демократических преобразований, была все же тяжелой. Правда, граф Толстой Иван Иванович шутил:
— Конечно, Василий Дмитриевич будет у нас преподавателем, это уже решено и подписано.
При таких «отдохновенных» перерывах только Хомяков ходил туча тучей. «Откуда этот Хомяков взялся? — словно бы недоумевает Поленов. — Не поймешь, какой-то человек „времен вечной темноты“». И в другом письме: «Хотя Хомяков ругает на каждом шагу Петербург, но сам он самый ярый представитель петербургского чиновничьего деспотизма. Все-таки в передвижниках много скверного, уже старческого, но свет на их стороне, — оттого молодежь к ним так льнет».
В разгар работы комиссии появилась статья Стасова, в которой он, по словам Поленова, «рвет и мечет против нас за то, что мы опозорили имя передвижника, приняв участие в реформе Академии, и наговорил кучу вздору, тут и старые сараи, подпертые столбами, и никуда негодные отжившие тряпки и много еще всякого такого остроумия…».
Знал бы неистовый Стасов, как ведет себя в комиссии любимый им Репин и как — едва терпимый Поленов!
Теперь у Поленова уже нет поддержки даже в лице Жуковского, ибо «он как человек не очень сильный умственно, сейчас же подчиняется тому, кто насядет».
Неожиданно появился другой союзник: приехал из Парижа выздоровевший Боголюбов и стал на сторону Поленова. Остальные Поленову представляются холопами с единственным между ними различием: «…холопство у кого дворянское, у кого мещанское».
Обиднее всего было то, что Репин очень уж изменился. Удивляясь упорству Поленова, стоящего за принцип выборных начал при назначении преподавателей, Репин в самом конце работы комиссии изрек такое, что совершенно обескуражило Поленова:
— Да что ты все за выборный принцип стоишь? С выборами мы бы с тобой никогда бы в комиссию не попали.
«Ко всему этому надо привыкать», — философски замечает Поленов.
В конце марта работа комиссии была окончена. Был, как водится, парадный завтрак у Толстого, «после завтрака приехал Третьяков и категорически стал ставить вопросы. Тут Толстой вертелся, вертелся и в конце концов сказал: что Павел Михайлович и Василий Дмитриевич идеально смотрят на дело и воображают, что все люди такие прекрасные. Ничего подобного нет, а с мошенниками надо понимать, как вести дело, и т. д. и т. д. Что касается до жалованья, то теперь он говорит, что и квартиры, и мастерские, и заказы будут розданы новым профессорам. Как это ново и свежо!».
Дело, однако, кончилось на первый взгляд неплохо. Совет академии должен был быть выборным, преподаватели также должны были выбираться из числа художников, особенно близких ученикам и известных публике. Это было записано в уставе.
На завтраке у Толстого хозяин дома спросил Поленова:
— А имеете ли вы в виду определенных людей, которых можно было бы назначить руководителями мастерских?
— Конечно, имею, — отвечал Поленов.
— И можно узнать, кто это?
— Разумеется. Это не тайна. Во-первых, Репин.
Поленов указал на Репина, который присутствовал тут же.
— Затем — Шишкин по пейзажу; по жанру — Владимир Маковский и Прянишников; по архитектуре — Быковский.
— Что же ты себя не поместил? — удивился Репин. — Ты более других достоин.
— Странно себя помещать; если меня выберет академия…
— Так вы согласны? — спросил Толстой.
— Я не согласен, я обязан, — ответил Поленов. — Я считаю это обязанностью, притом очень тяжелой обязанностью.
Толстой зааплодировал:
— Василий Дмитриевич согласен!
Но аплодисменты эти были, разумеется, неискренними. Толстой был зол на Поленова за то, что тот считал, что в совете должны быть художники, ибо сам-то он художником не был.
— Ваше дело — канцелярия, в это мы не вмешиваемся, а совет — это наше учреждение, в которое я не допущу вашего вмешательства.
К тому времени, когда устав должен был быть высочайше утвержден, Толстой успел убедить президента, великого князя, а тот царя, что Поленов человек политически неблагонадежный.
Поэтому в уставе, утвержденном Александром III, было записано, что совет утверждается царем, а собрание академии выбирает из своей среды профессоров — руководителей. Они никакому утверждению не подлежат.
Однако, когда за день до утверждения устава члены академии были собраны и Поленов приехал специально из Москвы, по городу ходили всякие слухи… На собрании академии поднялся Быковский и спросил президента:
— Ваше императорское высочество! По городу ходят слухи, что профессора — руководители, которые согласно новому уставу избираются академией, назначены, хотя самый устав будет утвержден лишь завтра.
Великий князь Владимир сидел красный, рядом Толстой — белый. Великий князь поднялся и крикнул одно слово:
— Предрешено!
Потом бледный Иван Иванович Толстой стал читать указ, в котором говорилось: «…Теперь вам все принадлежит, вы все можете делать…» После этого просил всех собраться вечером «не на официальное заседание, а на дружескую беседу».
Но беседа оказалась совсем не дружеской. На всех стульях лежал отпечатанный уже список будущих профессоров-руководителей: Репин, Куинджи, Шишкин, Ковалевский. Были все, кого намечали, кроме Поленова. Потом выяснилось, что его вычеркнул Александр III по наговору великого князя Владимира.
Мясоедов, который всегда отличался резкостью и был во всех случаях прям и откровенен, спросил:
— Каким же образом профессора-руководители, не избранные академией, назначены?
Толстой — распорядитель «Дружеского» вечера — побледнел:
— Это высочайший указ, о котором нельзя говорить.
Впоследствии, диктуя сыну свои воспоминания, Поленов сказал: «Александр III, с которым у меня были хорошие отношения, предал меня».
Но собрания академии проходили ежемесячно. И согласно подписанному уже указу Поленов через месяц был избран почти единогласно, против него голосовал лишь Владимир Маковский, переносивший неприязнь к Поленову-передвижнику и заступнику молодежи на Поленова — кандидата в профессора, воспитателя молодежи.
Но Поленов все равно был воспитателем молодежи, только не в Петербурге, а в Москве. И он, вернувшись за месяц до этого из Петербурга, дал слово своим ученикам в училище не покидать их. Он отказался от должности в академии.
К нему командировали Куинджи. Поленов рассказал ему, как было дело, и потом задал вопрос:
— Ну как, Архип Иванович, стоит мне идти после этого в академию?
— Нет, не стоит, — согласился Куинджи.
Через два года, уже после смерти Александра III, Поленов получил от вице-президента письмо с просьбой посоветовать, кого назначить руководителем для учеников.
Поленов ответил не вице-президенту, а написал письмо Репину: «Осмелюсь высказать по этому поводу свое мнение, хотя я уже раз поплатился за такую смелость, — я выразил бы удовлетворение по поводу отношения Академии к Павлу Петровичу Чистякову. Ведь это такой учитель, каких мало, а в Академии его как бы и не замечают. Мне было невыразимо обидно, что когда придумали мастерские и завели там руководителей, того, кто был нашим руководителем, да и вообще руководителем, выбросили как негодную тряпку. Что меня тогда за борт выкинули, вполне понятно и даже натурально… Дело в том, что я осмелился иметь свое мнение. Но Павел Петрович, этот мечтатель и даже основатель теперешней мастерской, он-то чем не угодил, за что его — то обходят?»
Странный все же человек этот Поленов! Он смел иметь суждение по вопросу организации академии, а Чистяков тоже имеет свое суждение, только по вопросам преподавания.
В 1897 году, когда вице-президентом Академии художеств стал И. И. Толстой, Поленов получил от него официальную бумагу, в которой говорилось, что он единогласно избран профессором-руководителем Высшего художественного училища при академии.
Но Поленов отверг это предложение.
Почему?
Здесь, конечно, сыграла роль и прошлая обида, но главным было все же иное. Поленов, как известно, в 1895 году покинул даже Московское училище. Сотрудник и компаньон Мамонтова и друг Поленова К. А. Арцыбушев оборудовал для Поленова в Москве отличную мастерскую, где он начал усердно работать над давно задуманным циклом картин «Из жизни Христа».
Поленову писал Репин, убеждал, что академии нужны именно такие профессора, как Поленов, «которые сами, не покладая рук, работают над чем-нибудь серьезным и пока они еще не состарились… Ну, да ведь тебе доказывать бесполезно, у тебя своя какая-то логика…». Репин даже называл отказ Поленова «бессовестным», писал, что он виноват «не только перед нацией, а может, и вообще перед человечеством».
Поленову написал письмо «сам» президент великий князь Владимир: «Я не считаю Ваш отказ за окончательный на будущее время, а надеюсь, что по окончании работы, которая наиболее притягивает Вас к себе, Вы все же вступите в семью художников-профессоров, с большою пользою отдающих дорогое для них время педагогической деятельности в учебном заведении, которое с гордостью числит и Вас своим питомцем».
Великому князю Поленов ответил в том же духе, что и вице-президенту: он занят сейчас большой работой, работа только начата, и когда она будет окончена, сказать трудно.
С Репиным он, разумеется, более откровенен: «Может быть, перед Петербургом я поступаю не вполне учтиво, отказываясь от его милостивого ко мне внимания, откровенно тебе сказать, теперешний Петербург представляется мне сплошной мистификацией, поэтому я и предложения не принимаю за таковые. Что же касается человечества, — то это вопрос такой огромный, что об нем не будем толковать…
В заключение скажу, что нет и охоты идти туда, где за несогласие во мнении просят удалиться, а если этого не желаешь, то просто удаляют. Ты мне говоришь, что у меня „какая-то своя логика“, идущая вразрез с теперешним временем, и называешь меня устарелым либералом, оно так и есть, поэтому тем более мне не следует идти в учреждение, столь проникнутое духом современности».
«Дух современности», о котором пишет Поленов, заключался, видимо, в том, что его приглашали на должность, с которой как раз перед этим был смещен Куинджи. Куинджи пользовался у студентов огромной популярностью, и это не по нраву было администрации академии. Куинджи вынудили подать в отставку. Подал в отставку и другой художник, близкий одно время мамонтовскому кругу, — Николай Кузнецов. Кузнецов уехал к себе на родину, в Одессу, и оттуда писал Поленову: «Ты правду говорил мне о порядках в Академии. Там все пошло и такие все пошляки. И знаешь ли? Лучше их всех граф Толстой. Суди об остальных. Когда я решил оставить Академию, — точно гора с плеч свалилась. Если бы ты знал, как здесь все далеки к искусству! Положительно не с кем поговорить о нем. Маковские, Киселевы и пр., даже Репин готовы воздвигнуть китайскую стену от Запада. Слыхал, что тебя приглашают, но ты отказался. Для тебя это хорошо, но для учеников скверно. Кого же они найдут? Дело дошло до того, что прочат Киселева. Вот уж правда, что свет клином сошелся!»
«Ты прав, — отвечал ему Поленов, — что вся эта клика старается загородить от молодежи все свежее, все новое и пичкает ее своей затхлостью, и с большим успехом вокруг нее образуется целая куча последователей. С ними не споемся, при этом людишки они преподлейшие, руки не хочется подать. Илья Репин, конечно, сильнее всех как художник, но так не крепок как человек, что решительно не на кого опереться…
Вообще вся эта петербургская холопщина мне противна до мозга костей».
Примерно то же пишет Поленов Чистякову, человеку, наиболее им уважаемому в академии: «Вы правы, говоря, что кто-то над нами издевается, да не над одной Академией, а над всей мыслящей частицей России… Мне представляется, что в настоящее время отечество наше охвачено непреоборимым духом холопства, который всем заправляет… Вы спрашиваете, отчего я редко бываю в Питере? Именно оттого, что уж очень унизительно себя там чувствуешь… Кто знает, с чем столкнешься, с интригой, обманом, продажностью и, наконец, что мне всего ненавистнее — с произволом. Я очень люблю нашу Академию и несказанно ей благодарен за все то хорошее, что она мне дала, а главное — за то свободное художественное развитие, которое там получалось. Я с великой радостью послужил бы на пользу молодому поколению, но как вспомню, с кем придется сталкиваться, руки опускаются и всякая охота пропадает».
Прошло четверть века с тех пор, как Поленов окончил академию, и он уже не помнит академического гнета того времени, не помнит унизительных выговоров Исеева, впрочем, о многом он попросту не знает, не знает, как читались его откровенные высказывания в совете профессоров, как комментировали его полные веры в справедливость откровенные признания.
Конечно, это была его молодость, это была пора надежд. И нервы были еще молодыми и крепкими. Он горячился, но не огорчался надолго. Все это, скопившись, сказалось потом, после очень сильного переживания и после очень ответственной и сложной работы — всего того, что стоило ему столько душевных сил. Но честь и слава ему, что при всем том он остался тверд в своих убеждениях, не пошел ни на какие компромиссы, ни на какие сделки с совестью, касалось ли это передвижников или академии — все равно.
Спустя еще два с лишним года, в конце 1899-го, у И. И. Толстого был случайный разговор с И. П. Хрущовым, и Хрущов написал об этом Поленову, рекомендуя ему пересмотреть свой отказ, ибо Толстой искренне хочет видеть его в составе профессоров.
С Толстым, надо отдать ему справедливость, и впрямь произошли благотворные перемены. Став вице-президентом академии, он всячески способствовал мирискусникам; на него огромное влияние имел Серов, а через Серова Бенуа и Дягилев.
Но воспринять такие тонкие нюансы изменений во взглядах людей, с которыми он видится редко, почти не общается, Поленов уже не может. Да и главное для него не Иван Иванович Толстой, а общий дух, царящий в академии. В академию пошли преподавать наиболее ретроградные передвижники. Среди них один Репин остается еще настоящим художником, но и о нем Поленов невысокого мнения, не как о художнике, конечно, а как о человеке.
И в заключение своего огромного письма Хрущову, в котором он излагает историю 1891–1892 годов, потом историю 1897 года, Поленов пишет почти те же слова, что в письмах Кузнецову и Чистякову: «Было время, когда я пошел бы в Академию не скажу с удовольствием, скорее со страхом, потому что задача была слишком велика и ответственна, но я должен был тогда идти. Теперь же это невозможно, работа моя в ходу, и я не хочу ее прерывать, а главное — там делаются дела, с которыми я не могу примириться. Не далее как два года тому назад заставили оттуда уйти человека, всей душою преданного Академии и молодежи, потому что он осмелился иметь свое мнение. Я говорю о Куинджи. Я же, когда имею свое мнение, то держусь его крепко, и выйти меня никто не заставит, могут выгнать, но такой финал меня не привлекает. Да вряд ли Академия меня привлекла бы, я не гожусь в ее ареопаг, там теперь заседают все больше почтенные и важные нигилисты, а я таковым никогда не был. Мой друг Илья Ефимович Репин когда — то назвал меня отсталым либералом, вот это было верно сказано».
И следующий абзац, после изъяснений в любви к Петербургу, к его архитектуре, каналам, к Неве с ее набережными, театрами, где пережил он столько восторгов, Поленов кончает такой фразой: «Но Петербург как центр русского фетишизма или попросту холопства мне противен до глубины души».
Сколько раз в письмах Поленова об Академии художеств — реформированной, в которой преподают теперь сплошь передвижники, — звучит это слово: холопство!
Так сплелись в один узел, казалось бы, различные аспекты борьбы Поленова в защиту искусства, его прогресса, его вечного обновления, осуществляемого молодежью. Прогресс и холопство, холопство перед вчерашним, перед отжившим — вот антиподы. В жизни Поленов всячески против неизбежного увядания, старения, против этих проклятых законов природы, отбирающих у человека близких ему людей, пусть это законы неизбежные, пусть на смену умершим близким приходят другие близкие — дети (которые тоже, кстати, умирают), они никогда не возместят былую потерю. Вот теперь у Поленова сын Митя, дочери Катя, Маша, Оля, а в 1889 году появится еще одна — названная так же, как мать, Наташей. Но могут ли они, как бы ни любил их Поленов, заменить ему всех умерших? Могут ли они заменить отца, Веру, Чижова, так рано умершего Федю? Да и о Марусе Оболенской он не может вспоминать спокойно. И Лиза Богуславская…
Но это — в жизни. А в искусстве происходит то же, что и в жизни: старое умирает, новое нарождается. И в искусстве это действительно благо, необходимость. Редкие художники могут всю жизнь идти в ногу с новым. Большинство неизбежно отстает от века. Но именно к тому времени, когда они окончательно отстали, они получают наконец признание. А получив, забывают о том, с каким трудом пробивали себе путь в молодости, хотят покрасоваться за счет тех, кто уже пришел им на смену, ставят на пути молодых рогатки.
И передвижники, и академисты… все — люди. И не потому ли передвижники пошли в академию, что уже достаточно постарели, чтобы выполнять роль рогатки на пути молодых? Как знать, может быть, прав был Стасов, когда говорил, что участие в академии — стыд для передвижников?
Но Поленов, как видим, рассчитывал на обновление, именно обновление академии. А когда увидел, что обновления не получилось, отрекся от нее твердо и навсегда.
Мы уже говорили, что человеком, взявшим на себя роль Поленова в училище, оказался Серов. Академия художеств дважды — в 1894 и 1907 годах — обращалась к Серову с предложением взять на себя обязанности руководителя одной из мастерских академии. Оба раза Серов ставил академии условием полную свободу мастерской, которой ему предстояло руководить, от всех стеснительных правил. И оба раза, получив отказ от академии, не желавшей соглашаться с таким условием, посылал отказ от должности профессора.
И из училища он ушел по обстоятельствам достаточно драматичным, связанным с вторжением власть имущих в дело, где судьями могут быть лишь художники, а не генерал-губернатор или, как в сердцах называет его Серов, — «градоначальник».
Поистине Поленов и Серов были людьми одной формации.
Ну а что же собственные работы Поленова? Что написал он в 1880-е и в начале 1890-х годов кроме «Больной», «Христа и грешницы» и некоторых других картин так называемого «евангельского круга»?
Пейзажи. Все же пейзаж России было тем, что тянуло его к себе непреодолимо. Он отдавал ему часы отдохновения, это были поистине часы блаженства.
О некоторых из них мы уже говорили ранее, в частности об имоченской «Зиме», этом пейзаже-приглашении и пейзаже-прощании. Больше в Имоченцах Поленову писать не пришлось. Говорилось ранее и о пейзаже «Парит», цитировался тонкий, хотя и несколько сухой искусствоведческий анализ этого пейзажа. Говорилось о пейзаже «Деревня Тургенево», который Поленов рисовал, а потом писал, сидя рядом с Коровиным.
Та же исследовательница, чей анализ пейзажа «Парит» был приведен выше, пишет в другой своей работе, посвященной В. Д. Поленову, что в этюде «Деревня Тургенево» «хороши серебристая гамма потемневшего дерева и теплые тона ручья с просвечивающим дном». Все это, конечно, так и есть, все это совершенно верно и даже необходимо для исследования, посвященного той или иной проблеме художественной техники. Но это мало что дает для понимания того, в чем заключается прелесть поленовских пейзажей; мы уже приводили слова Бенуа и Ренуара, что рациональным анализом невозможно ни объяснить, ни постичь то сокровенное, что делает искусство искусством.
Почему пейзажи Поленова, написанные в 1880-е годы и в начале 1890-х, написанные как бы «между делом», так близки нам? Ведь именно в эти годы начали набирать силу такой колоссальный пейзажист, как Левитан, и такой художник-универсал, как Коровин. Мы знаем, что Поленов многому учился у них, но и продолжал учить их. Ведь тот же пейзаж «Деревня Тургенево», мы знаем, был писан рядом с Коровиным, и в чем — то пейзаж Поленова превосходит коровинский.
Здесь, пожалуй, стоит привести слова из еще одного искусствоведческого анализа, но это скорее анализ художественного образа, чем живописных средств: «Художник очень тонко передает прелесть этого заброшенного уголка природы: почерневшие от времени избы с шапками замшелых соломенных крыш, буйно разросшиеся старые деревья, обмелевший ручей… Жизнь словно ушла из этой старой полуразрушившейся деревеньки. Все дышит запустением и тишиной, все пронизано светлой элегической грустью. Холодный рассеянный свет серенького летнего дня сообщает жемчужную прозрачность краскам картины, наполняющий ее воздух смягчает все очертания.
Полнота естественного восприятия природы в единстве ее жизни и жизни человека, светлая радость бытия уступают здесь место поэтизации запустения и тишины, созерцательному любованию красотой пейзажного вида».
Приведенный выше анализ — скорее не анализ совсем, а тонкое поэтическое описание картины с метким наблюдением, что из пейзажа Поленова в эти годы ушел человек… Неверно лишь то, что раньше картинам Поленова присуща была «светлая радость бытия», на смену которой пришла «поэтизация запустения и тишины». Мы видели уже раньше, что в картинах «Бабушкин сад» и «Заросший пруд» была именно «поэтизация запустения и тишины». А вот то, что из пейзажа Поленова ушел человек, это совершенно верное наблюдение.
Иногда следов человеческого присутствия не видно совсем, как скажем, в «Реке Воре» (1881) или «Дали. Вид с балкона. Жуковка» (1888), «Река Клязьма. Жуковка» (1888), «Обрыв. Жуковка на Клязьме» (1888), но чаще всего следы человека видны. Это или мостик в «Деревенском пейзаже» (1880-е годы), или лодки и деревянные пристани в картинах «Лодка» (1880) и «Пристани в Жуковке» (1888), это сараи, избы, водяные мельницы и многое другое, созданное руками человека. Так шел Поленов от «пейзажно-бытового жанра» к «чистому» пейзажу, одухотворенному все же незримым присутствием человека.
Что и говорить: Коровин, Левитан превзошли его в этом искусстве уже на рубеже 1880–1890-х годов. Но некое преимущество у Поленова осталось.
Коровин в своих пейзажах очень праздничен, восторжен, восхищен блеском и красками мира. Левитан очень основателен, ибо пейзаж — единственный бог его творчества. «Март», «Плес», «У омута», «Золотая осень», «Вечерний звон», «Владимирка» — каждая картина Левитана — это поэма, эпическое произведение.
Поленов мягче. Он отличается большой (самой большой в русском искусстве) интимностью пейзажа, теплотой, задушевностью. Дело здесь совсем не в формальных каких-то приемах; он мастер формы, но никогда не щеголяет своим мастерством. Он применяет его лишь в той мере, в какой это нужно для того, чтобы передать зримый мир и свое впечатление, свое настроение. И важно — принципиально важно — то, что Поленов все более последовательно обращается к чистому пейзажу. В начале 1890-х годов он начинает упорно работать, чтобы прийти к тому, с чего он начал: панорамному пейзажу, но прийти во всеоружии художественного мастерства, которому он учил своих учеников и которому он — воздадим ему должное за это! — учился у них.
Но эти пейзажи относятся к следующему этапу его творчества, связанному с домом, который выстроил он на Оке.
Мы… задались целью по мере сил и умения помочь народу удовлетворить высокие потребности человека — потребности духа. И вот искусство, по нашему глубокому убеждению, есть одно из самых могучих для этого средств.
Я искренно желал сделать искусство доступным и интересным народу. Это было всегда одной из главных задач моей работы.
Как мы уже знаем, в 1887 году, когда картина «Христос и грешница» была продана и судьба ее и ее автора была определена, Поленов уехал в Крым…
Он так устал, и нервы его были так напряжены, что ни о чем, кроме отдыха и спокойной работы, такой работы, которая дает только наслаждение, он не думал. Он ехал в железнодорожном вагоне на юг и глядел в окно. Поезд шел по приокским местам. Здесь было совершенно прелестно. Особенно понравилась Поленову станция, носившая название «Свинская». Поленов подивился: за что такое неподобающее название?
Приехав в Ялту, он писал жене, что хорошо бы проехать по Оке от Серпухова до Алексина и найти какое-нибудь славное местечко, в котором можно было бы поселиться для спокойной работы, построить дом для семьи, чтобы в нем была большая комната для библиотеки и коллекции, построить столярную мастерскую, живописную с кабинетиком рядом — для жены (работу без нее он уже теперь и не представлял себе). Мечтал опять плавать в лодке по реке и построить этакое «адмиралтейство» для весельных и парусных лодок. В сентябре он писал: «Так мне хочется в деревню, как ты одна это можешь только понять. Сегодня я взял „Анну Каренину“ и как раз напал на место, где Левин в деревне с Кити… Что за красота! Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Работа в деревне над землею, я уверен, починит наши расшатанные нервы и укрепит надорванные силы». А в октябре ездил на Оку смотреть какое — то имение, понравившееся ему, но оказалось, что имение это не продается.
Весной 1888 года то, что искали, было все же найдено. Это была старая заброшенная усадьба обедневшей помещицы Саблуковой. Рядом с имением — старая деревянная церковь, дальше — деревенька Бёхово. В июне Поленов с женою поехали осматривать усадьбу. Место им понравилось, хотя и не то, где была усадьба, не около самого Бёхова, которое расположено было не очень живописно, а чуть подальше. Имение решили все же купить, чтобы поселиться там временно, а потом уже, все хорошенько обдумав, начать действовать.
В конце апреля Поленов с Коровиным пароходом проехали от Калуги до Тарусы, а от Тарусы до Бёхова — рукой подать — прошли пешком, пробыли там шесть дней, написали по три этюда каждый. Весенняя Ока была полноводна, берега ее поросли орешником, между кустами цвели фиалки. Поленову понравился бугор близ Оки, поросший редким сосняком. У местных крестьян этот бугор со всем, что примыкало к нему, носил название «Борок». Он был неудобен для земледелия, но тем не менее его вспахивали и засевали рожью. И решение было принято: именно здесь поселиться, здесь построить дом, здесь работать.
В июне 1889 года Поленов опять побывал с женою в саблуковской усадьбе, окончательно договорился с владелицей о покупке. Но саму покупку пришлось перенести на следующий год.
Головные боли донимали Поленова, и зиму 1889/90 года он провел в Париже, где у Шарко принимал курс водолечения. Водолечение помогало плохо, точнее — не помогало вообще. Лечил Шарко Поленова ледяными душами, от них голова болела еще сильнее, но ассистент мэтра повторял одобрительно: «Ничего, чем холоднее, тем лучше». Но становилось все хуже, и стало к окончанию курса лечения совсем плохо. Вспоминать этого ассистента Поленов еще долгие годы не мог спокойно и всегда характеризовал его словом «болван». Поэтому он все больше надежд возлагает на жизнь в деревне.
«Очень было бы хорошо, — пишет он жене из Парижа, — кабы дело Бёхова было подвинуто, чтобы можно было ранней весною или скорее в конце зимы… помаленьку начать устраивать усадьбу. Как Европа ни хороша, а Россия в деревне мне милей в сто тысяч раз, а кроме того, прямо подло жить в Европе, когда в России надо работать, особенно если здоровье не гонит вон…»
Но здоровье не налаживалось. Гидротерапия Шарко хотя и не приносила улучшения, но оставлять ее, не доведя до конца, Поленов тоже не решался. Решено было, что покупку бёховского имения произведет Наталья Васильевна сама, коль скоро принципиальная договоренность о покупке уже была. В январе 1890 года усадьба Саблуковой с принадлежащими ей 80 десятинами земли — пахотной, лесной и луговой — была куплена за 7500 рублей.
Тотчас же после этого Наталья Васильевна, оставив детей, тогда их было еще только двое — Митя и Катя, на Елену Дмитриевну, уехала в Париж к мужу — очень уж ему там худо было одному. Вдвоем было куда как лучше и устроеннее. Поленов перестал тосковать; они вдвоем стали бывать у Антокольских, познакомились с Мечниковым и его семьей, с дочерью Герцена Натальей Александровной. «Очень она мне нравится, — пишет Наталья Васильевна Елене Дмитриевне, — умная и талантливая особа, кроме того, какое-то особенное к ней отношение как к дочери Герцена, чтение которого, я думаю, для каждого составляет эпоху в жизни, и эпоху светлую».
В марте лечение у Шарко окончилось, но головные боли продолжались. Оставалось надеяться только на вольный воздух, спокойную работу, физический труд… и на время, которое, возможно, и поможет исцелиться…
Вернувшись в Россию, Поленовы тотчас же поехали на Оку, еще раз осматривать уже купленную усадьбу и ее окрестности. Усадьба Саблуковой была невелика: небольшой одноэтажный дом под тесовой крышей и сарайчик. Усадьбу окружали несколько деревьев: две старые плакучие березы, несколько таких же старых вязов, поломанных бурями, одичавшие яблони и вишневая рощица. Усадьба, как вспоминает старшая дочь Поленовых, напоминала «гоголевские беднеющие старосветские поместья. Прямо от дома начиналась пологая лужайка и крутой лесной спуск к каменистому и тенистому берегу реки. Местами в оврагах струйки проточной воды застаивались в глубоких бочагах, поросших крупными водяными незабудками. Низвергаясь водопадами по каменистым кручам нагорного берега, бил из-под земли незамерзающий ключ „Громовой колодец“ или по местному названию „Гремяк“, вода которого считалась целебной.
С южной стороны усадьбы, как с птичьего полета, открывался величественный вид на широкую ленту реки, пропадавшую в дымке горизонта».
Весной 1890 года было построено временное помещение: бревенчатый двухэтажный флигель. Наталья Васильевна перевезла из Жуковки все дачное имущество сначала в Москву, потом и в Бёхово. Детей опять пришлось пристроить, на сей раз у родственников Натальи Васильевны — Сапожниковых, на станции Любимовка. Благоустройство временного жилья целиком легло на ее плечи: все перевозки, покупка в Тарусе хозяйственной мелочи.
Лишь в конце июля в Бёхове поселились всей семьей. Поленов занялся проектированием дома и мастерской. Он решил предложить крестьянам обменять бугор, носивший название «Борок», на более удобную для земледелия пахотную землю саблуковского имения, причем земли этой давал в два раза больше той, которую занимал Борок. Землевладение крестьян было общинным, решать такие дела можно было только всем миром. Крестьянам обмен был, конечно, выгоден, однако формальности отняли столько времени, что лишь в ноябре было подписано соглашение, для чего Поленову пришлось возвращаться в Бёхово из Москвы, куда он только что переехал…
Перед самым отъездом Поленовых из Бёхова в октябре нагрянул вдруг Коровин. Поленов был рад ему, как всегда, и много лет спустя вспоминал, как Коровин, стоя у открытого окна, вдруг сказал:
— А ведь в овраге должен быть волк, — и завыл протяжно.
И что же? Из темноты послышался такой же протяжный волчий вой.
По-видимому, Коровин помог Поленовым переехать на зиму в Москву из неблагоустроенного еще Бёхова. По весне вернулись опять. Жили всё в том же флигеле и строили дом в имении, которое так потом и стало называться — Борок. Сейчас пейзаж этого места совсем иной. А вот как описывает Борок того времени старшая дочь Поленовых:
«Открытый склон Борка выходил на юг и запад, с севера его защищала березовая роща и смешанные поросли орешника, липы, дуба, осины. Пологий спуск в тени этой чащи приводил к песчаной отмели Бёховского переката. С востока, удаляясь от реки по оврагам и ее мелким притокам, тянулся старый Деляновский лес.
С южной и западной стороны бугра открывался вид на долину реки, на озера старого русла, заливные луга, речку Скнижку с заводью Кривушей, на глушняки прибрежных зарослей, обвитых хмелем и куманикой.
Влево, за сосновым бором, вид замыкали лесные пространства, справа — речное крутогорье, взрытое каменоломнями; за лугами — уездный город Таруса, расположенный на северном склоне высокого берега Оки. Здесь была переправа и паром из Алексинского уезда Тульской губернии, где находилось Бёхово и Борок, в заречную Калужскую.
На западе, за рекой, высились старые ели петровского парка бывшего Нарышкинского поместья — Игнатского, белела церковь большого села Кузьмищева; дальше к северу за лесами и перелесками виднелись очертания „Очковых гор“».
Проект дома, как было уже сказано, Поленов делал сам. Ему хотелось, чтобы дом напоминал имоченский. Отчасти он так и сделал, но все же расположение комнат, обусловленное их значением, продиктовало и необходимость фасада очень несимметричного, «иррегулярного». Планировка дома и внешний его вид несколько напоминают старые английские поместья, где все было подчинено удобству и функциональному назначению каждой комнаты.
Центром первого этажа стала библиотека, большая комната с камином, на который Поленов ставил керамические статуэтки и кувшинчики, подаренные друзьями — художниками, работавшими в абрамцевской керамической мастерской. Одна дверь вела в кабинет Поленова, другая — в «игральную» комнату, предназначенную для игр и занятий детей.
«Игральная» просуществовала не очень долго. После смерти в 1895 году матери, а в 1898 году Елены Дмитриевны Поленов перевез в усадьбу все их имущество: портреты предков, бюро красного дерева, на котором Алексей Яковлевич Поленов писал трактат об освобождении крестьян, живописные работы матери, археологические коллекции отца, старую родительскую мебель. И комната, которая поначалу называлась «игральной», стала теперь «портретной» — посвященной памяти предков. В том виде, какой придал ей Поленов, она сохраняется по сей день.
Для детей, для их летних игр, была построена неподалеку от дома бревенчатая избушка, совсем как из сказки.
Огромное окно библиотеки и дверь, ведущая на террасу, открывают вид на Оку, реку величественную, одну из самых прекрасных рек в России, воспетую поэтами от Языкова до Заболоцкого.
На первом этаже в кабинете Поленова находились коллекции старинного оружия, книжные шкафы, широкий удобный диван, покрытый пестрой восточной материей, висела картина «Река Оять».
Большая же часть картин — и самого Поленова, и его друзей — была в библиотеке: «Абрамцево» Репина и его же этюд к «Садко» — голова индийской царевны, «Бор в Сестрорецке» Шишкина, «Неаполь» Сурикова, «В гостях у соседки» Малютина, картины, этюды, эскизы Остроухова, Левитана, Архипова, Сергея Иванова, портрет Натальи Васильевны, написанный Николаем Кузнецовым в 1885 году, портрет бабаши Воейковой, писанный Крамским, «Ворон» Васнецова, которого Поленов купил с выставки, а под ним — эскиз к «Богатырям», подаренный Васнецовым еще в 1876 году в Париже. Картину свою Васнецов закончил в 1898 году; тогда Поленов и получил эскиз, подаренный двадцатью двумя годами раньше. «Ворон» и «Богатыри» висят — одна под другой — в углу библиотеки. В другом углу — между дверью в «портретную» и окном — удивительная «Мадонна», написанная в XIV веке мастером Сиенской школы, и подлинная картина Веронезе, которым Поленов не переставал восхищаться с того самого дня, когда, будучи пенсионером Академии художеств, в Венеции впервые увидел полотна этого мастера.
Была еще на первом этаже столовая; временный флигель, построенный в Бёхове, перенесли в Борок, поставили подле дома, и в нем, соединенном теперь с домом крытым коридором, разместились кухня и другие служебные помещения.
Комнаты второго и третьего этажа были жилыми: спальня, мастерская Поленова, кабинет Натальи Васильевны, детская, несколько комнат для гостей, которые, надеялся Поленов, будут приезжать к нему. На краю усадьбы оказался подпочвенный родник, и на этом месте был вырыт колодец.
Подле дома расположились: конюшня, каменный сарай, погреб, коровник и дом для рабочих, которые время от времени выполняли какие-нибудь работы, так, в столярном сарае местный крестьянин Иван Михайлович Никишин, очень толковый и дельный мастер, сделал по чертежам Поленова несколько лодок. В связи с этим почти у самой реки построено было то, что Поленов именовал «адмиралтейством», — сарай из плетеных прутьев, обмазанных глиной, крытый дранью.
Все постройки были закончены в начале 1893 года.
А в 1904 году неподалеку от основного здания выросло еще одно строение, которое Поленов, не переставая любить готику, спроектировал именно в готическом стиле и даже покрыл красной черепицей. В здание это, из — за своего облика получившее название «Аббатство», Поленов перенес свою живописную мастерскую, а также устроил в нем столярную мастерскую: он полагал, что исцелиться от головных болей ему помогает не в последнюю очередь физическая работа.
Кроме того, в это время Поленов (об этом еще будет рассказано подробно) занялся просветительской деятельностью: создал народный театр и в Москве, и в Борке. В Аббатстве планировка помещения была такова, что можно было устроить сцену и зрительный зал. Второй этаж (башня) Аббатства предназначался для хранения этюдов, которые Поленов не переставал дарить друзьям и ученикам, посещавшим его.
Живописную мастерскую со временем пришлось убрать со второго этажа основного дома, потому что детей уже было не двое, а пятеро. Но это — почти через одиннадцать лет. А в 1893 году детей у Поленовых было трое: Митя и Катя — погодки, семи и шести лет, и маленькая Маша, которой чуть больше года. Вот они-то, Митя и Катя, в течение первых пяти лет житья в Борке и были владельцами «игральной». И старшая дочь Поленовых вспоминает, как они детьми играли не столько в комнате, сколько за ее пределами: «Она („игральная“. —
Березовая роща оказалась полна грибов. После теплых дождей на полянке выходили массами черные головки березовиков; в орешнике водились белые грибы, семьи белянок и груздей; в молодом сосняке, разраставшемся вокруг одиноких сосен, появились рыжики.
Леса были полны земляникой. К осени по оврагам сидели гроздья черной куманики; стайки дроздов налетали на поспевающую рябину. В опустелой роще мелькали красные грудки снегирей, стучали дятлы, стрекотали сороки».
А иногда, по вечерам, в час отдыха Поленов сажал детей на плечи, делал из свернутого в трубу листа бумаги подобие хобота, ревел, подражая слону, приводил детей в неистовое восхищение, и заканчивал прогулку тем, что сваливал детей на широкий и мягкий диван в кабинете.
Ну а что же он писал в Бёхове, потом в Борке?
В Бёхове, когда жили еще во временном флигеле, в сентябре выпал ранний снег, и Поленов из окна второго этажа сделал эскиз большого пейзажа. Пейзаж этот был окончен в 1891 году. Здесь и панорамность, которой так долго добивался в своих пейзажах художник с юных лет, и полное отсутствие человека. Только поблекшие осенние деревья и кустарник и мягко лежащий на земле снег. Небо темное, затянутое тучами, предвещает ненастье. И уходящая вдаль стынущая река, которая вот-вот начнет затягиваться у берега тонким ледком.
Но еще раньше этого, в 1890 году, Поленов написал другой панорамный пейзаж — «Осень в Абрамцеве». Это его они с женою между собой называли «Федюшкино воспоминание»: на месте, с которого писан пейзаж, за четыре года до того, осенью 1886-го, сидели они, вспоминая своего первенца, здесь пришла к Поленову большая, до конца жизни, любовь к жене.
На этом пейзаже осень «первоначальная», пушкинская, тютчевская, здесь «в багрец и золото одетые леса», здесь теплое солнце ранней осени, которым согреты и воспоминания Поленова, и его любовь. В этом пейзаже Поленов целиком отдался своей любви к чистой красоте природы. Здесь человек присутствует незримо — с его настроением, с его очарованностью, с его любовью к природе.
Быть может, этот пейзаж помог Поленову перебороть ту боль, которая поселилась в его душе со смертью маленького сына, ибо пейзаж одновременно и элегичен, и праздничен. Здесь уже явно дают себя знать уроки, взятые им у своего ученика Коровина. Декоративность, праздничная приподнятость коровинских пейзажей уже повлияли на Поленова. Но лишь в этом пейзаже ему удалось использовать то, чему научился он у Коровина, полно и гармонично. Ему, пожалуй, не следовало идти против своей натуры. Интимные лирические пейзажи органичнее для него.
В 1893 году Поленов написал в Борке еще один панорамный пейзаж — «Золотая осень». Пейзаж эпичен, монументален, но несколько холоден. В нем нет того тепла, которое согревало «Федюшкино воспоминание». Очень красиво изгибается лента реки, о которой писал Языков, «поемистой, дубравной, в раздолье Муромских песков текущей царственно, блистательно и плавно в виду почтенных берегов». И берега «почтенные», уходящие далеко вдаль и уводящие вдаль воображение зрителя. Но чувствуется, что это не органическое поленовское, что он хотя и любуется широкой красотой природы, но милее ему все же интимные ее уголки. Даже хотя бы и «Осень в Абрамцеве», там нет неоглядности пространства, там пейзаж как бы замкнут в себе, и он ближе Поленову, его настроению, его душевному состоянию.
Что же произошло? Только ли дело в том, что Поленов пошел против своей природы? Исследовательница творчества художника Т. В. Юрова пишет, что в окских пейзажах проявлялись, помимо прочего, «определенные черты мировосприятия этих лет, что разочарование в людях, в возможностях их перевоспитания, которое вытеснило из искусства Поленова человека и заставило его жить исключительно природой». Я не решился бы так категорически утверждать это. Конечно, причин для разочарования в людях было немало: падение передвижников, отвратительные эпизоды, связанные с академической реформой, да и многое другое тоже. Да, Поленов мог разочароваться в людях, но едва ли он разуверился в возможности того, что людей можно сделать лучше. Ведь именно в эти годы у него зарождается мысль о создании народного театра, и, должно быть, в народ Поленов верил всегда. И соотношение между некоторым внутренним холодком и безлюдьем окских пейзажей и отношением Поленова к людям вообще, а не к определенным кастам, мне кажется не таким простым и однозначным. В 1914 году он писал Коровину: «Как мне хотелось бы показать Вам нашу Оку. Ведь мы с Вами открыли ее красоту и выбрали место для жительства. Но Вам тогда почему-то показалось, что в этой красоте и гармонии нет-нет да и проскользнет гармоника. Вот я живу здесь теперь двадцать два года, и ни разу ее не слыхал, а красота и гармония всё те же». Здесь игра слов и понятий: гармония и гармоника относятся и к природе, и к людям. А с людьми Бёхова и соседнего большого села Страхова у Поленова сложились прекрасные отношения. Бёховцам Поленов выстроил на свои средства церковь. Расписывал ее и он сам, и Елена Дмитриевна, в ней находились работы Репина, Маши Якунчиковой, Головина и молодого ученика Поленова Егише Татевосяна. В Бёхове и в Страхове построены были школы. В Бёхове, маленьком селе, школа была деревянная, в Страхове — большая, кирпичная. Поленовы сами оплачивали труд учителей, следили, чтобы быт их не был так плачевно убог, как быт тех сельских учителей, о которых с таким сочувствием и с такой болью писал в те годы Чехов. В страховской школе одна из стен двух классных комнат была сделана раздвижной, чтобы можно было, как в Аббатстве, устраивать театр.
Вот тут и гармония, и отсутствие гармоники, и все-таки вера Поленова в людей, несмотря на все разочарования.
Уже после революции, в 1918 году, во время Гражданской войны, были голод и другие невзгоды, когда многие друзья Поленова растерялись, он был уверен в народе и в России. «Отношения с крестьянами никогда не были так хороши, как теперь, — пишет он в одном из писем, — близки, искренни и в настоящем смысле слова товарищеские».
В 1918 году Поленов написал последний свой большой панорамный пейзаж «Разлив на Оке». По всему видно, что картина по названию, по теме, по размаху должна нести некий обобщенно-символический смысл. Но Поленов в свои 74 года уже не может выполнить поставленную перед собой задачу. Не то чтобы вещь была нехороша, нет. Она передает весеннее состояние, предшествующее пробуждению природы.
Изображена та же излука Оки, что и на «Золотой осени», но несколько под иным углом. Часть суши затоплена. Но сам пейзаж очень мирный. Он эпичен только номинально. Бывают и малые по размеру картины эпичными, а бывают и большие картины, лишенные этого качества. Картина Поленова и не эпична, и не камерна. Она не передает того настроения разлива огромной реки, его мощи и безудержности, который должна передавать по мысли художника. Это просто хорошо исполненный красивый пейзаж. Искусствоведы, анализируя картины последних лет жизни Поленова, говорят о чисто технических недочетах, об отходе его от принципов пленэризма, что совершенно справедливо, находят колористические и композиционные просчеты, что тоже справедливо. Но они не говорят о главном: Поленов пошел против самого себя, пошел против своей натуры. Он не был художником-монументалистом. Он был певцом укромных уголков России, автором чудесных интимных пейзажей. В зрелые годы он написал картины, ставшие явлением в русской пейзажной живописи; потом писал просто хорошие пейзажи. А потом потянулся за молодежью, но пошел своим путем: ведь ни Коровин, ни Серов не писали эпических полотен. Эпос в пейзаже был свойствен Левитану. И так эпически, как Левитан, не смог передать русскую природу ни один художник. Недотягивает до него ни Куинджи, ни Остроухов в знаменитом своем пейзаже «Сиверко», который больше всего остального в русском пейзажном искусстве приближается к Левитану. Но и Левитан, и Остроухов были — во всех отношениях — учениками и продолжателями Поленова. Он осветил им дорогу, он указал им путь, он помог им взобраться на высоты, которых они смогли достичь во многом благодаря ему. Сам он этих высот достичь не сумел, ибо молодость его прошла.
Между тем в семье Поленовых было далеко не так радостно и светло, как в усадьбе Борок. В 1895 году умерла Мария Алексеевна. Ей было уже 84 года. Но смерть матери всегда тяжела, сколько бы ей ни было лет и сколько бы лет ни было сыну (в 1895 году Поленову был 51 год).
А в 1898 году умерла Елена Дмитриевна. Она упала с пролетки и ударилась головой. Началась болезнь мозга. Она страдала два года. За пять лет до этого несчастья она начала организацию народно — исторических выставок при Московском товариществе художников, готовила две исторические картины: «Видение Бориса и Глеба воинам Александра Невского» и «Убиение царя Бориса», а также картину «Масленица». Но докончить начатые картины не удалось. «Пишут не руками, а головою», — говаривал Микеланджело. А голова не давала возможности писать. В августе 1898 года у нее началась, как пишет Наталья Васильевна, «мозговая рвота». Пришлось поместить ее в психиатрическую лечебницу доктора Токарского. 7 (20) ноября 1898 года Елены Дмитриевны не стало. Похоронили ее, как и всех Поленовых, на Ваганьковском кладбище.
Стасов был горячим почитателем таланта Елены Дмитриевны (не меняя в то же время своего мнения о ее брате). Он долгое время состоял с ней в переписке и в мае 1900 года в журнале «Искусство и художественная промышленность» опубликовал ее биографию.
«Она далеко не успела всего того, — писал Стасов, — к чему, казалось бы, способна ее натура, к чему приготовила ее горячая любовь к России, к русскому народному творчеству, к русскому художественному содержанию и красоте, но сделанное ею так оригинально, так могуче, так своеобразно и ново, что, наверное, никогда не погибнет и навсегда останется памятником несравненного русского женского творчества XIX века. Раньше нее ни одна русская женщина не задумывала и не выполняла в художестве того, что она задумала и выполнила. Она показала, чего еще можно и должно ждать от будущих русских женщин-художниц».
А в декабре 1902 года умерла Маша Якунчикова; умерла совсем молодой, ей едва исполнилось тридцать два года. Последние десять лет она жила за границей: у нее открылся туберкулезный процесс, и она проводила зимы в Париже, а летние месяцы — в Швейцарии. Осенью 1896 года она вышла замуж за доктора Вебера. С этого времени ее работы экспонируются под двойной фамилией: Якунчикова-Вебер.
Она очень болезненно восприняла весть о смерти Елены Дмитриевны, но вот и самой ей недолго осталось жить. Она ушла вслед за Еленой Дмитриевной, которая была ее ближайшим другом, пережив ее всего на четыре года.
А в сентябре 1899 года был арестован Савва Иванович Мамонтов. Он стал жертвой дворцовых интриг между министром финансов Витте, протежировавшим ему, и министром юстиции Муравьевым. Поленов был сражен этим несчастьем, он очень любил Савву Ивановича, да он был и родственником, наконец, ведь Наталья Васильевна — двоюродная сестра Елизаветы Григорьевны.
Савву Ивановича «посадили в тюремный замок, — пишет брату Алексей Дмитриевич Поленов, — в довольно скверную маленькую и душную комнату. Вся процедура более приближается к жестокости, чем к правосудию. Пришлось ехать к следователю и к прокурору, но, к сожалению, без пользы».
Мамонтов перед тюрьмой написал либретто оперы «Ожерелье», и переписка его с Поленовым посвящена этой затее, которую, вопреки судьбе, намеревается он осуществить. Мамонтов просит Поленова заняться его новым детищем. Музыку к опере написал Кротков, сотрудник Саввы Ивановича по делам Частной оперы. Поленов, разумеется, согласен на любую помощь.
В октябре он обращается к прокурору Лопухину, ведшему дело, с просьбой заменить Савве Ивановичу заключение домашним арестом, но получает отказ. Лишь в феврале благодаря ходатайству большой группы художников, организованному Поленовым, сам царь вмешался в это дело, и Савве Ивановичу было разрешено жить у старшего сына Сергея.
На Пасху, опять-таки по инициативе Поленова, художники направили Савве Ивановичу коллективное послание, в котором говорилось, что все они помнят и всегда будут помнить то добро, которое делал он всю жизнь. В отдельном письме к Савве Ивановичу Поленов вспоминает все прошедшие годы, домашние театральные постановки, совместную работу над живой картиной «Афродита», которую они подготовили к первому съезду русских художников, работу Поленова над декорациями и постановкой в мамонтовской опере «Орфей» Глюка. «За все это сердечное тебе спасибо, — кончает письмо Поленов. — Будем надеяться, что ты скоро опять будешь среди нас».
Суд, состоявшийся в июле 1900 года, оправдал Мамонтова. Тотчас же после суда Мамонтов уехал, чтобы немного отдохнуть от всепроникающей русской казенщины, в Париж, где открылась Всемирная выставка. Там, в русском художественном отделе, торжествовали свою победу ученики Поленова и питомцы его и Мамонтова. Серов получил
Зато в России художественные дела шли совсем не гладко. Тот же Коровин, например, так и не стал членом Товарищества передвижников. Да и не он один. Множество художников не могли вообще попасть на Передвижные выставки: Малявин (который так же, как и Коровин, получил в Париже золотую медаль), Сомов, Бенуа, Остроумова. С трудом проходили в свое время на Передвижные выставки работы Елены Дмитриевны. В результате страдало все русское искусство; негде выставить — художник не совершенствуется, некому продать — художник не работает вообще.
В 1895 году Поленов писал жене из Парижа с выставки в Салоне на Марсовом поле: «Описывать понравившиеся картины трудно потому, что все сводится к живописи. Какие силачи!» И в России возникают новые художественные организации. В конце XIX века — «Мир искусства», в начале XX — Союз русских художников. У них выставляются: Серов, Врубель, Коровин, Левитан, Рябушкин, Сомов, Остроумова, Грабарь, Рерих, Малявин, Бенуа.
Новая живопись хлынула мощным потоком. Теперь уже и в России появились картины, которые трудно описывать, потому что в них «все сводится к живописи», и о новых художниках можно сказать, что они «силачи».
Поленов сочувствует и одному, и другому учреждению, но сам он всюду поспеть уже не может. На выставках «Мира искусства» появляются его работы, журнал «Мир искусства», одним из учредителей которого был Мамонтов, печатает репродукции картин его и Елены Дмитриевны, в одном из номеров опубликована литературная работа Натальи Васильевны (под псевдонимом «Н. Борок») о ее безвременно скончавшейся сестре Маше Якунчиковой.
В Союзе русских художников, который был организован в 1903 году, Поленов, как ни сочувствовал его организаторам и участникам, сам выставляться уже не мог — не те были силы.
А в 1904 году — новое несчастье: война с Японией, гибель русской эскадры, сокрушительные поражения русской армии в Маньчжурии. Поленова это привело в крайне тяжелое состояние. Он пишет: «В политике я никогда ничего не понимал и, может быть, с точки зрения политики петербургского благополучия все это так и нужно, но меня эта людская бойня совсем придавила. Неужели все так тупы, что из-за тупости немногих все это проделывают; а эти немногие не понимают всей страшной ответственности, которая на них падает. В истории есть своего рода справедливость, за грехи отцов платят дети. Это ужасно, безжалостно, но оно так есть, и как мало понимают это!»
Возмездие, которое предрекал Поленов, наступило скорее, чем он думал.
В начале 1905 года произошли кровавые события в Петербурге. Поленову рассказал о них подробно приехавший из Петербурга Серов. Серов был вне себя. Он написал протест в Академию художеств, президент которой великий князь Владимир руководил расстрелом 9 января. Серов был уверен, что вместе с ним протест подпишут многие. Но никто не отважился на такой подвиг — один Поленов.
Протест, разумеется, ни к чему не привел. Владимир Александрович продолжал оставаться президентом.
С надеждой, как и многие, встретил Поленов Манифест 17 октября. «Начинается новая жизнь, — пишет он, — свобода вырвана из зубов хищников и идиотов, но немало еще пройдет времени, пока они это усвоят и привыкнут к положению, что не все зависит от их усмотрения. Но великая теперь задача отстоять эту свободу, чтобы ее не отняли, и немало пройдет времени, и, пожалуй, крови прольется немало, пока не окрепнет новое понятие об жизни, основанное не на произволе и угнетении, а на праве и равенстве перед этим правом».
Это письмо написано 25 октября. Но вслед за этим в Борок из Москвы, а потом и из других городов стали поступать страшные вести: убийство Баумана, чудовищные по жестокости погромы. И уже 3 ноября Поленов опять удручен: «Настоящее положение тяжело, главное все той же продолжающейся ложью и обманом сверху и донизу. Наверху — петербургская дворня состоит из хищников и идиотов, вокруг нее — шайка грабителей…
Все реформы, которые дает теперь правительство, вынужденные, но, к сожалению, и очень опоздалые. Все это должно было свершиться двадцать восемь лет назад. Если бы во главе государства стояли умные и честные люди, то это произошло бы сейчас, после болгарской войны. Когда начались поражения, Александр II, чтобы свалить ответственность за войну на общество, совсем уже собрался дать конституцию, но как только счастье повернулось на его сторону, он изменил. Если бы это свершилось тогда, то не было бы нелепого убийства его, не было бы царства тьмы Александра III, не было бы отупляющего убаюкивания и мошеннических передержек дальнейшего царствования, может быть, не было бы колоссальной бойни Дальнего Востока и ужасающих по дикости теперешних погромов. Может быть, я рассуждаю как старый человек, который все это пережил, который видел, как все это накоплялось и надвигалось, который страдал, говорил, где мог и как умел, и жил только верой в искусство, и все надеялся, что люди образумятся и поймут — вера мне не изменила, а надежда оказалась пустой мечтой. Мерзавец никогда не станет порядочным человеком, а дурак ни от чего не поумнеет».
Декабрь Поленов провел в Москве и вел дневник, в котором — впечатления от Декабрьского вооруженного восстания и его подавления войсками.
Разумеется, дневник Поленова — это дневник наблюдателя. Не для истории революции 1905 года, а для биографии Поленова он все же интересен. Начинается дневник 6 декабря. В этот день на Тверской, главной улице Москвы, темнота, но пьяных не видно, группа молодежи поет «Марсельезу», потом группа гимназистов и гимназисток — тоже поют «Марсельезу». «Чувствуется, что все нашли, чего искали, чувствуют себя победителями, но сдерживаются, восторгов нет, слишком все это ново».
И ново еще то, что на улицах не видно полицейских.
Назавтра, 9 декабря, Поленов и Мамонтов участвуют в заседании Секции содействия народным театрам. Неожиданно вбежал хозяин дома, где было совещание, в панике рассказал, что будто бы на дом генерал-губернатора было нападение, что требовали Дубасова, его не оказалось, началась стрельба, в результате чего много раненых и убитых. Ночью, часов в 12, когда Поленов возвращался домой, на улицах, хотя фонари и горели, — ни одной живой души.
В субботу 10 декабря началась постройка баррикад. С Тверской слышались отдельные ружейные выстрелы.
Во двор дома, где жили Поленовы, пришли члены боевой дружины, потребовали, чтобы ворота были открыты. Молодой начальник дружины успокоил, сказал, что дом под защитой дружинников, что будет созвано Учредительное собрание, что полиция будет заменена милицией, войско — дружинами и вообще все будет на демократических началах. Опасность представляют лишь вооружающиеся на окраинах черные сотни.
Простудилась Наталья Васильевна. Утром в воскресенье Поленов пошел к врачу Ивану Ивановичу Трояновскому, большому другу всех русских художников, но не застал его дома…
Из полицейской части выехали два извозчика с гробами. Какой — то прохожий объяснил: «Это еще вчера иного их развезли по частям, родные приходят, им отдают, не препятствуют, бери — коли твой».
Это были жертвы вчерашней перестрелки, которая произошла в то время, пока шло заседание Секции народных театров.
Когда Поленов возвращался домой, на Кудринской площади появились солдаты. На Садовой около церкви Ермолая появились баррикады; Поленов сделал с них наброски.
Потом начался артиллерийский обстрел баррикад и один снаряд попал на чердак реального училища и ранил двух учеников, другой снаряд влетел во двор дома, где жили Поленовы, и оторвал кусок крыши от флигеля. Жильцы дома установили ночное дежурство. Поленов с сыном Митей дежурил от 5 до 7 утра, и вместо обычной ночной тишины слышали галочье карканье и собачий вой; было странно и жутко.
Утром с Пресни виден был пожар. Потом — взрыв. Поленов написал этюд того, что видел из окна.
Ученики реального училища, расположенного рядом, заперлись в своем здании. Там же засела дружина. На Садовой, где жили Поленовы (неподалеку от Пресни), начали показываться войска, привезли пушки, к шести часам назначена канонада. Директор училища умолял артиллерийского командира пощадить училище, в котором одни дети и никакой дружины нет; убеждал, ручался, что никаких эксцессов не будет.
Артиллерию увозят, потом уходит и пехота. Действительно, в реальном училище тихо.
Младшая дочь Поленовых Наточка все пытается подойти к окну. Отец отвлекает ее: они вместе клеят избушку для елки. Зато старшая, Катя, непременно хочет на улицу, хочет участвовать в борьбе. Ее с трудом удерживают.
Канонада все же начинается, расстреливают баррикаду у церкви Ермолая, которую зарисовал Поленов.
Все дни то там, то тут, то далеко, то совсем рядом — стрельба, стрельба и стрельба.
16 декабря в пятницу Поленов приходит к соглашению со старшей дочерью: они идут в лечебницу Чегодаева, где лежат раненые, чтобы Катя помогала там. Но там срочной надобности в людях сейчас нет. Чегодаев обещает непременно известить Поленовых, если такая надобность появится. Оттуда зашли к Остроухову. Илья Семенович ходил по комнате и негодовал.
А когда вернулись домой, то оказалось, что дворовые ребятишки стали строить снежную гору, в них начали стрелять и одного ранили.
А в воскресенье утром пришли сказать Поленовым, что дом, где они живут, будут расстреливать из пушек. Пришлось делегации идти к приставу — князю Церетели. «Я говорю, что в нашем доме около тридцати детей, надо же их спасти», — записывает в дневнике Поленов. Но пристав князь Церетели объясняет правила, по которым расстреливают дома, что прежде дают предупреждение, чтобы жители покинули их, потом расстреливают, однако тут же говорит, что не слыхал, чтобы дом Найденова (дом, в котором жили Поленовы) был предназначен к расстрелу. Одного из делегации не хотели пропускать обратно, он показался подозрительным: все время держал руки в карманах.
Ночь прошла беспокойно. Никто из взрослых не спал. Дружинники напали на участок, убегали через двор дома Найденова, по ним стреляли. Однако к утру опять все стихло, и следующее утро прошло настолько спокойно, что Наталья Васильевна едет с детьми на Кисловку к отцу, а Поленов идет на Садовую и делает еще один этюд баррикад.
К 20 декабря восстание подавлено. На окраинах злобствует черная сотня. «Рассказывают, что… на Спиридоновке застрелили старичка и его жену, которые не поняли команды, на соседнем дворе убили гувернантку и ранили девочку.
Один мастеровой идет по Садовой и утирает слезы, я слышу: „прямо в прорубь, ведь она была у меня единственная“.
21. Все стихло».
На этом дневник Поленова заканчивается.
В 1906 году на Передвижной появляются два его этюда: «Баррикада (Кудринская Садовая)» и «Пожар Пресни».
К 1909 году Поленов закончил, наконец, грандиозную работу — 58 картин из жизни Христа. В сущности, он посвятил им всю жизнь, задумав сначала одну картину о Христе, когда мальчиком еще увидел картину Александра Иванова. Первой и основной картиной «евангельского круга» была «Христос и грешница», оконченная в 1887 году. Но уже через год появляется еще одна: «На Генисаретском озере». На ней Христос — один, без людей, он размышляет, он идет по тропинке вдоль берега озера. Озеро — очень красивое с чистой спокойной водой и обкатанными водой прибрежными камнями. Вся картина — большая горизонтальная — словно бы предвосхищает панорамные пейзажи Оки. И озеро можно принять за широкую спокойную реку. На заднем плане — на другом конце озера или на другом берегу — невысокие возвышенности. Ничто не мешает размышлению. Человек, который, опираясь на палку, бредет по дороге, устал, устал беспрерывно наблюдать то, что делается вокруг него, устал от людской подлости и низости, устал от взятого им на себя бремени: переделать проповедью добра род человеческий. Но перед Христом вся гладь озера, путь ему еще долгий и такой же пустынный. Где-то его ученики, где-то люди, которых он должен наставить на путь добра, а сейчас он один, наедине со своими мыслями. И в то же время кусок земли, на котором находится Христос, невелик, остаток дорожки до нижнего обреза картины очень мал. И сама фигура Христа, сравнительно с площадью картины, невелика, хотя она и доминирует в картине — так искусно она вписана в пейзаж, так четко рисуется темная фигура человека на фоне светлой голубизны озера и берегов его. Здесь человек живет заодно с природой. Она — его помощница в трудном деле, которое взвалил он на свои плечи. И потому пейзажу отдано так много места в картине, потому он и выписан с такой любовью и таким искусством. Первый план берега и воды написан чистыми красками, мелкими, мозаичными мазками. И это делает пейзаж необычайно свежим, красивым, написанным словно бы не по этюдам, а с натуры.
Логическим продолжением этой картины была другая, написанная в 1894 году. Она названа «На горе. Отдых». На ней Христос тоже изображен на берегу Генисаретского озера, но озера словно бы и нет вовсе. Пейзаж — это скала на берегу, уступ, на котором сидит все в той же одежде все тот же удивительно похожий на художника Левитана человек. Посох прислонен к его колену, а он задумчиво и отдохновенно смотрит вдаль. Он очень устал от своего земного пути, и кажется, что художник передает своему герою свое настроение, свое состояние, свое желание отдохнуть вот так вдали от людей на берегу красивого пустынного озера.
Так что права, разумеется, Т. В. Юрова, когда пишет, что «Христос Поленова — образ во многом автобиографический, близкий художнику по мировосприятию». И это утверждение соответствует именно картине «Отдых» как никакой иной.
Осень и зиму 1894/95 года Поленов с женою провел опять в Риме, где начал писать первую «тематическую» картину из жизни Христа — «Среди учителей». Картина эта велика по размеру и обильно населена. Поэтому, видимо, опять понадобились натурщики из римского гетто, которые сохранили больше национального колорита, чем тот, что остался у жителей завоеванной много веков назад римлянами, филистимлянами, арабами Палестины.
«Мне хочется доискаться исторической правды, — пишет Поленов. — Истина, какая бы она ни была, для меня несравненно выше вымысла». Что касается внешности самого Христа, то, как утверждает Поленов, «положительных данных очень мало. Те, которые до нас дошли, крайне противоречивы. С самого начала возникает спор и два противоположных сказания. Одно описывало его почти физическим уродом, другое, наоборот, облекает его в красивую внешность. Поэтому изображение его относится к области творчества».
Как мы видели уже, на первых картинах Поленов скорее склоняется к тому, чтобы сделать Христа красивым, коль скоро просит позировать Левитана и Коровина. Относительно одежды уже шел разговор, когда это касалось первой картины — «Христос и грешница».
Но сейчас важно другое: истолкование Поленовым личности Христа для всего цикла картин о его жизни и деяниях. Вот его слова по этому поводу: «В первых повествованиях о Христе личность его является чисто человеческой, со всеми человеческими чертами, и несравненно более для меня привлекательной, трогательной и величественной, чем тот придуманный после его смерти отвлеченный, почти мифический образ, который передали нам писатели и художники позднейших времен. В евангельских сказаниях Христос есть настоящий, живой человек, или сын человеческий, как он постоянно сам себя называл, а по величию духа сын Божий, как его называли другие. Поэтому дело в том, чтобы и в искусстве дать этот живой образ, каким он был в действительности».
В картине «Среди учителей», первой «жанровой» картине, Иисус предстает еще ребенком, «исполняющимся премудрости». Он сидит среди старцев, понаторевших в ветхозаветных сказаниях. Он в их кругу единственный в белой одежде, единственный ребенок. Его лицо умно и трогательно. Старцы, окружающие его, — очень характерные ветхозаветные старики.
Иисус исполняется премудрости. Он и в детстве поражал своих учителей острым умом. И ум этот чудесно передан Поленовым в лице мальчика. Вся картина — совсем жанровая сцена, перенесенная на девятнадцать столетий назад. На ней много людей, не относящихся к центральной группе, архитектура (любимая Поленовым): внутренний дворик, лестница, колоннада. Все это, может быть, и небезупречно в смысле композиции, но зато вносит жизнь и непосредственность в трактуемый совсем светски религиозный мотив.
Изображена на картине и Мария, мать Иисуса, которая прижала в волнении руки к груди, увидев найденного после долгих поисков сына. Но она далеко, на заднем плане, и нужно знать, что это Мария, а не просто пришедшая за чем — то к мудрецам женщина.
Вернувшись в Россию, Поленов начал набрасывать десятки других мотивов, но увидел, что этюдного материала, привезенного с Ближнего Востока, мало. То есть не то чтобы мало, его было с избытком, но, не имея еще конкретной программы всего цикла сюжетов, во время путешествия по Ближнему Востоку он написал много того, что для работы не нужно, и не написал того, что оказалось теперь необходимым, — дело естественное и совершенно нормальное, так всегда бывает. И теперь он опять собрался ехать на Ближний Восток.
Он поехал туда весною 1899 года. С ним поехали пейзажист А. Киселев, Егише Татевосян, молодой художник, недавно окончивший у него курс, и студент-естественник и фотограф-любитель Леонид Кандауров. Теперь маршрут был весьма ограниченным: только места, связанные с биографией Иисуса: Иерусалим, Сихем, Назарет, Тивериада, Мертвое море. Лишь на обратном пути заехали ненадолго в Бейрут и в Вену.
Татевосян вспоминает, что «в путешествии Василий Дмитриевич был молчалив, так как был погружен в свои мысли и планы — поэтому, вероятно, и не был разговорчив. Восторженность его проявилась у стен иерусалимских, и с трогательным сочувствием он говорил, что гонимые евреи все же находят утешение в стенаниях и молитве у стены Иродовой (небольшой кусок им предоставлен)…».
Опять этюды Поленова — пейзажи, опять они невелики по размеру и закончены так, что представляются и не этюдами вовсе, а именно пейзажными картинками. Они светлы, написаны чистыми красками. «В них Поленов учил, как надо писать цельными тонами, передавая натуру, как в мозаике, рядом отдельных мазков. Это давало особую свежесть и силу в красках», — вспоминает Я. Д. Минченков свое впечатление от выставленных Поленовым в 1903 году на Передвижной этюдов Ближнего Востока (Первой выставке этюдов, рисунков и эскизов).
Теперь наконец Поленов, сначала в Москве, в мастерской Арцыбушева, летом в Борке, а с 1904 года в Аббатстве, стал писать одну за другой картины, которых ко времени окончания оказалось 58! Задача, поставленная перед собою Поленовым, настолько велика, настолько грандиозна, что художник, сколь ревностно он ни был бы предан своей работе, как ни преклонялся бы перед Христом, его деяниями, его учением, не мог выполнить все в равной мере вдохновенно.
Поленов и сам понимал это. «Мои картины служат главным образом изображению природы и обстановки, в которой совершались евангельские события», — писал он Л. Н. Толстому. Эту задачу Поленов, несомненно, выполнил. Его картины мирны, в них природы гораздо больше, чем людей и событий. Названы они фразами, взятыми из Евангелия: «Дева Мария», «Пошла в нагорную страну», «Пошел в Египет», «И был там», «Возвратился в Назарет», «В Назарете», «Исполнялся премудрости» и т. д.
К сожалению, большинства законченных картин мы не знаем. Они долгое время оставались у Поленова, в 1924 году была организована большая выставка русского искусства в Соединенных Штатах. Целью выставки было не только показать американцам русское искусство, но и продать кое-какие картины, так как в это время Советская республика не могла еще покупать столько картин, чтобы обеспечить материально художников, оставшихся на родине. Большинство картин Поленова было куплено и до сих пор находится в Америке. В нашем же распоряжении только эскизы и альбомы весьма несовершенных репродукций.
По ним можно видеть, что в картине «Был в пустыне со зверями» есть пустыня и есть Христос. Но пустыня огромна и величественна, Христос же — невелик и незначителен. Или — «Крестились от него»; здесь опять-таки прекрасный пейзаж: Иордан, прибрежные растения, и где-то на заднем плане изображены люди, входящие или уже вошедшие в воду. Некоторые из картин — мирные жанровые сценки: «Самарянка» — отдыхающий Христос и стоящая около него женщина в белом с кувшином воды. Или «У Марии и Марфы»: небольшое двухэтажное строение; Христос сидит на ступеньке и говорит что-то женщине, стоящей около него, напротив него на земле сидит другая. Не зная соответствующего текста Евангелия, невозможно понять смысл картины. Вот он, этот текст из 10-й главы Евангелия от Луки: «Впоследствии пути их, пришел он в одно селение; здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: Господи! Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
Можно ли вообще иллюстрировать этот эпизод, лишенный драматизма, эпизод, весь смысл которого в словах Христа, а не в чем — то внешнем?
Таковы же и другие картины… Это либо огромная величавая природа и маленькие, ничтожные рядом с ней люди («Он учил», «Утром вставши рано»), либо внешне сюжетные, но без сопроводительного текста лишенные внутреннего содержания сцены. И прав был, конечно, Лев Толстой, когда, благодаря Поленова за присланный альбом репродукций (сам он не сумел побывать на выставке по болезни), писал: «Нельзя в лучшей форме передать детям историю Христа, как по Вашим картинам».
Отвечая Толстому на его письмо, Поленов пишет: «Больше всего меня порадовало высказанное Вами мнение что „нельзя в лучшей форме передать детям историю Христа“. — И признается: — Рядом с живописной работой идет у меня и письменная; называется она „Иисус из Галилеи“. Это свод в одно целое евангельских текстов и других новозаветных сказаний о Христе, снабженных моими примечаниями. В этих примечаниях стараюсь я пояснить то, что кажется мне неясным, стараюсь собрать исторические данные как о действующих лицах, так и о книгах, содержащих эти повествования».
Но в жизни Христа настал момент, когда существование его превратилось в трагедию: предательство Иуды, отступничество Иоанна, суд синедриона, издевательство толпы, несение креста, распятие. Вся эта страшная часть истории Христа не удалась Поленову. Весь этот драматизм не отвечал складу его характера; так же как в первых его картинах — «Право господина» и «Арест гугенотки» — драматизма в драматических сюжетах нет.
Невольно всплывают в памяти картины на эту тему Н. Н. Ге. Вот нищий оборванец, худой и изможденный, стоит перед холеным римским вельможей, прокуратором Иудеи Понтием Пилатом, и говорит ему всем видом своим, всеми делами своими о том, «что есть истина». А вот он же, затравленный, забитый, оплеванный, в жалком рубище, стоит на Голгофе уже с закрытыми глазами и полным отчаяния лицом, он понял, что не минет его «чаша сия», что будет он распят на кресте вместе с разбойниками, стоящими справа и слева от него. Христос, стоящий на коленях в Гефсиманском саду, у Ге — полон драматизма, так же как полон драматизма, но уже иного рода, в сцене оплевания. А как жалок и ужасен он на кресте, уже изнемогший, обвисший, особенно ужасен рядом с разбойниками, еще совсем не изможденными.
Но Ге был вообще философом в живописи. И привлекал его именно драматизм истории. Он был в этом смысле противоположностью Поленову. Ге очень мало удались те сцены из жизни Христа, которые не содержат драматизма, например такая: «Мария, сестра Лазаря, встречает Иисуса Христа, идущего к ним в дом». Картина очень светлая, очень мирная, и ничто не говорит в ней, что брат Марии Лазарь мертв, а Иисус должен воскресить его. Но Ге если и писал подобные сюжеты, то мало. Поленов же писал главным образом именно такие сцены.
А последний раздел цикла был явно вне пределов его возможностей. И «Повинен смерти», и «Иуда раскаялся», и «У правителя», и «Повели на казнь», и «Взошли на Голгофу», и «Предал дух» — все это передает лишь внешнюю, бедную фабулой сторону истории последних дней Христа.
Поленов очень откровенно признавался в письме Васнецову: «Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, так много пошлости и грязи, что если искусство тебя будет обдавать сплошь ужасами да злодействами, то уже жить станет слишком тяжело». Поэтому меньше всего удались Поленову картины, содержание которых — трагедия Христа.
Выставка картин «Из жизни Христа» состоялась в 1909 году, сначала в Петербурге, потом в Москве и в Твери. Но открыть ее удалось не без хлопот. Поленов попросил помочь ему Минченкова, молодого члена Товарищества передвижников. Минченков предложил поехать вдвоем к градоначальнику с просьбой разрешить открыть выставку на такую серьезную тему. «Поленов согласился, а я потом раскаивался в своем совете, — пишет Минченков. — Вышло так, будто я самого Христа привел к Пилату на издевательство».
Градоначальник генерал Бутковский заставил себя ждать немалое время, наконец вышел в пышных эполетах, с блестящими орденами на груди, скривился и высокомерно произнес:
— Что вы носитесь с этой своей выставкой, с Христом? Что вы сказать хотите? Какие откроете истины?
Однако обещал все же прислать помощника. Пришел помощник, который, по словам Поленова, «оказался очень веселым маленьким человечком. Он очень удивился, что г-н Поленов так много сделал разных картин и так много в них ни на что не похожего Христа, но что, вероятно, придется обратиться к авторитету духовного лица».
А на другой день Семенцов, еще один помощник Поленова по устройству выставки, опять поехал к генералу Бутковскому, который на сей раз был весьма милостив и обещал даже лично приехать с каким-нибудь «попиком», как он выразился, потому что по нынешним временам всего можно ожидать, вплоть до запроса в Государственной думе депутата Пуришкевича. Сам он, правда, не приехал, но «попика» прислал.
И «попик» выручил. Кроме него был гражданский цензор, которому обычно, как пишет Минченков, «поручалось проверять содержание этикеток на бутылках и консервах».
— Помилуйте, — кипятился этот цензор, — да разве это Христос? И вдобавок в таком головном уборе. А это кто? Ученики его? Хороши, нечего сказать!
Спасение неожиданно пришло от «попика». Прислан был, конечно, не простой «попик», прислан был архимандрит Александр. Он прочитал гражданскому цензору целую лекцию, сказал, что в Христе два начала: божеское и человеческое. Художник мог взять для себя лишь человеческое начало, а потому и одел его так, как все одевались в то время в тех краях. Этого, конечно, недостаточно для церковного образа, но в исторической картине не оскорбляет чувств верующего.
— Разве что так… — сказал гражданский цензор и подписал разрешение.
Правда, архимандрит высказал кое-какие замечания, но очень мирно и деликатно. Разрешения все были подписаны, «а полицейская и гражданская комиссии так заинтересовались выставкой, — пишет Поленов жене, — что нашли все превосходным».
Несмотря на то что выставку удалось разместить на одной из глухих линий Васильевского острова, народу было множество. Было много учащихся, которым билеты раздавали бесплатно, много было интеллигенции, много рабочих.
Минченков вспоминает слова какого-то рабочего: «Нас учат, что Христос был Бог, его окружали ангелы, он преображался, воскресал и возносился, а на самом деле было так, как здесь представлено: он плотничал, знался с самым простым народом, а архиереи его оплевали, а власть распяла».
На выставке продавались снимки с картин, и «кажется, не было посетителя, — пишет Минченков, — который бы не унес с выставки несколько снимков или целую их коллекцию».
Но успех был не только среди простого народа, люди, весьма искушенные в искусстве, отдавали должное высокому мастерству художника и его подвижническому труду.
«Ласкающие краски Палестины, солнца, правдивый пейзаж переносили зрителя к месту действия и служили фоном, на котором вырисовывалась личность иудейского царя-проповедника. Верилось в эту нагорную страну, ласковые воды Генисаретского озера, толпу, идущую радостно слушать проповедника или пугливо провожающую его на крест.
В картинах не было потрясающей драмы, художник красиво повествовал о ходе событий, представляя воображению зрителя дополнить повествование ужасами и подробностями кровавого конца». Так писал много лет спустя после выставки помощник-устроитель ее Я. Д. Минченков.
Но Поленов получил знаки признания и при жизни. С явным удовлетворением сообщает Поленов жене, что 3 марта, когда выставка была еще в Петербурге, в квартиру гравера Василия Васильевича Матэ, у которого Поленов жил, пришел Павел Петрович Чистяков, благодарил за выставку. «Я никак этого не ожидал», — признавался Поленов.
Чистяков сказал:
— Особенно понравилась мне картина «Моление о чаше», видно, как умоляет. А другая картина «Сидит на скале» — и благородства много, и чувствуешь, что это было давным-давно, но так и было. И театра нет, как бывает, когда делают в плащах. Оно, должно быть, так и было без плащей.
Потом стал говорить о других картинах:
— А в шлемах-то идут, народ стоит, женщина бежит, и не знаешь, что такое, а это его ведут — Христа… Я угадал. И много со мной художников ходило, и все молчат. Маковский Владимир — на что мудрый, и тот присмирел, говорит: «Тут чистота Христа связана с красотой природы». Это верно!
Не менее приятно было услышать похвалу художника младшего поколения — Серова. Серов стал к тому времени огромной величиной в искусстве. И судьею он был строгим и нелицеприятным. Побывав на выставке, Серов тоже пришел в квартиру Матэ, и Поленов на всю жизнь запомнил слова немногословного художника:
— По чувству мне очень понравилось, меня даже как будто захватило.
«Эти слова доставили мне тогда большую радость», — писал Поленов через два с половиной года, узнав о скоропостижной смерти Серова.
После того как выставка переехала в Москву, Поленов получил большое взволнованное письмо от Л. О. Пастернака, участника — в прошлом — поленовских рисовальных вечеров и акварельных утр: «Цель Ваша, и прекрасная цель, так успешно Вами достигнута, что ж еще больше».
Историк Иван Владимирович Цветаев был давним знакомым Поленова и даже некоторым образом соседом: у Цветаевых было имение, как и поленовское, неподалеку от Тарусы. Из имения Цветаевых виден был купол бёховской церкви. Младшая дочь Цветаева, Анастасия, вспоминала, как ездили в гости к Поленовым: «Из деревянного шкафчика на повороте лестницы полный, полуседой, добрый Василий Дмитриевич вынимал нам и дарил — каждому по одному — маленькие этюды (они стояли стоймя, как книги). Помню Маришу и Олю Поленовых (наших с Марусей однолеток) и маленькую рыжекудрую красавицу Наташу».
Так случай свел стареющего Поленова с восьмилетней Мариной Цветаевой, будущей великой поэтессой. Было это, судя по тому, что Марине было тогда восемь лет, в 1900 году.
Поленов состоял в организованном профессором Цветаевым комитете по созданию в Москве «Музея изящных искусств». Профессор Цветаев был немолод уже и очень заслужен. Российская академия наградила его премией «За ученый труд на пользу и славу отечества»; по случаю 800-летия Болонского университета Цветаеву была присвоена докторская степень. Он читал лекции по истории изящных искусств в Московском университете, и у него возникла мысль создать в Москве музей слепков лучших произведений Европы, чтобы студенты, которые не имели средств на поездки за границу (а таких было подавляющее большинство), могли знакомиться с этими произведениями хотя бы по слепкам и копиям. И не только, разумеется, студенты, но и вообще широкая публика…
Проект музея, составленный Цветаевым, как и водится, был встречен равнодушно. Но, к счастью, нашелся меценат, богатый промышленник Юрий Степанович Нечаев-Мальцев, заинтересовавшийся идеей Цветаева. Нечаев-Мальцев был не просто промышленник: его заводы в Гусь-Хрустальном изготовляли художественные изделия из стекла и хрусталя. В комитет, организованный Цветаевым, кроме Нечаева-Мальцева вошли и другие промышленники, а также художники Поленов, В. Васнецов, А. Жуковский, архитектор Г. Клейн.
Клейн вместе с другим архитектором К. Быковским были авторами проекта здания музея. Поленов говорил впоследствии, что «Быковский был более общественный деятель, чем строитель… Клейн человек бездарный и испортил здание музея». Поленов считал, что архитекторы и меценаты чересчур переборщили с роскошеством.
На Урале, под Златоустом, нашли желтый мрамор, построили там целый городок, где поселились рабочие, высекавшие колонны из цельных кусков мрамора. Поселок этот после постройки музея существовать не мог, потому что не было такой большой потребности в столь драгоценном материале. Огромные колонны транспортировали в Москву на специально сконструированных платформах. А в Москве от Александровского вокзала по Брестской, Садовой-Кудринской, Поварской и Знаменке проложили временные железнодорожные пути и подвозили колонны к строящемуся на Волхонке зданию. По мнению Поленова, желтые колонны вестибюля, опоясанные черным лабрадором, — безвкусны.
Стены хотели расписать фресками; вот тут Цветаев и предложил Поленову руководить этими росписями. Поленов с радостью согласился, решив часть работы отдать молодым: Коровину, Головину, Грабарю, Мусатову. Неожиданно в конце марта 1904 года пришел к Поленову Серов и сказал, что тоже не прочь попробовать свои силы в стенной росписи, что у него давно уже зреют кое-какие замыслы на античные мотивы, например «Одиссей и Навзикая», и мечтает он эту вещь сделать как-то длинно, горизонтально, вроде фриза. Поленов был очень обрадован. По совести говоря, он немного беспокоился за не очень-то обязательного любимца своего Костю Коровина. А Серов мог действовать дисциплинирующе на кого угодно. Он с Коровиным уже был в совместной поездке на Мурман, поездке, которую субсидировал, в 1894 году еще, Савва Иванович Мамонтов. И поездка удалась, причем если Серов привез из нее только этюды, и этим дело ограничилось, то Коровин написал потом панно для мамонтовского павильона «Крайний Север» на Нижегородской выставке. После выставки эти панно были размещены в здании Северного вокзала.
Но Юрий Степанович Нечаев-Мальцев был не Савва Иванович Мамонтов — он все тянул с деньгами для поездки в Грецию, да так и не дал. А денег нужно было не больше, чем на одну из желтых колонн. «После И. В. Цветаев говорил мне, — вспоминал Поленов, — что он (Нечаев-Мальцев. —
В конце концов Головин получил все же деньги на поездку, но не поехал, а написал по памяти кладбище по Аппиевой дороге.
Серов же в 1907 году на свои деньги поехал в Грецию. Но он был великий кунктатор, его требовательность к себе не знала границ. Серов сделал множество вариантов «Одиссея и Навзикаи» и еще одного сюжета, который зародился у него в Греции: «Похищение Европы», но ни один вариант не считал окончательным. Серов вообще был, как метко выразился Репин, «не мастер в срок поспевать». Он и умер в конце 1911 года за несколько месяцев до открытия музея (не закончив ни одной из картин античного цикла). Впрочем, Серов и думать забыл писать свои работы для музея.
Поленов же целый год — с июля 1910-го до начала осени 1911 года — путешествовал по Европе и под конец путешествия побывал в Греции. По этюдам своим сделал он восемь панно: четыре афинских («Общий вид Акрополя», «Вид Пропилей», «Угол Парфенона» и «Эрехтейон Пондросион») и четыре дельфских («Вид Парнаса и соседних гор», «Ущелье Кастальского источника», «Сокровища афинян» и «Развалины святилища»). Поленов понимал, что работы эти удачными назвать нельзя. Они и не прижились в музее: два панно («Парнас» и «Кастальский источник») передали в 1933 году в Саратовский музей.
Музей изящных искусств, которому еще до окончания постройки присвоили, как и Русскому музею в Петербурге, имя Александра III, был открыт 31 мая 1912 года.
Но Поленова это уже мало интересовало. Он увлечен был другим, тем, из-за чего и путешествовал весь год по Европе, из-за чего писал сотни этюдов. Он сам задумал грандиозное дело — Народный театр. Частично дело было начато раньше. Мы уже знаем, что в декабре 1905 года Поленов и Мамонтов присутствовали на Секции содействия фабричным и деревенским театрам (Поленов называл эту организацию одним словом «Секция»). Организаторами Секции, кроме Поленова и Мамонтова, стали братья Шемшурины и Толбузин. Секция была организована при Всероссийском союзе сценических деятелей на Малой Дмитровке. Однако Секция была недееспособна. Тогда Поленов и задумал построить по собственному проекту дом, приспособленный для нужд такого театра. Но рабочие и деревенские театры были бедны. Нужно было разработать дешевый способ изготовления декораций и костюмов, нужен был подходящий репертуар — не «дешевка», но и не очень сложные пьесы. Такие, например, как «Гамлет», «Фауст» или «Мизантроп», не годились для подобных сцен.
Поленов набросал примерный репертуар. Для того чтобы сделать эскизы для любой пьесы иностранного (европейского) репертуара, Поленов и уехал в июле 1910 года за границу. Сопровождал его Леонид Кандауров, с которым в 1899 году Поленов ездил в Палестину. Теперь они побывали в Германии, Чехии, Франции, Испании, Италии и, наконец, в Греции. Всюду Поленов писал этюды, а Кандауров делал фотографии. В июле из курорта Бад-Киссинген Поленов поехал к развалинам замка Трифельс, в котором был заключен Ричард Львиное Сердце, герой столь любимого им в детстве Вальтера Скотта.
Приехав в Прагу, Поленов сообщает жене: «Я успел написать в Анвейлере и Трифельсе десять этюдов и набросков. Долина оказалась похожей на декорацию»; «Окно комнаты замка так похоже на декорацию, точно я его реставрировал с натуры»; «Леонид сделал около двадцати фотографий. Мы накупили множество карточек с описанием замка и окрестностей».
Письмо из Редона: «Redon — маленький городок со старинным (12–15 вв.) собором, портом, каналом, шлюзами, речкой и т. д.».
Из Сарзо: «В двух километрах от городка (на берегу моря) древние, хорошо сохранившиеся развалины замка Sussinjo, летняя резиденция герцогов Бретани. Очень интересные остатки их открыл Леонид».
Потом письма из Испании: из Мадрида, из Толедо, где «маленький мальчик Пеппос помогал… носить этюдник, премилое существо».
«В Барселоне был политический митинг под самым нашим балконом, были выстроены конные жандармы с обнаженными саблями, боялись, что социалисты не выдержат, но все обошлось благополучно»; «Чудная страна Испания и как возделана, а кем — неизвестно, почти никого нет, да и жилья мало».
И так — все путешествие: из Франции, из Италии, из Греции — письма с описанием осмотренных достопримечательностей и о том, какие сделаны этюды и фотографии.
Целый год путешествовал Поленов, чтобы собрать подготовительный материал для декораций Народного театра. В 1915 году на средства Сергея Тимофеевича Морозова был приобретен в Москве кусок земли неподалеку от дома Найденова, где была московская квартира Поленовых, и построен дом с башенкой, который Поленов называл «театральной лабораторией для всей России». Туда Секция перебралась из душного неудобного подвала на Малой Дмитровке. Народный этот театр стал с 1915 года называться «Домом имени Поленова».
Благодаря Шаляпина за согласие стать членом Секции, Поленов писал: «В Петербурге упорно держатся мнения, что добрый русский народ до того любит свое начальство, что пьет для его вящего благополучия, но мне кажется, что это большое заблуждение. Народу, как и нам всем, нужна в жизни радость, а жизнь дает ее скупо — вот и тянет его у нас к водке, в Китае — к опию, на Востоке — к гашишу. Но искусство ведь тоже дает минуты радости, а эти минуты и продолжительнее, и много безвреднее алкогольных…
Мы, как я Вам уже сказал, задались целью по мере сил и уменья помочь народу удовлетворить высокие потребности человека — потребности духа. И вот искусство, по нашему глубокому убеждению, есть одно из самых могучих для этого средств. Многостороннее и доступнее всего оно проявляется на сцене, на ней соединяются в одно целое: поэзия, музыка, живопись, пластика и т. д., поэтому ближайшей нашей задачей стало: „содействие устройству деревенского, фабричного и школьного театров“».
В докладе Поленова о народном и школьном театре не без иронии говорилось: «Театр для народа не всегда считался увлечением желательным. Когда была учреждена винная монополия, то как бы в противовес было придумано общество трезвости. Но когда оно стало увлекаться театральными постановками для народа, то появился циркуляр министерства финансов, гласящий, что общество хотя и должно всемерно распространять в народе сведения о вреде пьянства, но не должно отвлекать его от прямых занятий посредством театральных представлений, которые могут иметь место в крупных центрах: в деревне же они должны иметь место явлений чрезвычайных».
Поленов написал и издал в 1914 году специальную книжку «Новый метод упрощенных постановок» для рабочих домов и деревенских школьных зданий, не приспособленных так, как Аббатство в Борке или школа в Страхове. Он сам подбирал пьесы для постановок, даже сочинял новые — для детей, сам писал музыку. Сделал передвижные и типовые декорации.
Ученик Поленова В. Н. Бакшеев вспоминает: «Не раз я бывал по приглашению Поленова в народном доме-театре, организованном им в рабочем районе на Пресне. Спектакли, серьезные музыкальные программы, сопровождаемые объяснениями, устраивались здесь в субботние вечера и по воскресеньям. Вкус Поленова сказывался во всем… То, что создавалось в Народном доме, было настоящим искусством, лишенным упрощенчества, выкрутасов, налета мещанства».
Первые послереволюционные годы семья Поленовых провела в Борке, и здесь у младшего поколения, дочерей Кати, Оли и Наташи, завязываются дружеские отношения с крестьянами Бёхова и Страхова, они вместе ставят спектакли; Поленов, уже совсем старик, полуглухой, во всем им помогает: подбирает необходимые костюмы и пишет новые декорации; он даже ездил смотреть репетиции. Но силы его были слабы — время шло голодное. И вкусы его отличались от вкусов молодежи: не только страховцев, бёховцев, тарусян, но даже в своей семье. Поленов не любил трагедий, а молодежь ставила «Бориса Годунова», «Отелло», «Короля Лира». Дочери его с одним из деревенских пареньков захотели даже добраться до Москвы, послушать, как поет в «Борисе Годунове» Шаляпин. Поленов пишет записку: «Дорогой Федор Иванович, моей молодежи хочется посмотреть Вас в „Борисе“. Если можно, оставьте 4 билета». Разумеется, Федор Иванович просьбу Поленова — одного из первых своих наставников — удовлетворил, и дочери Поленова со страховским Гришей идут слушать Шаляпина. Гриша, поглядев сперва на Шаляпина без грима, удивился даже: «Такой же человек», а потом был сражен и не знал, что ему больше понравилось: Шаляпин или освещенный дворец в сцене у фонтана.
Однако это уже — советское время. Над Россией пронеслись две революции за один год. Как Поленов принял их, как они подействовали на него, как изменили?
«У нас радость стоит непомерная — 1 марта было сплошное ликование, несмотря на восьми-десятиградусный мороз, — пишет он Кандаурову, — солнце светило по-летнему… Желаю… всей России выйти из этого великого переворота с наименьшими потерями и потрясениями… Наша молодежь ликует и стала на работу в учреждения воспрянувшей России». И через несколько дней — ему же: «Да, я несказанно счастлив, что дожил до этих дней, лишь бы они не сменились тьмой, как это бывало прежде».
Поленов — за полное обновление старого бюрократическо-чиновничьего аппарата, всех царских министров, которых он называет «околоточными»: «Штюрмеров — Монасевичей и Курловых-Протоповичей».
Вот тут полным ходом пошла работа в театральной секции. «Мы уже поставили около двадцати пьес, — пишет Поленов в апреле 1917 года. — Мне спектакли „Анны Бретонской“ дали ряд минут и даже часов несказанного счастья. Ко мне приходили депутации от школ; пришли незнакомые девочки сообщить мне, что после „Анны Бретонской“ они тоже сочинили пьесу и хотят ее сыграть, не знают только, как кончить. Я обещал помочь…»
«Мне придется написать около тридцати декораций. Это меня радует», — пишет 73–летний Поленов. Решено было осуществить самую широкую программу: «Вокруг света в 80 дней» Жюля Верна, «Дон Жуана» Алексея Толстого, «Каморру» Саввы Ивановича Мамонтова, «Два мира» Майкова…
Октябрьская революция не остановила деятельности Поленова…
«Одно время мне казалось, что настал нам конец, — признался он в письме Л. Кандаурову. — А теперь мне кажется, что это скорее начало, а что рассыпалось, это нам на пользу, и мерещится мне, что будет лучше, — уж не говоря о недавних временах самодержавия Распутина и Протопопова, общего произвола, бесправия и всякого порабощения. Конечно, предсказывать теперь трудно…»
На ответное письмо Кандаурова, исполненное опасений, он отвечает, можно сказать, философски, с глубоким пониманием истории и ее закономерностей: «Ты говоришь, что „все разрушено, что строилось с Петра“, а я бы сказал: поколеблено не только то, что от Петра, но и что от Иванов, ибо Петр, мне кажется, больше внешность изменил, а суть осталась все та же. А так как я всегда глубоко ненавидел все духовное, что создавалось Россией Иванов, то и не печалюсь разрушению Ивано-Петровских затей и побед. От этого и мой оптимизм…
Последние столетия России или, вернее, Московско-Петербургской деспотии чертовски везло, чуть что не пять веков она давила все попадавшее под ее жестокую „рукодержаву“, как говорил царь Максимилиан в ее единственной народной драме. Ты как — то сравнил Россию с сальным пятном, которое, расплываясь, все засаливает. Ну, а теперь надо надеяться, что этого уже больше не будет… За эти последние месяцы поразительно выяснилась та всеобщая ненависть, которую Россия умела распространять вокруг себя. Россия… была великой тюрьмой народов».
Очень интересно, что нечто подобное высказыванию Поленова о России Петра и Иванов мы находим в «Былом и думах» Герцена. «Новгородский вечевой колокол, — пишет Герцен, — был только перелит в пушку Петром, а снят с колокольни Иоанном Васильевичем; крепостное право только закреплено ревизией при Петре, а введено Годуновым; в „Уложении“ уже нет и помину целовальников, и кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей».
Но и слова Поленова, и слова Герцена, их предвосхищающие, — историческо — философский аспект происходящих в России событий. А время между тем шло далеко не легкое. В цитированном письме Л. Кандаурову Поленов пишет: «Конечно, предсказывать теперь трудно… Слава Богу, с голоду мы пока не померли, хотя бывает, что сидим без сахара. Пшеничного хлеба вот уже шесть месяцев не видали».
Это в январе 1918 года, а в декабре 1920-го: «…последнее время мясо появляется и за обедом, и за ужином. Особенно всем нравится конина — точно дичь или немецкий Rah-braten (жареная оленина)». И дочь его вспоминает, как он, вылавливая кусочки конины из жидких щей, говорил, ободряя жену: «Превосходно, напоминает дичь».
«Чай из веточек черной смородины напоминал ему весну»…
Но голодала в 1920–1921 годах вся страна. Старший сын Дмитрий занялся сельским хозяйством: у Поленовых оставался еще кусок пахотной земли, и он его возделывал.
Однажды Поленов водил по своему музею деревенскую детвору, и один мальчик загляделся на чучело маленького крокодила, привезенное из Египта и висевшее над камином в библиотеке, и мечтательно произнес:
— Вот бы его на Пасху зарезать.
Мальчик был так же голоден, как и старый художник.
Поленов пытался все же работать, пытался продавать этюды. Но прежних сил, прежнего умения уже не было. Он жаловался:
— Когда у меня покупают теперь этюды, то нюхают: пахнет свежей краской или нет; если пахнет, то дают дешевле.
Нестеров, которому передали эти слова старого художника, содрогнулся: «Не дожить бы до этого!»
Но Поленов, хотя и дожил до такой невзгоды, все же продолжал работать. Работать, несмотря ни на что: на жидкие щи и отсутствие сахара, на то, что и ему приходилось орудовать лопатой в огороде, несмотря даже на сыпной тиф, которым заболела дочь Ольга.
А он все равно работал как художник, он нес культуру в народ. Это был последний труд его жизни: диорама, переносной упрощенный театр, который должен был познакомить деревенских зрителей со всем миром. Первый, малый вариант был сделан в 1890-х годах для собственных детей, чтобы имитировать кругосветное путешествие. Поездка с Кандауровым по Европе была отчасти подготовкой к большой диораме.
Одни и те же места показываются ночью и днем. Внутри диорамы зажжена была керосиновая лампа: картины были прозрачны.
Вот пароход отходит от Тарусы (потом он же, пароход, — ночью), вот он подходит к Серпуховскому мосту через Оку; ночью — отходящий со станции Серпухов поезд и т. д.; в Москве — Кремль и Третьяковская галерея; вокзал в Эндукневе, пограничной станции того времени; в Германии — Шиллер и Гёте, идущие пешком; собор Парижской Богоматери, Шильонский замок и камера шильонского узника, Сен-Готард; Венеция: Большой канал и Дворец дожей — днем и гондолы во время карнавала — ночью; потом Испания: Кармен и Дон Хозе, Северная и Южная Америка, Китай, Индия, Египет: пирамиды и Сфинкс — днем и лев в пустыне — ночью; Индия — пагоды и слоны; Турция — пролив Босфор; Ялта, украинская хата днем, и она же ночью при луне; наконец пароход, идущий опять по Оке к Серпухову, и елка в доме Поленова с зажженными огнями и хороводом детей.
Для диорамы Поленову пришлось сделать 70 картин. Это, конечно, не далось ему даром, началась сердечная болезнь. Он пишет Л. Кандаурову: «Диорама так уходила меня, что я… в растяжку уже две недели… обострение сердечного склероза, отек ног… Сказалось плохое питание, работа, как умственная, так и физическая, очень сильная. Ноги были, как у слона».
Но его ничто не могло остановить, пока он не закончил свою работу.
Театрик можно было перевозить с места на место. «Вы подумайте, как живут крестьяне, — говорил он. — Полгода холода, темноты, ничего, кроме трактира… С тоски можно умереть… И вдруг кругосветное путешествие!»
Решено было «дебют» диорамы устроить в Страхове. Показывать должен был он, он сам. Стояла зима, и распухшие ноги его не лезли в валенки. Он же и слышать не хотел об отсрочке, велел разрезать голенища валенок и привязать их к ногам. Так и поехал.
«Наше Страхово устроило ему трогательную встречу, — вспоминает дочь Поленова. — Школьники и кружковцы добыли белой муки, испекли маленькую булочку. Один из мальчиков на тарелке поднес ее и, нагнувшись к самому уху, громко с чувством сказал: „На тебе, Василий Дмитриевич, кушай на здоровье!“
Отец хотел ответить, закашлялся и передал булочку заплакавшей матери. Все были растроганы. Картины вызвали восторг. Ребята почти на руках вынесли отца и усадили в сани».
Все это было в конце зимы 1921 года. Голод уходил, и жить стало полегче. Сын поехал в Москву, привез в подарок от музыканта Кубацкого, молодого знакомого Поленовых, пшено и какао. Другой знакомый Поленова, Дрель, который стал преуспевать в связи с началом нэпа, прислал рис и крупу. Бёховские крестьяне дарили яйца. Наталье Васильевне удавалось доставать в деревне масло.
Старшая дочь Катя вышла замуж за художника Сахарова, тарусянина, участника театральных представлений, и теперь свекровь передавала ее родителям овсяную крупу, сахар. А в 1923 году московские друзья выхлопотали Поленову американский паек: рис, белую муку, чай, кофе, сахар. Местная молочная артель прислала хлеб, гречиху, овес. Наталья Васильевна сама выкормила свинку, и теперь уже не приходилось есть конину, которая «напоминает дичь», были окорока и сало.
Поленов никуда уже не мог двинуться из Борка — не было сил. Он мечтал перед смертью посмотреть картину Иванова — предмет всегдашнего его восторга — и картины из Третьяковской галереи, картины из частных музеев, собранные теперь в Третьяковской галерее. Но осуществить это желание так и не удалось.
Приближалось 1 июня 1924 года, Поленову должно было исполниться 80 лет. Он терпеть не мог юбилеев. Но друзья помнили. Еще десять лет назад неожиданно для него поток писем напомнил ему, что пошел восьмой десяток. А сейчас и восьмой десяток уже кончился.
Теперь опять поток писем. Первое от Кандаурова, который хотя и был моложе Поленова на 33 года, стал одним из самых близких его друзей.
Кандауров вспомнил, что Поленов, хваля Борок, Оку, чудесный свежий воздух, говаривал: «его величество кислород», и закончил свое письмо так: «Вы всегда с большим чувством и любовью произносили слово „трудящийся“, поэтому я бы предложил к Вашему титулу прибавить кроме кислорода „да здравствует его величество работник Василий Дмитриевич Поленов!“»
Пришло коллективное письмо от членов мамонтовского кружка, письма от Виктора Васнецова, от Остроухова, от Нестерова. Пришла телеграмма из Куоккалы от Репина. Потом пришло из Тифлиса письмо от Егише Татевосяна, из Москвы от доктора Трояновского, телеграмма от Коровина и Шаляпина из Парижа.
В день 80-летия приехал племянник Вока — теперь уже Всеволод Саввич Мамонтов. Встретившая его у въезда в усадьбу Наталья Васильевна обрадовалась, только подумала: узнает ли Воку Поленов, ведь столько времени не виделись. Но Поленов узнал, обрадовался, обнял сына Саввы Ивановича.
Приехали другие родственники и знакомые. Прибыла делегация из Тарусы. Школьники из Страхова и Бёхова пели песни. Поленов был очень растроган. Он не ожидал такого торжества.
Когда все разошлись и Всеволод Саввич уже собрался уезжать в Москву, Поленов, вспомнив о том, как он пришел к Мамонтовым после приезда с Балкан, пришел с ранцем, полным этюдов, разыскал на стеллаже этюды той поры и подарил племяннику Воке на память этюд болгарской белой лошадки…
На следующий день после юбилея узнал об этом первый нарком просвещения республики А. В. Луначарский, прислал большое письмо. Поленову и его семье предоставлялось право пожизненного пользования усадьбой Борок.
В ответном письме Луначарскому Поленов писал: «Я искренне желал сделать искусство доступным народу. — И далее: — Другая моя заветная мечта тоже осуществляется, и окружающая нас деревенская и городская молодежь относится к ней сочувственно. Я говорю про маленький музей, собранный четырьмя поколениями.[24] Он состоит из научных коллекций, картинной галереи, народных изделий и библиотеки. Художественные коллекции дают понятие о лучших эпохах истории искусств и вообще культуры, и надо видеть, с каким напряженным вниманием посетители, между которыми бывает много молодежи и детей, смотрят на вещи, слушают объяснения».
Музей, его посетители, их интерес к тому, что он собрал под своей крышей, были последней радостью старого художника.
Самый первый экспонат, картина художника начала XVII века Франка «Воздвижение креста царицей Еленой», куплен был в 1767 году Алексеем Яковлевичем Поленовым. В портретной — бюро «первого русского эмансипатора», греческая коллекция, привезенная Дмитрием Васильевичем столетие назад, старое оружие, предметы народных промыслов, чучело крокодиленка над камином, массивная дубовая мебель, сделанная по рисункам Поленова столяром Минаевым, а на стенах картины, картины, картины: купленные за границей и в России, подаренные друзьями, картины его самого и его учеников.
И диорама — последний большой труд его жизни. Он часто сидел на крыльце, радовался восхищению выходивших из диорамной комнаты. Не удержавшись, сам заходил посмотреть еще раз и удовлетворенно говорил:
— Превосходно, не ожидал, что так хорошо сделаю.
Силы его, однако, катастрофически убывали. Он перечитывал любимые книги: «Дубровского» Пушкина, «Первую любовь» и «Записки охотника» Тургенева, Льва Толстого, Чехова, Андреева, Горького.
В 1926 году Поленову было присвоено звание народного художника РСФСР — второму в стране.[25]
Летом 1927 года ему стало совсем плохо, но он захотел написать еще этюд, еще один последний этюд. По старому римскому этюду, сделанному на Монте Тестаччио, он сделал свою последнюю работу: нечто вроде этюда могилы Маруси Оболенской при вечернем освещении с белеющим мраморным памятником работы Антокольского. Через несколько дней он слег. Совсем не мог передвигаться. Но был в полном сознании.
Больше двадцати лет назад, в 1906 году, он написал свое «Художественное завещание», которое заканчивается такими словами: «Смерть человека, которому удалось исполнить кое-что из своих замыслов, есть событие естественное и не только не печальное, а скорее радостное, — это есть отдых, покой небытия, а бытие его остается и переходит в то, что он сотворил».
И теперь, понимая, что дни его сочтены, он был совершенно спокоен. Попросил жену:
— Достань этюд Константина, речку в Меньшове. И повесь здесь передо мной на стене. Я буду смотреть. А когда умру, напиши ему в Париж поклон. Может быть, увидимся опять на этой речке.
Через два дня после этого, 18 июля 1927 года, он умер.
Стояла страдная пора, пора, о которой говорят, что один день год кормит. Но крестьяне Бёхова и Страхова пришли проводить в последний путь художника, великого работника Василия Дмитриевича Поленова на Бёховское кладбище.
Через сорок лет, как раз в конце июля 1967 года, я поехал из Москвы в Поленово. Это и сейчас, несмотря на современные способы передвижения, неблизкий путь. Встать надо ни свет ни заря, потом ехать на электричке до Серпухова, потом в Серпухове — автобусом через весь город. Но когда я — впервые в жизни — подошел к Оке, я словно бы исполнился какой-то необъяснимой благодати. То, что пришлось ждать речного трамвайчика, нисколько не печалило меня, а потом, на этом уютном суденышке, которое отважно неслось навстречу течению Оки, я с упоением слушал, как группа студентов пела под гитару:
Не доверяли вы ему
Своих секретов важных,
А почему? А потому,
Что был солдат бумажный…
Потом начался дождик, но была еще надежда, что он пройдет, однако же дождик забарабанил сильнее. Дождливому настроению не хотелось поддаваться, тем более что и студенты запели задорнее и громче:
Он давно мышей не ловит,
Усмехается в усы,
Ловит нас на честном слове,
На кусочке колбасы…
Когда трамвайчик подошел к пристани «Поленово», дождь хлестал так, точно воистину разверзлись хляби небесные. Со мною был дождевик, я надел его и стал карабкаться по глинистой круче (когда дождь прошел и назавтра все просохло под июльским солнцем, оказалось, что никакая это не круча, просто небольшое возвышение, которое я и не заметил бы, если бы его не развезло).
Когда я пришел в музей, оказалось, что директора, Федора Дмитриевича Поленова, нет на месте, он «в области», то есть в Туле. На ноги мне надели войлочные музейные шлепанцы, пере вязали тесемками, и я, мокрый и продрогший, вошел в первый зал: библиотеку. Перед моим взором предстала большая, во всю ширину здания, комната с широкими окнами, открытыми в сторону Оки. Оки не было видно — очень буйно разрослись деревья, кустарники, травы между нею и домом. Но сама комната меня очаровала соединением величия и старинного уюта, который живет в ней, презрев суетное время. Перед окном большой стол, покрытый синим сукном, справа от двери — огромный и тоже уютный (особенно для меня, продрогшего) камин с абрамцевской керамикой, выстроившейся в ряд на полке, и чучелом крокодиленка на особом кронштейне, слева — витрина с изделиями кустарных промыслов, среди которых меня, ожидавшего в то время выхода в свет первой моей книжки — жизнеописания Серова, особенно заинтересовали матрешки, выточенные Серовым в мамонтовской токарной мастерской и им же расписанные карикатурными изображениями театральных деятелей конца XIX века.
За толстыми стеклами стенных книжных шкафов — кожаные корешки старых книг, по стенам картины, в левом углу, у окна, чудесная мадонна, не то в позолоченном окладе, не то на золотом фоне. Рядом — дверь в портретную.
Вдруг меня позвали: приехал из Тулы Федор Дмитриевич — высокий бравый мужчина, пошедший, вероятно, и сложением, и энергичностью в деда. Но оказалось, что он пошел в деда и душевными качествами: радушием, гостеприимством. Он повел меня на кухню: в тот самый флигель, который был построен раньше основного дома, в Бёхове еще. В кухне — огромная плита, я таких не видел еще: на ней можно было зажарить целого барана. И величина этой плиты свидетельствовала: вот какой гостеприимный и хлебосольный хозяин здесь жил.
В боковых комнатах жила семья Федора Дмитриевича. Меня переодели в сухие штаны, свои я сушил тут же разогретым утюгом, потом пил горячий чай и наконец — то пришел в себя. Я уже достаточно много знал о Поленове, но тут впервые — на себе — ощутил, что такое настоящее поленовское тепло и гостеприимство.
В соседней комнате лежал парализованный старик — Дмитрий Васильевич Поленов, сын Василия Дмитриевича и отец Федора Дмитриевича.
Я собирал в ту пору материал для биографии Саввы Ивановича Мамонтова и полюбопытствовал: бывал ли Мамонтов в Поленове? Федор Дмитриевич передал вопрос отцу. Из соседней комнаты послышался голос:
— Да, был один раз. В тысяча девятьсот десятом году.
Я подивился такой памяти глубокого старика, да еще парализованного (через несколько месяцев внучка Мамонтова написала мне, что она сама читала Дмитрию Васильевичу моего «Серова», что это была последняя прочитанная ему книжка и что он живо и радостно реагировал).
Для ночлега Федор Дмитриевич предоставил мне ту самую милую избушку, которую построили по проекту Поленова для летних игр детей.
Три блаженных дня провел я в Поленове. Я бродил по музею, дивился тому, что так много экскурсантов: автобус за автобусом приезжали из Москвы; к сожалению, автобусы эти не «маршрутные», а «целевые» — маршруты их в Поленово одноразовые, для организовавшейся уже в Москве группы экскурсантов.
Все же посетителей не так много, как в других музеях, куда легче добраться. Но оставшегося равнодушным я не видел ни одного.
Рекомендательные письма открыли мне доступ в музей и тогда, когда он закрыт для посетителей (музей работает не каждый день).
Окна были занавешены, был полумрак, но зато я был один, я мог сколько угодно предаваться размышлениям, не слыша рядом ни лекции экскурсовода, ни реплик экскурсантов. Хорошо было в музее.
Хорошо было и за его стенами. Я ходил в густых зарослях трав, спускался к Оке, дышал тем самым «его величеством кислородом», которым лечился Поленов и которым он приглашал лечиться друзей и учеников.
Я собрал на отрезке земли между домом и Окой небольшой «поленовский гербарий», который, к сожалению, рассыпался из-за недостаточно умелого хранения.
Ремонтировали Аббатство, и я подобрал два сувенира — два обломка старой черепицы. Один у меня выпросили, потому что у меня был второй, а второй, видимо, кто-то забрал без уговоров и уведомления.
Был я и в Бёхове, которое совсем рядом. В нем, кажется, есть избы, которые стояли на этом месте еще при Поленове.
И на кладбище я был, стоял у могилы, где за чугунной оградой один общий холмик для двух могил, и один общий крест, и одна общая надпись: «Василий Дмитриевич и Наталья Васильевна Поленовы», и даты рождения и смерти.
С Бёховского кладбища открывается широкий вид на Оку, на ее изгибы, на ее чистую воду, на зелень ее берегов. Легкая, светлая грусть охватывает душу, когда стоишь один летним вечером, еще только начинает темнеть, стоишь около могилы чудесного художника, глядишь на то же, на что глядел он, вспоминаешь дивные стихи, сочиненные в этих местах…
В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна.
Поленову была видна радость русского пейзажа, видно было его очарование и не только видно было ему, он и нам его открыл и показал.
А музей, я опять возвращаюсь к нему, музей Поленова — это, конечно, лучший среди всех мемориальных музеев, в каких мне удалось побывать, а я повидал их немало.
Здесь, разумеется, заслуга и самого Поленова, который собрал так много, что даже путь на второй этаж по дубовой лестнице проходишь в сопровождении его величества искусства: здесь висят прекрасно исполненные репродукции с шедевров мировой живописи, а на втором этаже — картины учеников Поленова, комната, посвященная творчеству Елены Дмитриевны…
Я думаю, что такое прекрасное состояние, в каком находится музей, зависит, помимо всего прочего, вот еще от чего: первым директором музея был сын художника Дмитрий Васильевич, после него и поныне — внук Федор Дмитриевич. И нужно, чтобы так же продолжалось и впредь.
Я спускаюсь с верхнего этажа, захожу в библиотеку и долго-долго смотрю на камин. Около него на особом мольберте стоит портрет Поленова. Его сделал из окских камней один из младших и любимых учеников Поленова — Егише Татевосян. Делать картины из окских камней начал Поленов; они экспонировались на выставках «Мира искусства».
Поленов очень красив на мозаичной картине Татевосяна. Это тот же Поленов, что и на раннем репинском портрете, тот же «рыцарь красоты». Этот портрет для меня — некий символ, символ связи времен, преемственности поколений, жизни традиций и их трансформации. Ведь не случайно, должно быть, этот сын каменистой Армении, младший из учеников Поленова, подхватил самый дерзкий эксперимент учителя. Подхватил и довел до совершенства.
Более ста лет назад Тургенев написал роман «Отцы и дети», назвав — не столько содержанием его, сколько заголовком, — проблему старую как мир.
А между тем если вдуматься, то проблема эта не столько заключена в физиологии (старение организма обусловливает изменение психологии), сколько в особенностях склада ума того или иного человека.
Лермонтов писал, имея в виду своих сверстников — поколение детей: «Богаты мы еще от колыбели ошибками отцов и поздним их умом».
И у Тургенева представитель «детей» — Аркадий — очень уж быстро, за считаные месяцы преспокойно переходит в стан «отцов». Базаров… впрочем, неизвестно кем бы он стал, если бы выжил, смог бы идти в ногу с веком или закоснел бы на своем пресловутом «нигилизме», как закоснели прогрессивные некогда передвижники?..
Повествование о жизни Поленова — один из вариантов вечной этой темы… Мать Поленова, видимо, с молодых лет была в стане старших, богатых поздним умом отцов. Отец, пожалуй, моложе ее душою, зато их дочь Вера — явно в мать. Твердо к лагерю «детей» относятся лишь будущие художники — Вася и Лиля. К сожалению, нам мало известно о других братьях Поленова, но есть основания считать, что Алеша сочувствовал «детям». Впрочем, это не так уж и важно.
Важно то, как, войдя в возраст «отцов», Поленов воспринял ушедших вперед «детей». Об этом мы знаем уже.
Так что в проблеме «отцы и дети» важен не возраст.
«Победителю ученику от побежденного учителя», — написал Жуковский на своем портрете, подаренном Пушкину. Жуковский всегда покровительствовал Пушкину в «жизненных» ситуациях, но никогда не позволял себе вмешиваться в святая святых — творчество гениального ученика.
Поленов тоже по — отечески опекал и помогал всячески и Коровину, и Левитану, и Серову, и Остроухову, и Бакшееву, и Бялыницкому-Бируле, и Татевосяну. Но, давая им все, что он мог, никогда не навязывал своего видения мира и своего мировосприятия, своих принципов живописи. Больше того, он даже учился у них.
И в вопросах чисто житейских он принимал все разумные новшества: «…освобождение брака из-под ига попов… уничтожение ехидного ять… даже перенесение числа на западный календарь есть хорошая перемена».
Так встретил он реформы, против которых ополчились многие из числа высокой интеллигенции (Александр Блок, например, говорил, что «лес», написанный не через ять, уже не тот лес…).
Что же касается главного в жизни Поленова — искусства и его отношения в этой сфере с молодежью, то он понимал: молодежь права,
Так он думал, так жил, так работал, так учил, так он и умер, глядя на молодой пейзаж Коровина.
Таким он остался в памяти людей — навеки.
ЦГАЛИ. Ф. 799. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 34; Ф. 799. Оп. 1. Ед. хр. 312. Л. 80 об., 81; Ф. 709. Оп. 1. Ед. хр. 312. Л. 86, 86 об; Ф. 799. Оп. 1. Ед. хр. 312. Л. 110, 114 об., 115 об.
Василий Дмитриевич Поленов: Альбом / Авт. текста и сост. Т. В. Юрова. М.: Искусство, 1972.
Мир искусства. 1904. № 3.