Игорь Курукин
Бирон
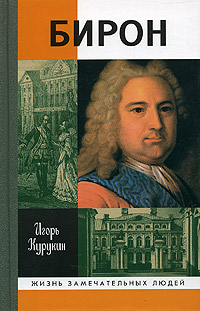
Ничто не вредит до такой степени исторической истине, как исторические романы.
Можно понять многих юных соотечественников, с радостью забрасывающих очередной учебник по родной истории, навевающий на них скуку: в учебнике все точно известно, все взвешено: кому полагается монумент, кому — благодарность, кому — даты жизни с указанием должности, а кому — строгий выговор.
Наш герой как раз из последних. Представим его: «Эрнст Иоганн Бирон — фаворит императрицы Анны Иоанновны, создатель реакционного режима бироновщины (засилье иностранцев, разграбление богатств страны, всеобщая подозрительность, жестокое преследование недовольных)».[1] Кажется, чего яснее и проще, тем более что злодей — в отличие от многих других отрицательных персонажей — был привлечен к ответственности и понес заслуженное наказание. Но надо признать, что за прошедшее время персона удачливого придворного претерпела немало изменений; далекие потомки имеют дело с причудливым сочетанием масок и образов, которые мешают понять жизнь не такого уж далекого от них XVIII века.
Обер-камергеру, графу Священной Римской империи, кавалеру орденов Андрея Первозванного, Александра Невского и Белого орла, герцогу Курляндскому и, наконец, официальному регенту Российской империи (таков итог необычной карьеры этого человека) действительно не слишком повезло в нашей истории, причем еще до начала эпохи исторического материализма.
Свергнутый в 1740 году на пике своей карьеры, «регент и герцог» Эрнст Иоганн немедленно подвергся единодушному осуждению придворной и близкой к ней «общественности». Он — «лукавый раб», который с помощью еще более «лукавого духа» вознесся в качестве правителя России и вместе с другими «эмиссариями диавольскими» «тысячи людей благочестивых, верных, добросовестных невинных, Бога и государство весьма любящих втайную похищали, в смрадных узилищах и темницах заключали, пытали, мучили, кровь невинную потоками проливали», — гремели в храмах церковные проповеди, игравшие — при отсутствии прессы и телевидения — роль средств массовой информации.
Таким попал Эрнст Иоганн Бирон в отечественную историю. Таким он в ней и остался — разве что стал еще создателем режима «бироновщины», которая «обернулась для страны ухудшением положения народных масс, обострением классовых противоречий, застойным характером развития производительных сил, расстройством государственного хозяйства и „утеснением“ подданных», как описывается его деятельность уже в современных учебниках.
В то же время за границей появилась первая его биография, составленная в хвалебном тоне и тем весьма неприятная российскому двору.[2] В 1743 году Елизавета Петровна распорядилась конфисковывать немецкие жизнеописания сосланного Бирона и других деятелей аннинской эпохи — Остермана и Миниха, имена которых надлежало навсегда вычеркнуть из истории. Русские дипломаты по всей Европе должны были добиваться прекращения торговли этими изданиями и пытались «уведать» имена их авторов.
Однако казенные проклятия, похоже, не вызвали тогда однозначного осуждения фигуры Бирона на уровне массового сознания (тут сразу надо оговориться: речь может идти только о представлениях российского дворянства и, в лучшем случае, городской верхушки; остальное население империи едва ли вообще представляло себе, о ком идет речь). Тем более что осужденный мучитель при перемене политических «конъектур» был прижизненно реабилитирован, более того — вновь возведен Екатериной II в ранг коронованных особ и получил обратно свое Курляндское герцогство.
Бирон еще не умер, когда сразу в нескольких европейских столицах (Лондоне, Лейпциге, Амстердаме) появились записки Христофора Германа Манштейна, бывшего адъютанта фельдмаршала Миниха, а затем отважного прусского генерала. Эти живо написанные, аргументированные, богатые фактическим материалом воспоминания — едва ли не лучшие из всего достаточно богатого мемуарного наследия русского XVIII столетия. В России к ним написал примечания неизвестный автор, по-видимому, русский, но связанный близкими отношениями со старым фельдмаршалом. Затем в Копенгагене вышло сочинение о русском дворе самого Миниха; с началом нового века уже в России увидели свет записки генерал-прокурора Я. П. Шаховского и сенатора И. И. Неплюева, переводы сочинений Манштейна, мемуары сына фельдмаршала Миниха — Эрнста.
Эти сочинения впервые открыли читателям закулисный мир Российской империи в «эпоху дворцовых переворотов». Их авторы далеко не обо всем вспоминали и мыслили одинаково. Но так уж получилось, что это были люди, имевшие личные счеты с Бироном: Шаховской выслушивал от него грозные выговоры, Миних отдал приказ об аресте герцога, а Манштейн — успешно этот приказ выполнил. Не удивительно, что в своих записках все они представляли своего бывшего противника фигурой сугубо отрицательной; именно в этих произведениях появились рассказы о жестокостях Бирона, которые потом сделались расхожими.
«В то время, когда он стал подвигаться на поприще счастия, Бирен присвоил себе имя и герб французских герцогов Бирон. Вот какой человек в продолжение всей жизни императрицы Анны и даже несколько недель после ее кончины царствовал над обширной империей России, и царствовал как совершенный деспот» (Манштейн).
«Он не стыдился публично говорить при жизни императрицы Анны, что не хочет учиться читать и писать по-русски для того, чтобы не быть обязанным читать ее величеству прошений, донесений и других бумаг, присылавшихся ему ежедневно. <…> Из России были вывезены несметные суммы, употребленные на покупку земель в Курляндии, постройку там двух скорее королевских, нежели герцогских дворцов и на приобретение герцогу друзей в Польше. Кроме того, многие миллионы были истрачены на покупку драгоценностей и жемчугов для семейства Бирона, и можно сказать, что в Европе не было ни одной королевы, которая имела бы их в таком количестве, как герцогиня Курляндская» (Миних).
«Ни при едином дворе, статься может, не находилось больше шпионов и наговорщиков, как в то время при российском. Обо всем, что в знатных беседах и домах говорили, получал он обстоятельнейшие известия, и поскольку ремесло сие отверзало путь как к милости, так и к богатым наградам, то многие знатные и высоких чинов особы не стыдились служить к тому орудием» (Миних-младший).[3]
Немногочисленные русские авторы, за редкими исключениями (князь Я. П. Шаховской), скупо освещали придворные события. В большинстве случаев они бесстрастно сообщали: «Ноября 8 вышеобъявленный регент Бирон в ночи взят под караул фелтмаршелом Минихом и сослан в ссылку»,[4] — или просто упоминали о «великих переменах в правлении». Часто современники и вовсе не писали о них, не будучи очевидцами событий, либо те не оказали заметного влияния на их судьбу. Или же сами авторы не считали возможным выражать свое отношение к событиям тех лет, тем более что лишь у немногих поглощенных службой людей первой половины XVIII столетия появилась потребность размышлять над прошлым.[5]
Для российского «шляхетства» времен Екатерины II Бирон был уже фигурой почти ископаемой, загадочной, с оттенком мрачного величия. В начале XIX века престарелые очевидцы сообщали интересовавшимся о настроениях своей юности: «Отец мой видел Бирона и так боялся, что не любил говорить о нем даже тогда, когда его уже не было в России».[6]
Интересно было бы послушать, как по вечерам в сумраке барского дома гости родителей будущего поэта и министра И. И. Дмитриева
Другой министр, желчный моралист и трудолюбивый историк-любитель Михаил Михайлович Щербатов оказался на удивление либеральным в оценке эпохи «бироновщины» и ее главных «создателей» — императрицы и ее фаворита: «Довольно для женщины прилежна к делам и любительница была порядку и благоустройства, ничего спешно и без совету искуснейших людей государства не начинала, отчего все ее узаконения суть ясны и основательны. Любила приличное великолепие императорскому сану, но толико, поелику оно сходственно было с благоустройством государства. Не можно оправдать ее в любострастии, ибо подлинно, то бывшей у нее гофмейстером Петр Михайлович Бестужев имел участие в ее милостях, а потом Бирон и явно любимцом ее был; но наконец при старости своих лет является, что она его более яко нужного друга себе имела, нежели как любовника. Сей любимец ее Бирон, возведенной ею в герцоги Курляндские, при российском же дворе имеющий чин обер-камергера, был человек, рожденный в низком состоянии в Курляндии, и сказывают, что он был берейтор, которая склонность его к лошадям до смерти его сохранялась. Впрочем, был человек, одаренный здравым рассудком, но без малейшего просвещения, горд, зол, кровожаждущ, и не примирительный злодей своим неприятелям. Однако касающе до России он никогда не старался во время жизни императрицы Анны что либо в ней приобрести, и хотя в рассуждении Курляндии снабжал ее сокровищами российскими, однако зная, что он там от гордого курляндского дворянства ненавидим и что он инако как сильным защищением России не может сего герцогства удержать, то и той пользы пользам России подчинял».
И иноземец, и происхождения низкого, и «кровожаждущ» — но все же со «здравым рассудком», и не вор вовсе, и, хоть поневоле, но пользу государству приносил. Иных, отечественных, героев Щербатов рисовал куда более темными красками. Мнение вельможи-историка совпадает с оценкой младшего современника нашего героя — прусского короля Фридриха II Великого: «Бирон был, по природе, тщеславен, груб и жесток, но тверд в управлении делами и способен на обширнейшие предприятия. Его честолюбие стремилось к тому, чтобы прославить имя его повелительницы в отдаленнейших концах вселенной, при этом он был столько же алчен к приобретению, сколько расточителен в издержках, имел некоторые полезные качества, но лишен был добрых и привлекательных».[9]
Другие же авторы Бирона не щадили: «В правление ее (Анны. —
Впрочем, в первом официальном русском учебнике для средней школы, редактировавшемся лично Екатериной II, Бирон присутствовал вполне «политкорректно»: важным вельможей, обер-камергером, впоследствии неизвестно за что «удаленным». Относительно либеральное начало царствования Александра I сделало возможным появление в печати публикаций о жизни других забытых или «запрещенных» деятелей — Меншикова, Миниха, Остермана.[10] Новое казенное пособие для гимназистов времен Николая I, принадлежавшее перу Н. Г. Устрялова, не поминало свергнутого герцога недобрым словом.[11]
Впрочем, что спрашивать с учебников? Они и тогда, мягко говоря, не были безразличны к «духу времени» и официальным «видам» на отечественное прошлое, порой превосходя конъюнктурщиков новейших времен. К примеру, учебники двухсотлетней давности ничего не говорили тогдашним школьникам о крепостном праве, но зато сообщали, что Россия есть «сильнейшее и знатнейшее государство на земном шаре», а «преимущества, коими пользуется российское дворянство, и льготы, которыми наслаждаются купечество и земледельцы, несравненно большие, нежели в котором ни есть из государств Европейских».
В этой величаво-государственной истории киевский князь Владимир Мономах благосклонно принимал присланные ему из Константинополя символы императорской власти, владеть которыми византийский правитель считал себя недостойным; Иван Грозный справедливо наказывал изменников-новгородцев, а некоторая жестокость была допущена им исключительно по вине самих подданных, которые, «находясь в глубоком невежестве, не выполняли своих обязанностей в отношении государя»; зато буйный атаман Стенька Разин, осознав свое антиобщественное поведение, добровольно являлся с повинной к царю Алексею Михайловичу.
Щекотливость ситуации компенсировалась изяществом стиля. Читатель узнавал, что царевич Алексей проявил «скользость в неприличных поступках» по отношению к отцу, Петру Великому, и умер «от внутреннего сокрушения духа и тела»; вельможи добровольно отправлялись из столицы «в отдаленные местности»; младенец-император Иван Антонович воцарился «беззаконно», поэтому был «доброчестно заключен» и ко всеобщему облегчению лишен «тягостной самому ему <…> ни к чему не способной жизни»; Петр III, «слыша, что народ не доверяет его поступкам, добровольно отрекся от престола и вскоре затем скончался в Ропше».[12]
Но и серьезные ученые, впервые приоткрывшие просвещенным читателям время и людей послепетровской России (А. И. Арсеньев, А. В. Вейдемейер), не считали возможным говорить о победе «немецкой партии» при дворе Анны Иоанновны или, тем более, «господстве немцев» после смерти Петра.
А. С. Пушкин в ранних «заметках по русской истории XVIII века» достаточно сурово оценивал времена наследников Петра Великого: «Доказательства тому царствование безграмотной Екатерины I, владычество кровавого злодея Бирона и сладострастной Елисаветы».[13] Но позднее в набросках к неоконченной поэме «Езерский» поэт долго добивался нужной точности в оценках: предки героя
На счастье Меншикова злились,
Хитрили с злоб(ным) Трубецким
[И] Бирон, деспот непреклонный,
Смирял их род неугомонный
И Долгорукие князья
Бывали втайне им друзья.
В переделанном варианте Бирон назван уже «умным», затем «твердым и суровым»; но в конце концов весь указанный текст так и остался в черновике.[14]
Колебания поэта можно понять. Былые взлеты и падения целых фамилий держались в памяти их потомков несколько поколений спустя, но документы о недавней истории отечества были достаточно надежно запрятаны в государственных архивах. Многие же события вообще не фиксировались документально, и сведения о них дошли в слухах, семейных преданиях, легендах и анекдотах, отчасти компенсировавших отсутствие информации или ее искажение в официальной истории.
В 1831 году Пушкин писал шефу жандармов А. X. Бенкендорфу о желании «написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III». Ему удалось поработать над материалами петровской эпохи; но царь не одобрил его замысла писать о преемниках Петра I.
Николаю Михайловичу Карамзину повезло больше. В своей «Записке о древней и новой России» он достаточно сурово обошелся с Бироном, в отличие от фельдмаршала Миниха и дипломата Остермана, которые, на его взгляд, «действовали неутомимо и с успехом блестящим: первый возвратил России ее знаменитость в государственной системе европейской — цель усилий Петровых». А «злосчастная привязанность Анны к любимцу бездушному, низкому омрачила и жизнь, и память ее в истории. Воскресла Тайная канцелярия Преображенская с пытками; в ее вертепах и на площадях градских лились реки крови. <…> Бирон, не достойный власти, думал утвердить ее в руках своих ужасами: самое легкое подозрение, двусмысленное слово, даже молчание казалось ему иногда достаточною виною казни или ссылки».[15]
Однако в конце жизни Карамзин смог ознакомиться с материалами политических дел 30—40-х годов XVIII века и поделился впечатлениями со слушателями: «Истинные причины разных событий, жизнь и характеры многих лиц доходили до нас нередко в превратном смысле, и мы часто, по слухам, хвалим их и порицаем несправедливо. Политика того времени, по необходимости, закрыла от нас истину. Вот нечто взятое из достоверных источников. Петр II подавал о себе прекраснейшие надежды. Он погиб от своих любимцев, которые расстроили его здоровье, действуя из личных видов <…>. Обручение Петра II с княжною Долгоруковою было принужденное. При императрице Анне важнейшую роль играл, бесспорно, Бирон; но он совсем не был так жесток, как описали его современники; имел даже многие благородные свойства; впрочем, главная страсть вельмож тогдашнего времени была взаимная ненависть».[16]
Историограф и известный писатель-журналист уже не успел написать о людях и делах прошедшего столетия. Однако изящная словесность самым серьезным образом повлияла на процесс формирования исторического сознания просвещенного общества в пушкинскую эпоху. И тут герцогу Бирону еще больше не повезло — его сделали средоточием всего отталкивающего, жестокого, несправедливого в российской истории. Причем такие оценки давались фавориту с разных полюсов общественной жизни.
Для радикально настроенной молодежи из круга декабристов он представал жестоким тираном, против которого просто необходимо было восстать, как это сделал Артемий Волынский в стихах Кондратия Рылеева:
Стран северных отважный сын,
Презрев и казнью и Бироном,
Дерзнул на пришлеца один
Всю правду высказать пред троном.
Открыл царице корень зла,
Любимца гордого пороки,
Его ужасные дела,
Коварный ум и нрав жестокий.[17]
Для людей же, не склонных к обличению самовластия, в романе благонамеренного Ивана Ивановича Лажечникова Бирон представал корыстным и бездушным иностранцем, презиравшим Россию и интересовавшимся лишь своим успехом: «Герцог любил великолепие. Можно вообразить, как он облепил его затеями комнату, откуда дождил Россию жгучими лучами своего властолюбия. Покрытый батистовым пудрамантом и нежа одну стройную ногу, обутую в шелковый чулок и в туфле, на пышном бархате скамейки, а другую спустив на персидский ковер, сидел он в креслах с золотою герцогскою короною на спинке; осторожно, прямо вглядывался он по временам в зеркало, в котором видел всего себя. Туалетом своим он занимался до кокетства, подобно искуснейшему каллиграфу, желающему пленить знатока малейшею живописною черточкой в своем письме. <…> Кто увидел бы его, когда он, по окончании туалета, с торжествующей улыбкой любовался своей фигурой, мог подумать, что главная цель его жизни была пленять наружностью». И в то же время «по сотне душ отправлял он ежегодно в Елисейские поля, и ни один мученик не возвращался с того света», а «раболепная чернь падала пред общим кумиром на холодный помост капища, обрызганный кровью жертв».[18] Но в «Ледяном доме» мы видим еще относительно пристойный портрет временщика.
«Лицо его было бледно; глаза от беспокойного и не вовремя прерванного сна были мутны и красны; непричесанные волосы уподоблялись змеям, вьющимся на голове Медузы. Ужасный вид его мог окаменить всякого… „Га, — воскликнул Бирон ужасным голосом, — колесовать его!“» — таким монстром, окруженным «толпой лазутчиков и телохранителей», представал Эрнст Иоганн Бирон в другом романе позапрошлого века.[19]
Оглушительный успех «Ледяного дома» (роман выдержал 50 изданий только в XIX веке; по его мотивам была даже поставлена в 1900 году в Большом театре опера композитора А. Корещенко «Ледяной дом», где Ф. И. Шаляпин выступил в не слишком удачной партии Бирона, в дальнейшем исключенной им из своего репертуара), привел к настоящему паломничеству петербуржцев к могиле Волынского, представленного в книге в качестве горячего патриота и одновременно романтического героя-любовника. Такую популярность предсказал казненный в 1826 году Рылеев:
Отец семейства! приведи
К могиле мученика сына;
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина!
Вызванные «Ледяным домом» отклики заставили вступить в полемику Пушкина. Вписьме к автору поэт и историк отдавал должное таланту писателя, но сожалел, что «истина историческая в нем не соблюдена, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию; но поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык. <…> О Бироне можно бы также потолковать. Он имел несчастие быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты». Волынский же, с точки зрения Пушкина, предстает в источниках далеко не в героическом виде: взяточник, властолюбец, ни в грош не ставивший человеческое достоинство избитого им поэта Василия Тредиаковского.
Лажечников в долгу не остался: «В нынешнее время скептицизма и строгих исторических исследований примут ли это дело безусловно, как акт, на который можно положиться историку, потому только, что он лежал в Государственном архиве? Рассудок спросит сначала, кто были его составители. Поверят ли обвинениям и подписям лиц, из коих большая часть были враги осужденного и все клевреты временщика, люди, купленные надеждою почестей и других выгод, страхом Сибири и казни, люди слабые, завистники и ненавистники? Скорей поверю я Манштейну, который, как немец, взял бы сторону немца Бирона. Еще скорей поверю совести Анны Иоанновны, видевшей, после казни Волынского, за царскою трапезою на блюдах голову кабинет-министра. Зачем бы ей тревожиться, если б она убеждена была в вине его? <…> Живые предания рассказали нам это лучше и вернее пристрастных актов, составленных по приказанию его врага».
Писатель апеллировал и к иным «преданиям»: «Иван Василь<е>в<ич> Ступишин, один из 14 возводителей Екатерины II на престол, умерший в 1820 году, будучи 90 лет, рассказывал (а словам его можно верить!), что когда Тредьяковский с своими одами являлся во дворец, то он всегда по приказанию Бирона, из самых сеней, чрез все комнаты дворцовые, полз на коленах, держа обеими руками свои стихи на голове, и таким образом доползая до Бирона и императрицы, делал им земные поклоны. Бирон всегда дурачил его и надседался со смеху. <…> Когда его при дворе почитали шутом и дураком, так не беда была вельможе тогдашнего времени поколотить его за то, что он не хотел писать дурацких стихов на дурацкую свадьбу». Что же касается Бирона, то «никакое перо, даже творца Онегина и Бориса Годунова, не в состоянии снять с него позорное клеймо, которое История и ненависть народная, передаваемая от поколения поколению, на нем выжгли. Он имел несчастие быть немцем, говорите вы. Да разве Миних не был немец? Однако ж войско его любило. Разве Анна Леопольдовна не была немка? Не оставила ж она по себе худой памяти в народе. Разве воспитанница пастора Глика, шведка, и потом ее соимянница, принцесса Цербстская, не заставила русских забыть свое немецкое происхождение? Не сумел же этого сделать правитель. Если можно простить злодеяния за ум и таланты, я готов бы извинить за них злодейства Ришелье. Но какой ум и какие таланты правителя народного имел Вирой? То и другое должно доказываться делами. Что ж славного и полезного для России сделал временщик? разве то, что десятками тысяч русских населил дремучие леса Литвы? (В походах наших видели мы живые акты этого народного переселения.) Разве то, что он подвинул назад границы наши с Китаем, до него зарубленные по Амур? Что отдал персам завоевания Петра? Быть может, какой-нибудь лихой наездник-историк велит нам снять шапку пред его памятью за то, что он, ничтожный выходец, умел согнуть Петрову Россию в бараний рог и душил нас, как овец? Или, может статься, велят нам увидеть его ум и великие таланты в мастерской его езде верхом на разные манеры или в том, что он имел дерзость сесть не в свои сани?»[20]
Позиции участников спора вроде бы непримиримы, но волновали их одни и те же проблемы. Обоим не хватало знаний не такой уж далекой от них эпохи; не случайно Лажечников ссылался то на рассказ девяностолетнего старца, то на собственные впечатления в «дремучих лесах Литвы». Пушкин имел опыт серьезного исследования о пугачевском бунте и предъявлял высокие требования к историческим экскурсам, требующим «долгих изучений и терпеливых изысканий». При всем уважении к труду Лажечникова его оппонент был убежден: «Истина историческая <…> не соблюдена»; нужно обращение к документам. Чуть позже он получил от Жуковского «Записку» о Волынском министра внутренних дел Д. Н. Блудова с выдержками из следственного дела. Имелась у Пушкина и копия с «рапорта» Тредиаковского об оскорблениях и побоях, нанесенных ему Волынским.[21] Но и Пушкин, допуская «великие таланты» Бирона, не мог указать конкретных примеров их проявления, хотя и явно подразумевал, что просто самовлюбленный фат не мог достичь вершин власти.
Жизнь фаворита вообще трудно поддается описанию, за исключением ее публичных проявлений — дворцового блеска, внимания и наград царствующей особы или громкого «падения». Сам характер его сугубо «неофициального» существования не оставляет повседневных «следов»-документов — как, например, работа чиновника, министра или полководца. Он — теневая фигура; его сфера — приватные беседы, закулисная деятельность; его стихия — «благоприятный случай», когда вовремя сказанное слово может обеспечить взлет чьей-то карьеры, а то и сломать жизнь.
К тому же он — особа, очень уж приближенная и доверенная, и в силу этой приближенности не может, не должен рассказывать обо всем, что видел и знал, даже много лет спустя — конечно, если доведется встретить спокойную старость. Это удавалось не всем. Но не случайно те, кому посчастливилось (Бирон, фавориты императрицы Елизаветы Алексей Разумовский и Иван Шувалов или последние любимцы Екатерины II — (Васильчиков, Завадовский, Римский-Корсаков, Зубов), мемуаров не оставили и свои тайны унесли в могилу. Немногословность — пожалуй, в данном случае не самая плохая черта — отличает их в выгодную сторону от государственных мужей, которые ныне как можно скорее стремятся обнародовать сочинения о своем «хождении» во власть. И уж точно она не присуща противникам фаворитов, которые все беды, нередко путая при этом собственные и общественные проблемы, преподносили как результат вредного влияния временщика.
Лажечников ставил важный вопрос о достоверности дошедших до нас источников, но в то же время не подвергал сомнению предание о царском любовании головой Волынского на блюде. Эта ситуация, допустимая во времена опричнины Ивана Грозного, едва ли была возможной при дворе XVIII века. В отношении же Бирона у Лажечникова сомнений не было, ведь он был знаком с записками Манштейна и не мог поверить, чтобы «немец» оболгал «немца». Признаваясь Пушкину: «Ваши упреки задели меня за живое», — романист составил целый обвинительный акт против временщика, но невольно подтвердил позицию оппонента, что Бирона огульно обвинили во всех бедах аннинского царствования: и персидские провинции «сдал», и границу с Китаем изменил, и гвозди под ногти загонял.
Но проблема не только в состоянии конкретных источников. Обращение к прошлому как для историка, так и для писателя невозможно без понимания «духа времени» и «народных нравов». Здесь Лажечников с Пушкиным расходился: «Историческую верность главных лиц моего романа старался я сохранить, сколько позволяло мне поэтическое создание, ибо в историческом романе истина всегда должна уступить поэзии, если та мешает этой». Но при этом романист был убежден, что эпоху он понимал вернее: «Не соглашусь также с Вами и в том, чтобы ужасы Бироновского тиранского управления были в духе того времени и в нраве народа. Приняв это положение, надобно будет все злодеяния правителей отнести к потребностям народным и времени. Признаю кнут справедливым и необходимым для нашего, русского народа за преступления его; но не понимаю, почему бы он требовал за неплатеж недоимок окачивания на морозе холодною водой и впускания под ногти гвоздей. Впрочем, народ наш до Бирона и после Бирона был все тот же; думаю, что он не изменялся и ныне, или очень мало изменился к лучшему. Долго еще будет ходить за современную практическую истину пословица: гром не грянет, русский не перекрестится. Решительно скажу, что чувства нравственного (и даже религиозного), как у немецкого крестьянина нашего времени, и теперь не существует в нашем народе и до тех пор не будет, пока не подумают о Воспитании его те, которые должны об этом думать».
«Русский Вальтер Скотт» верил в необходимость кнута «для нашего, русского народа», и только гвозди под ногти считал уже вредным излишеством. При таком подходе «не беда была вельможе тогдашнего времени поколотить» смешного и нечиновного Тредиаковского. В отношении «мужиков» Лажечников скорее отдавал предпочтение немецкому образцу перед отечественным; но родовитый вельможа Волынский — не чета безродному курляндцу, севшему «не в свои сани». Кажется, в этом и была, с точки зрения романиста, главная вина Бирона. Ведь прочие персонажи романа, так сказать, «русской национальности» — люди честные, искренние, справедливые (за исключением разве что Тредиаковского); даже шут Балакирев выглядит благороднее шутов иностранных, вроде Педрилло. Волынский предстает настоящим русским молодцем с разгульной песней на устах, что привело в восторг самого Белинского: «Это природа чисто русская, это русский барин, русский вельможа старых времен». Бирон же — носитель совсем других ценностей: практичный, бездушный, алчный: «Денег, золота требовал Бирон у этого бедного, тогда голодного народа, требовал у него бриллиантов для своей жены, роскошной жизни для себя — и народ, не в состоянии дать ни того, ни другого, должен был выдерживать всякого рода муки, как народы Колумбии». А из-за спины Бирона в романе выглядывает еще более отталкивающее «лицо еврейской национальности» — его банкир и «гоф-фактор» Либман.
Победа в романе «немца» только подчеркивала несомненную правоту и нравственную высоту отечественных ценностей, что вводило читателей в атмосферу духовных исканий и споров 30—40-х годов XIX столетия. К тому же Лажечников, как и многие другие просвещенные люди его поколения, по меткому выражению Н. Я. Эйдельмана, «несколько стесняются XVIII века; хотя весьма им интересуются, но многого не знают, а кое-чего и знать не хотят», поскольку это знание как-то не украшает отцов и дедов просвещенных дворян пушкинской поры. Обличение презренного и безродного иноземца давало возможность возложить на него вину за все кровавое, грязное и неудобное для воспоминания из славного прошлого.
Популярный роман последовательно проводил эти настроения, в известном смысле совпадавшие с официальными представлениями о «народности» и, можно полагать, мыслями и чувствами российских читателей из разных сословий, что обеспечило ему долгую жизнь, а главному отрицательному персонажу — устойчивую и однозначную репутацию. «Неслыханно ужасные казни Долгоруких, гибель Волынского и 20 тысяч жертв, погубленных от имени императрицы, долгое время делали страшным для слуха век, к которому вовсе несправедливо привязывалось имя Анны и который по истине должно было бы назвать точно Бироновским. Мудрая и кроткая Анна останется в памяти его жертвою», — подводил итог правлению Анны Иоанновны «Энциклопедический лексикон А. А. Плюшара», изданный в 1735 году. От романа Лажечникова пошел и сам термин
В начале 40-х годов XIX столетия историк и писатель Н. А. Полевой четко сформулировал тезис, что при Анне Иоанновне в России утвердилась и правила «партия иноземцев», как будто нарочно посылавшихся Провидением для доказательства прочности реформ Петра I.[22] Отныне в отечественной науке соединились обвинения в адрес противников петровских реформ, «буйных олигархов» и «немцев», которым удавалось «ослепить» доверчивых русских государей.
Монументальный труд Сергея Михайловича Соловьева впервые открыл для публики многие тайны «эпохи дворцовых переворотов», которая рассматривалась не как провал между «великими» правлениями Петра I и Екатерины II, а в качестве самостоятельного и важного периода отечественной истории. В его «Истории России» облик Бирона сохранил уже обозначенные черты: «Самый приближенный человек, фаворит, был иностранец низкого происхождения. Анна и Бирон понимали очень хорошо, что русские люди, и прежде всего русская знать, не могли сносить этого спокойно; Анна и Бирон чувствовали, что есть оскорбленные, и, естественно, оскорбители питали неприязнь к оскорбленным <…> он был чужой для России, был человек, не умерявший своих корыстных стремлений другими, высшими; он хотел воспользоваться своим случаем, своим временем, фавором, чтобы пожить хорошо на счет России; ему нужны были деньги, а до того, как они собирались, ему не было никакого дела; с другой стороны, он видел, что его не любят, что его считают недостойным того значения, какое он получил, и по инстинкту самосохранения, не разбирая средств, преследовал людей, которых считал опасными для себя и для того правительства, которым он держался. Этих стремлений было достаточно для произведений
«Бироновщина» стала для историка ключевым понятием для объяснения истории послепетровской эпохи: борьба придворных «партий» после смерти Петра I привела к уклонению от намеченной им программы преобразований и засилью иностранцев в правящих кругах. Оскорбленное «народное чувство» вызвало перевороты 1741 и 1762 годов как «народное движение, направленное против преобладания иноземцев», что означало «возвращение к правилам Петра Великого» и получило поддержку всего общества. Выдвинутая Соловьевым концепция политической истории России послепетровского времени прочно вошла в науку и школьные, учебники. Другой крупный историк Д. А. Корсаков объявил царствование Анны Иоанновны «не самодержавием, а именно олигархией, а еще вдобавок не национальной, а иноземной». Наконец, окончательно была закреплена характеристика «бироновщины» в «Курсе русской истории» В. О. Ключевского: «Немцы посыпались в Россию точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении».
Сложившийся стереотип восприятия эпохи правления Анны Иоанновны и ее фаворита с тех пор воспроизводился во множестве научных и художественных сочинений. Одиноко звучали голоса ученых, пытавшихся более объективно подойти к изучению послепетровской России. Н. А. Попов полагал, что «немецкие правители, сменившие русских, были осторожнее их, менее обременяли свою память позорными интригами, нежели их предшественники»; более того, они «покрыли имя русской императрицы и русской армии военной и дипломатической славою». Историк и писатель Е. П. Карнович первым предложил заменить «бироновщину» на «остермановщину», поскольку именно А. И. Остерман являлся главным государственным деятелем аннинской России. В. Н. Строев предпринял попытку своеобразной «реабилитации» Бирона в том смысле, что фаворит действовал исключительно в придворном кругу и в дела управления не вмешивался.[24]
Но на сложившийся в массовом сознании образ эти усилия никакого влияния оказать не могли. К тому же научные труды стимулировали появление многочисленных исторических романов В. П. Авенариуса, В. С. Соловьева, Е. П. Карновича, М. Н. Волконского, П. В. Полежаева, Е. А. Салиаса и других авторов по сюжетам данной эпохи, очень разного уровня — от классических произведений Г. П. Данилевского до, по словам критики, «скороспелых борзописаний».
Однако на этом злоключения Бирона не закончились. После 1917 года началась ломка прежних исторических концепций, не совпадавших с «единственно правильным» учением. Сначала М. Н. Покровский попытался пересмотреть историю с марксистской позиции. Применительно к нашему сюжету получилось, что Бирон и прочие «немцы» являлись ставленниками западноевропейского капитала, которых свергли в 1741 году представители «дворянского управления» или «нового феодализма».[25]
Позднее в исторической литературе утвердилось высказывание В. И. Ленина о «до смешного легких» дворцовых переворотах, совершаемых «кучкой дворян». Пафос ленинской речи на II Всероссийском съезде профсоюзов в 1919 году был направлен на решение задачи социального переворота: дать «всем трудящимся возможность легко приспособиться к делу управления государством» и заменить в этой сфере «всех имущих, всех собственников». С этой точки зрения перипетии борьбы за власть между группировками свергнутого класса не имели значения и, следовательно, не заслуживали изучения.
В учебниках и обобщающих трудах 30—70-х годов прошлого века преимущество отдавалось освещению петровских преобразований и их роли в преодолении отсталости России. Возможно, именно поэтому проявления оппозиции этим реформам (как, например, попытка «верховников» в 1730 году установить ограниченную монархию) воспринимались историками как реакционные усилия по реставрации допетровских порядков. В итоге, как ни странно, произошло своеобразное возрождение «охранительно»-монархического восприятия политического развития послепетровской России. При таком подходе, да еще при необходимости классовой оценки представителей правящей верхушки, сложившийся ранее образ «немца»-фаворита оказался востребован. «Бироновщина» оценивалась как «правление шайки иноземных угнетателей»; в лучшем случае последние выступали как исполнители (хотя жестокие и корыстные) социальных требований русских дворян-крепостников.
Таким образом, на созданный елизаветинской пропагандой каторжный облик вороватого иностранца была надета сначала романтическая маска хладнокровного злодея, а затем — уже в не столь давние времена — ему была выдана характеристика реакционера-угнетателя, тормозившего прогрессивное развитие страны.
Казенные формулировки учебников буйно расцветали в романах ныне уже так популярного Валентина Пикуля с принципиально упрощенным до уровня анекдота восприятием прошлого, но зато выдержанных в патриотическом духе. По сравнению с относительно воспитанным придворным щеголем у Лажечникова Бирон у Пикуля предстает хамом с «галантерейными» манерами загулявшего купца — к примеру, в беседе с будущей царицей Елизаветой:
«— Я предлагаю вам самый выгодный вариант из всех возможных. Становитесь женою сына моего Петра и ни о чем больше не думайте. А я найду способ, чтобы ублюдок мекленбурго-брауншвейгский престола русского и не понюхал. Вам, — сказал герцог, — предопределено судьбою Россией управлять… Ваше высочество! Красавица! Богиня! Вы сами не знаете, какое гомерическое счастье ожидает вас… Ну, говорите — согласны стать женою сына моего?
Елизавета в унынье руки опустила вдоль пышных бедер:
Таково уж счастье мое гомерическое, что я вся в женихах еще с детства купаюсь. Даже епископы лютеранские руки моей не раз просили! Да вот беда… женихов полно, только мужа не видать! Петруша ваш мальчик еще. На што я ему, такая…
Подумайте, — сказал ей Бирон. — Если не желательно иметь сына моего мужем, то… Посмотрите на меня: чем я плох? — Елизавета покраснела еще больше. Ай да герцог!»[26]
Тщетно историки указывали, что созданный поэтами и романистами образ не соответствует действительности; что герцог Эрнст Бирон был далеко не самым симпатичным персонажем в нашей истории, но вовсе не «кровожадным чудовищем»; что управляли всеми государственными делами совсем не «немцы», к тому же не представлявшие сплоченной «немецкой партии».[27] Но изменить сложившийся образ эпохи, кажется, уже невозможно — тем более что он освящен именами Ключевского — или Пикуля, в зависимости от запросов читателей. Кажется, единственным утешением может служить осознание действенной силы литературы в деле исторического просвещения сограждан.
Один из самых массовых школьных учебников даже утверждает, что именно Бирон и прочие «немцы» перенесли в Петербург «распущенность нравов и безвкусную роскошь, казнокрадство и взяточничество, беспардонную лесть и угодливость, пьянство и азартные игры, шпионство и доносительство»,[28] чем, очевидно, заразили до того исключительно трезвых и благочестивых россиян. Но и другие пособия говорят о «глухом времени иностранного засилья», которое «грозило довести страну до развала», о кровавом терроре и даже… об искоренении всех русских традиций. Вдохновителем же и организатором этого безобразия по-прежнему предстает «чудовищно жестокий тиран, позволявший себе все, что взбредет в голову».[29]
Между тем изучение роли и создание научных биографий таких фигур, как Бирон, является вполне назревшей проблемой при изучении российской истории XVIII столетия. Они необходимы для того, чтобы, по словам Пушкина, «воскресить век минувший во всей его истине».
Перипетии политической борьбы в России того (и не только) времени относятся к числу наиболее захватывающих страниц отечественной истории. Драматические повороты судеб, появление и крушение задуманных планов и реформ, закономерности и динамика развития институтов власти, повороты во внутренней и внешней политике, скрытые пружины интриг, — все эти живые нити прошлого образуют причудливое и красочное полотно, где подлинные события переплетены с легендами и вымыслом. Изучение этих процессов в силу их понятной «закрытости» сопряжено с немалыми трудностями и еще недавно заменялось социологическими штампами и фразами об «альковных переворотах», совершаемых без всякого участия народа.
Без Бирона и других деятелей (Б. X. Миниха или А. И. Остермана) история «эпохи дворцовых переворотов» будет явно неполной. Речь, конечно, не идет о «посмертной реабилитации», чего так опасался в свое время Иван Иванович Лажечников: «Может быть, искусная рука подмоет его немного, но никогда не счистит запекшейся на нем крови Волынского, Еропкина, Хрущова, графа Мусина-Пушкина и других». Но история любой страны — прежде всего поле деятельности человека, обладающего не только разумом, но и свободой воли, далеко не всегда доброй. В силу этой свободы никакая последовательность исторических событий не представляет собой «процесса», подчиняющегося закономерности, подобно законам природы. Историю делают именно люди; порой выбор немногочисленной, но энергичной группы и даже одного человека может повлиять на развитие всего общества. Или, наоборот, повседневная деятельность множества «обычных» людей, преследующих свои, часто мелкие и сиюминутные цели, «сдвигает» общество в ту или иную сторону, вопреки любым интригам или замыслам государственных мужей.
Интересен Бирон еще и тем, что его деятельность позволяет на новом уровне понять «политическую антропологию» российского самодержавия, понимая под этим «культурные механизмы» функционирования власти, представления о ней в обществе, складывание сети патронажно-клиентских отношений и других форм политического поведения. Ведь эта не слишком симпатичная фигура стоит у истоков формирования «культуры» российского фаворитизма, ставшего отличительной чертой российской монархии XVIII столетия. Понимание роли этого института позволяет проникнуть в реальный механизм управления империей, отличный от официально провозглашенного и многократно «разложенного по полочкам» в учебниках. Такое изучение имеет не только сугубо академический интерес — отечественное политическое устройство и в новейшее время сохраняет немало элементов средневековья, которые «во многом определяют реальное значение неформальной структуры власти, порождают зыбкость и непредвиденную изменчивость правового статуса высших учреждений и распределения полномочий внутри реально правящей элиты».[30]
Наконец, изучение интриг, заговоров и переворотов интересно тем, что дает материал для исследования социальной психологии участников и свидетелей событий: представителей знати, гвардии и других наиболее активных социальных групп российского общества — чиновников, офицеров, солдат; позволяет выявить их мысли и чувства, представления и действия — народ в России не всегда «безмолвствовал».
Но мы, кажется, увлеклись и забыли о самом герое.
Не давай меня, дядюшка,
Царь государь Петр Алексеевич
В чужую землю нехристианскую,
Бусурманскую.
Счастливый «случай» мало кому известного человека, естественно, породил интерес — далеко не всегда доброжелательный — к биографии и роду-племени новой придворной «звезды».
«А он был самой подлой человек, а дашол до такого великава градуса, адним словом сказать толко адной карони недаставали, уже все в руку ево целовали, и что хател, то делал, уже титуловали ево ваше височества, а он ни что иное был, как башмашник, на дяду моево сабаки (сапоги. —
«Не шляхтич и не курляндец пришел из Москвы без кафтана и чрез мой труд принят ко двору без чина, а год от году я, его любя, по его прошению производил и до сего градуса произвел, и, как видно, то он за мою великую милость делает мне тяжкие обиды и сколько мог здесь лживо меня вредил и поносил и чрез некакие слухи пришел в небытность мою в кредит», — так жаловался Петр Михайлович Бестужев-Рюмин, вытесненный Бироном с должности управляющего имениями курляндской герцогини и из ее постели.
Жалобы отвергнутого поклонника и трагическая судьба женщины, разделившей участь сосланного по воле новых правителей мужа, отчасти оправдывают пристрастность отзывов, но показывают, что родовитая московская знать поначалу именно так воспринимала очередного немецкого выходца — как «рожденного в низком состоянии». В бумагах министра Екатерины II Никиты Панина имелся даже забавный рассказ о том, как юный Бирон, сын «золотых дел мастера», долгое время работал канцеляристом у важных особ. Он даже стал большим специалистом по секретарской части, но приобрел вредную привычку — переписывая «старые договоры и документы, писанные большей частью на пергамене, он повадился держать во рту оторванные с полей их лоскутки, так что, наконец, он находил в этом особенное удовольствие». Так, якобы, и случилась с молодым секретарем беда: он, «разлакомившись», съел важный документ с подписью курляндского герцога. Хорошо, что начальник оказался добрым человеком и не только не погубил его, но, напротив, вывел в люди и даже представил герцогу. Эта же легенда о Бироне упоминается в романе Бальзака «Погибшие мечтания», герои которого говорят об удачливом фаворите как о «русском Ришелье».[31] Байка эта не имеет отношения к действительной биографии Бирона, но, скорее всего, передает уже курляндские слухи о недостойном происхождении будущего герцога.
Род фаворита не жаловали не только русские вельможи, но и петербургские «немцы». Христофор Манштейн обвинял выскочку-герцога в присвоении «имени и герба французских герцогов» и сообщал, что «его дед по фамилии Бирен был первым конюхом герцога Якова III Курляндского», хотя признавал, что конюх владел собственным имением, а его дети имели офицерские чины.
Обстоятельное изучение истории рода немецкими генеалогами показало, что предки герцога были хоть и не слишком знатного, но вполне достойного происхождения и честно служили своим сюзеренам; в роде Биронов имели место брачные союзы с дворянскими семьями Курляндии еще до «случая» Эрнста Иоганна. Первый известный член рода, его прапрадед, управляющий герцогским имением Карл Бюрен, документально засвидетельствован в Курляндии в 1573 году. Он же первым из фамилии стал курлядским землевладельцем.[32] Однако сам Бирон о своем происхождении говорить не очень любил, а если приходилось, то приводил противоречивые свидетельства. Французский консул Виллардо в 1730 году сообщил своему начальству в Париж: новый обер-камергер то «намекал, что считает себя происходящим из той самой линии, что и наши герцоги де Бироны, <…> другим <…> отвечал как человек, который даже не подозревает, что на свете есть род с таким именем».
Расхожее обвинение в похищении фаворитом имени и герба французских герцогов Биронов едва ли справедливо. Герб рода — хотя и не древний, к тому же дарованный королевской властью — польского происхождения; а о своем якобы французском родстве публично заявляли предки нашего героя еще в 1642 году.[33] Делали они это не случайно: курляндским помещикам их недворянские корни создавало проблемы. Фамилия начала в 1634 году борьбу за прием рода в курляндскую дворянскую корпорацию — «рыцарскую скамью». Однако, несмотря на дважды полученный от польского короля Владислава IV дворянский диплом, прошение было отвергнуто. Столетняя борьба фон Бюренов за вхождение в дворянство закончилась только в 1730 году с получением Эрнстом Иоганном Бироном графского титула. Однако преподнесенный ему диплом о принятии в «рыцарскую скамью» на самом деле был не победой — скорее, пощечиной выскочке: в вердикте курляндского ландтага подчеркивались роль и личные заслуги самого Эрнста Иоганна, однако ни слова не говорилось о принадлежности фон Бюренов к славным древним дворянским родам.
Изменение же звучания и написания фамилии с фон Бюрен (von Bühren) на фон Бирон (von Büron, von Biron), действительно, происходит по воле самого Эрнста Иоганна с 1712 года, что могло впоследствии дать повод для сплетен. Однако в те времена небогатый и незнатный курляндский дворянин едва ли мог претендовать на родство со знатнейшими европейскими фамилиями.
У Эрнста Иоганна имелась еще одна причина избегать уточнения собственного происхождения. В 60-е годы XVIII века, когда он вновь получил курляндский трон, дворянская оппозиция подняла больной вопрос о семейных корнях своего герцога. Роду Бюренов-Биронов припомнили недворянских предков, а самому Эрнсту Иоганну приписывали уже и вовсе неблагородную латышскую кровь, что было отмечено дотошными исследователями родового древа его матери. Скорее всего, настоящей матерью нашего героя была латышка, служанка в имении отца Бирона и нянька его детей. Видимо, это обстоятельство было известно соседям и в свое время помешало выбору Эрнстом Иоганном традиционной для рода военной карьеры.[34]
Его двоюродный дед, подполковник Карл, сложил голову в походе 1686 года в Венгрию. Другой двоюродный дед, Оттон Фридрих, служивший в польских войсках, отличался вспыльчивым характером; после дуэли, закончившейся смертью противника, он бежал в Пруссию, где дослужился до генерал-лейтенанта, но закончил свою бурную карьеру опять на польской службе в должности коменданта Могилева. Сын этого вояки, Карл Магнус Бирон, впоследствии перешел в русскую армию и умер в чине генерал-майора в 1739 году.
Брат Карла и Отгона Фридриха, еще один Карл, был дедом нашего героя. Его отец, тоже Карл фон Бюрен, в качестве шталмейстера сопровождал сына своего герцога, принца Александра, в упоминавшемся неудачном походе 1686 года. Когда принц умер от ран, Карл привез обратно его имущество и получил место лесничего и начальника егерей (Jagerhauptmann). Затем он вышел в отставку из польской армии то ли корнетом, то ли поручиком и поселился в своем наследственном имении Калленцеем.[35]
Здесь, официально в семье Карла фон Бюрена и Катерины Гедвиги, урожденной фон дер Рааб-Тюлен, 12 ноября 1690 года родился Эрнст Иоганн Бирон — будем его отныне называть принятым в России именем. У его отца были еще два сына: Карл (1684–1746) и Густав (1700–1746) и пять дочерей — Доротея Елисавета, Гертруда София, Гедвига София Христина, Анна Мария, Сабина Юлиана и Урсула Мария.
О юношеских годах Эрнста Иоганна известий не сохранилось, за исключением упоминаний, что он учился в школах Митавы и Кенигсберга, чему и как — неизвестно. Но едва ли будущий герцог был отличником: его современники и противники при петербургском дворе не забывали сообщить в мемуарах, что Бирон был не слишком образованным человеком и иностранными языками не владел. Зато жизнь при отце и его хозяйстве позволила юному Бирону проявить другие способности. По единодушным отзывам врагов и друзей он был настоящим знатоком-лошадником, а это — своего рода призвание, которое порой не давалось даже старым и опытным кавалерийским офицерам.
Детские годы Бирона стали последним временем, когда маленькое Курляндское герцогство могло жить в тишине и спокойствии. На пороге XVIII столетия
Древние земли Курземе и Земгале (нынешняя юго-западная Латвия) в XIII веке были завоеваны рыцарями-крестоносцами и оставались владением рижских епископов и немецкого Ливонского ордена до XVI столетия. Но во время Ливонской войны 2 августа 1560 года в Эрмесском сражении русские войска разгромили силы Ливонского ордена. Чтобы спасти остатки Ордена, его последний магистр Готгард Кетлер в 1561 году перешел под защиту Польско-Литовского государства, за что получил Курляндию в ленное владение. Кетлер добился от короля Сигизмунда II Августа «Привилегии» с подтверждением свободы протестантского вероисповедания, прав землевладельцев на их земли, сохранения старинных законов и обычаев. Король согласился и с назначением местных военных и гражданских чиновников исключительно из немцев.
Иван Грозный не скрывал желания присоединить к своим владениям «вся Германия», то есть Прибалтику, и в переговорах в 1577–1578 годах называл своей вотчиной не только Лифляндию с Ригой, но и Курляндское герцогство. Однако в ту пору военное счастье склонилось на сторону противников Москвы — Речи Посполитой и Швеции. Московским помещикам и воеводам пришлось уйти.
С тех пор семь герцогов из дома Кетлера управляли Курляндией в течение 175 лет. При третьем из них, внуке Готгарда Якове (1642–1682), в княжестве появились мануфактуры; страна, не имевшая собственной армии, обзавелась внушительным флотом (44 военных и 79 торговых судов). Герцог мечтал доставлять в Европу пряности, и флаг Курляндии был водружен в герцогских владениях в западной Африке. Оттуда в обмен на ткани, соль и вино вывозились золото, слоновая кость, воск, перец, кокосовые орехи.[36] Но процветание оказалось коротким. Слишком выгодная в стратегическом отношении Прибалтика вновь стала объектом соперничества соседних держав.
В 1655 году московские войска вошли в пределы Польско-Литовского государства и стали занимать города Белоруссии. Тогда же разразился «потоп» — очередная шведско-польская война, в которую оказалась втянутой и Курляндия: рижский генерал-губернатор Магнус Делагарди требовал, чтобы герцогство признало шведский протекторат и передало в распоряжение шведского командования курляндские армию и флот. Герцог Яков обратился за помощью в Москву, и в следующем году Россия и Курляндия заключили договор: царь обещал помощь, а герцогство становилось московским «окном в Европу» — главным маршрутом российской торговли с Западом. Московская армия во главе с царем Алексеем Михайловичем вторглась в шведские владения и начала осаду Риги. В начале 1658 года герцог уже передал главе Посольского приказа боярину Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину проект договора «О подданстве курляндского князя Якубуса в Российскую державу».
Однако в ночь с 29 на 30 сентября 1658 года шведы захватили Митаву, взяли в плен Якова, а затем заняли всю Курляндию. В результате действий шведских, польских и прусских войск страна была разорена, флот уничтожен; африканские колонии захватили англичане. Маленькое герцогство еле смогло отстоять свою независимость — потому что ни одно из соседних государств не соглашалось на его захват другим. Во времена «первой северной войны» России так и не удалось утвердиться в Прибалтике. Но зато в «немецкую землю» потянулись подданные царя, очень неуютно чувствовавшие себя на родине, — гонимые властью и церковью раскольники. Их главному поселению герцог пожаловал в 1670 году статус города, магдебургское городское право и свое имя — Якобштадт (нынешний Екабпилс).[37]
Ослабление герцогской власти и торговых городов привело к усилению дворянства. Настоящих потомков средневековых рыцарских родов в Прибалтике было не так уж много — в соседней Лифляндии в XVIII веке только четверть дворянских фамилий могла похвастаться знатностью предков со времен крестовых походов. Большинство же «рыцарства» вело свое родословие с XV–XVI веков от «министериалов» (так назывались в Средние века лично несвободные люди, обязанные нести военную службу знати), в борьбе со своими господами-епископами отвоевавшими и упрочившими «остзейские» привилегии.
Курляндским дворянам повезло. Соседние Лифляндия и Эстляндия с 1629 года отошли к Швеции, и тамошнее немецкое рыцарство почувствовало тяжелую руку шведских королей: их администрация контролировала органы местного самоуправления, ограничивала вотчинную власть помещиков над крепостными. В 80-х годах XVII века там началась так называемая «редукция» — проверка прав на владение коронными имениями. Незаконно присвоенные земли хоть и были оставлены за прежними владельцами, но уже не в собственности, а на правах аренды. Именно недовольство прибалтийского дворянства способствовало успешному завоеванию этих территорий Россией. Местная знать охотно переходила на русскую службу, а Петр I и его потомки, вступая в правление, подтверждали «особый прибалтийский порядок» в новых провинциях.
В Курляндии ничего подобного не было: слабая королевская власть Речи Посполитой не была способна навести порядок в вассальном герцогстве. В результате оно стало настоящим заповедником непуганого дворянства, сплоченного и умело отстаивавшего свои права. Один из русских дворян умиленно описывал этот край: «Окаймленное морем на протяжении 320 верст, герцогство Курляндское имело две хорошие естественные гавани Либаву и Виндаву (нынешние Лиепая и Вентспилс. —
В этих замках вольготно расположились знатные фамилии — Бриггены, Будберги, Виттены, Коскули, Корфы, Ливены, Мантейфели, Нольде, Трейдены, Фелькерзамы, Фирксы, Функи, Ховены. Они серьезно ограничивали власть герцога. Все решения он принимал в согласии с четырьмя высшими советниками: ландгофмейстером, канцлером, бургграфом и ландмаршалом, которые совместно с двумя докторами права образовывали герцогский суд. Все государственные должности могли замещаться только представителями курляндского дворянства, причем назначения делались пожизненно.
Опасаясь усиления власти герцога и его слуг, дворяне еще в 1611 году образовали «Рыцарскую скамью» (Ritterbank) — комиссию по проверке благородного происхождения, а затем добились от герцога разрешения на составление «матрикулы» — специального списка полноправных дворянских родов. Только прошедшие эту процедуру, имматрикулированные дворяне (119 родов в XVII веке) могли продавать и покупать «рыцарские имения» и пользоваться всей полнотой прав и привилегий, в том числе «высшей и низшей судебной властью». Господа устанавливали в своих имениях собственные законы, судили мужиков и даже могли их казнить. Впоследствии по этим образцам матрикулы были созданы в Лифляндии и Эстляндии и на острове Эзель. Важнейшей сословной привилегией дворянства являлось участие в ландтагах, которые созывались герцогом раз в два года.
Курляндия была разделена на четыре обер-гауптманства и восемь гауптманств, в каждом из которых были особые дворянские суды, чья юрисдикция распространялась и на города. Герцоги имели дело с представительным собранием — сеймом (ландтагом), депутаты которого избирались исключительно из дворян от приходов. Главными охранителями дворянских прав в Курляндии являлись председатель очередного ландтага (Landbotenmarschall) с полномочиями лишь в течение одной сессии и представители рыцарства (Landesbevollmachtigte), избиравшиеся ландтагом на три года. С 1637 года существовала особая «касса рыцарства» (Rit-terschaftslade), куда поступали средства от самообложения, утверждаемого постановлениями ландтагов.
Помимо борьбы за ограничение герцогской власти еще одной проблемой рыцарства Курляндии было отсутствие достойного поприща для службы. На примерно две сотни административных и военных должностей в герцогстве приходилось 600 имений, и далеко не все молодые дворяне могли рассчитывать сделать хорошую карьеру и обеспечить себя дома или стяжать славу в рядах Курляндской гвардии, насчитывавшей 200 кавалеристов и 500 пехотинцев. В результате большинство курляндцев уходили, подобно отцу и другим родственникам Бирона, в войска Речи Посполитой или на службу к шведскому королю.
Под непосредственной властью герцогов находилась примерно треть земель государства; но преемник Якова, герцог Фридрих Казимир (1685–1698) тратил огромные деньги на содержание своего митавского «Версаля» с подобающим двором, балетом, оперой, для чего приходилось отдавать в залог одно за другим коронные имения и продавать латышских мужиков в солдаты немецким князьям.
Весной 1697 года герцог радушно принял в Митаве молодого царя Петра, направлявшегося с «Великим посольством» из шведской Риги в прусский Кенигсберг. «Встретил, — повествует „Статейный список“ посольства, — великих и полномочных послов курлянской князь на нижнем крыльце у кореты и, привитався с великими и полномочными послы, просил, чтоб они шли напред; и по многих спорах, взяв первого посла за руку, и шел по левую сторону на крылцо, и в' сени, и в полаты позади великих и полномочных послов» Учтивые споры кончились тем, что герцог повел под руку Франца Лефорта — своего старого знакомого со времен, когда оба они состояли на военной службе у Голландских штатов и вместе сражались против французов.
«Тайные разговоры на один о настоящих делех» сменялись шумными торжествами с музыкой, фейерверками и пирами, «на которых чрезмерно пили, как будто бы его царское величество был вторым Бахусом». Петр находил время и для других привычных ему занятий: еще в середине XIX века в одном из домов на Грюнгофской улице показывали балку, будто бы вытесанную царем. Отсюда же он послал в Москву «князь-кесарю» Федору Юрьевичу Ромодановскому «вещь на отмщенье врагом» — топор для отрубания голов преступникам; князь подарок одобрил и немедленно испытал на практике. В Митаве хранилось предание, что царь держал себя очень дружелюбно, поднимал и целовал пятилетнего наследного принца Фридриха Вильгельма и обещал сосватать ему одну из московских царевен.[39]
Возможно, Петру припомнилась эта встреча, когда он решал судьбу курляндского трона после Полтавской победы. Однако через год прусские дипломаты посчитали, что веселая жизнь скончавшегося герцога разорила страну, и на его преемнике, малолетнем Фридрихе Вильгельме, висит долг в 1 344 353 талера, что равнялось годовому бюджету герцогства.
Тем не менее «прусская» и «польская» «партии» при курляндском дворе начали борьбу за право опекунства. В этой борьбе мать юного Фридриха Вильгельма, прусская принцесса, потерпела поражение; молодой король Речи Посполитой и саксонский курфюрст Август II закрепил полномочия «администратора» за дядей герцога католиком Фердинандом. Этот выбор предопределил дальнейшую судьбу Курляндии: не успела она оправиться от последствий первой Северной войны 1655–1660 годов и последствий шведского погрома, как начался новый этап борьбы за Прибалтику — Великая Северная война 1700–1721 годов.
В благодарность за доверие Фердинанд поддержал только что заключенный саксонско-русский альянс против могущественной шведской державы. Он распорядился обеспечить продовольствием и фуражом двинувшиеся на Ригу саксонские войска, обещал Августу сформировать два полка (на которые так и не хватило денег) и даже предоставил личную герцогскую пушку. Правда, в саксонском лагере он присутствовал «инкогнито» — формально герцогство войны Швеции не объявляло.
Но маленькой Курляндии это не помогло. Победоносно начавший Северную войну шведский король Карл XII после победы под Нарвой подошел к Риге и нанес поражение саксонской армии в июне 1701 года. Герцог-администратор и генерал-интендант саксонской службы Фердинанд одним из первых бежал с поля боя и уже никогда больше в свои владения не возвращался.[40]
Карл XII стремительно занял столицу Курляндии Митаву (после лихого солдатского грабежа оказались выброшенными из гробов в замковом склепе тела герцогов) и объявил о «вынужденной» оккупации, которая продолжалась с перерывами до осени 1709 года. Фердинанд напрасно жаловался Карлу на бесчинства армии, потрошившей его имения и растащившей герцогскую библиотеку. Шведские власти нестеснительно взыскивали контрибуции и заставляли обеспечивать содержание армии — впрочем, крестьяне еще имели право жаловаться, и мародеров иногда наказывали. В довершение несчастий на страну обрушилась «Великая чума» 1703–1711 годов, и смерть стала настолько обычной, что крестьяне даже не считали нужным собирать урожай.
Но военное счастье переменчиво. Уже в 1705 году Митава вновь сдалась, на этот раз — русским войскам во главе с Петром, а кавалерийский генерал А. Д. Меншиков стал наместником Курляндии — и, по-видимому, запомнил этот край надолго. Под натиском шведских сил русские полки, взорвав замок, ушли — но ненадолго. Вскоре маленькое герцогство вновь стало театром военных действий; чужие армии опять собирали контрибуции по приказам командиров, призывавших «щадить по возможности население».
Полтавская битва положила конец могуществу шведской армии и шведскому господству в Прибалтике. Отныне судьба Курляндии находилась в других руках. Петр заново заключил союзнические отношения с Данией, Саксонией и Пруссией без обязательств выплаты им субсидий, но обещая союзникам шведские территории (Сконе, Эльбинг, польскую Пруссию) по окончании войны. Договор с Пруссией в октябре 1709 года разделял «сферы влияния» в пограничных территориях; 3-й параграф этого договора предусматривал брак молодого курляндского герцога с племянницей Петра I. Возможно, царь сразу же обрадовал этим решением герцогскую фамилию — по пути к осажденной его войсками Риге он заехал в Митаву в ноябре 1709 года.
Это были первые шаги, обозначившие новую роль России в Восточной Европе и новые черты в ее внешней политике. Начав войну за отвоевание русских земель, Петр после решающих побед претендовал не только на Лифляндию и Эстляндию, но и на Карельский перешеек и Выборг. После захвата шведских владений в Германии Петр территориальных приобретений там не сделал, но все сильнее вмешивался в дела германских княжеств в борьбе с английской и французской дипломатией.
Вторая дочь брата Петра, Анна Иоанновна, стала первой — за 200 лет — русской принцессой, которой предстояло отбыть в чужие края вопреки традициям московского двора. Мекленбургскому герцогу Карлу Леопольду досталась другая племянница Петра, Екатерина. Сына Алексея он женил на принцессе Шарлотте Вольфенбюттельской, а старшую дочь Анну предложил в жены герцогу Голштинии. Серия династических браков закрепила фактически установившееся влияние России на политику этих княжеств.
Так по воле грозного дяди судьба Анны Иоанновны переплелась с историей крохотного прибалтийского государства. Ее согласия никто и не думал спрашивать — Анна стала очередной и не самой важной ставкой в большой европейской политике Петра и его великой державы. Министров юного герцога также долго уговаривать не пришлось — как раз в 1710 году русские войска закончили завоевание Прибалтики: в июне сдалась Рига, в сентябре — Ревель. Они бы пошли на любой брачный вариант, если он давал избавление маленькой Курляндии от многолетней и разорительной войны «под рукой» могущественного соседа — тем более что Петр согласился освободить Курляндское герцогство от военных постоев и контрибуций.
Весной 1710 года Петр I любезно разрешил находившемуся в Пруссии Фридриху Вильгельму вступить во владение собственным герцогством, а его послам — прибыть в Петербург для завершения переговоров о браке. Надежду курляндских и прусских дипломатов на получение герцогом в управление «генерал-викариата» Лифляндии и солидной материальной помощи царь решительно разрушил. Приданое Анны составили 200 тысяч рублей, 160 тысяч из которых практичный Петр сразу же направил на выкуп заложенных герцогских имений. Царь пообещал герцогу защищать его владения от внутренних и внешних врагов, взамен герцогство должно было соблюдать нейтралитет во всех войнах и пропускать через свою территорию русские войска.
Кроме того, были предусмотрены и неприятные обстоятельства, возможно, потому, что здоровье герцога вызывало опасение. Одна из статей — к несчастью, оказавшаяся востребованной — предполагала: «Буде же светлейший герцох, князь по смерти детей по себе не оставит, а ее высочество, супруга его, во вдовстве пребывати во весь живот свой соизволит, то обещает оный в засвидетельствование усердной своей ко оной любви и склонности княжеской особе достойное вдовское жилище и замок и по сороку тысяч рублев на год на пропитание, против того же, обещает светлейший герцог своей пресветлейшей супруге на ее ручныя и одежный денги по пятнатцати тысяч рублев погодно из княжой казны во весь живот ея по четверти года выдавать и сверх того ее двор и служителей (в которых учреждении, приеме и премене оный себе свободныя руки имети удерживает) всем и по особливо жалованье платить и содержание давать».[41] На том и постановили. 29 августа Петром и Анной Иоанновной была подписана «грамота» о бракосочетании царевны.
Фридрих Вильгельм отправился на встречу к могущественному новому родственнику, но вынужден был задержаться в Нарве из-за карантина в связи с эпидемией чумы. В Петербург жених прибыл далеко не в лучшем состоянии, и его министры заикнулись было о переносе свадьбы на более поздний срок. Однако Петр торопился в новый поход на Турцию и медлить не желал. 31 октября 1710 года свадьба состоялась; государь сам был и распорядителем — «обер-маршалом», и посаженым отцом новобрачной.
Торжество прошло с полагающейся «магнифициенцией» в петровском духе: кортеж лодок по Неве доставил невесту в белом роскошном платье, с бриллиантовой короной в дом жениха, а потом во дворец Меншикова. Далее последовали фейерверки, танцы и сюрпризы. «По окончании [обеда] в [залу] внесли два пирога <…>. Когда [пироги] разрезали, то оказалось, что в каждом из них лежит по карлице. Обе были затянуты во французское платье и имели самую модную прическу. Та, что [была в пироге] на столе новобрачных, поднялась [на ноги и, стоя] в пироге, сказала по-русски речь в стихах <…>. Затем, вылезши из пирога, она поздоровалась с новобрачными и прочими [лицами] <…>. [Другую] карлицу <…> царь сам перенес и поставил на стол к молодым. Тут заиграли менуэт, и [карлицы] весьма изящно протанцовали этот танец на столе перед новобрачными», — описал это торжество датский посол Юст Юль. Гостей, как обычно, усердно «трактовали» — по выражению самого царя, «до состояния пьяного немца».
Возможно, это обстоятельство сыграло роковую роль в судьбе молодых — не случайно Анна Иоанновна, уже сделавшись императрицей, терпеть не могла неумеренного пьянства. Несчастный Фридрих Вильгельм выехал из Петербурга уже совсем больным и скончался 13 января 1711 года на маленькой почтовой станции. Для Анны, выбравшейся было из-под опеки не любившей ее матери и сурового дяди, это было крушением надежд — но кого это интересовало?
Зато Курляндия должна была находиться в сфере влияния России, хотя и состояла юридически под верховной властью Речи Посполитой, и из нее надлежало вывести русские войска. Никаких прав на управление страной Анна не имела — в 1711 году король Август II назначил герцогом Курляндии отодвинутого на задний план Фердинанда. Поэтому Петр в 1713 году распорядился отправить неутешную герцогиню Анну вместе с маленьким двором в Митаву «ради резиденции ее». От курляндского дворянства он потребовал устроить ей «по достоинству замок» и выплатить причитавшиеся по брачному договору с покойным герцогом 40 тысяч рублей с 1709 по 1713 год, которые разоренное герцогство ей задолжало. При этом он категорически отказался возвратить захваченные его армией курляндский арсенал и государственный архив: «Что от неприятеля получено, то отдавать не должно».
В качестве обер-гофмейстера герцогини и российского генерал-комиссара был назначен отличившийся на военно-хозяйственном и дипломатическом поприще генерал-кригсцальмейстер Петр Михайлович Бестужев-Рюмин, вернувшийся вместе с царем из тяжелого Прутского похода. Курляндские власти было заупрямились. Замок (имение Доблин) Анне отвели, но по поводу других имений и денег для герцогини заявили, что «без указу князя Фердинанда и без воли короля и Речи Посполитой ничего делать не смеют и без экзекуции они того чинить не будут». Затруднения преодолели в петровском духе — с помощью «экзекуций» отряда российских драгун под командой Бестужева. «А в протчем, — было заявлено послам Речи Посполитой, — его царское величество в Курляндию никаким образом не интересуетца».[42]
С 1714 года началось длительное противостояние курляндского рыцарства и неудачливого герцога Фердинанда. Герцог жаловался российскому и польскому монархам на разорение и захват его имений дворянами, а те — на то, что герцог не имеет права управлять ими из-за границы. На съезде «братской конфедерации» в 1715 году дворяне даже лишили было герцога власти за превышение полномочий, и их претензии были поддержаны польскими властями. Но Фердинанд, опираясь на поддержку России, не желавшей расширения польского влияния в Курляндии, опротестовал в суде решения конференции.
Пока шли эти разборки, доходы со «спорных» имений успешно осваивали русская администрация и ее драгуны. В конце концов в 1716 году курляндские оберраты выделили Анне Иоанновне 14 герцогских владений с годовым доходом свыше 12 тысяч талеров. Этими землями стал распоряжаться Бестужев, которому царь приказал «отставить» экзекуции. Однако сам Петр уже смотрел на Курляндию как на собственное владение: в 1717 году, возвращаясь из Франции, он приказал рижскому губернатору заготовить для него подводы как в Лифляндии, так и в формально иностранной Курляндии. А Бестужев ставил на постой «роту или больше драгун, смотря по препорции деревень» в имения недовольных российским присутствием и «противных нашему интересу» дворян. Герцог Фердинанд даже не смел показываться в собственных владениях и «управлял» ими из Данцига.
Но и положение Анны было нелегким: вдовствующая герцогиня оказалась бедной и никому не нужной родственницей, которой поначалу и жить-то было негде, так как герцогское семейство в начале войны вывезло из дворца в Пруссию наиболее ценные вещи, включая посуду и мебель. Анна вечно была без денег, но терпела. В письмах к «батюшке-дядюшке» Петру она поздравляла его с церковными и семейными праздниками, справлялась о его здоровье, но только однажды решилась пожаловаться: «Всемилостивейший государь батюшка-дядюшка! Известно вашему величеству, что я в Митаву с собою ничего не привезла, а в Митаве ж ничего не получила и стояла в пустом мещанском дворе, того ради, что надлежит в хоромы, до двора, поварни, конюшни, кареты и лошади и прочее — все покупано и сделано вновь. А приход мой с данных мне в 1716 году деревень деньгами и припасами — всего 12 680 талеров; и того числа в расходе в год по самой крайней нужде к столу, поварне, конюшне, на жалованье и на либирею служителям и на держание драгунской роты — всего 12 154 талера, а в остатке только 426 талеров. И таким остатком как себя платьем, бельем, кружевами и, по возможности, алмазами и серебром, лашадьми, так и прочим, в новом и пустом дворе не только по моей чести, но и против прежних курляндских вдовствующих герцогинь весьма содержать себя не могу. Также и партикулярные шляхетские жены ювели и уборы имеют не убогие, из чего мне в здешних краях не бесподозрительно есть. И хотя я, по милости вашего величества, пожалованными мне в прошлом 1721 году деньгами и управила некоторые те нужные домовые и на себя уборы, однако еще имею на себе долгу за крест и складень брилиантовый, за серебро и за убор камаор и за нынешнее черное платье — 10 000 талеров, которых мне ни по которому образу заплатить невозможно. И впредь для всегдашних нужных потреб принуждена в долг больше входить, а не имея чем платить, и кредиту нигде не буду иметь.
А ныне есть в Курляндии выкупные ампты, за которые из казны вашего величества заплачено 87 370 талеров, которые по контрактам отданы от 1722 года июля месяца в аренду за 14 612 талеров в год и имеют окупиться в шесть лет. Я всепокорнейше прошу ваше величество сотворить со мною милость: на оплату вышеписанных долгов и на исправление домовых нужд пожаловать вышеписанные выкупные ампты мне в диспозицию на десять лет, в которые годы я в казну вашего величества заплачу все выданные за них деньги погодно; мне будет на вышеписанные мои нужды оставаться 5 875 талеров на год».
Петр нежностей, а особенно жалоб не любил, денег не давал и вообще смотрел на Анну как на фигуру в шахматной партии. Без его разрешения она не имела права выезжать из Курляндии. Но когда в герцогстве возникали проблемы — например, начавшиеся недоразумения между Фердинандом и курляндским рыцарством или приезд польских официальных лиц, — то царь приказывал племяннице отъехать на время в Ригу (однажды она прожила там почти год, с августа 1720 по май 1721 года), а потом возвращал обратно.
При этом император и другие окрестные «потентаты» не оставляли брачных «видов» на Анну. В 1712–1718 годах кандидатами на ее руку перебывали герцог Фердинанд, герцог Иоганн Адольф фон Заксен-Вейсенфельс, герцог Ормонд, саксонский генерал-фельдмаршал граф Яков Генрих Флеминг, маркграф Фридрих Вильгельм фон Бранденбург, принц Вюртембергский Карл Александр. Порой дело доходило даже до составления брачного договора, но в итоге все женихи так и остались ни с чем, поскольку не устраивали либо Петра, либо его соседей — монархов Польши и Пруссии.
На мгновение мелькнул в Курляндии блестящий камер-юнкер жены Петра I Виллим Монс. Молодой красавец привлек внимание Анны настолько, что его очередная возлюбленная всерьез приревновала его к герцогине, и Монс вынужден был оправдываться. «Не изволите за противное принять, — писал он своей знакомой, — что я не буду к вам ради некоторой причины, как вы вчерась сами слезы видели; она чает, что я амур с герцогинею курляндскою имею. И ежели я к вам приду, а ко двору не пойду, то она почает, что я для герцогини туда пришел». Придворная красавица зря ревновала Монса к Анне — у него уже начался «амур» с особой куда более высокого положения — самой царицей.[43]
В 1719 году в гости к Анне приезжала сестра, мекленбургская герцогиня Екатерина — жаловалась на самодура-мужа, которого император лишил герцогства. Тем временем днна, как смогла, устроила свое счастье с помощью пожилого, но надежного Бестужева. Поначалу он ей не понравился: Бестужев доложил царю, что «их высочествам не угоден» и Анна просит прислать ее родственника Салтыкова. Однако постепенно отношения наладились. Бестужев вел утомительные для вдовы хлопоты по имениям (удивительно, что окруженная на протяжении многих лет «немцами», она так и не выучила язык и впоследствии избегала на нем объясняться), через него Петр действовал при сношениях с курляндским дворянством и иностранными представителями в герцогстве. Бестужев ведал и доходами с имений; они направлялись в Петербург и уже оттуда достаточная, по мнению царя, сумма передавалась тому же Бестужеву. Анна, в свою очередь, заботилась о семье своего управляющего, хлопотала перед императрицей Екатериной о его сыновьях и дочери, княгине Волконской. Самому Бестужеву она выпрашивала чин тайного советника. О том же ходатайствовал и он сам в письмах к всесильному в ту пору Монсу, а для Анны просил чести получить хорошую драгунскую роту в качестве гвардии. Ни того ни другого он так и не добился; но фаворит императрицы мимолетную поездку запомнил и даже заказывал себе в Курляндии башмаки.
Как и другие люди петровского двора, Анна старалась действовать через новую царицу, Екатерину, называя ее в письмах «тетушка-матушка», «свет мой», «радость моя». Ей герцогиня жаловалась на буйного дядю Василия Федоровича Салтыкова, рассказывала о нередких размолвках с матерью, царицей Прасковьей. «Истенна, матушка моя, донашу: неснозна, как нами ругаютца! — пишет она в июле 1719 года Екатерине. — Если бы я таперь была при матушки, чаю бы чуть была жива от их смутах; я думаю, и сестрица от них, чаю, сокрушилась. Не оставь, мои свет, сие в своей миласте!» Ей же и жаловалась на одиночество и бедность: «Дарагая моя тетушка, покажи нада мною материнскую миласть: попроси, свет мой, миласти у дарагова государя нашева батюшки дядюшки оба мне, чтоб показал миласть — мое супружественное дело ко окончанию привесть, дабы я болше в сокрушении и терпении от моих зладеев, ссораю к матушке не была <…>. Вам, матушка моя, известна, што у меня ничево нет, краме што с воли вашей выписаны штофы; а ежели к чему случеи позавет, и я не имею нарочетых алмазов, ни кружев, ни полотен, ни платья нарочетава: и в том ко мне исволте учинить, матушка моя, по высокаи своей миласти из здешних пошленых денек; а деревенскими доходами насилу я магу дом и стол свой в гот содержать. Также определен по вашему указу Бестужев сын ка мне обар-камарам-юнкаром и живет другой год бе[з] жалованья, и просит у меня жалованья; и вы, свет мои, как неволите? И прошу, матушка моя, не прогнева[й]ся на меня, шту утрудила своим писмом, надеючи на миласть вашу к себе. Еще прошу, свет мой, штоб матушка не ведала ничево и кладусь [в] волю вашу: как, матушка моя, изволишь са мною. При сем племянница ваша Анна кланеюсь».[44]
Екатерину же Анна просила ходатайствовать, чтобы «батюшка-дядюшка» разрешил пользоваться частью собранных с ее же владений денег — или хотя бы оберегал от растраты ее матерью, самоуправной царицей Прасковьей, средств, уже «определенных» на содержание курляндской герцогини.
Между тем при бедности курляндского двора через руки Бестужева проходили значительные суммы: с разных герцогских «амптов» было получено почти 273 тысячи талеров «контрибуции». Через него российское правительство постепенно выкупало заложенные герцогские имения — за несколько лет, таким образом, за 87 370 талеров было приобретено 13 хозяйств с ежегодным доходом не менее 14 тысяч талеров. Он ведал и расчетами с герцогскими заимодавцами, и отдачей этих имений в аренду местным дворянам, тем самым создавая российскому двору партию «благожелательных».
Хозяйственные заботы Бестужева были, видимо, не совсем бескорыстными — во всяком случае, можно утверждать, что доходы от сданных в аренду имений поступали в 20-е годы в Петербург весьма неравномерно. Возможно, как раз разочарование в обманывавшем вдову Бестужеве и заставило ее резко — и до конца жизни — изменить к нему отношение. Однако тому виной могли быть не только банальные хищения, но и амурные похождения пожилого управляющего, насчет которых в мае 1727 года поступил донос в Петербург: «pan jeneral Bestuzew Rumyn… kradnie W. I. Mosey у wodzi do siebie frelin Bironowe i iey daie po tysioncu taliarzow, z magazine wengiersky wina, miensa, monky», — в то время как прочие дворцовые служители умирали с голоду; сообщалось, что он уже обокрал герцогиню на 20 тысяч рублей и завел от фрейлин побочных детей.[45] Так в подметном письме всплыла фамилия небогатого и незнатного курляндского семейства, которое к тому времени оказалось связанным с маленьким двором Анны Иоанновны.
Чем занимался юный Бирон до знакомства с Бестужевым, неизвестно. Манштейн в мемуарах указал, что будущий герцог «провел несколько лет в кенигсбергском высшем училище, отсюда он бежал, чтобы не попасть под арест, которому подвергался за некоторые некрасивые дела. Возвратясь в Курляндию, он убедился, что не может существовать без службы, поэтому в 1714 году отправился в Петербург. Здесь он домогался должности камер-юнкера при дворе кронпринцессы, супруги царевича. Однако такое домогательство со стороны человека такого низкого происхождения показалось слишком дерзким; ему отвечали презрительным отказом и посоветовали даже скорее убираться из Петербурга. По возвращении в Митаву он познакомился с г. Бестужевым (отцом великого канцлера), обер-гофмейстером двора герцогини Курляндской; он попал к нему в милость и пожалован камер-юнкером при этом дворе. Едва он встал таким образом на ноги, как начал подкапываться под своего благодетеля; он настолько в этом успел, что герцогиня не ограничилась удалением Бестужева от двора, но еще всячески преследовала его и после».[46]
Неудивительно, что безвестному выходцу из Курляндии отказали в месте при дворе наследника российского престола; трудно даже поверить, чтобы он мог на него претендовать. К сожалению, этот факт невозможно проверить, как и утверждение другого биографа Бирона, К. Хемпеля, что будущий герцог в молодости работал домашним учителем в Лифляндии. А вот попытка пристроиться в родной Курляндии представляется более вероятной. Место при особе бедной и безвластной герцогини не могло вызвать большой конкуренции; к тому же и Бестужеву нужны были энергичные и исполнительные местные уроженцы для управления разбросанными по стране имениями. По-видимому, иного пути у сына бедного, да еще и имевшего весьма сомнительное происхождение помещика не было: курляндское рыцарство не считало Бирона за своего, что впоследствии сказалось на его отношении к родовитым фамилиям.
Так и хочется сообщить читателям о появлении на исторической сцене нашего героя в духе дамских романов: «12 февраля 1718 года, в бытность Анны, тогда еще герцогини Курляндской, в Анненгофе близ Митавы произошло событие, казавшееся не важным, но впоследствии имевшее громадное значение как для будущей императрицы, так и Для всей России. Во время болезни Петра Михайловича Бестужева-Рюмина герцогине Анне принес бумаги для подписи мелкий чиновник. Она велела ему приходить каждый день. Через несколько времени она сделала его своим секретарем, потом камергером. Его звали Эрнест Иоанн Бюрен».[47]
Большинство историков также считает, что знакомство Бирона с Анной произошло в 1718 году. Скорее всего, так оно и было; встреча состоялась, по-видимому, с помощью уже служившего герцогине камер-юнкера Германа Карла Кейзерлинга. Анна должна была рано или поздно столкнуться с Бироном у себя в замке: при маленьком дворе появление всякого нового лица — событие. Другое дело, что молодой человек едва ли сумел сразу произвести «незабываемое впечатление» и тем более «подкопаться» под опытного и влиятельного Бестужева. Некоторое время в этом спектакле он играл роль статиста.
Однако к 1720 году Бирон дослужился до управляющего имением Вирцава, которым ведал в течение нескольких лет. Хозяином он был исполнительным и энергичным — об этом свидетельствуют его донесения П. М. Бестужеву-Рюмину: «Докладываю, что за время моего отсутствия садовник посадил 300 лип. Я подбадривал садовника добросовестно работать, применяя все свои знания <…>. Но этот парень весь день прогуливался по саду и ничего не делал, поэтому я велел его выпороть. В субботу и в понедельник тоже все продвинулось настолько успешно, что посажено 700 лип и 200 вишен».[48] И все же круг забот сельского хозяина: учет урожая, составление отчетов о проведенных полевых работах и описей конюшни и прочего инвентаря — не предвещал взлета карьеры и уж тем более ее романтических подробностей.
Точнее, одна ситуация все-таки возникла во время учебы Бирона в Кенигсберге. Возможно, позднее он сам представил ее в качестве эпизода бурной студенческой молодости; в таком виде эта история попала к Манштейну. Однако попытки отыскать имя будущего герцога в списках студентов Кенигсбергского университета успехом не увенчались.
В 1725 году в написанном по-немецки письме, адресованном некоему камергеру при российском дворе, Бирон объяснил свое незавидное положение без какого-либо упоминания о своем студенчестве: «Благодарю ваше высокоблагородие за всю высокую доброту и любовь, кои вы мне оказали и коими, через ваше сильное заступление перед их высочествами, вполне умножилось мое благосостояние. Снова приемлю ныне смелость прибегнуть к защите и заступлению вашего высокоблагородия в тяжкой нужде моей. Вы, конечно, знаете о несчастии, постигшем меня года два тому назад в Кенигсберге, и именно о том, как я с большою компанией гулял ночью по улице, при чем произошло столкновение со стражею, и один человек был заколон. За это все мы попали под арест; я три четверти года находился под арестом, потом выпущен под условием заплатить, на мою долю, 700 талеров штрафу, а иначе просидеть три года в крепости. Я не могу выполнить условия, и потому покорнейше прошу оказать мне милость поговорить с тайным советником бароном Мардефельдом, не может ли он предстательствовать у своего короля в Берлине о том, чтобы освободить меня от такого штрафа. Еще прошу доставить по принадлежности приложенные письма и замолвить за меня слово для успешнейшего действия оных. 18 августа есть срок, к которому я должен явиться. Полагаюсь на Бога и на вас и пребуду во всю жизнь со всею преданностию вашего высокоблагородия, высокоуважаемый господин камергер, покорный слуга Е. И. Бирон. Митава. 25 июля 1725».[49]
Адресатом письма, которого имело смысл просить о помощи в столь деликатной ситуации, был, скорее всего, Рейнгольд Левенвольде — в то время уже камергер и фаворит Екатерины I. Письмо написано с известной прямотой, хотя, как видно, его автору ничего иного не оставалось. С одной стороны, Бирон явно не выглядит в этой истории невиновным: ночные похождения, драка со стражей, вольное или невольное убийство на совести; с другой — он явно не рассчитывает на заступничество собственной герцогини, а старается — и, судя по всему, удачно — завести связи в Петербурге.
К тому времени он уже стал камер-юнкером (в 1722 году) и был обвенчан с придворной дамой герцогини Бенигной Готтлиб фон Тротта-Трейден 25 февраля 1723 года во дворце в Митаве. Однако предполагать наличие страстного романа с герцогиней, якобы лично для маскировки подобравшей ему пару, оснований пока нет.
Молодая жена Бирона, судя по имеющимся портретам, была не слишком похожа на созданный в литературе образ горбатой, глупой, да еще и «совершенно неспособной к супружеской жизни» особы. Жена английского консула в Петербурге леди Рондо писала в 30-е годы XVIII века: «У нее прекрасный бюст, какого я никогда не видела ни у одной женщины», — хотя при этом и добавляла, что она «так испорчена оспою, что кажется узорчатою».
Что ж, оспины в XVIII столетии портили немало прелестных лиц, и многие сохранившиеся портреты той эпохи льстили оригиналам. Однако это не мешало Бирону ухаживать за молоденькой фрейлиной. Сохранился даже его подарок — изящная коробочка для косметики, о которой он сообщил невесте в одном из писем октября 1722 года: «Надеюсь, что добрый Шмидхаммер уже был у вас и что сюрприз удался. Благодаря Бога в этот день за все хорошее и доброе, что он сделал для вас, пусть великий Бог и в дальнейшем дарит вам здоровье. Когда дела будут окончены, пусть ни малейшая печаль не тревожит ваше сердце. „Прекрасный и любимый“ — девиз вашего сердца. Поскольку я имею преимущество быть близким вашему сердцу, считаю дни, которые еще разделяют нас, и успокаиваю себя, что вскоре увижу своего милого ангела».[50]
Нам известны и другие теплые письма Бирона к жене. «Целую своего сына, мой ангел, твой верный слуга Э. И. Вирой», — радовался молодой камер-юнкер 19 марта 1724 года по поводу рождения первенца. Старший сын Эрнста Иоганна (будущий последний герцог Курляндский) Петр родился 15 февраля 1724 года в Елгаве, во время поездки герцогини, сопровождаемой Бироном, в Москву; считать этого ребенка сыном Анны нельзя, хотя такая точка зрения и высказывалась.[51] Косвенным доказательством непричастности Анны к рождению старшего сына Бирона является предпринятая в 1739 году попытка фаворита сосватать его племяннице императрицы, мекленбургской принцессе Анне Леопольдовне. Для циничного и честолюбивого Бирона близкое родство, возможно, и не являлось препятствием к свадьбе, но богобоязненная Анна Иоанновна никогда не согласилась бы на кровосмесительный брак. Однако известно, что не императрица, а сама невеста отвергла руку Петра Бирона, предпочтя ему другого кандидата, о чем рассказ пойдет ниже.
Анне Иоанновне в это время опять подыскивали женихов — на этот раз уже «доброжелательные» курляндские дворяне представили в Петербург список из 17 кандидатур в возрасте от трех месяцев до сорока лет. Но и этот маневр остался безрезультатным: главный и реальный претендент, ландграф Георг Гессен-Кассельский, был младшим братом шведского короля и категорически не устраивал Петра I.
Бестужев отправился уговаривать Фердинанда вообще отказаться от трона и передать право «сукцессии» русскому царю; но герцог от такого варианта отказался, да еще выдвинул финансовые претензии по поводу взимания «контрибуций». «Вашей светлости дружественный дядя Петр» послал герцога с его запросами к бессильному польскому монарху, а Бестужев — естественно, от имени Анны — представил ему счет на 900 тысяч рублей, которые Анне так и не выплатили по брачному договору, приплюсовав все прочие ее расходы, включая покупку мебели и одежды.
Пока обер-гофмейстер был занят этими государственными делами (саму Анну, естественно, никто в расчет не принимал), медленно, но верно проходило возвышение нашего героя. Из обычного управляющего он постепенно превратился в доверенного придворного — камер-юнкера. Ведь кто-то должен был добывать необходимые деньги на текущие расходы, улаживать бытовые проблемы, наконец, развлекать забытую герцогиню. Вероятно, как раз тогда Анна пристрастилась к не слишком изысканным охотничьим развлечениям вольных баронов — пальбе из ружья по любой живой твари (эту привычку она сохранила и будучи российской императрицей). Вместе с Анной он не раз бывал в Петербурге; его коллега, камер-юнкер голштинского герцога Берхгольц, отмечал появление Бирона в марте, а затем в сентябре 1724 года. Тогда сам будущий герцог рассказывал об охоте и куртагах по средам и воскресеньям — немудреных развлечениях маленького курляндского двора, состоявшего из «трех немецких фрейлин и двух-трех русских дам, из обер-шталмейстера Бестужева, одного шталмейстера, двух камер-юнкеров, одного русского гоф-юнкера».
Митавский двор обошли стороной бурные петербургские события, когда во время предсмертной болезни Петра I Д.М.Голицын, В.Л.Долгоруков, Г.И.Головкин и другие сенаторы и президенты коллегий хотели авторитетом Сената ограничить власть регентши Екатерины при маленьком императоре Петре II. Произвол абсолютной власти несколько упорядочивался бы рамками «европейского» образца. Но их противники оказались сильнее. Искусный дипломат Петр Толстой пугал собравшихся во дворце вельмож неизбежной усобицей при царе-мальчике. Фельдмаршал Меншиков привел с собой гвардейских офицеров, от имени которых выступил майор Андрей Ушаков: «Гвардия желает видеть на престоле Екатерину и <…> она готова убить каждого, не одобряющего это решение». Неутешная вдова Екатерина нашла силы, чтобы приготовить для своих защитников «векселя, драгоценные вещи и деньги». Расходные книги царского кабинета сообщают, что воцарение императрицы обошлось в 30 тысяч рублей: 23 тысячи выплатили солдатам гвардии, остальное пошло на «тайные дачи» майору Ушакову и другим офицерам, в том числе сержанту Петру Ханыкову, который со своим бессменным караулом обеспечил изоляцию умиравшего императора от нежелательных посетителей.
Впервые в России вопрос о престолонаследии решался в открытом, хотя и далеко не парламентском, споре. Манифест о начале нового царствования был издан не от имени Екатерины: присягать новой государыне «правительствующий Сенат и святейший правительствующий Синод и генералитет согласно приказали», что означало слегка замаскированное избрание монарха. Добрая, но неграмотная императрица управлять государством не могла, да и не имела времени. «Кто бы мог подумать, что он целую ночь проводит в ужасном пьянстве и расходится, это уж самое раннее, в пять или семь часов утра», — таковы впечатления от жизни петербургского двора польского посла Иоганна Лефорта. Поэтому пришлось создать в 1726 году Верховный тайный совет, который с тех пор фактически управлял страной. Для Анны и ее двора смена на престоле обернулась к лучшему — Екатерина увеличила финансирование покорной родственницы.
Бирон к тому времени дослужился уже до обер-камер-юнкера и как раз прибыл в столицу с поздравлениями новой императрице Екатерине I от герцогини. Он выполнял финансовые поручения Анны Иоанновны и ее родни: «1725 года марта 22 дня по указу ее высочества государыни царевны Прасковьи Иоанновны отдано в Санкт-Петербурге от дому ее высочества денег ее высочества государыни царевны и герцогини Курляндской Анны Иоанновны камер-юнкеру Бирону двести рублев, которые деньги он, Бирон, повинен привезть в Митаву и подать ее высочеству в хоромы. Того дня в приеме оных денег подписался своеручно Е. I. Biron».[52] По поводу своих курляндских дел Анна Иоанновна лично писала Меншикову и Остерману, прося о содействии. С ними пришлось иметь дело и ее посланцу. Могущественный Меншиков в ту пору едва ли обратил внимание на скромного камер-юнкера — светлейший князь сам примерялся к курляндской короне. Но и опытный Остерман едва ли представлял, что имеет дело с будущим соперником в борьбе за власть и влияние.
Все же путешествие оказалось для Бирона полезным: Екатерина I пожаловала ему 500 рублей. Каким-то образом он сумел обратить на себя благосклонное внимание императрицы — правда, только как эксперт по лошадиной части. До нас дошел указ императрицы Бестужеву: «Немедленно отправить в Бреславль обер-камер-юнкера Бирона или другого, который бы знал силу в лошадях и охотник к тому был и добрый человек, для смотрения и покупки лошадей».[53] Петербургские знакомства оказались полезными; судя по всему, сидеть в прусской тюрьме по делу об убийстве Бирону больше не пришлось. Для дворянина сомнительного происхождения избегнуть тюрьмы было большой удачей. Для закрепления успеха надо было постараться угодить настоящему хозяину курляндского двора Бестужеву, что, видимо, Бирону удалось с помощью сестер-фрейлин, сумевших произвести нужное впечатление на «пана генерала».
Если конюшенные познания молодого Бирона оценила даже императрица Екатерина, то находившаяся рядом Анна и подавно не могла их не заметить, выезжая из дворца и сравнивая достоинства своей упряжки с соседскими. В XVIII столетии, когда живая «лошадиная сила» определяла уровень благосостояния хозяйства, возможности передвижения и престиж их хозяина, такие вещи ценить умели. Одновременно Бирон постигал и самую важную придворную науку — умение быть необходимым и оказываться в нужном месте в нужное время. Позднее даже его противники признавали, что он «был умен, и хотя он никакого языка не знал порядочно, но от природы одарен был красноречием», весьма полезным при обращении с дамами. Там же стал складываться круг знакомых — камер-юнкеров Анны Иоанновны Германа Карла Кейзерлинга и Иоганна Альбрехта Корфа, чья карьера развернулась при петербургском дворе вместе с возвышением Бирона.
Настоящее же влияние при дворе и в сердце герцогини еще предстояло завоевать, как и положение в обществе. Не только немецкие рыцари, но и российские служивые не принимали всерьез курляндского дворянина. Много лет спустя арестованный сибирский вице-губернатор Алексей Жолобов неизвестно с чего разоткровенничался на допросе в Тайной канцелярии, припомнив о своих давних встречах с Бироном: «Говорил я еще о графе Бироне, как он Божиею милостию и ее императорского величества взыскан. Такова-то милость Божия! Во время этого Бирона, в бытность в Риге комиссаром он бивал, а ныне рад бы тому был, чтоб его сиятельство узнал меня. <…> В Риге при покойном генерале Репнине (генерал-губернаторе Лифляндии в 1719–1724 и 1725–1726 годах. —
«Кредит» Бестужева оставался в полной силе, несмотря на недовольство поведением Анны со стороны ее матери и московской родни — Салтыковых. Главный завхоз Анны и российский генерал-комиссар получил чин тайного советника, и, как показывают «повседневные записки» А. Д. Меншикова, регулярно и подолгу находился в Петербурге среди приближенных князя.
Анна еще не оставила мечты о замужестве. Летом 1726 года она почти стала реальностью. Не дожидаясь кончины престарелого и бездетного Фердинанда, курляндское рыцарство с тайного согласия короля Августа II избрало его незаконного сына, офицера французской службы и неотразимого дамского угодника Морица Саксонского своим герцогом. Это избрание вполне устраивало его отца — и вдовствующую герцогиню.
Мориц поспешил в Курляндию на деньги, занятые у своей матери и у любовницы — парижской актрисы. Бюргеры восторженно приветствовали его, а дворяне сразу же избрали герцогом и вручили грамоту, согласно которой глава государства обещал соблюдать и защищать рыцарские привилегии. Сам новый герцог тогда, в июне 1726 года, был уверен в успехе — ведь он явился спасти «нацию, которой угрожает потеря свободы». Польский сейм против? Пруссия защитит Курляндию от поляков. Россия будет недовольна? Но он женится на русской герцогине (а если надо, то и на Елизавете Петровне), о чем поручил хлопотать саксонского посла в Петербурге. Герцогство слабо и беззащитно? Он заведет с помощью французских мастеров новые предприятия, устроит армию и флот в 40 боевых кораблей.[55]
На герцогиню Мориц немедленно произвел неотразимое впечатление. Сраженная 30-летним галантным кавалером Анна слезно просила Меншикова донести до императрицы ее горячее желание выйти замуж: «Прилежно вашу светлость прошу в том моем деле по древней вашей ко мне склонности у ее императорского величества предстательствовать и то мое полезное дело совершить», — и в конце письма признавалась: «И оной принц мне не противен». О том же она умоляла Остермана.
Но дамское счастье в истории редко совпадает с политическими интересами. Польский сейм, вопреки планам своего короля, намеревался осуществить «инкорпорацию» полунезависимого герцогства в состав Речи Посполитой. Усиление саксонского курфюрста, конфликт с Речью Посполитой и появление в Курляндии французского полковника не устраивало ни Пруссию, ни Россию, ни самого Меншикова, к тому времени пожелавшего стать коронованной особой, хотя бы в маленьком соседнем герцогстве. 29 июня 1726 года Меншиков вместе со срочно вызванным к нему Бестужевым двинулся в Курляндию, формально — инспектировать местные гарнизоны и полки; на деле — не допустить утверждения в Курляндии Морица и организовать собственное избрание в герцоги.
В Митаве 33-летняя вдова обратилась к князю «с великою слезною просьбою, чтобы в утверждении герцогом курляндским князя Морица и по ее желанию о вступлении с ним в супружество мог <…> исходатайствовать у вашего величества милостивейшее позволение, представляя резоны: первое, что уже столько лет как вдовствует; второе, что блаженные и вечно достойные памяти государь император имел о ней попечение и уже о супружестве с некоторыми особами и трактаты были написаны, но не допустил того некоторый случай». Меншиков умерил пыл Анны: императрица никак не согласится на брак по причине «вредительства интересов российских». К тому же природной московской царевне с Морицем «в супружество <…> вступать неприлично, понеже он рожден от метресы». Напоследок светлейший князь выложил последний, неотразимый аргумент: если герцогом будет избран он сам, то он гарантирует сохранение прав Анны Иоанновны на ее курляндские владения; «ежели же другой кто избран будет, то она не может знать, ласково ль с ней поступать будет, и дабы не лишил ее вдовствующего пропитания».[56]
Императрице Меншиков сообщил, что он разговаривал с герцогиней «со учтивостью», что на солдатском языке генералиссимуса могло означать разве что неприменение ненормативной лексики. Угрозой на предмет «пропитания» он заставил Анну отказаться от брака с Морицем, а при встрече с ним по-купечески пообещал «знатную сумму» в виде отступного. Изысканную парижскую любезность соперника он, по-видимому, искренне принял за согласие, после чего столь же «учтиво» сделал выговор курляндским рыцарям: «Он их Сибирью стращал и при том им сказывал: по их правам не довлеет им блядина сына в свое братство принимать, а ныне оне блядина сына над собою в герцоги выбрали». Затем светлейший князь потребовал от полномочного органа формально независимого от России государства в 10-дневный срок отменить прежнее решение и утвердить его кандидатуру как самую подходящую.
После по-кавалерийски стремительного «наезда» Меншиков спокойно отбыл восвояси. Но стоило ему покинуть Митаву, как представители ландтага отказались созывать вновь депутатов и тем более проводить новые выборы, о выдвижении православного русского выскочки в немецкие герцоги тем более не могло быть речи. Разгневанный Меншиков запросил у императрицы разрешение «ввести в Курляндию полков три или четыре» для успешного завершения дела. Однако новый международный конфликт никак не входил в намерения русского правительства, и князю был послан указ немедленно возвращаться в Петербург.[57] Туда же поспешила и Анна с жалобой на Меншикова и надеждой, что ей все-таки разрешат выйти замуж за приглянувшегося кавалера.
Видимо, в это время противники князя решили нанести ему удар. Австрийский посол граф Амедей Рабутин сообщал, что «вельможи намерены положить конец насильственным поступкам Меншикова». По данным Рабутина, против Меншикова объединились почти все члены императорского дома, в том числе дочери и племянницы Петра I — герцогиня Курляндская Анна и ее сестра герцогиня Мекленбургская Екатерина. По возвращении князя в столицу именной указ императрицы от 28 июля 1726 года повелевал строго допросить Бестужева-Рюмина «о худых его там поступках», а у самого Меншикова и помогавшего ему дипломата князя В. Л. Долгорукова «взять на письме репорты на указы наши и освидетельствовать, что будучи в Курляндии все ли так они чинили, как те наши указы повелевали».[58]
Долго служивший в России Христиан Герман фон Манштейн вполне определенно утверждал, что отдан был даже приказ об аресте Меншикова, и только заступничество герцога Голштинского спасло на этот раз карьеру князя от крушения. Эта версия отражена в литературе, но никаких документальных подтверждений ее до сих пор не найдено, что неудивительно: свержение временщика не состоялось, и любые документы подобного рода должны были исчезнуть.
Но удача еще не отвернулась от фаворита. Его «повседневные записки» сообщают, что 21 июля тотчас по приезде князь, не заходя домой, с обыкновенной дерзостью отправился прямо во дворец, где имел четырехчасовую беседу с императрицей.[59] Этот экстренный визит спас Меншикова от серьезных неприятностей; тем не менее он вынужден был подать в Верховный тайный совет «репорт» с оправданием своих действий и почти целый месяц (до 19 августа) не показывался на его заседаниях. В итоге угроза опалы миновала: императрица повелела «все то дело уничтожить и не следовать», хотя и заявляла, «сколь несостоятельно светлейшего князя желание о бытии герцогом курляндским».
Для устранения Морица и тем более предотвращения инкорпорации Курляндии в состав Речи Посполитой в маленькое герцогство прибыли важные персоны — генерал-прокурор П. И. Ягужинский, действительный тайный советник В.Л.Долгоруков, генерал-адъютант и генерал-полицеймейстер А. М. Девиер. Внезапно налетевшие события отодвинули Анну и ее двор в сторону — кому, собственно, она была интересна? Меншиков смотрел на нее как на досадную помеху своим планам, Бестужев послушно исполнял волю светлейшего князя и безуспешно пытался «возбранить» курляндскому ландтагу избрать Морица, то есть действовал вопреки пожеланиям своей герцогини.
Правда, оставался еще Мориц — но тот, к своему несчастью, попался герцогине январской ночью во дворе замка, когда тащил на плечах к себе в апартаменты очередную прелестницу-фрейлину, не желая, чтобы следы дамы на снегу ее компрометировали. Морица мало волновали упреки несостоявшейся жены (ведь в герцоги его уже избрали), но он как будто не понимал, что маленькой Курляндии такой «защитник», вызвавший неудовольствие всех соседних держав, был не нужен. Сейм категорически отказался его признать; энтузиазм курляндцев сразу пропал, и вместо 18-тысячной армии, на которую рассчитывал Мориц, он набрал едва ли тысячу солдат из дезертиров всех европейских армий.
Пока герцог сидел в Митаве и читал «Дон Кихота», рыцарство больше всего было озабочено сохранением своих привилегий. Когда выяснились твердые намерения Польши осуществить инкорпорацию, оно стало склоняться к условиям русских дипломатов: отменить выборы Морица и выбрать того кандидата, «которого предложит ее императорское величество», с сохранением всех их «древних прав, вольностей и привилегий»; в противном случае Россия угрожала лишить Курляндию своего покровительства и согласиться с ее разделом.
Когда же для воспрепятствования польским планам, а заодно и поимки герцога, явились драгуны генерала Ласси, дворянство объявило избрание Морица незаконным и «никогда не состоявшимся». Сам Мориц с «армией» в 500 человек, окруженный русскими войсками, храбро отбивался, в конце концов ускользнул и отбыл обратно в Париж, увезя с собой акт об избрании. Спустя 20 лет он по-прежнему официально именовал себя «герцогом Курляндии и Семигалии». Герцогство он оставил навсегда, но больше всего сожалел о другой потере. Направлявшегося в Петербург испанского посла, своего старого знакомого герцога де Лириа, он просил «выхлопотать несколько любовных записочек, находившихся в сундуке, который взяли у него в Курляндии и который находится в русской канцелярии». Любезный посол старался помочь приятелю — вопрос о трофеях, «кои совершенно неважны для Русского государства», обсуждался на самом высоком дипломатическом уровне с участием российского вице-канцлера графа А. И. Остермана, но доказательства побед на любовном фронте так и не были возвращены владельцу.
Видимо, в эти печальные для Анны 1726–1727 годы и пробил час Бирона — кто еще мог утешить и окружить вниманием бедную и никому не нужную вдову? В Петербурге в это время «птенцы гнезда Петрова» делили власть накануне смерти императрицы Екатерины. Воцарение Петра II стало самым большим — и последним — успехом Меншикова. Вскоре Синод повелел во всех церквах России поминать рядом с двенадцатилетним императором дочь князя — «обрученную невесту его благоверную государыню Марию Александровну». Для нее немедленно был создан особый двор с бюджетом в 34 тысячи рублей для содержания камергеров, фрейлин, гайдуков, лакеев, пажей, поваров.
Для Анны торжество Меншикова не предвещало ничего хорошего; но ей, зависевшей от милости петербургского двора, приходилось слать поздравительные письма. Торжества первых дней нового царствования нарушали проводимые аресты и ссылки: из столицы удалялись все, кто казался Меншикову хоть в некоторой степени опасным — даже дочь Петра I Анна Петровна вместе с ее мужем, герцогом Голштинским. Но через три месяца все переменилось. Стоило Меншикову заболеть и на некоторое время выпустить юного самодержца из-под контроля, как у того оказались новые любимцы — князья Долгоруковы, а его доверенное лицо, барон Андрей Иванович Остерман, подготовил дворцовый переворот.
8 сентября 1727 года князю был объявлен именной указ о домашнем аресте. Под барабанный бой обывателям зачитывали другой указ о том, что император «всемилостивейшее намерение взяли от сего времени сами в Верховном тайном совете присутствовать и всем указам быть за подписанием собственныя нашея руки» и о «неслушании» любых распоряжений Меншикова. Сам же он 10 сентября отправился в ссылку в роскошной карете с целым караваном имущества и прислуги. Если бы гонец Морица Саксонского с деловым предложением ежегодно платить князю за курляндскую корону по 80 тысяч талеров не опоздал — как знать, возможно, оно было бы принято.
В дальнейшем подобные ситуации будут проходить уже по иному сценарию — с немедленным арестом, следствием, предрешенным приговором и конфискацией движимого и недвижимого имущества. В данном же случае события разворачивались постепенно, новые правители как будто испытывали опасения, хотя и недолго: через несколько месяцев пребывания под следствием в своем имении Меншиков был сослан в Березов — маленький сибирский поселок на нижней Оби у Полярного круга.
Параллельно развивалась и митавская интрига — в соответственно уменьшенном масштабе. Весной 1727 года на Бестужева был подан упоминавшийся уже анонимный донос на польском языке о его хищениях, самовластных поступках и распутном образе жизни. «Управляющего» Курляндией затребовали в Петербург. Он медлил. Анна Иоанновна вновь писала к Меншикову, его жене и дочери, Остерману, прося не отзывать Бестужева: «Нижайше прошу ваше превосходительство попросить за меня, сирую, у его светлости (Меншикова. —
Однако и на этот раз гроза миновала. Помогло то ли заступничество Анны, то ли — скорее — устранивший Меншикова переворот. При очередном переделе власти и собственности правителям было не до разбора личной жизни и прочих грехов пожилого генерала. Но, выиграв очередную придворную баталию, Бестужев не заметил, как проиграл другую, гораздо более важную. Как раз в это время было подготовлено «падение» его самого в глазах и в сердце его покровительницы. В октябрьских письмах Анны 1727 года, когда Меншиков был уже низвергнут, имя Бестужева больше не упоминается.
Вернувшись в конце 1727 года домой, Петр Михайлович обнаружил, что получил «отставку». Он тяжело переживал случившееся и не мог смириться с тем, что он теперь в Митаве не хозяин. Своей дочери княгине Аграфене Волконской Бестужев писал в Москву, куда как раз отправилась герцогиня: «Я в несносной печали: едва во мне дух держится, потому что чрез злых людей друг мой сердечный от меня отменился, а ваш друг (Бирон. —
Письмо говорит о душевном состоянии автора: он явно потрясен неожиданной «отменой» близкого человека, но грехи за собой имеет, хотя и пытается их спрятать подальше: судя по всему, история с фрейлиной (или фрейлинами) выплыла и стала для него роковой в глазах Анны. Однако надежда вернуть себе утраченное расположение еще оставалась. Бестужев уверен, что без него дела в герцогском хозяйстве не пойдут; можно было подстраховаться, организовав «смуты» (благо заносчивый характер соперника давал к тому поводы), и тогда Анне ничего не останется, как вернуться под его надежную защиту. И еще одно тревожило вельможу: началось новое царствование, перемены были неизбежны — а Бирон как раз находился в столице, и мало ли чем могли обернуться его рассказы о курляндских делах.
Петр Михайлович опасался не зря. За схваткой первых министров и вельмож империи (Меншикова, Толстого, Долгоруковых) вырисовываются группировки, так сказать, второго ряда, участники которых также надеялись поймать придворное счастье при юном государе.
Одна из таких «факций» как раз образовалась вокруг дочери Бестужева, княгини А. П. Волконской. Туда входили молодые дипломаты — честолюбивый посланник в Дании Алексей Бестужев-Рюмин (будущий канцлер) и его брат Михаил, знаменитый «арап» и капитан-лейтенант Преображенского полка Абрам Ганнибал, учитель царевича камергер Семен Маврин, кабинет-секретарь Иван Черкасов и член Военной коллегии Егор Пашков. Алексей Бестужев-Рюмин вел тонкую интригу, опираясь на австрийскую помощь, и стремился окружить мальчика-императора и его сестру Наталью преданными людьми.[62]
В июле 1727 года хитроумную комбинацию разрушил Меншиков. Наставник Петра II Семен Маврин отправился в Тобольск, вслед за ним туда же был послан Абрам Ганнибал — строить крепость в далеком Селенгинске на границе с Китаем. Срочно был выслан за границу другой учитель Петра, венгр Иван Зейкин. Аграфена Волконская отправлена в деревню.
Старший Бестужев-Рюмин как будто остался лояльным (или демонстрировал лояльность) Меншикову — регулярно являлся в его дворец накануне «падения» князя в августе-сентябре 1727 года. Но младшее поколение семьи было настроено более решительно — радовалось свержению «прегордого Голиафа» и рассчитывало на возвращение в придворный круг, тогда как отец, судя по его письму дочери в марте 1728 года, надежду на возвращение своего «кредита» утратил и опасался худшего: «От кого можно осведомиться, нет ли гнева на меня ее высочества, потому что из писем вижу и опасаюсь, чтоб наш приятель (Бирон. —
Дочь старалась через окружение цесаревны Елизаветы очернить семейного врага: «… Поговори известной персоне, чтоб, сколько ему возможно, того каналью хорошенько рекомендовал курляндца, а он уже от меня слышал и проведал бы, нет ли от канальи каких происков к моему родителю, понеже ему легко можно знать от Александра (Бутурлина. —
Однако и при петербургском дворе новые правители — клан князей Долгоруковых — стремились устранить возможных конкурентов в борьбе за влияние на юного царя. Никто из сосланных Меншиковым сторонников воцарения Петра не был возвращен. Правда, интрига Долгоруковых против гофмейстера великой княжны Натальи Рейнгольда Левенвольде не удалась, и оправдавшийся перед императором светский красавец остался при дворе. Зато попал в опалу и был удален от двора камер-юнкер Алексей Татищев; пресечены попытки выйти «в случай» представителей семьи Голицыных: двор покинули фельдмаршал Михаил Голицын, его зять граф Александр Бутурлин и молодой камергер Сергей Голицын. За слишком длинный язык отправлен в свою деревню родственник царя Александр Нарышкин.
Подозрения вызывала и обаятельная Елизавета. Цесаревна страстно любила танцы, балы, театр и шокировала московское общество эмансипированностью — «весьма необычным поведением», по деликатной оценке французского резидента Маньяна. Она часто сопровождала Петра II на охоту, и он настолько сильно привязался к веселой тетке, что это стало серьезно беспокоить двор и дипломатический корпус: «Ум, красота и честолюбие ее пугают всех; поэтому им хочется удалить ее, выдав замуж», — замечал испанский посол.
Опасения членов Верховного тайного совета тем более усилились, когда после смерти сестры Петра II Натальи Елизавета имела все шансы стать основной претенденткой на трон. Дочь и наследница реформатора была неудобна, поэтому так упорно ее имя фигурировало в различных брачных комбинациях русской дипломатии: среди ее женихов были принц Георг Английский, португальский инфант Мануэль, уже упоминавшийся граф Мориц Саксонский, дон Карлос Испанский, герцог Брауншвейгский и другие соискатели.
Правда, сама Елизавета не участвовала в борьбе за власть и влияние на царя. Но ее любовные похождения в конце концов позволили Долгоруковым дискредитировать цесаревну в общественном мнении и отдалить от нее Петра. Много лет спустя в ссылке любимец Петра II Иван Долгоруков озлобленно упрекал Елизавету в падении своего рода: «Императрица (Анна Иоанновна. —
Сохранившаяся переписка Аграфены Волконской позволяет ощутить царившую при дворе атмосферу постоянной вражды, заискивания и соперничества. «Надобно всем моим друзьям стараться, чтобы меня отсюда освободить. Я сопьюся, что уже отчасти и есть», — умолял о возвращении из ссылки Семен Маврин. Брат княгини Алексей Бестужев-Рюмин рассчитывал получить новый чин с помощью австрийского посла графа Рабутина и советовал сестре к нему «в любовь себя привести». Сама опальная дама выясняла, кто сейчас находится при дворе в «кредите» и с кем следует «искать дружбы». Член Военной коллегии Егор Пашков описывал нравы придворных, которые «друг перед другом рвутца с великим повреждением» и «при дворе всякий всякого боитца».
Друзья княгини надеялись на предстоявшую коронацию Петра: «в прибытие в Москву все будет другое», фортуна повернется лицом ко «всем верным его императорскому величеству». Но первая же попытка Волконской и ее окружения собраться в подмосковном Тушине оказалась и последней. Брат горничной княгини донес о свидании и переписке «оппозиционеров». На следствии обнаружились письма Бестужева-отца, и княгиня Аграфена призналась, что «известная персона» — это лекарь цесаревны Елизаветы Лесток, а «каналья» — Бирон. Итогом следствия стало обвинение молодых честолюбцев в том, что «они все делали партии и искали при дворе его императорского величества для собственной своей пользы делать интриги и теми интригами причинить беспокойство».
Княгиню Волконскую сослали в монастырь, а ее друзей — на службу в провинциальные города и в Иран.[63] Алексея Бестужева-Рюмина спасла его дипломатическая служба за границей. Но карьера его отца была окончательно сломана. Когда «дело» Волконской и ее друзей вскрылось, Бестужев летом 1728 года был взят из Курляндии «с опалою» под стражу, бумаги его были опечатаны. Известили ли доброжелатели «каналью курляндца», как о нем отзывался его недавний начальник и покровитель, неизвестно, но он сделал все возможное, чтобы навсегда устранить соперника. И здесь ему повезло — петербургский двор едва ли интересовался грехами пожилого генерала, но весьма опасался придворных «факций».
Интрига против Бестужева стала одним из важных уроков, усвоенных молодым придворным на пути к власти — пока еще в масштабах захудалого немецкого двора. О большем в ту пору и мечтать было невозможно — Анна никем всерьез не рассматривалась как возможная претендентка на российскую корону. Что именно произошло в апартаментах герцогского дворца и какие слова нашел Бирон, чтобы вычеркнуть из жизни Анны ее многолетнего и близкого друга, мы не знаем. Может быть, молодой, решительный и, несомненно, благородный дворянин своим участием вернул женщине молодость? «А ныне в Вирцаве очень хорошо», — не удержавшись, сообщила Анна своей подруге летом 1727 года из имения, много лет остававшегося на попечении Бирона.
Можно предположить, каким старым развратником был представлен Бестужев несчастными сестрами Бирона; как сам камер-юнкер с негодованием «вдруг» обнаружил, что якобы верный слуга безобразно обкрадывал бедную вдову. Анна Иоанновна, еще недавно всеми силами защищавшая своего слугу, теперь жаловалась Петру II: «Я на верность его полагалась, а он меня неверно чрез злую диспозицию свою обманул и в великий убыток привел». Она представила целый обвинительный акт из восьми пунктов, из которого следовало, что Бестужев ввел ее в «великие долги» на 50 тысяч талеров, похитил из канцелярии другие 40 тысяч талеров да еще «запись подсунул мне к подписи како бы я у него несколько тысяч талеров в заим взяла» под залог имения Альтберхфрид. В пылу разоблачения герцогиня призналась, что когда подписывала бумаги, «многих писем не читала и не рассужала», и обличала Бестужева в том, что сама давала деньги и покупала имение в приданое его дочери.
Призванный к ответу обер-гофмейстер обвинения отрицал и твердо стоял на том, что все расходы и покупки производились только по письменным распоряжениям герцогини. Формально так и было: в объемистом деле по обвинению Бестужева присутствуют, в частности, указ о передаче всех герцогских имений в его «диспозицию» и расписка о получении от него 10 тысяч талеров под залог «маетности Алтберхфрид» с собственноручными подписями Анны.[64] На помощь слабо разбиравшейся в хозяйстве и нерассудительно подмахивавшей бумаги на десятки тысяч талеров герцогине срочно прибыл из Митавы камер-юнкер И. А. Корф — и в деле появились десятки счетов, долженствующих убедить правителей, что Бестужев недобросовестно вел хозяйство. Кто-то вполне компетентный по этой части сей «компромат» заранее заготовил и в нужное время подал.
Однако интересно как раз видимое «отсутствие» в этой интриге прямого участия Бирона. Это похоже на его способ действовать, так сказать, «фирменный» почерк, о котором позднее писал саксонский дипломат: «В манере герцога было так управлять делами, которых он более всего желал, что их ему в конце концов преподносили, и казалось, что все происходит само по себе».
Бестужев же однозначно приписывал свои беды именно Бирону и заявил официально, что как раз наоборот — это он тратил на Анну собственные деньги. Выяснения отношений между почти супругами тянулись долго и не завершились к моменту вступления Анны Иоанновны на престол. Вместе с другими служащими и отставными дворянами Бестужев выслушал подписанные Анной «кондиции», участвовал в обсуждении «шляхетских» проектов будущего государственного устройства страны. Однако после восстановления самодержавия он был немедленно отослан с глаз долой губернатором в Нижний Новгород. Но не успел бывший подследственный приступить к исполнению обязанностей, как последовала уже настоящая ссылка — на житье «в дальние деревни». Только в 1737 году, да и то исключительно за «верную службу сыновей», бывшая герцогиня-возлюбленная и тогдашний герцог Курляндский разрешили старому Бестужеву жить «в Москве или в деревнях».
Бирон больше не имел достойного конкурента при дворе: вместо опытного генерала-хозяйственника и дипломата Верховный тайный совет прислал в Курляндию полковника П. Безобразова с гораздо менее широкими полномочиями. Потом там некоторое время подвизался перешедший на русскую службу курляндец Рацкий, умерший в 1728 году. «Падение» Бестужева как будто и впрямь несколько исправило финансовое положение Анны. Петр II увеличил ее содержание на 12 тысяч рублей. Тот же Рацкий отмечал увеличение чинов при ее дворе: там появились гофмаршал, три камер-юнкера, шталмейстер, футер-маршал, две камер-фрейлины, гофраты, переводчики, секретари — и все исправно получали жалованье.[65] Своим камер-юнкерам, среди которых были и русские, Анна отдавала в аренду только что приобретенные на ее имя «ампты».
Сам Бирон уже состоял камергером двора Анны — эту должность он сохранил до конца ее жизни. Со своими обязанностями он справляться умел. Много лет спустя, в 1735 году, в ходе одного из расследований Тайной канцелярии по делу о служебных злоупотреблениях майора Ивана Бахметьева всплыла старая история. Майор жаловался сослуживцам, что в царствование Петра II отказался подарить Анне своих украинских певчих, а ее «управители» подговорили их бежать и увезли в Курляндию. Анне запал в душу этот случай, и она уже в качестве императрицы напомнила о нем Бахметьеву: «А ныне бы де ты мне и с охотой отдал».[66]
23 июня 1727 года у Бирона родилась дочь Гедвига Елизавета, а 11 октября 1728 года — младший сын Карл Эрнст. Историки предполагают, что матерью младшего отпрыска Бирона являлась сама герцогиня Анна. Действительно, Карл Эрнст впоследствии пользовался особой милостью при дворе Анны и до самой ее смерти спал в одной с ней комнате. В четыре года Карл Эрнст уже был капитан-бомбардиром Преображенского полка, в девять — камергером, в двенадцать — кавалером ордена Андрея Первозванного.
Сюжет, что и говорить, романический, тем более что в XVIII столетии он не раз возникал в не менее занимательной форме. В октябре 1777 года уже пожилой вельможа и бывший фаворит императрицы Елизаветы Иван Иванович Шувалов получил от явившегося к нему в дом бригадира Федора Аша письмо. Вскрыв его, он прочел признание отца неожиданного вестника, барона Фридриха Аша, из которого следовало, что он, Иван Шувалов, является не кем иным, как сыном Анны Иоанновны и Бирона, а потому имеет право претендовать на трон, и «потребно будет освободить дворец от обретающихся в нем императрицы и их высочеств».
К тому времени дворцовые перевороты уже несколько вышли из моды; отставной вельможа немедленно доложил императрице о странном визитере, податель письма был объявлен сумасшедшим и упрятан за стены монастырской тюрьмы. Подобные «самозванные» объявления, сделанные в «исступлении ума», в делах Тайной канцелярии встречались ранее. Но дело в том, что, как писал Фридрих Аш, «служил я также в Бозе почивающей матушке Вашей, блаженной и вечной славы достойной государыне императрице Анне Иоанновне еще в бытность ее в Митаве — честь, которую имели только несколько ее подданных». Действительно, с 1712 по 1724 год подполковник Аш служил секретарем Анны, а затем был переведен в столицу на должность почт-директора; таким образом, курляндские дела были ему хорошо знакомы. Сам старый барон Аш умер с этим убеждением, а его сын провел в заключении почти всю оставшуюся жизнь, так и не признав законными государями ни Екатерину II, ни Павла I.[67]
Особая любовь императрицы к шалопаю Карлу Эрнсту — факт несомненный. Но все-таки прямых доказательств принадлежности младшего сына Бирона, как и И. Шувалова, к дому Романовых у нас нет. Дело даже не в отсутствии точных генетических данных — сейчас, наверное, такого рода исследования уже возможны. Но монаршие дворы — даже такие маленькие, как курляндский — это всегда жизнь на людях, где скрыть такие происшествия, как беременность и роды, чрезвычайно трудно, если не невозможно. Насколько автору известно, и в роду Биронов (все мужские потомки этой фамилии происходят от Карла Эрнста) не сохранилось предания об их царственном происхождении. Не приписывали Анне такого рода грехов и современники. Привязанность лишенной семьи и детей женщины к сыну близкого человека можно понять, тем более что женихов у нее больше не предвиделось. Последним из них был старый герцог Фердинанд, неожиданно вознамерившийся стать мужем дочери Петра Елизаветы; министры Верховного тайного совета предложили ему Анну, но и этот «марьяж» окончился ничем.
С другой стороны, положение Анны со сменой управляющего не так уж сильно изменилось. Она по-прежнему оставалась безвластной герцогиней в чужом краю и по-прежнему зависела от милостей петербургских родственников. Только теперь она уже адресовала просьбы не «батюшке дядюшке» и «матушке тетушке», а двоюродному племяннику, юному императору Петру II, его сестре Наталье или новым хозяевам двора — князьям Долгоруковым и Остерману. Она поздравляла, кланялась, умоляла не забывать ее и выдать положенное содержание. В то же время надо было раскошеливаться на подарки с учетом новых придворных вкусов. И тут без Бирона не обошлось — он авторитетно заявил герцогине летом 1728 года, что обнаруженных им породистых щенков, достойных быть преподнесенными царю, «прежде августа послать невозможно; охотники сказывают, что испортить можно, если в нынешнее время послать». Анна сумела отправить юному императору — страстному охотнику — несколько «свор собачек».
Так бы и остался камергер Бирон завхозом бедной герцогини в медвежьем углу Европы. Может быть, для их репутации, да и для всей отечественной истории это было бы лучшей участью — тогда в учебниках не было бы ни «засилья иноземцев», ни «бироновщины». Осталась бы только красивая сказка о большой любви и тихом счастье московской царевны и незнатного курляндского красавца, которую рассказывали бы гиды заезжим туристам. Но внезапно в провинциальный мир Митавы вторглась большая история.
В ночь на 19 января 1730 года в московском Лефортовском дворце (он и поныне стоит на берегу Яузы) умер от оспы Петр II. Члены высшего государственного органа страны, Верховного тайного совета, должны были решать судьбу монархии — 15-летний император был последним мужчиной в роде Романовых. Наследника он не оставил и никакой воли, согласно петровскому закону 1722 года, выразить не успел, да и едва ли ее приняли бы во внимание, как и завещание Екатерины I, устанавливавшее порядок передачи престола (в случае бездетной смерти Петра II ему наследовали ее дочери Анна и Елизавета). Но, во-первых, само это завещание было весьма сомнительным; во-вторых, в «эпоху дворцовых переворотов» не очень уважались правовые акты: такие вопросы решались в ходе борьбы придворных группировок «силой персон».
Кто же реально управлял империей в царствование внука Петра Великого? Это братья князья Голицыны, предки которых соперничали с Романовыми на «выборах» в 1613 году. Старший, Дмитрий Михайлович, бывший губернатор и президент Камер-коллегии; младший, фельдмаршал Михаил Михайлович, за годы Северной войны стал одним из лучших российских полководцев и командовал расположенной на Украине армией.
Наиболее близкими к умиравшему Петру II были князья Долгоруковы — ведавший царской охотой Алексей Григорьевич (его дочь так и осталась царской невестой), умный и опытный дипломат Василий Лукич и фельдмаршал Василий Владимирович, недавно вернувшийся из завоеванных персидских провинций.
Формальным главой этого «правительства» был пожилой канцлер (так называли в России руководителей внешнеполитического ведомства — Коллегии иностранных дел) Гавриил Иванович Головкин, но истинным главой российской дипломатии был его заместитель — бывший немецкий студент, ставший российским бароном Андреем Ивановичем Остерманом.
На ночном совещании Совета 19 января князь Д. М. Голицын пресек попытку долгоруковского клана объявить о якобы подписанном Петром завещании и вслед за тем отвел кандидатуры дочери Петра Елизаветы и внука Карла Петера Ульриха Голштинского. С помощью наиболее гибкого из Долгоруковых, дипломата Василия Лукича, Голицын предложил избрать на российский престол представительницу старшей линии династии — вторую дочь царя Ивана и герцогиню Курляндскую Анну.
Выбор был не случаен. Старшая сестра Анны Екатерина отличалась решительным характером и по воле Петра I состояла в браке с герцогом Мекленбургским — первым пьяницей и скандалистом среди германских князей. Это вполне могло обернуться внешнеполитическими трудностями, поскольку герцог был изгнан собственным дворянством и поссорился со своим сюзереном — австрийским императором. Младшая из сестер Прасковья уже была замужем за гвардейским подполковником И. И. Дмитриевым-Мамоновым. Бедная вдова Анна, много лет просидевшая в провинциальной Митаве, не имела ни своей «партии» в Петербурге, ни заграничной поддержки. Официальный протокол заседания утвердил введение в состав Совета двух фельдмаршалов — Василия Владимировича Долгорукова и Михаила Михайловича Голицына и сообщал: «Верховный тайный совет, генерал-фельдмаршалы, духовный Синод, тако ж из Сената и из генералитета, которые при том в доме его императорского величества быть случились, имели рассуждение о избрании кого на российский престол, и понеже императорское мужеского колена наследство пресеклось, того ради рассудили оной поручить рожденной от крови царской, царевне Анне Иоанновне, герцогине курляндской».
Кандидатура Анны прошла единогласно. Но вслед за этим Голицын предложил собравшимся «воли себе прибавить». «Хоть и зачнем, да не удержим этого», — откликнулся на это заявление В. Л. Долгоруков. «Право, удержим», — настаивал Голицын и пояснял: «Будь воля наша, только надобно, написав, послать к ее величеству пункты». Именно так, по рассказу В. Л. Долгорукова на следствии в 1739 году, была провозглашена идея ограничения самодержавной монархии.
Впоследствии князья Долгоруковы стремились представить выступление Голицына внезапным, а его самого — главным «зачинщиком» ограничивавших самодержавие мер. Но в глазах современников инициатива и руководящая роль в Совете принадлежала Долгоруковым (прежде всего — опытному дипломату Василию Лукичу), что отразилось в сочинениях Феофана Прокоповича и мемуарах генерала-шотландца Джеймса Кейта. Прусский дипломат Мардефельд утверждал, что Голицын договорился и с Остерманом о выдвижении Анны «с условием ограничения самодержавной власти». Во всяком случае, секретарь Совета В. Степанов указывал, что Остерман, хотя и после долгих отговорок, «как штиль вести сказывал», а «более диктовал» текст о «воле» как раз Василий Лукич Долгоруков.[68]
В черновом журнале Верховного Тайного совета (позднее озаглавленном императрицей как дело «о коварных письмах как я на престол взошла») было четко указано, что они были составлены «собранием» Верховного тайного совета «в присутствии генералов-фельдмаршалов». Так появились на свет знаменитые «кондиции», которые принципиально меняли вековую форму правления. В течение ночи и дня 19 января этот документ подвергался все новой правке и в окончательном виде состоял из следующих пунктов:
«По принятии короны российской, в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника, ни при себе, ни по себе никого не определять. Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный верховный тайный совет в восми персонах всегда содержать и без оного верховного тайного совета согласия:
1) Ни с кем войны не всчинять.
2) Миру не заключать.
3) Верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать.
4) В знатные чины, как в статцкие, как и в военные, сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета.
5) У шляхетства и имения и чести без суда не отымать.
6) Вотчины и деревни не жаловать.
7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного тайного совета не производить.
8) Государственные доходы в расход не употреблять — И всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать. А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской».
Официальный список этой окончательной редакции в журнале Совета был подписан всеми его членами (в том числе и Остерманом), за исключением В.Л.Долгорукова—в качестве «нейтральной» фигуры посла ему было удобнее уговаривать Анну принять все условия. Те же шесть подписей стояли под сопроводительным письмом курляндской герцогине. Но это послание содержало и утверждение о ее избрании не только самим Верховным тайным советом, но «и духовного и всякого чина свецкими людьми», что явно не соответствовало действительности.
«Верховники» ничего не сказали о «кондициях» при объявлении кандидатуры Анны, что не могло не вызвать подозрений. Составление всех необходимых документов затянулось до вечера 19 января, когда в обстановке секретности три представителя Совета — В. Л. Долгоруков, М. М. Голицын-младший (сенатор) и генерал М. И. Леонтьев — отправились в Курляндию. Одновременно Москва была оцеплена заставами, и выехать из города можно было лишь по выданным правителями паспортам. Быстрые и решительные действия Совета позволили ему выиграть время и не допустить никаких дискуссий о порядке престолонаследия, но не могли не вызвать противодействия со стороны недовольных, по тем или иным причинам, решениями правителей.
Еще ночью генерал-прокурор Ягужинский заявлял: «Теперь время, чтоб самодержавию не быть», — и просил «прибавить нам как можно воли». Но как только генерал-прокурор и зять канцлера Головкина оказался за пределами избранного круга правителей, он быстро переменил позицию. 20 января он тайно отправил камер-юнкера Петра Сумарокова в Митаву — доложить Анне о подлинных обстоятельствах ее избрания и требовать от «посланных трех персон такого письма за подписанием рук, что они от всего народу оное привезли». Ягужинский предостерегал герцогиню от подписания «кондиций» и намекал, «чтоб ее величество была благонадежна, что мы все ее величеству желаем прибытия в Москву».[69] В очередной раз «заболел» Остерман, уже с 19 января не показывавшийся в Совете и не подписывавший никаких бумаг.
Сумароков с помощью курьеров саксонского посла сумел прорваться в Курляндию, но опередить депутацию Совета не успел. Это смогли сделать гонцы от камергера Левенвольде и Феофана Прокоповича. Таким образом, Анна узнала не только о планах Совета, но и о существовании их противников. Забытой герцогине из маленького княжества предстоял важнейший выбор в ее жизни — принимать или не принимать корону Российской империи на предложенных условиях. Нервничали и «верховники». Документы Верховного тайного совета последних дней января свидетельствуют, что министры собирались в эти дни необычно часто: в черновом журнале указаны не отмеченные в издании протоколов заседания 22, 30 и 31 января. За решением не слишком сложных вопросов текущего управления (о выделении денег на строительство крепостей, ссылке колодников в Сибирь, присвоении очередных воинских чинов) «верховники» напряженно ждали известий из Курляндии.
Торжествуйте все российски народы:
У нас идут златые годы.
Посольство прискакало в Митаву вечером 25 января. Немедленная аудиенция принесла успех — наутро Долгоруков отправил гонца с сообщением, что новая императрица «изволила подписать: „Тако по сему обещаю без всякого изъятия содержать. Анна“». Росчерком пера российская самодержавная монархия стала ограниченной и оставалась таковой ровно месяц — с 25 января по 25 февраля 1730 года. Правда, большинство подданных об этом так никогда и не узнало.
Секретность и быстрота должны были обеспечить победу дерзкого замысла. Если бы перенести современные транспортные возможности в то время, то, пожалуй, немедленное прибытие растерянной Анны могло бы и вправду резко изменить политический строй страны и упрочить положение Верховного тайного совета. Подтверждение «кондиций», издание торжественного манифеста о новом порядке правления и проведение присяги (при условии отсутствия в столице как нарочно собравшегося на императорскую свадьбу знатного и незнатного дворянства) поставило бы власти империи перед совершившимся фактом.
Затем должны были последовать коронационные торжества, раздачи от имени новой императрицы чинов, наград и должностей и отправка подальше от столицы недовольных: в полки, в персидские провинции, на воеводства и губернаторства. Сторонники других членов царского дома (Екатерины Мекленбургской, Елизаветы, «голштинского» принца, царицы Евдокии) не представляли реальной силы и не выступали самостоятельно. Все это сулило известные шансы на успех — хотя бы на какой-то срок.
Но время работало против «верховников». Добиться ограничения самодержавной власти оказалось куда легче, чем организовать быструю доставку императрицы к «верным подданным». Надо было срочно добыть деньги (Анна попросила на «подъем» 10 тысяч рублей) — выручил богатый купец, президент рижского магистрата Илья Исаев; разыскать для Анны «сани крытые, в которых бы можно лежать». Лифляндский губернатор генерал П. П. Ласси докладывал, что собрать лошадей и 130 подвод для царского «поезда» раньше 29 января невозможно; всего же для доставки Анны и ее свиты необходимо было по пути следования от Митавы до Москвы приготовить не менее 1 500 подвод, что превышало возможности ямской службы.[70]
«Верховники» вынуждены были сами отдавать распоряжения об устройстве дополнительных подстав, подготовке подвод за счет крестьян и «градских жителей» и назначении к ямам и подставам по унтер-офицеру и пяти рядовым из расположенных поблизости полков. Российская императрица не могла путешествовать с курьерской скоростью: ее ждали торжественные встречи с войсковыми «паратами» и молебнами. Кроме того, надо было обеспечить ей достойный ночлег — Долгоруков требовал найти в Новгороде «дом такой, чтоб в котором или очень давно жили или недавно построен, чтоб тараканов не было». Срочно надо было организовать похороны бывшего самодержца — не могла же Анна въехать во дворец, где лежало тело ее предшественника.
Только утром 29 января Анна Иоанновна тронулась в путь. Уже упоминавшийся Манштейн сообщал в мемуарах, что «верховники» потребовали от Анны оставить своего фаворита в Митаве.[71] В сохранившейся переписке князя Василия Лукича о Бироне упоминаний нет. Однако один из пунктов «кондиций» ясно требовал «в придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного тайного совета не производить», что исключало появление каких-либо особо приближенных к монархине «сильных персон» при дворе.
Герцогиня отправилась со свитой из нескольких дам, мундшенка, повара, необходимых в пути конюхов, лакеев и солдат охраны. Среди 63 человек царского «поезда» ни Вирой, ни кто-либо из его семейства не значатся. Однако при Анне в Москве каким-то образом оказался младший сын фаворита Карл Эрнст; можно предположить, что герцогиня не рискнула взять любимца с собой, и он прибыл позднее. Брать младенца в экстренное путешествие было опасно. «Журнал походу от Митавы в Москву ее величества государыни Анны Иоанновны» сообщает, что несколько раз «изволила ее величество почивать в своих санях» на морозе — видимо, домов без тараканов так и не нашли.
2 февраля «верховники» объявили в Кремле о согласии Анны и представили «кондиции». От такой новости «шляхетство» пришло в смущение — с чего это государыня сама себя «изволила» ограничить? Но князь Дмитрий Михайлович возражений не допустил и тут же предложил собравшимся самим разработать и подать в Совет проекты нового государственного устройства.
До нас дошли составленные в те дни семь дворянских проектов. Наибольшее значение из них имел самый представительный — «проект 364» (по числу подписей под ним). Этот проект, как и остальные, отражал чаяния пережившего годы войн и реформ служилого сословия: отмены закона о единонаследии 1714 года, определения сроков дворянской службы и неназначения дворян рядовыми солдатами и матросами, «порядочного произвождения» по службе.
Главным же был вопрос о формировании верховной власти. «Проект 364» предлагал создать «Вышнее правительство» из 21 «персоны». Это правительство, а также Сенат, губернаторов и президентов коллегий предлагалось «выбирать и балатировать генералитету и шляхетству <…>, а при балатировании быть не меньше ста персон». Таким образом, проект предусматривал упразднение Верховного тайного совета в его прежнем качестве, и принять такое устройство «верховники» не могли — это означало бы отстранение от власти их самих, первыми предложивших ограничить деспотизм. Совет еще мог согласиться на увеличение своего состава и даже на выборы сенаторов и президентов коллегий. Но выбирать их должны были… только сами «верховники» вместе с Сенатом.
Члены Совета сделали еше один шаг навстречу — предложили, чтобы «шляхетство» избрало бы «единосердечным согласием <…> годных и верных отечеству людей от дватцати до тритцати человек и утвердили б их письменно так, что оне внизу написанным порядком к пользе отечества сочинят и утвердят, и то имеет вечно твердо и нерушимо быть». Сами депутаты должны были иметь «от своего чина выбор и верющие письма за руками». При этом новые законы должны были бы последовательно и единогласно приниматься сначала депутатами, затем Сенатом и… самим Советом. Таким образом, «верховники» гарантировали себе решающую роль в управлении.
Идея созыва такого «учредительного собрания» была смелой, может быть, даже слишком смелой — она так и осталась погребенной в бумагах Совета. Но в зимней Москве 1730 года дворяне спорили о новой форме правления: «Одни хотят ограничить права престола властью парламента, как в Англии; другие — как в Швеции; иные думают сделать престол избирательным, по примеру Польши; иные же, наконец, высказывают мнение, что нужно разделить всю власть между вельможами, находящимися в государстве, и образовать аристократическую республику».
Кроме «генералитета» (чинов первых четырех классов по Табели о рангах), в спорах участвовали еще около 400 дворян низших рангов — они оставили свои подписи на проектах и засвидетельствовали знакомство с «кондициями». Сейчас мы имеем возможность представить «коллективный портрет» участников «проекта 364». Половина (58 %) из 318 человек, чины которых нам известны, являлись полковниками и коллежскими советниками, подполковниками, майорами и коллежскими асессорами, капитанами. 69 % из лиц с известным нам возрастом (127 из 185) составляют люди зрелые и пожилые (51 человек в возрасте 41–50 лет и 76 — в возрасте 51–60 лет). Почти половина из тех, данными о чьем землевладении мы располагаем (73 человека из 153), обладали имениями с количеством крепостных от 101 до 500 душ, у 32 человек было более 500 душ, у 39 — менее 100 душ, у 9 человек вотчин не было.
Получается, что в оппозиции Верховному тайному совету были те, кто составлял «становой хребет» российской государственности — опытные и зрелые (с осторожностью можно сказать, что и не самые бедные) офицеры и чиновники, занимавшие средние командные должности в армии и государственном аппарате. Среди них были посланные в свое время за границу «пенсионеры»; капитаны и лейтенанты нового флота; ожидавшие новых постов прокуроры, боевые офицеры, заканчивавшие карьеру на должностях провинциальных воевод или назначенные для сбора недоимок, отрешенные от должности чиновники. Смешение имен, чинов, карьер, поколений, знатности и «подлости» не дает однозначного ответа на вопрос, что заставило этих людей вступить в «политику».
Письма и следственные дела эпохи донесли до нас отзвуки дискуссий тех дней. Вице-президент Коммерц-коллегии Генрих Фик (один из создателей коллежской системы в России) радовался, что «не будут иметь впредь фаворитов таких, как Меншиков и Долгорукой», и мечтал «о правительстве, как в Швеции». На это асессор Рудаковский «ответствовал ему, что в России без самодержавства быть невозможно, понеже Россия кроме единого Бога и одного государя у многих под властью быть не пожелает».
Капитан-командор Иван Козлов полагал, что «теперь у нас прямое правление государства стало порядочное», и государыня не сможет «брать себе ничего, разве с позволения Верховного тайного совета; также и деревень никаких, ни денег не повинна давать никому, и не токмо того, ни последней табакерки из государевых сокровищ не может себе вовсе взять, не только отдавать кому, а что надобно ей будет, то будут давать ей с росписками. А всего лучше положено, чтоб ей при дворе своем свойственников своих не держать и других ко двору никого не брать, кроме разве кого ей позволит Верховный тайный совет».
Не видать бы Бирону (а вслед за ним и другим фаворитам) своей «должности», если бы большинство дворян думало так же. Однако сам Козлов, хоть и радовался ограничению монаршего произвола, но свою подпись под проектами так и не поставил. Рисковать карьерой желали не все, как не все интересовались заморскими порядками. Многие культурные начинания затронули лишь узкий слой дворянства. Если для просвещенного Феофана Прокоповича Гуго Гроций был «славным законоучителем», то в дворянской массе скорее можно было услышать:
Гроциус и Пуфендорф и римские правы —
О тех помнить нечего: не на наши нравы.
Отсюда — иной уровень споров, и боевой генерал Григорий Юсупов, как и «другие» из генералитета, едва ли мыслил о «конституции», но был не прочь умерить власть императрицы, так как «наперед слышал, что она будет нам неблагодетельница». Для знатного генерала, как и для мелкопоместного служивого, сравнение достоинств заграничных «форм правления» отступало на задний план перед простыми и понятными примерами — действиями Меншикова или недавним хозяйничаньем клана Долгоруковых. Примеры эти «работали» как против «верховников», так и против «конституционалистов».
Пока члены Совета молчали (ни один из их планов не оглашался и не обсуждался), подняли головы их противники, не желавшие никаких перемен. Талантливый «имиджмейкер» петровской монархии архиепископ Феофан Прокопович организовывал общественное мнение: «…Если по желанию оных господ сделается (от чего сохранил бы Бог!), то крайнее всему отечеству настоит бедство. Самим им господам нельзя быть долго с собою в согласии: сколько их есть человек, чуть ли не столько явится атаманов междоусобных браней, и Россия возымет скаредное оное лице, каковое имела прежде, когда на многия княжения расторгнена, бедствовала». Эти угрозы имели резонанс — казанский губернатор Артемий Волынский именно так оценивал доходившие из Москвы новости: «Боже сохрани, чтоб не сделалось вместо одного государя десяти самовластных и сильных фамилий: и так мы, шляхетство, совсем пропадем и принуждены будем горше прежнего идолопоклонничать и милости у всех искать».
Не стоит буквально воспринимать «энтузиазм» донесений иностранных дипломатов по поводу «освобождения от ужасного рабства»; так полагали представители держав, в данный момент заинтересованных в ослаблении России (Франции и Англии). Французский резидент Жан Маньян видел в установлении республики «стремление возвратиться назад, к своему прежнему положению», что привело бы, в свою очередь, к ликвидации неудобного для Франции русско-австрийского союза. Так же оценивал «добрые последствия» ограничения самодержавия и английский консул Клавдий Рондо: «Русский двор не в состоянии будет вмешиваться в иностранные дела, как он вмешивался в последние годы».[72] Союзники были, наоборот, встревожены. Саксонец Лефорт как раз опасался возвращения России «в прежнее состояние», а датский посол Вестфален видел в ослаблении монархии «унижение российских сил» и последующую опасность шведского реванша как для России, так и для Дании.
С сомнением отнеслись к политическим «свободам» находившиеся на русской службе «немцы». Они были искренне убеждены в том, что отказ от петровской «формы правления» был бы опасен для страны. Шотландец и генерал-майор русской службы Джеймс Кейт, вместо того чтобы радоваться возможности учреждения более демократической политической системы, считал замыслы ограничения монархии «пагубными» и совершенно неуместными для России с ее «духом нации и огромной протяженностью империи».[73] Вероятно, так же думал в то время и наш герой — но пока важнейшие политические вопросы решались без его участия.
Внезапно захваченным политическими спорами служивым трудно было найти общий язык, чтобы выработать новое государственное устройство страны — с учетом давления «фамильных», корпоративных и карьерных интересов, открывшейся возможности смелой интригой обеспечить себе счастливый «случай» или вынужденной оглядки на желание влиятельного родственника-«милостивца». Тем более что им предстояло ломать созданную самим Петром Великим государственную машину. Многих из них именно петровские реформы «вывели в люди», дали возможность получать чины, ордена, крепостные души. Даже идейный «прожектер» Василий Никитич Татищев в своей «Истории российской» оценивал петровскую эпоху: «Все, что имею — чины, честь, имение и, главное над всем, разум — единственно все по милости его величества имею, ибо если бы он меня в чужие края не посылал, к делам знатным не употреблял, и милостию не ободрял, то бы я не мог ничего того получить».
А «верховники» по-прежнему молчали. Члены Совета съезжались, решали текущие дела, но так и не обнародовали никакой новой «формы правления». Правители упускали инициативу, и их пассивность сыграла на руку крепнувшей «партии» сторонников самодержавия. Ядро этой «партии» составили родственники Анны: ее дядя В. Ф. Салтыков и двоюродный брат, майор Преображенского полка С. А. Салтыков; третий фельдмаршал князь И. Ю. Трубецкой и придворные вроде камергера Р. Левенвольде. Другую группу представляли фигуры, всем обязанные петровским реформам: генерал-прокурор Павел Ягужинский и Феофан Прокопович. Демонстративно «заболел» опытный бюрократ и дипломат Остерман; он не участвовал в разработке и обсуждении каких-либо проектов — но именно его современники считали главным организатором переворота.
Манштейн в мемуарах указывал, что Остерман передавал необходимые инструкции по организации сторонников самодержавия Бирону через камер-юнкера Корфа. Однако сам Манштейн очевидцем не был, а его близость к Миниху заставляет предположить, что в конце правления Анны роль Бирона в прошлом воспринимали исходя из настоящего. Однако иных свидетельств об участии митавского придворного в событиях января-февраля 1730 года и тем более о его активной роли в перевороте нет. Да и само явление курляндского фаворита в разгар борьбы с «верховниками» выглядело бы не совсем уместным. Но, возможно, Анна поддерживала с ним связь, и эти письма когда-нибудь найдутся и станут еще одним важным источником по истории событий 1730 года. То, что обер-камергер желал своей герцогине победы в поединке с «верховниками», сомнению не подлежит. Но тогда он едва ли мог ей чем-то помочь.
Умелая пропаганда помогла создать нужные настроения в гвардии. Гвардейские майоры и подполковники участвовали в обсуждениях проектов. Однако это движение не затронуло основную массу гвардейских офицеров и солдат. При встрече Анны с батальоном Преображенского полка и кавалергардами гвардейцы «с криками радости» бросились в ноги к своей «полковнице», а кавалергарды получили из рук царицы по стакану вина. Эта «агитация» была куда более доходчивой, чем мудреные политические проекты. Императрица «набирала очки» в глазах гвардейцев. 12 февраля она произвела Преображенского сержанта Григория Обухова в прапорщики
15 февраля, как сообщал газетный «репортаж» тех дней, Анна «изволила пред полуднем зело преславно, при великих радостных восклицаниях народа в здешней город свой публичный въезд иметь». Все гвардейские солдаты получили от императрицы по рублю; на следующий день началась раздача вина по ротам, а 19 февраля полки получили жалованье. 21 февраля Анна даровала отставку от службы 169 гвардейцам.
23-го она отстояла службу в Успенском соборе и «публично кушала» во дворце. «Ведомости» отметили: «Дамские особы в преизрядном убранствии, а кавалеры в трауре явились». Дипломаты и мемуаристы свидетельствуют, что придворные дамы активно участвовали в действиях «партии» самодержавия. Прасковья Салтыкова (жена будущего фельдмаршала П. С. Салтыкова) и Мария Черкасская (жена А. М. Черкасского) — урожденные сестры Трубецкие; Евдокия Чернышева (жена генерала Г. П. Чернышева), Екатерина Головкина (двоюродная сестра Анны и сноха канцлера), дочь канцлера Анна Ягужинская — стали передаточным звеном между вождями «партии» и императрицей.
Дамская «эмансипация» и приобщение к «политике» — тоже один из результатов петровских реформ, сказавшийся в это бурное время. Именно Прасковья Салтыкова была послана ночью 24 февраля известить Анну, что наутро ей поднесут челобитную от недовольного действиями Верховного тайного совета дворянства. Для координации действий сторонников самодержавия использовались и женские хитрости: находившейся под присмотром Анне передавались записки, спрятанные «за пазухой» у младшего сына Бирона — Карла Эрнста, неведомым образом все-таки оказавшегося в Москве.[74] Дамские визиты и хлопоты с маленьким мальчиком остались вне подозрений караулившего Анну «аки бы некий дракон» Василия Лукича Долгорукова.
Развязка наступила 25 февраля 1730 года: во дворец явилась депутация дворян во главе с «оппозиционерами» в генеральских чинах Г. П. Чернышевым, Г. Д. Юсуповым, А. М. Черкасским. Но вначале императрице подали совсем не то, что она надеялась увидеть. Мы не знаем, кто был автором нового документа («первой челобитной») и как именно он появлялся на свет; большинство исследователей считает его делом рук В. Н. Татищева. В нем императрице предлагалось не восстановить самодержавие, а «соизволить собраться всему генералитету, офицерам и шляхетству по одному или по два от фамилий, рассмотреть и все обстоятельства исследовать, согласно мнениям по большим голосам форму правления государственного сочинить».
Анна подписала поданную бумагу. Потом она таинственным образом исчезла и дошла до нас в неизвестно кем и когда сделанной копии. Видимо, подписавшие ее высокопоставленные лица очень не хотели сохранять такое свидетельство их нелояльности. Тогда, наверное, ситуацию еще можно было спасти — все-таки Анна пока неуверенно себя чувствовала в качестве императрицы. Но оказавшиеся во дворце гвардейцы потребовали возвращения «полковнице» ее законных прав: «Государыня, мы верные рабы вашего величества, верно служили вашим предшественникам и готовы пожертвовать жизнью на службе вашему величеству, но мы не потерпим ваших злодеев! Повелите, и мы сложим к вашим ногам их головы!»
В зале присутствовали почти четыре десятка кавалергардов и столько же обер-офицеров Преображенского полка — капитаны, капитан-поручики, поручики и только что произведенный Анной прапорщик Обухов. Некоторые подписали «первую челобитную» Татищева, но, похоже, не ожидали, что императрице опять предложат какие-то условия — и сорвали весь его план. Другие ни в какой «политике» замечены не были и явились защитить «полковницу» от происков «бояр». Под крики офицеров шляхетство подало второе прошение с просьбой «принять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели». Вслед за тем Анна потребовала подать «кондиции», которые тут же «всемилостивейше изволила изодрать».
Последним днем заседаний Верховного тайного совета стало 28 февраля. Правители сами составили манифест о «принятии самодержавства» и отнесли его на подпись к императрице вместе с черновиками «кондиций». Но Анна понимала, что самодержавием обязана 162 собравшимся во дворце дворянам, что немногим отличалось от «выборов» ее «верховниками».
Поэтому на следующий день в Кремлевском дворце была положена копия второго прошения и началась процедура ее подписи с привлечением «общественности». Первыми этот документ подписали главные герои — гвардейские офицеры. Приложились и архиереи во главе со «смиренным Феофаном». Затем шли подписи офицеров гарнизона, чиновников, придворных — от высших чинов до «дозорщиков конюшенного ведомства»; московских купцов, мещан городских слобод и даже случайных приезжих, как «вологжанина посадского человека Дмитрия Сукина». За десять дней к прошению «приложили руки» 2 246 человек. Инициаторы этой пропагандистской акции умело использовали — в отличие от своих противников — тактику «гласности» и традицию «земских» челобитных государям в XVII веке. Подписи разного чина подданных должны были демонстрировать «всенародную» поддержку самодержавной Анны, чтобы ее «восшествие» не выглядело прихотью вельмож или гвардейских капитанов. Подписи Бирона нет ни в самой челобитной, ни в этом списке.
Офицерам гвардейских полков императрица дала великолепный обед. В отличие от прошлых «революций», императрица решила наградить не отдельных лиц, а весь офицерский состав гвардии, как только появился «премиальный фонд» в виде конфискованных имений «фамилии» Долгоруковых. Капитаны получили по 40 душ; капитан-поручики — по 30; поручики — по 25; подпоручики и прапорщики — по 20. Награды ожидали и рядовых — Анна повелела выдать 141 рубль гвардейцам-именинникам и 38 рублей — новорожденным солдатским детям. В марте 1730 года дворянам-рядовым разрешили отправиться в долгосрочный отпуск, и в Преображенском полку этой милостью воспользовались 400 человек. Выказавший преданность императрице 25 февраля Преображенский капитан Иван Альбрехт отдельным указом получил 92 двора в Лифляндии и стал майором. В среднем же восстановление самодержавия «стоило» казне примерно 30 душ на каждого офицера — это не слишком большая цена за ликвидацию российской «конституции».
В 1730 году гвардия сохранила приверженность своей «полковнице», как и за пять лет до того при возведении на престол Екатерины I. Но теперь гвардия в первый раз выступила как самостоятельная политическая сила. Переворот «сделали» не командиры, а обер-офицеры. Они обеспечили порядок в своих частях, возглавляли дворцовые караулы и добились нужного им поворота событий, когда сочли предъявленные императрице требования неприемлемыми. Символично, что среди «восстановителей» самодержавия оказался дед первого дворянина-революционера кавалергарда-подполковника Афанасия Прокофьевича Радищева. При этом среди подписавших прошение о восстановлении самодержавия не было ни одного солдата или унтер-офицера — они в то время еще находились вне «политики».
В первые дни после победы власти издали манифест, гласивший, что «верные ж наши подданные все единогласно нас просили, дабы мы самодержавство в нашей Российской империи, как издревле наши прародители имели, восприять изволили, по которому их всенижайшему прошению мы то самодержавство восприять и соизволили». Но уже через две недели спохватились, ведь манифест показывал зависимость самодержца от воли «общенародия». Новый рескрипт от 16 марта 1730 года о венчании Анны на царство уже не допускал и мысли о каком-либо ином источнике власти: «От единого токмо всевышнего царя славы земнии монархи предержащую и крайне верховную власть имеют».
Но эту «крайне верховную власть» надо было надежно обеспечить. Анне только предстояло разобраться в раскладе придворных «партий», создать новый механизм управления вместо скомпрометировавшего себя Верховного тайного совета, привлечь надежных слуг, отдалить неблагонамеренных — при том, что большинство российского генералитета так или иначе участвовало в составлении подозрительных «прожектов». На кого могла она рассчитывать?
На Анну, как это обычно случалось после очередной «переворотной» ситуации, обрушилась лавина бумаг. Добро бы их податели, как артиллерийский генерал Матвей Витвер или молодой поэт Василий Тредиаковский, ограничились только поздравительными виршами:
Земля при Анне везде плодовита будет!
Воздух всегда в России здравы,
Переменятся злые нравы
И всяк нужду избудет.
Но челобитчики, вопреки всем запрещениям подавать на высочайшее имя прошения помимо официальных инстанций, настойчиво жаловались. Генерал-лейтенанты Федор Чекин и Семен Нарышкин просили об отставке; если первый — старый солдат — хотел завершить службу, то второй настойчиво желал избежать нетрудной, но уже не престижной в наступившее царствование гофмейстерской должности при дворе принцессы Елизаветы. Заслуженный петровский генерал Г. П. Чернышев надеялся на выплату жалованья «по штату генерал-губернатора», так как «верховники» отставили старого воина с этого поста в Риге, да так и оставили не у дел. Армейские и гвардейские чины дружно просили о повышении в ранге, как капитан Преображенского полка Николай Полонский и поручики Сергей и Григорий Юсуповы (другие по службе «моложе, а чрез нас в капитаны»). Боевой полковник и обер-штер-кригс-комиссар Иван Юшков желал производства в следующий бригадирский чин, бригадиры Петр Лачинов и Иван Волынский — в генерал-майорский. Придворный камер-юнкер Федот Каменский также считал, что достоин быть генерал-майором, то есть «перешагнуть» из девятого чина «Табели о рангах» сразу в четвертый.
Но больше всего было просьб о пожаловании «деревнями». Генерал-майор Алексей Шаховской, статский советник Василий Татищев и кавалергардский капрал Иван Пашков били челом о «дворах» из числа конфискованных имений Меншикова, а опытный и осведомленный сенатор Василий Новосильцев указывал в своем прошении конкретные деревни, которыми, как он уже выяснил, бывший светлейший князь владел по «неправым закладным». Но особенно много поступило гвардейских обращений. О чинах, «дворах» и «деревнях» били челом поручики С. Г. и Г. Г. Юсуповы, придворный фендрик Никита Трубецкой, капитан-поручик Замыцкий, поручик Ханыков, подпоручики Дубровин и Шестаков, сержант князь Сергей Сибирский и многие другие офицеры и унтер-офицеры. Одни были бы счастливы получить хоть крохотную «деревнишку»; другие, как «сироты»-поручики, сыновья молдавского господаря Сергей, Антиох и Матвей Кантемиры, только что получившие от императрицы тысячу дворов, вновь просили их пожаловать, «чтоб могли довольны быть в пропитании», поскольку большая часть имения досталась старшему брату Константину и мачехе.
Государыню просили выступить арбитром в запутанных имущественных претензиях: Преображенский капрал Борис Тарбеев хотел получить конфискованное у его дяди-каторжника имение; братья-гвардейцы Никита и Александр Ржевские жаловались на двоюродного брата, полковника Василия Ржевского, который «пьет безобразно» и может заложить или продать родовые вотчины. Порой в этот поток прошений каким-то образом прорывались и упования «подлых» подданных — например, челобитная Василия Пименова и других крестьян дворцовой волости из Клинского уезда: у мужиков случилась беда — пали лошади, и они просили императрицу пожаловать им рабочую силу «для пашенного времени».
Мы перечислили — далеко не полностью — содержание только одной из многих подборок бумаг, подававшихся Анне весной и летом 1730 года.[75] Теперь ей предстояло решать эти и другие дела, затрагивавшие насущные интересы ее подданных. Многие из униженно просивших и поздравлявших только что сочиняли «прожекты», а потом просили ее принять «самодержавство». Среди них были первые «персоны» государства, в чьих руках находились основные рычаги управления, двор, армия. Можно ли им было верить? Но и устранить, сместить, наказать тоже было нельзя — слишком узок круг высшей гражданской и военной знати, чтобы найти достойных по опыту и статусу заместителей. Да и начинать новое царствование с расправ невозможно. Нужны были милости.
Похоже, в первые дни своего самодержавного правления Анна колебалась. Сначала она как будто собиралась расправиться с составителями кондиций, как об этом свидетельствует записка Феофана Прокоповича с изложением «вин» верховников, подготовленная, вероятно, в преддверии суда над ними. Однако намерение судить «верховников» было отставлено — как и идея созыва дворянского представительства. 4 марта 1730 года был упразднен Верховный тайный совет и восстановлен — как и просило дворянство — Сенат в составе 21 человека. На первых порах туда вошли как вчерашние правители (за исключением отца фаворита, князя Алексея Долгорукова), так и их противники — Остерман, фельдмаршал Иван Трубецкой, Алексей Черкасский, Павел Ягужинский, Семен Салтыков. Вместе с ними в состав обновленного органа вошли прежние сенаторы (В. Я. Новосильцев, И. Г. Головкин) и группа вельмож и генералов — Ю. Ю. Трубецкой, И. Ф. Ромодановский, Г. П. Чернышев, Г. Д. Юсупов, А. И. Ушаков, И. И. Дмитриев-Мамонов, С. И. Сукин, И. Ф. Барятинский, Г. А. Урусов.
Почти все сенаторы участвовали в недавних спорах — как в рядах сторонников ограничения самодержавия, так и его противников. В домах Новосельцева и Барятинского проходили собрания, на которых вырабатывались и текст оппозиционного «верховникам» шляхетского «проекта 364», и первая челобитная дворянства. Г. Д. Юсупов считается одним из инициаторов прошения о восстановлении самодержавия. Почти все остальные подписали либо проект шляхетского большинства, либо компромиссные «верховникам» варианты проектов. «Восстановление» авторитетного и представительного Сената выглядело как желание новой государыни прислушаться к мнению «общенародия» и одновременно — нейтрализовать «верховников» и удовлетворить амбиции чиновничье-бюрократической верхушки. Заодно этот ход позволял не допустить широкого дворянского представительства в органах власти.
При этом императрица и стоявшие за ее спиной советники не рисковали. Во-первых, Анна «не заметила» содержавшуюся в поданных ей 25 февраля челобитных просьбу о выборе сенаторов шляхетством — все они были назначены ее указом. Без внимания остался и проект Феофана Прокоповича о созыве «великого собрания всех главных чинов» не только для суда над «верховниками», но и для «лучшего о том рассуждения и учреждения и других нужд». Образованный и талантливый слуга, каким был Феофан, искренне радовался избавлению страны от «гражданского ада» аристократического правления; но все же он считал возможным привлечь дворянство к обсуждению важнейших задач и таким образом если не ограничить, то упорядочить самодержавное правление.[76] Однако вместе с Сенатом восстанавливалось и действие петровских указов о его «должности» как высшего, но подчиненного императору бюрократического учреждения.
Сами сенаторы, возможно, рассчитывали на ведущую роль в управлении и авторитетность своего мнения для неопытной императрицы — специально для ее участия в заседаниях они подготовили кресло с балдахином. Они выступили против восстановления «государева ока» — поста генерал-прокурора. Анна явилась в Сенат 18 марта и объявила манифест о сохранении православной веры — так она подчеркивала, что, прожив в иноверческом окружении более 10 лет, не утеряла чистоты православия и обязуется его сохранять. После этого она в Сенате не появлялась, но зато время от времени стала вызывать ту или другую группу сенаторов к себе во дворец. Падению значения Сената способствовало и начавшееся размежевание в среде вельмож, объединенных прежде борьбой с Верховным тайным советом.
«Восприятие» самодержавия вывело нашего героя из тени. В марте 1730 года Эрнст Иоганн получил официальное положение при дворе вместе с должностью камергера — пока одного из нескольких.
28 апреля 1730 года Москва проснулась от перезвона колоколов. Настал день коронования новой императрицы России. В обед, когда расселись за столы, уставленные в Грановитой палате, началось всеобщее веселье и в покоях старого кремлевского дворца, и на Красной площади, куда собрался «подлый» московский люд. За первыми тостами последовали милости: новые чины, орденские ленты, а простонародью — фонтаны вина и зажаренные бычьи туши. Коронационные торжества сопровождались красочными фейерверками, изображавшими Анну с рогом изобилия, откуда выпадали короны, скипетры, а также «фрукты и разные листы».
В этот день Бирон находился рядом с Анной уже как начальник придворного штата и официально ближайшее к государыне лицо — обер-камергер. Как объявлялось в соответствующем указе, новоявленный придворный «во всем так похвально поступал и такую совершенную верность к нам и нашим интересам оказал, что его особливые добрые квалитеты и достохвальные поступки и к нам оказанные многие верные, усердные и полезные службы не инако, как совершенной всемилостивейшей благодарности нашей касаться могли», хотя сами эти «достохвальные поступки» не назывались. Кроме того, Бирон получил орден Александра Невского, а
На возвышение новой фигуры при российском дворе сразу отреагировал ближайший союзник — Вена. В сентябре 1730 года император Священной Римской империи Карл VI прислал Бирону диплом рейхсграфа и свой портрет, украшенный бриллиантами, ценой в 20 тысяч талеров. Сама Анна несколько задержалась с подарками: новый обер-камергер стал российским графом лишь в сентябре 1730 года, а осыпанный бриллиантами портрет благодетельницы получил в апреле 1731 года. Но уже летом 1730 года новоиспеченный обер-камергер стал обеспеченным землевладельцем: Анна пожаловала ему три «мызы» в Лифляндии.[77] В ноябре 1730 года братья фаворита, Карл и Густав Бироны, были приняты в русскую военную службу. 1 октября сам Бирон был вторично пожалован орденом Андрея Первозванного и на сей раз от него уже не отказался.
Иностранные дипломаты и опытные придворные внимательно следили за восхождением новой «сильной персоны» и брали на учет его привычки и слабости. Курляндское дворянство, еще недавно не желавшее признавать фамилию Биронов, теперь быстро внесло его род в «матрикулы»: в сентябре 1730 года камер-юнкер Корф привез Бирону в позолоченном ящике долгожданную грамоту о причислении его и его фамилии к курляндскому рыцарству. За курляндскими собратьями последовали дворяне Лифляндии и Эстляндии, также принявшие Бирона в свои ряды.
Зная страсть Бирона к лошадям, саксонский курфюрст Август II решил угодить фавориту подарком четырех «верховых лошадей необычайной красоты», а в качестве польского короля прислал ему польский орден Белого орла. Страстью к лошадям быстро проникались и отечественные царедворцы. Посланный в 1731 году на Украину сенатор и генерал Алексей Иванович Шаховской извещал Бирона, что «десять кобыл к посылке в Москву в готовности, которые, надеюсь, что вашему сиятельству могут быть угодны, и хотя не весьма велики (как здешние и все лошади), но однако ногами чисты и складом не худы». Тем же летом уже почувствовавший царскую немилость фельдмаршал Долгоруков еще более униженно обращался к Бирону, прося «милостивого благодетеля и патрона» дать ему возможность «сыскать денег» и отсрочить какой-то денежный платеж в казну, из-за которого ему грозит отписка имений.[78]
Императрица выказывала фавориту знаки внимания не только пожалованиями, но и трогательной заботой о его здоровье. В январе 1731 года, когда Бирон занемог, Анна Иоанновна, по сведениям английского консула Клавдия Рондо, «во время болезни графа кушала в его комнате». В июле она отправилась на обед к сыну канцлера М. Г. Головкину вместе с Бироном, сопровождавшим карету верхом. Лошадь, внезапно испугавшаяся, сбросила фаворита. Всадник отделался легким ушибом, но императрица приняла «это событие к сердцу» и не поехала на бал, поскольку помятый и, надо полагать, испачкавшийся граф «не мог обедать с ней».
Отбывавший на родину в 1730 году испанский посол герцог де Лириа оставил первую известную нам с начала царствования характеристику фаворита: «Граф Бирон, обер-камергер и любимец царицы Анны, родом курляндец, долго служивший ее величеству с величайшею верностью. В обращении он был весьма вежлив; имел хорошее воспитание; любил славу своей государыни и желал быть для всех приятным; но ума в нем было мало и потому дозволял другим управлять собою до того, что не мог отличать дурных советов от хороших. Несмотря на все это, он был любезен в обращении; наружность его была приятна; им владело честолюбие, с большею примесью тщеславия».[79]
Де Лириа имел основания быть благодарным Бирону: именно через фаворита он сумел получить милостивую аудиенцию у Анны и рассеять подозрения в нелояльности, которые инспирировал его противник — австрийский посол. Зарисовка дипломата, как видим, вполне благожелательна, но в то же время представляет человека хоть и достойного, однако вполне заурядного и несамостоятельного. Так могли бы описывать вступавшего в свет неопытного, но несколько заносчивого молодого человека (а Бирону уже было 40 лет) или тщеславного престарелого вельможу.
Честолюбие курляндца посол уловил сразу, но при этом Бирон для него оставался фигурой отнюдь не первостепенной. По сути, так оно и было. Награды и почести тешили самолюбие, но реально ничего не означали. Более того, они могли стать прощальным подарком. В марте 1730 года Бирон из единственного и незаменимого во всех делах помощника превратился в одного из многих, часто значительно превосходивших его знатностью, чинами, заслугами, талантами, да и внешним блеском вельмож огромной державы. При императорском дворе курляндцу вполне могла быть уготована роль извинительной дамской прихоти, вроде породистой комнатной собачки (а у Бирона и с «породой» дела обстояли не гладко), которую, конечно, следует привечать, но не считаться же с ней в серьезных делах! Титулы и подарки иностранных дворов таили опасность превращения в заурядного получателя «пенсионов», готового за 500 червонцев отстаивать интересы той или иной «партии». Английский консул Клавдий Рондо в то время искренне полагал, что «Бирону долго не удержаться; мне думается, не для того ли Остерман допустил осыпать этого господина столькими почестями и богатствами, чтобы русские возненавидели его и вице-канцлер получил возможность со временем уничтожить его, как уничтожил всех прочих фаворитов».
Одного честолюбия и даже искренней привязанности Анны было недостаточно — Бирону самому предстояло определить и укрепить собственное положение. Это было нелегко — при более чем поверхностном образовании, незнании языка, людей, обычаев. До того Бирону доводилось ведать в лучшем случае несколькими имениями и маленьким придворным штатом; к прочим управленческим делам он и в Курляндии отношения не имел. Заботы митавского двора были несопоставимы с открывшимися перспективами наперсника повелительницы великой державы — но и ко многому обязывали. Нужны были воля, время и силы, чтобы освоиться в новом качестве и новом пространстве, познакомиться с проблемами, стоявшими перед чужой страной.
Конечно, можно было этого и не делать, сосредоточиться на привычных конюшенно-хозяйственных делах, дворцовых празднествах и охотничьих развлечениях. Но тогда бы у Анны неизбежно появились иные советники в большой политике, а ему пришлось бы довольствоваться должностью красавца-завхоза при стареющей императрице. Эта роль подходила придворным типа Рейнгольда Левенвольде — но не честолюбивому и волевому Бирону. К тому же и она оказалась недоступной для незнатного, незнакомого с объемом дел и не владевшего русским языком курляндца — обер-гофмейстером, то есть управляющим всеми дворцовыми вотчинами и штатом, стал верный родственник Анны гвардейский подполковник Семен Салтыков.
Императорские милости — в отличие от благодарности бедной герцогини — не могли не вызвать соперничества. А у Бирона на «чужом поле» не было ни родственных связей, ни какой-то сложившейся — русской или «немецкой» — «партии»; эту «партию» из надежных помощников и клиентов еще предстояло создать. Поэтому в первые годы своей «российской» жизни обер-камергер неизбежно должен был «быть для всех приятным», сотрудничать с другими фигурами из окружения Анны, договариваться, уступать, интриговать — и учиться.
Поначалу он только и мог помогать Анне в управлении ее курляндскими владениями и иногда даже подписывал распоряжения управляющим.[80] В 1730 году появилась и первая серьезная угроза его положению: в Москву внезапно явился странствующий по Европе португальский принц Эммануэль в расчете на выгодный брак с российской императрицей или хотя бы с ее племянницей (дочерью сестры Екатерины) Анной Леопольдовной. Визит этот состоялся не без ведения австрийского двора, стремившегося предложить вдове удобного кандидата в мужья.
Только благодаря тому, что Остерман и Левенвольде выступили против этого брака, сватовство удалось предотвратить, о чем писал и сам Бирон в оправдательной записке Елизавете Петровне о своей службе при русском дворе. Но обсуждение важнейшего для судеб империи вопроса о престолонаследии и в дальнейшем находилось в руках этих лиц: «С этого времени вице-канцлер граф Остерман и обер-гоф-маршал граф Левенвольд часто начали заговаривать с императрицею о порядке престолонаследия в России, вкрадчиво изъясняясь, что необходимо было бы принять надлежащие к тому меры. Императрица, настроенная подобными внушениями, поручила Остерману и Левенвольду обсудить этот вопрос вдвоем и доложить ей о результатах своих совещаний».[81]
В начале правления при дворе был только один влиятельный «немец» — Андрей Иванович Остерман. Сын вестфальского пастора, беглый студент еще в 1703 году поступил на русскую службу. Владение языками (латинским, французским и голландским), участие в кампаниях Северной войны вместе с походной канцелярией Петра I, ведение серии важнейших переговоров, в том числе при заключении Ништадтского мира в 1721 году, сделали его ближайшим сотрудником царя и обеспечили карьеру — от простого переводчика до тайного советника и барона. Вице-канцлер империи и действительный тайный советник (с 1725 года) Андрей Иванович стал единственным из «верховников», кто сумел заслужить доверие Анны.
Роль Остермана в восстановлении самодержавия была понятна наиболее осведомленным современникам — но для него эта роль не всегда была приятной. Сохранилось письмо Анны Остерману от 1 марта: «Андрей Иванович! Для самого Бога как возможно ныне ободрись и приезжай ко мне ввечеру мне есть великая нужда с вами поговорить, а я вас никали не оставлю, не опасайся ни в чем и будешь во всем от меня доволен. Анна, марта 1 день». Текст письма как будто говорит о какой-то угрозе Остерману и явной поддержке его императрицей.
Такая ситуация кажется необычной в рамках представлений о господстве «бироновщины». В первые недели и месяцы царствования Анна еще не чувствовала себя уверенно, и Остерман советовал императрице при распределении наград не нарушать порядка и старшинства в чинах, и в то же время «ежели кто особую службу показал, и такого, несмотря на старшинство и ни на что, пожаловать пристойно для куражирования других», среди которых «и такие находятся, яко Чернышев и прочие, которые при последних случаях себя особливо радетельными показали».[82] Возможно, именно советы Остермана удержали Анну Иоанновну от резких шагов в отношении «верховников» и позволили сохранить некоторую стабильность в правящем кругу.
Андрей Иванович сразу же стал одним из ближайших и доверенных советников Анны и принял от нее титул графа и имения в Лифляндии. Вместе с ним на роль новой опоры режима претендовали и братья Левенвольде — сыновья барона Гергарда Иоганна Левенвольде, одного из противников шведского владычества в Прибалтике. Уже в 1710 году Левенвольде-отец был назначен Петром I русским уполномоченным («пленипотенциарием») в Лифляндии и приложил немало усилий для восстановления особого порядка управления (Landesstaat) — организации ландтага, выборов ландратов и ландмаршала, устройства судов и полиции. К компетенции Левенвольде относились все дела по приведению в порядок владельческих прав на имения, установлению казенных податей и пошлин, отдаче в аренду государственных имений, возвращению прежним владельцам отнятых шведским правительством имений. Он же стал обер-гофмейстером двора супруги царевича Алексея Петровича.
Старший и наиболее даровитый из сыновей барона Карл Густав уже давно делал карьеру на русской службе — в годы Северной войны он был адъютантом Меншикова, а затем генерал-адъютантом Петра. Не без помощи брата оказался при русском дворе и красавец Рейнгольд Густав. К нему фортуна оказалась еще более благосклонной. Ловкий кавалер сразу попал в «случай»: он стал камергером, графом и фаворитом Екатерины I и сумел при этом не навлечь на себя гнева всемогущего Меншикова — видимо, по причине нежелания вмешиваться в какие-либо дела за пределами дворцовых развлечений. В 1727 году Карл Густав тоже получил камергерский ключ, но при Петре II дальнейшая карьера братьев не задалась — клан Долгоруковых не желал терпеть вблизи трона никаких конкурентов.
Историки до сих пор не разобрались, кто из двух братьев-камергеров находился при московском дворе зимой 1730 года, а кому пришлось отбыть обратно в лифляндскую глушь. Но ситуацию оба Левенвольде сумели использовать максимально: один (по-видимому, это был все же Карл Густав) вовремя узнал о «кондициях» и отправил в Курляндию гонца с донесением, так и оставшимся неизвестным «верховникам»; другой известил Анну о произошедших в Москве событиях еще до приезда официальной делегации. Организатором же этой интриги был, скорее всего, Остерман: он и до того покровительствовал Левенвольде, а в 1730 году раньше всех получил информацию о «кондициях», а в качестве члена Коллегии иностранных дел и начальника почт был в курсе организации курьерской службы, паспортного контроля и застав на дорогах.
Такие услуги не забываются: в новое царствование братья Левенвольде обеспечили себе почетное и влиятельное положение. Рейнгольд вновь вернулся ко двору, а Карл Густав в марте-апреле 1730 года стал обер-шталмейстером, генерал-майором, генерал-адъютантом и командиром нового гвардейского Измайловского полка. На российской дипломатической службе оказался и третий брат — Фридрих Казимир.
Ходили слухи, что в первые годы правления Анны Карл Густав был успешным конкурентом Бирона на предмет близости к государыне. Так или нет — судить сейчас трудно; во всяком случае, в московском дворце Анны имелись апартаменты не только Бирона, но и еще одного «переходящего» любимца — графа Рейнгольда Левенвольде. Это позднее, при Екатерине II, «случай» превратится в штатную должность при дворе; «вступление» в нее очередного соискателя станет всем понятной и привычной процедурой — с получением чина флигель-адъютанта, нескольких тысяч душ (еще несколько полагались при расставании), занятием соответствующих апартаментов во дворце и правом беспрепятственного доступа к императрице — на придворном языке это называлось «ходить через верх».
Московский же двор первой половины столетия столь четких правил еще не выработал и официального доказательства интимных царских милостей не практиковал. Хотя желающие попасть «в случай» находились. Дворовый помещика Милюкова Василий Герасимов в 1735 году сожалел, что его хозяину такая попытка не удалась: «Да и наш-де господин был пташка, и сам было к самой государыне прирезался, как она, государыня, в покоях своих изволила опочивать и тогда-де господин мой, пришед во дворец, вошел в комнату, где она, государыня, изволила опочивать и, увидя ее, государыню, в одной сорочке, весь задражал, и государыня, увидя ево, изволила спросить: „Зачем-де ты, Милюков, пришел?“ и он-де государыне сказал: „Я-де, государыня, пришел проститца“ и пошел-де из комнаты, вышел вон».[83]
Вообще-то грубоватая Анна Иоанновна не кажется подходящей для роли искушенной и кокетливой светской дамы, стремящейся удержать сразу нескольких поклонников. Однако если «случай» имел место, Бирону приходилось эту деликатную ситуацию терпеть — клан Левенвольде был одним из опор аннинского правительства. В отличие от Бирона, братья Левенвольде уже давно освоились на русской службе и явно превосходили его по опыту и кругозору.
Не уступавший Бирону в решительности Карл Густав был крупной фигурой, судя по отзыву запомнившего его по службе в гвардии Василия Нащокина: «Человек был великого разума, имел склонность к правосудию; к подчиненным, казалось, был строг, только в полку ни единый человек не штрафован приказом его, а все в великом страхе находились, и такой человек, как оный граф Левенвольд, со справедливыми поступками и зело с великим постоянством, со смелостью, со столь высокими добродетелями редко рожден быть может. Он же при жизни его императорского величества, блаженной памяти государя Петра Великого, был его величества генерал-адъютантом и много употреблен бывал от его величества в посылки. В жизни своей оный граф фон Левенвольд имел охоту к ружью и охотник был до лошадей. И так я об оном описал, как подлинное мое есть примечание бесстрастно, ибо я у него в особливой милости не был и чрез его рекомендацию никакой милости в авантаж свой не получал, только писал в сей моей записке из почтения, видя в жизни моей такого достойного человека, который паче своей славы, общее добро, то есть правдолюбие, наблюдал, что мне случилось видеть и сим засвидетельствовать».
Старший Левенвольде наряду с Бироном и Остерманом стал одним из самых влиятельных людей при дворе; при поддержке П. И. Ягужинского ему удалось добиться подтверждения рыцарских прав и привилегий лифляндского дворянства. Однако Анна одаряла и награждала не только верных «немцев». По случаю коронации раздавались звания, ордена и имения тем, кто помог Анне «свалить» «верховников». Фельдмаршал И. Ю. Трубецкой, князь А. М. Черкасский, С. А. Салтыков и дядя императрицы В. Ф. Салтыков получили андреевскую звезду; Черкасский, И. Г. Головкин и А. М. Апраксин стали действительными тайными советниками; И. И. Дмитриев-Мамонов, С. А. Салтыков, Г. П. Чернышев, Г. Д. Юсупов и А. И. Ушаков — генерал-аншефами; генерал-майор И. Ф. Барятинский — генерал-лейтенантом; сенаторы М. Г. Головкин и В. Я. Новосильцев — тайными советниками. Василий Татищев получил чин действительного статского советника и тысячу душ. Семену Салтыкову пожаловали 800 дворов (это, если считать по принятым в то время меркам по четыре «души» на двор, означало получение 3 200 душ), а А. И. Ушакову — 500 дворов.
Раздача «пряников» сочеталась с умеренным применением «кнута». При этом новая власть грамотно использовала проверенный принцип «разделяй и властвуй». Приятель Петра II молодой Иван Долгоруков уже 27 февраля был «выключен» из майоров гвардии и посажен вместе с отцом под домашний арест, и от обоих потребовали представить отчет о придворных расходах. Но одновременно фельдмаршалы Василий Долгоруков и Михаил Голицын получили от Анны по семь тысяч рублей. Второму, кроме того, императрица пожаловала четыре волости в Можайском уезде; жена князя стала первой дамой двора — обер-гофмейстериной, а сам он — президентом Военной коллегии. Датский посол рассказывал, как Голицын у ног Анны просил ее о прощении и оправдывался тем, что «хотел защитить наше несчастное потомство от такого произвола, назначив благоразумные границы их (монархов. —
Может быть, царские милости означали, что боевые генералы дрогнули в решающий момент? 25 февраля оба фельдмаршала никак себя не проявили, а армейские полки столичного гарнизона не оказали «верховникам» поддержки, тогда как во время чтения утвержденных Анной «кондиций» войска охраняли правителей в Кремлевском дворце.
После проведения коронационных торжеств взялись за виновных в неудавшейся «затейке». В апреле князей Долгоруковых отправили пока еще в почетную ссылку — губернаторами и воеводами в Сибирь, Астрахань и Вологду. В мае бывший посол в Речи Посполитой князь Сергей Григорьевич Долгоруков должен был сдать все служебные документы и отчитаться в расходовании выданных ему на подкуп депутатов польского сейма средств — 6 тысяч червонцев и мехов. В июле гвардейские офицеры произвели обыски в домах Василия Лукича, Сергея и Ивана Григорьевичей, в ходе которых были изъяты бумаги «о делех ее императорского величества», а заодно и библиотека, переданная в Коллегию иностранных дел, где ее следы затерялись.
В июле 1730 года у опальных были конфискованы вотчины, дома, загородные дворы и, как сообщал указ от имени Анны, «многий наш скарб, состоящий в драгих вещах на несколько сот тысяч рублей». В итоге в ведомство Дворцовой канцелярии перешло почти 25 тысяч крепостных душ от «бывших князей».[85] Василий Лукич был навечно заточен в Соловках, а Алексей и Иван Долгоруковы отправились по следам Меншикова, в гиблый Березов. С собой они увозили как память о прошлом величии рукописную книгу о коронации Петра II, где изображалась его «персона, селящая на престоле, да Россия, стоящая на коленях перед престолом его императорского величества девою в русском одеянии».
За имуществом опальных тут же выстроилась очередь. Многие владения Долгоруковых перешли в руки новых владельцев — Нарышкиных, А. И. Шаховского, А. Б. Куракина, генерала Урбановича, С. А. Салтыкова; даже знаменитому шуту Анны, отставному прапорщику Балакиреву, достался дом в Касимове.[86] «Подметные письма» безымянных доброжелателей рисуют картину беззастенчивого расхищения имущества опальных их же слугами — стряпчим Ханыковским, Федором Турчаниновым и другими лицами. «Верные холопы» стремились воспользоваться удачей и не очень опасались наказания: «Господа воруют — их за то вешают, а хлоп де как живет — и наживает <…>. Их де в Дербень, а мы де по дворцам». Анна желала избежать любых неожиданностей со стороны повергнутых вельмож и бесцеремонно приказала обследовать несостоявшуюся императрицу Екатерину Долгорукову в связи со слухами о ее беременности. Они, к облегчению императрицы, не подтвердились; но это нисколько не облегчило судьбу девушки. Через несколько лет Анна повелела отобрать ее драгоценности и маленький портрет Петра II.[87]
Затем для победителей наступили будни — время устройства новой системы власти. Слухи о появлении совета ближайших к императрице лиц, или Кабинета, появились уже весной 1730 года, о чем тут же оповестили свои дворы иностранные дипломаты. Но его формирование растянулось на полтора года. Императрица не торопилась, да и задача была не из легких. Новый орган должен был взять на себя многие из функций бывшего Верховного тайного совета — значит, состоять из ответственных, компетентных и работоспособных лиц, но при этом не иметь поползновений подменить собой монарха. Да и желавших занять почетные места было больше, чем требовалось: в апреле 1730 года Лефорт называл среди возможных кандидатов Г. И. Головкина, А. И. Остермана, П. И. Ягужинского, С. А. Салтыкова, А. М. Черкасского; другие дипломаты включали в это число фельдмаршалов М. М. Голицына и В. В.Долгорукова. Не случайно в 1730–1732 годах депеши иностранных посланников и резидентов полны сообщений о возникновении и распаде различных «партий» при дворе.
Уже летом 1730 года новое окружение императрицы почувствовало недовольство со стороны знати. Нарушение дворянских требований и «крушение» фамилии Долгоруковых вызывали опасения за собственную участь у тех, кто только что обсуждал и предлагал проекты нового государственного устройства. Напряжение почувствовал французский резидент, сообщивший осенью о «зависти и недовольстве среди старорусской партии» из-за «милостей» к Левенвольде и Бирону.
Об этом же говорит письмо участника событий января-февраля 1730 года И. М. Волынского своему двоюродному брату казанскому губернатору Артемию Петровичу Волынскому от 7 июля 1730 года. Правда, Иван Волынский, так и не получивший от Анны генерал-майорского чина, не очень-то верил в успех борьбы: «Только у них, у Семена Андреевича (Салтыкова. —
Тогда же польско-саксонский посол Лефорт докладывал о столкновении обер-гофмейстера Семена Салтыкова и обер-камергера Бирона, пока еще не считавшегося российскими вельможами достойным противником. Одолеть приезжего «немца» Салтыкову не удалось; в результате родственник-телохранитель и обер-гофмейстер вынужден был в конце концов остаться в Москве, когда двор собрался в новую столицу. Но это выяснится позднее; пока же главным объектом недовольства выступал не Бирон, а Остерман, и иностранные дипломаты отмечали в своих донесениях прежде всего интриги против него.[89]
Не стоит преувеличивать и сплоченность так называемой «немецкой партии» при дворе — те же дипломаты докладывали и о конфликтах Бирона с Остерманом. С «немцами» охотно объединялись исконно русские вельможи в лице М. М. Голицына, А. М. Черкасского, П. И. Ягужинского, Н. Ф. Головина, а сами «немцы» интриговали друг против друга в борьбе за царские милости.[90] К тому же выдвигались не только «немцы» — быструю карьеру в начале царствования Анны сделал князь Алексей Иванович Шаховской: в 1730 году он стал сенатором и генерал-адъютантом; в 1731-м — подполковником нового гвардейского полка; в 1732-м получил тысячу душ и дом в Петербурге; в 1733-м — чин генерал-лейтенанта.
В сентябре того же года Рондо и Лефорт докладывали об объединении Бирона, Ягужинского и Левенвольде в борьбе с Остерманом. Успех казался несомненным; английский консул докладывал в Лондон о настроениях «всего старого российского дворянства», «с нетерпением ожидающего свержения фаворитов». Но как только назначенный в октябре 1730 года генерал-прокурором Сената Ягужинский (по сведениям Рондо, он получил эту должность как раз благодаря Бирону) попробовал вернуть себе прежнее влияние и стать чем-то вроде первого министра — его недавние союзники тут же объединились против него с Остерманом. В результате вошедший было в «силу» министр (к началу 1731 года он стал графом, шефом нового конногвардейского полка и начальником Сибирского приказа) начал терять свой «кредит». К концу года «шумного» и невоздержанного на язык Ягужинского отправили подальше от двора и Сената — послом в Берлин.
Фельдмаршал М. М. Голицын занял пост президента Военной коллегии, но неожиданно скончался в самом конце 1730 года при не вполне понятных обстоятельствах. Французский резидент Маньян 26 декабря отправил в Париж копию донесения голландского дипломата-очевидца, сообщавшего о попытке покушения на Анну, стоившей жизни одному из лучших русских полководцев.
Согласно этому сообщению, на пути из Измайлова в Москву передняя карета, в которой находился князь М. М. Голицын, внезапно провалилась под землю: «Княгиня Голицына, увидя, что песок уходит вниз, догадалась из осторожности спрыгнуть на землю и даже достаточно своевременно, чтобы не быть увлеченной вместе с князем, супругом ее, который упал в провал вместе с каретой, кучером и форейтором. Так как карета императрицы и других особ ее двора находилась на расстоянии почти в тридцать шагов, невозможно было подать необходимой помощи… Пешие лакеи императрицы только успели приблизиться, как увидели еще в провале бревна, отрывающиеся и падающие друг на друга вместе с огромными глыбами камней, нагроможденных по бокам. Это несчастье, которого я сам был очевидцем, заставило императрицу изменить путь и вернуться в Москву по Псковской дороге. По ее возвращении во дворец немедленно был созван Государственный совет. Вечером несколько подозрительных лиц было арестовано, но до сих пор невозможно было открыть ничего относительно того замысла, в котором их подозревают».[91]
Однако сам Маньян никак не комментировал это происшествие и в последующих депешах ни словом о нем не упоминал. Так же ничего не сообщают опубликованные донесения присутствовавших в Москве Лефорта и Рондо; последний просто указал на смерть М. М. Голицына после 8-дневной болезни. Таким образом, получается, что эти дипломаты, пристально следившие за происходившими при дворе переменами, либо не знали о столь важном событии, либо намеренно ничего о нем не сообщали, что выглядит еще более странно.
Старший брат фельдмаршала, хоть и остался сенатором, но практически устранился от дел. Его очередь наступила через несколько лет. Обвиненный в не слишком значительных по нормам той эпохи служебных злоупотреблениях (покровительство зятю при получении наследства), князь Дмитрий Михайлович угодил в каземат Шлиссельбургской крепости, где и умер в 1737 году.
Зато в ряды правящей группировки вошел еще один немец — генерал Бурхард Христофор Миних, вызванный в январе 1731 года из Петербурга. Своим приближением Миних был обязан Остерману. «Отец мой с давнего времени пользовался его дружбою и рекомендован от него новому обер-камергеру с весьма хорошей стороны; почему и не прошло еще и двух недель по приезде его в Москву, как он, со всеми возможными знаками благоволения, введен был в общество сих триумвиров (Бирона, Остермана и Левенвольде. —
Опытный инженер и боевой офицер Миних имел совершенно неуемное честолюбие, был готов руководить чем угодно — армией, государством, императрицей; он не отказался бы занять место самого Бирона возле Анны. Очевидно, Миних имел на это шансы: обладая не менее импозантной внешностью, он, в отличие от придворного Бирона, блистал мужеством и статью «настоящего» генерала; с дамами был любезным кавалером, а мужчин покорял кажущейся «солдатской» прямотой и искренностью. Бирон едва не проглядел соперника. Зато заметили другие: «Ныне силу великую имеют господин обер-камергер и фелтмаршал фон Миних, которые что хотят, то и делают и всех нас губят, а имянно: Александр Румянцов сослан и пропадает от них, так же генерал Ягушинской послан от них же и Долгорукие, и все от них пропали», — давал оценку властному раскладу удаленный от двора строить Закамскую «линию» тайный советник Федор Наумов.
Миних стал активно вмешиваться в иностранные дела и выдвигать своего брата, барона Христиана Миниха, в соперники Остерману; он задел и Левенвольде, упразднив без его согласия (как подполковника гвардии) должности капитан-поручиков в гвардейских полках. К середине апреля 1732 года он успел восстановить против себя прежних сторонников, которые теперь объединились против него.
Сам Миних об этом поражении в своих мемуарах умолчал. Зато о нем рассказал Манштейн, хоть и сожалевший о неудаче шефа, но не скрывавший, что виной тому — торопливость и амбиции фельдмаршала: «Когда двор только что расположился в Петербурге, граф Миних нашел способ вкрасться в доверенность графа Бирона. Последнему он сделался наконец так необходим, что без его совета тот не предпринимал и не решал ни одного даже незначительного дела. Граф Миних только того и хотел, чтобы всегда иметь дело, и, в честолюбии своем, стремился стать во главе управления. Он пользовался всеми случаями, которые могли открыть ему доступ в министерство и в Кабинет. Но как он этим захватывал права графа Остермана, то встретил в нем человека, вовсе не расположенного уступать, а напротив, старавшегося при всяком случае возбудить в обер-камергере подозрения к фельдмаршалу наговорами, что этот честолюбивый генерал стремился присвоить себе полное доверие императрицы и что если он этого достигнет, то непременно удалит всех своих противников, начиная, разумеется, с обер-камергера. То же повторял граф Левенвольде (обер-шталмейстер и полковник гвардии, большой любимец Бирона), и будучи смертельным врагом графа Миниха, он всячески раздувал ненависть.
Прежде чем открыто действовать, Бирон подослал лазутчиков подсматривать действия Миниха относительно его. Прошло несколько дней, как любимцу передали неблагоприятные речи о нем фельдмаршала. Тут он убедился в его недобросовестности и понял, что если Миних будет по-прежнему часто видеться с императрицей, то ему, Бирону, несдобровать. Ум Миниха страшил его, так же как и то, что императрица могла к нему пристраститься и тогда, пожалуй, первая вздумает отделаться от своего любимца. Надобно было опередить врага. Первой мерой было дать другое помещение Миниху, назначив ему квартиру в части города, отдаленной от двора, тогда как до сих пор он жил в соседстве с домом Бирона. Предлогом этого перемещения Бирон представил императрице необходимость поместить туда принцессу Анну Мекленбургскую. Миниху внезапно было дано приказание выезжать и поселиться по ту сторону Невы. Тщетно просил он Бирона дать ему срок для удобного вывоза мебели; он должен был выехать не мешкая. Из этой крутой перемены к нему Бирона Миних заключил, что ему придется испытать еще худшую беду, если не удастся в скором времени смягчить графа. Он употребил всевозможные старания, чтобы снова войти в милость Бирона, и приятели, как того, так и другого, немало старались помирить их, но успели в этом только наполовину. С этого времени Бирон и Остерман стали остерегаться Миниха, который и со своей стороны остерегался их».
Урок пошел фавориту впрок, и отныне фельдмаршал, как ни старался, постоянной резиденции в столице не имел. Оставаясь во главе всей военной машины империи, он уже в 1733 году был отправлен к армии, а затем — благо началось очередное бескоролевье в Речи Посполитой — был назначен командовать находившимися там русскими войсками.
Миних стал последним серьезным соперником Бирона. Возможная оппозиция знати и генералитета была успешно предотвращена. Впрочем, настоящей оппозиции не было — российская «служилая» аристократия и прежде не умела коллективно защищать свои права, а Петровские реформы и вызванный ими приток отечественных и заграничных «выдвиженцев» сделал невозможным какое-либо сплоченное выступление «генералитета» против монарха.
Выступить — собственно, лишь со словесной критикой новых порядков — позволили себе двое. Генерал Александр Румянцев отказался от предложенного ему незавидного поста президента Камер-коллегии, но при этом заявил, что «он не обладает достаточным талантом для изыскания средств возместить все излишние траты, производящиеся ныне при дворе». Анна рассердилась, и строптивый генерал отправился под суд. 19 мая сенаторы подписали Румянцеву смертный приговор, который императрица заменила ссылкой в дальние имения.
Вторым стал фельдмаршал В. В. Долгоруков. После смерти Голицына, несмотря на опалу своего клана, он возглавил Военную коллегию. Очередь фельдмаршала настала в конце 1731 года, когда он по случаю новой присяги «дерзнул не токмо наши государству полезные учреждения непристойным образом толковать, но и собственную нашу императорскую персону поносительными словами оскорблять». Позднее «в народе» опалу фельдмаршала объясняли тем, что «государыня брюхата, а прижила де с ыноземцем з графом Левольдою, и что де Левольда и наследником учинила, и князь Долгорукой в том ей, государыне императрице оспорил». За официально не названные «жестокие государственные преступления» князь Василий Владимирович был приговорен к смертной казни, замененной заключением в Шлиссельбургской крепости, а затем в Ивангороде. Из заточения он вышел уже после смерти Анны.
Опала фельдмаршала Долгорукова повлекла за собой ссылку его брата М. В. Долгорукова, недавно назначенного казанским губернатором, и стала звеном в цепи начавшихся репрессий, как будто утихших после разгрома семейства Долгоруковых. Вместе с фельдмаршалом пострадали гвардейские офицеры — капитан Ю. Долгоруков и прапорщик А. Барятинский, адъютант Н. Чемодуров и генерал-аудитор-лейтенант Эмме; в Сибирь отправился полковник Нарвского полка Ф. Вейдинг. В следующем году произошел настоящий разгром любимого полка Меншикова — Ингерманландского. Его полковник Мартин Пейч и майор Каркетель обвинялись в финансовых злоупотреблениях; а капитаны Ламздорф, Дрентельн и другие офицеры были приговорены к позорному наказанию (шесть раз прогнать через строй солдат) и ссылке в Сибирь за то, что называли русских людей «подложными слугами».[92]
Мы не знаем, связано ли было как-то это дело с оценкой виновными событий 1730 года; но очевидно, что новые власти не жаловали любую оппозицию, в том числе и со стороны «немцев». Уже «восстанавливая» Сенат, императрица внесла в указ прямую угрозу: «и ежели оный Сенат чрез свое ныне пред Богом принесенное обещание и прежнюю в верности нам учиненную присягу неправедно что поступят в каком государственном или партикулярном деле, и кто про то уведает, тот да известит нам».
Новый фаворит, так же как и Меншиков, прошел этап борьбы за власть и влияние, занявший примерно два года. Именно в 1730–1731 годах донесения послов говорили о жалобах и возмущении дворян тем, что «ее величество окружает себя иноземцами». Позднее, когда расстановка сил стала ясной и «дележка» власти закончилась, эти жалобы умолкли. Бирон вначале действительно не слишком бросался в глаза, выступая прежде всего в качестве «передаточного звена» — он доставил прощальные подарки неудачливому жениху, португальскому принцу Эммануэлю, и выручил влезшего в долги при русском дворе испанского герцога де Лириа. Английский консул сначала даже удивлялся тому, что Бирон — личность «едва известная» — получил ценные подарки от австрийского императора. Но затем он обратил внимание, что обер-камергер стал участником «тайных советов» у императрицы и она «решительно подпала влиянию своего фаворита», что в 1731 году стало очевидным и для других наблюдателей.
Рубежом в этой борьбе можно выделить середину 1732 года: к этому времени Бирону удалось не только удалить послом в Берлин Ягужинского (ноябрь 1731 года), но и нейтрализовать притязания вошедшего было в милость Миниха, который в 1733 году был отправлен из столицы на осмотр пограничных укреплений, а затем в армию. Весной 1732 года архитектор Франческо Бартоломео Растрелли получил свой первый заказ от Бирона: построить на пустыре между Невской перспективой и Большой Морской вместительный и удобный манеж. В рапорте в Канцелярию от строений о нехватке материалов для завершения этой работы молодой зодчий уже называл своего заказчика «его светлостью великим канцлером герцогом Бироном».
Граф Священной Римской империи, кавалер орденов Андрея Первозванного, Александра Невского и Белого орла, владелец обширных имений (ему принадлежали город Венден в Лифляндии и бывшие владения Меншикова в Пруссии), герцог Курляндский и, наконец, официальный регент Российской империи — таков итог необычной карьеры этого человека к концу царствования Анны. Бирон сделался обер-камергером вслед за Меншиковым и Иваном Долгоруковым, но именно он сумел превратить эту должность в высший государственный пост и сделать свое имя символом десятилетнего правления Анны. Поэтому и важно разобраться в причинах, позволивших мелкому курляндскому дворянину стать (и оставаться долгое время) вторым по значению лицом в империи.
Улыбнулося тому ж счастие Макару —
И, сегодня временщик, уж он всем под пару
Честным, знатным, искусным людям становится,
Всяк уму наперерыв чудну в нем дивится,
Сколько пользы от него царство ждать имеет!
Поправить взглядом одним все легко умеет.
«Она примерно моего роста, но очень крупная женщина, с очень хорошей для ее сложения фигурой, движения ее легки и изящны. Кожа ее смугла, волосы черные, глаза темно-голубые. В выражении ее лица есть величавость, поражающая с первого взгляда, но когда она говорит, на губах появляется невыразимо милая улыбка. Она много разговаривает со всеми, и обращение ее так приветливо, что кажется, будто говорит с равным; в то же время она ни на минуту не утрачивает достоинства государыни. Она, по-видимому, очень человеколюбива, и будь она частным лицом, то, я думаю, ее бы называли очень приятной женщиной», — такой увидела грозную императрицу Анну Иоанновну жена английского резидента Рондо в Петербурге в 1733 году во время придворного «выхода»; рядом с ней уже прочно занял свое место наш герой. «Граф Бирон и его супруга — первейшие фавориты ее величества, настолько первейшие, что на них смотрят как на особ, облеченных властью. Он — обер-камергер, хорошо сложен, но производит весьма неприятное впечатление».
Влияние незнатного, но доверенного слуги, особая роль прелестной дамы при монархе или возвышение приятного во всех отношениях кавалера — явление старое, как мир. До поры выдвижение таких лиц оставалось, смотря по ситуации, извинительной или непростительной слабостью коронованной особы. Вспомним хотя бы Диану де Пуатье, для которой французский король Генрих II выстроил прекрасный замок Шенонсо на Луаре, или коварного цирюльника Оливье ле Дэна при дворе другого французского короля Людовика XI, попавшего в роман Вальтера Скотта «Квентин Дорвард».
В переломную эпоху перехода от позднесредневековых королевств к монархиям нового времени фаворитизм перестал быть только проявлением личных склонностей государя и стал важнейшим элементом в механизме монархии в образе могущественного «министра-фаворита». Тогда же при французском дворе появился сам термин «favori», а при испанском — его аналог «privado». С начала XVII столетия появляется целая плеяда выдающихся деятелей: Франсиско де Сандовальи-Рохас герцог Лерма и Гаспар де Гусман граф-герцог Оливарес в Испании; Кончино Кончини (маркиз д'Анкр), кардиналы Арман Жан дю Плесси герцог де Ришелье и Джулио Мазарини во Франции; кардинал Мельхиор Клесль в Австрии; Джордж Вильерс герцог Бэкингем в Англии; Педер Шумахер граф Гриффенфельд в Дании. Они правили государствами, издавали декреты, объявляли войны, командовали армиями; их портреты писали великие художники эпохи — Веласкес, Рубенс, Пуссен.
Появление этих фигур не случайно. Средневековый король ходил в походы со своими слугами и управлял своим доменом при помощи узкого круга советников. Решение же прочих дел осуществлялось путем советов и консультаций с могущественными вассалами и независимыми церковными корпорациями. В эпоху строительства национальных государств объем правительственной деятельности вырос многократно, но далеко не каждый государь мог, подобно Филиппу II Испанскому, с утра до вечера работать с документами. Мало было только поставить свою подпись — надо было разбираться в различных отраслях управления и контролировать исполнение приказов.
Даже в современной бюрократической машине благое по замыслу решение может до неузнаваемости измениться после прохождения многочисленных инстанций и согласований. В более далекие времена подобного механизма власти еще не было. При дворе существовали многочисленные советы со своей специфической компетенцией, а в провинциях королевской власти приходилось иметь дело с многообразием локальных законов и привилегий, традиционными местными учреждениями, практикой наследственного занятия и покупки должностей. Во Франции эпохи «Трех мушкетеров» не существовало единого законодательства, зато было не менее 25 тысяч чиновников, многие из которых были выборными, купили свое место или являлись клиентами могущественных вельмож.
Рутинная работа управления — уже совсем не «царское дело». Испанский король Филипп IV объяснил в одном из писем 1647 года, почему он не мог обойтись без «главного министра»: «Требуется от него обычно выслушивать других министров и просителей так, чтобы он мог доложить государю, что они хотят. Он также должен следить за делами наибольшей важности и смотреть, чтобы принятые решения исполнялись быстро. Необходимые дела есть в любое время, но больше всего сейчас, когда так важно, чтобы решения осуществлялись безотлагательно. Есть то, что нелегко сделать королю лично, потому что это несовместимо с его достоинством — ходить по учреждениям и смотреть, быстро ли выполняют министры и секретари то, что им было приказано. Однако сведения, которые он получает от своих наиболее доверенных министров и слуг, позволяют ему указывать, что должно быть сделано, и узнавать, было ли это сделано».[93]
Королям XVII века только предстояло создать централизованную и рациональную систему управления, единую армию, налоговую службу. Для этого было необходимо преодолеть средневековую раздробленность и корпоративизм, сломить сопротивление аристократии (намного более могущественной, чем в России) и выстроить в рамках традиционной системы отношений «национальную клиентскую сеть», то есть связать воедино королевский двор и дворянство страны. Здесь нужен был не только «пряник» в виде наград и должностей, но и «кнут», поскольку предстояла решительная ломка традиционных отношений королевской власти и знатных подданных.
Эту тяжелую, а порой грязную работу и делал «министр-фаворит», должность которого находилась как бы вне сложившихся феодальных отношений и традиционных норм. Такая роль позволяла «снять» с королевского величия обвинение в нарушении божественных и человеческих законов — ведь все творилось руками недостойного выскочки. Она требовала высшей степени доверия, поэтому фаворит не мог быть только высокопоставленным чиновником, а должен был обязательно быть связан тесными личными отношениями с государем. В то же время он далеко не всегда являлся близким другом или, тем более, любимцем — скорее, наоборот, конфликты были неизбежны, и не всем удавалось, подобно Ришелье, сохранить королевское доверие. Стремительный взлет мог обернуться не только почетной отставкой; карьеры суперинтенданта финансов Людовика XIV Никола Фуке и главного министра Дании графа Гриффенфельда закончились скорым судом с пожизненным заточением.
«Министр-фаворит» не мог ограничиться простым набиванием своего кошелька или потаканием прихотям монарха, чтобы удержаться у власти. Прежде всего он должен был являться политиком и осуществлять вполне определенную программу, порой преодолевая серьезное сопротивление и подвергая свою жизнь опасности. Против Ришелье постоянно устраивались заговоры; политика Мазарини вызвала во Франции настоящее возмущение — Фронду и временное изгнание министра; Кончини в 1617 году был убит по приказу молодого Людовика XIII, а Бэкингем в 1629 году пал от руки пуританина. Но все же, заметим, несмотря на все — часто вполне справедливое — недовольство политикой таких министров, во Франции они получили признание общества, а их деятельность заложила основы современного французского государства.
В отечественном же историческом сознании фаворит по-прежнему оценивается как отрицательный персонаж, а фаворит-иноземец — и подавно: «Если при Петре в основе выдвижения царских любимцев главную роль играли совпадения взглядов, созвучность настроений, талант, энергия, предприимчивость и другие деловые качества, то позднее на первое место вышли интриганство, игра на слабостях правителей, потворство желаниям царствующих особ и умение таким образом оказывать на них сильное влияние. Влияние это в первую очередь позволяло фаворитам окружать правителей своими приверженцами, выдвигать их на руководящие посты. В правление Анны положение усугублялось тем, что под влиянием ее фаворита Э. И. Бирона к власти пришла группировка карьеристов-иноземцев, бесстыдно грабивших Российское государство. Борьба с ними была невероятно трудна».[94] Можно согласиться с тем, что деловые качества Меншикова (в том числе по части присвоения казенных денег) остаются непревзойденными — в данной оценке характерна как раз убежденность авторов в безусловной вредности данного явления.
В России XVII века задачи были те же, что и во Франции, — создание более-менее эффективного приказного устройства и новой армии. В патриархальном московском царстве роль правителя выполнял современник Ришелье — второй «великий государь» и отец царя, патриарх Филарет Романов. При втором царе династии, Алексее Михайловиче, стали выделяться фигуры «ближних», или «комнатных», бояр, которые, как Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, проводили и отстаивали собственный курс во внутренней и внешней политике. К концу столетия такие, порой незнатные деятели (Артамон Матвеев при Алексее Михайловиче, Иван Языков при Федоре Алексеевиче) выступают все более активно, тем более что на престоле появляются цари-дети, а на власть впервые претендует энергичная и умная царевна Софья.
Боярин князь Василий Васильевич Голицын открыл собой в нашей истории плеяду официальных фаворитов при «дамских персонах». Однако помимо «плезиров ночных», Голицын занимал высокий пост «государственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегателя», что было равнозначно титулу канцлера. Как «первый министр», руководитель Посольского и некоторых других приказов, он заключил в 1686 году «вечный мир» с Речью Посполитой, вступил в коалицию европейских стран для борьбы с Османской империей и возглавил русскую армию в походах на Крым в 1687 и 1689 годах. По сообщениям иностранных дипломатов, Голицын разрабатывал планы преобразований, включавшие создание регулярной армии, подушной налоговой системы, ликвидацию государственных монополий и даже вроде бы хотел отменить крепостное право.[95]
Но должность «галанта» еще не воспринималась не привыкшими к подобным вещам соотечественниками — тем более что Софья не очень скрывала их отношения и даже подарила «моему свету Васеньке» роскошную «кровать немецкую ореховую, резную, резь сквозная, личины человеческие и птицы и травы, на кровати верх ореховый же резной, в средине зеркало круглое». К нему пристало прозвище «временщик» (его воспроизвел по-французски в своем донесении дипломат де Невилль), и с этим обращением на него в 1688 году бросился убийца. К тому же князь не обладал пробивными способностями и холодной жестокостью своих последователей — он так и не сумел создать в правящем кругу надежных «креатур», а в решающий момент не смог или не захотел бороться за власть. Итогом стали капитуляция в 1689 году, последовавший за ней смертный приговор от имени молодого Петра и смерть в ссылке на севере.
Эпоха великих «министров-фаворитов» закончилась ко времени Людовика XIV, как известно, заявившего, что сам будет своим первым министром, и сдержавшего слово. В России при Петре Великом с его талантами и колоссальной работоспособностью «должность» фаворита также была невозможна и не нужна. Но в последующую эпоху институт «случайных людей» переживает период расцвета.
На Западе произошло что-то вроде «разделения труда». Фавориты и фаворитки (иногда с официальным титулом «maitresse en titre») стали неотъемлемой принадлежностью королевского или княжеского двора. Они блистали в обществе, возглавляли придворные «партии», задавали тон в модах и искусстве развлечений. В одних случаях это были фигуры проходные, быстро сменявшиеся (саксонский курфюрст и польский король Август II Сильный от всех своих знатных и не очень фавориток имел около 200 детей), в других — важное звено в придворном раскладе, и малейшие изменения в отношениях фиксировались придворными и дипломатами. «Большие новости, — записывал в ноябре 1742 года в своем дневнике военный министр Франции маркиз Д'Аржансон, — мадам де Майли отставлена, а мадам де ла Турнель взята с необычной для христианнейшего короля резкостью. Новая фаворитка потребовала и добилась, чтобы прежняя была удалена на значительное расстояние». Вхождение в «должность» — важная процедура, и Д'Аржансон подробно перечислил ее условия: де ла Турнель предварительно добилась предоставления ей «звания» maitresse en titre, титула герцогини, дома в Париже, драгоценностей, ежемесячного содержания и «узаконения всех детей, которых она может родить от короля» — и только после этого «сдалась» Людовику XV.
С другой стороны, задача построения универсального и единообразного механизма, называемого Петром I «регулярным государством», направляющего жизнь подданных, так и не была решена при «старом режиме». Необходимость адаптации к новым условиям развития экономики и духу Просвещения требовала реформ «просвещенного абсолютизма», а усложнившаяся система международных отношений в масштабе общеевропейского «концерта», строительство колониальных империй — искусной и профессиональной дипломатии. Однако коронованные особы, как и раньше, далеко не всегда соответствовали этим масштабам.
В XVIII столетии на первый план здесь выступили уже не фавориты, а «первые министры» — политики, дипломаты, юристы: кардинал Андре Эркюль де Флери во Франции, маркиз Бернардо Тануччи в Неаполитанском королевстве, Себастьян Жозе де Карвальо и Мело маркиз Помбаль в Португалии, Венцель Антон фон Кауниц в Австрии, Генрих фон Брюль в Саксонии.
Разумеется, это деление условно; живая история всегда сложнее логической схемы. Министры могли быть плохими политиками, взяточниками и казнокрадами, как Брюль; а блистательные «метрессы», как маркиза де Помпадур, оказывали самое серьезное влияние на политику, смещали и возводили министров. И все же «первые министры» эпохи «просвещенного абсолютизма» уже не были всесильными правителями с неограниченными полномочиями, подобно Ришелье; одновременно полководцами, законодателями и придворными. Они являлись компетентными и ответственными чиновниками и были необходимы именно в этом качестве, чтобы вырабатывать программу действий и реформ, направлять деятельность послов, налаживать координацию слабо связанных друг с другом ведомств, то есть играть роль председателя правительства,
Они тоже порой рисковали. В 1772 году в Дании взлет «тайного кабинет-министра» И. Ф. Струензе, ставшего из незнатного иностранца графом, фактическим правителем и возлюбленным королевы при безумном короле Кристиане VII, завершился арестом и казнью. Правда, «падение» Струензе было вызвано не только недовольством знати, но и серией радикальных реформ: введением свободы печати и вероисповедания, регламентацией крестьянских повинностей, сокращением государственного аппарата, утверждением равенства подданных перед судом. Реформы первого министра Помбаля и его борьба с привилегиями знати и церкви вызвали в 1758 году покушение на жизнь его покровителя-короля Жозе I. Монарх остался цел, а Помбаль сохранил власть до конца его царствования, когда по воле противников был схвачен, приговорен к смерти, но отправлен в изгнание.
И все же при европейских дворах «старого режима» попытки силового захвата власти или свержения правителей не получили распространения. Они блокировались традиционными корпорациями и институтами и господствовавшим в обществе «юридическим стилем мышления»: представлениями о праве как божественном и нерушимом установлении. Свержение династии Стюартов в Англии привело к установлению конституционных законов («Билля о правах», «Акта о мятеже» 1689 года, «Акта об устроении» 1701 года), навсегда ограничивших королевскую власть.
Абсолютистские режимы Франции, Испании или немецких княжеств не знали дворцовых «революций». Их заменяло возвышение новой фаворитки или сравнительно мягкое смещение министров. «Замена нужна, чтобы попытаться изменить ситуацию, и такая мера всегда требуется во время больших неустройств в государстве. Тем менее возможно избежать обращения к данной, несчастной, даже несправедливой и вызывающей осуждение публики акции против вашего высочества», — объяснил кардинал Флери причины отставки в личном письме прежнему «главному министру», герцогу де Бурбону, отправленному из Парижа в замок Шантильи в июне 1726 года. Иногда такая опала становилась даже предметом торга, приносившего жертве немалое состояние.
Во Франции появились целые министерские династии Лувуа, Поншартренов, Кольберов. Карьеры должностных лиц протекали стабильно, а на 150 назначавшихся лично королем высших администраторов приходилось 45 тысяч чиновников, купивших свои должности и составлявших на местах судебные и финансовые корпорации. Аристократические партии времен Фронды превратились в придворные группировки, объединявшие вокруг министра или фаворитки влиятельных чиновников, финансистов, военачальников и прелатов. Основой такой партии был родственный клан, создавший широкую клиентуру при дворе и в аппарате управления. Могущественный «король-солнце» Людовик XIV на деле был, скорее, верховным арбитром в отношениях влиятельных корпораций и учреждений.
В России же все пошло, как обычно, своим путем. Реформы Петра I несомненно усилили и государство, и государя; однако созданный им механизм власти имел уязвимые места с точки зрения политической стабильности режима.
Упразднение патриаршества, провозглашение себя «крайним судией» духовной коллегии (Синода) и принятие титула «Отца Отечества» означало в глазах подданных отказ от образа православного царя. Новое светское обоснование власти снимало с государя ограничение традицией, но одновременно «снижало» образ монарха в глазах подданных. Следствием стали как дискредитация духовной власти, так и появление самозванцев в ответ на ожидания «праведного», богоизбранного царя. «Устав о наследии престола» 1722 года отменил утвердившуюся, но не закрепленную юридически традицию передачи власти по нисходящей линии от отца к сыну; в результате на престол имели равные права все члены семьи Романовых со своими сторонниками и «партиями».
Петровские реформы и Табель о рангах породили целое поколение «выдвиженцев» с новыми запросами. Повести Петровской эпохи рисуют образ «нового русского» шляхтича, который мог сделать карьеру, обрести богатство и повидать весь мир. Герой появившейся в кругу царевны Елизаветы «Гистории о некоем шляхетском сыне» уже в «горячности своего сердца» смел претендовать на взаимную любовь высокородной принцессы, «понеже изредкая красота ваша меня подобно магнит железо влечет». В такой дерзости теперь не было ничего невозможного: «Как к ней пришел и влез с улицы во окно и легли спать на одной постеле», — этот литературный образ в «эпоху дворцовых переворотов» стал реальностью.
В жестко централизованной системе стремление конкретного лица или группы повысить свой статус и упрочить материальное положение не могло не быть направлено к ее вершине, где происходила раздача чинов, имений и прочих благ. Усиление зависимости от монарших милостей порождало специфическое мироощущение, когда фигура императора становилась воплощением всей государственной жизни и источником общего блага. Но эта персонификация имела оборотную сторону, которую уловил М. М. Щербатов: «Начели люди наиболее привязываться к государю и к вельможам, яко ко источникам богатства и награждений <…>, сия привязанность несть благо, ибо она не точно к особе государской была, но к собственным своим пользам».
В борьбе за придворное счастье складывались и рассыпались «партии» — «союзы одних лиц против других», как это понятие определяется в словаре В. И. Даля. Высший слой российского дворянства не имел корпоративной солидарности: состав придворных группировок быстро менялся. При отсутствии правовых традиций и представительных органов «регулятором» политики стали не законы и институты, а придворные интриги, а со временем — гвардия.
Блестящие гвардейские полки во времена Петровских реформ стали не только элитными воинскими частями, но и чрезвычайным рычагом управления: гвардейцы формировали новые воинские части, проводили первую перепись, отправлялись с ответственными поручениями за границу, собирали подати, назначались ревизорами и следователями; порой сержант или поручик был облечен более значительными полномочиями, чем губернатор или генерал. Однако силовые методы политической борьбы не могли, рано или поздно, не породить интриг и заговоров, опиравшихся на гвардию как единственную оформленную политическую силу.
Такая структура власти вызывала колоссальное давление на ее носителей, отнюдь не всегда обладавших выдающимися способностями, а порой и беспомощных перед грузом обрушившихся на них проблем. Сосредоточение на небольшом дворцовом пространстве огромной власти порождало необходимость в институтах, облегчавших груз забот правителя — но и ожесточенную борьбу «партий» и группировок, которая привела к целой «эпохе дворцовых переворотов» в 1725–1762 годах. За 37 лет на престоле сменились семь императоров и императриц, «восшествие» и правление которых сопровождалось большими и малыми «революциями».
Параллельно шло формирование других элементов послепетровской монархии. Вместо одного «первого министра» для ежедневного руководства и координации работы правительственного аппарата создавались высшие советы при государе—Верховный тайный совет (1726 год), Кабинет министров (1731 год), Конференция при высочайшем дворе (1756 год). С другой стороны, утверждался институт «случайных людей». Через несколько лет после смерти Петра I историк и чиновник В. Н. Татищев уже вполне терпимо относился к возможности появления фаворита: «…Таковый, ежели не льстец и хисчник казны, а народу не обитчик и довольно себя по правилам мудрости содержит, не токмо в жизни счасливы, но и по смерти похвалу вечную оставляют».
Собственно, первым «Бироном» в отечественной истории вполне мог стать другой немец — брат любовницы молодого Петра I Анны Монс Виллим. Исполнительный генеральс-адъютант царя по его воле стал камер-юнкером царицы Екатерины, а затем, уже по собственной инициативе — ее фаворитом. За пять-шесть лет он вошел в такую «силу», что к нему за помощью не стеснялись обращаться фельдмаршалы Голицын и Меншиков, губернатор Волынский и даже архиепископ Ростовский Георгий Дашков. «Милостивой мой благотворитель Виллим Иванович! — писал архиерей. — Понеже я вашим снисхождением обнадежен, того ради покорно прошу, не оставьте нашего прошения в забвении: первое, чтоб в Синоде быть вице-президентом; аще вам сие зделать возможно, зело бы надобно нам сей ваш труд! Ежели сего вам невозможно, то на Крутицкою эпархию митрополитом, и то бы не трудно зделать, понеже ныне туда кому быть на Крутицах ищут. Того ради, извольте воспомянуть, чтоб кого иного не послали, понеже сими часы оное дело <…> наноситца… [а] мне в сем самая нужда, чтоб из двух сих: или в Синод, или на Крутицы весьма надобно».
К камер-юнкеру, успевшему даже завести свою канцелярию для приема прошений, обращались десятки самых разных людей со всевозможными просьбами: пожаловать чин, освободить из-под ареста или от казенных платежей, похлопотать о «деревне», предоставить отпуск со службы или место, включая даже архиерейскую должность. За исполнение этих пожеланий фаворита одаривали деньгами, лошадьми, собаками, драгоценностями и даже целыми имениями. Главное, что объединяло все прошения, — для их исполнения надо было немного обойти закон, в чем Монс вполне преуспевал. При коронации Екатерины он был пожалован в камергеры, но получить патент не успел. Доносчик был мелкой сошкой и мало что знал, его «извет» едва не затерялся. Но кто-то весьма влиятельный постарался «запустить» дело, и Петру стало известно все. 16 ноября 1724 года на Троицкой площади Петербурга Монсу отрубили голову по обвинению в лихоимстве. Имена «просителей» Петр приказал публично обнародовать.
Знаменитый Александр Данилович Меншиков в качестве фактического регента при Петре II в 1727 году мог бы сыграть роль Мазарини — правителя Франции при юном Людовике XIV. Но она оказалась князю не по силам; он, по выражению XVII века, стал «государиться»: своевольно карал и миловал, отбирал и раздавал имения, как стало потом известно из поданных в Сенат жалоб; взял под собственную «дирекцию» дворцовое ведомство и даже позволял себе вмешиваться в церковные дела. Готовилась к изданию монументальная биография «Заслуги и подвиги его высококняжеской светлости князя Александра Даниловича Меншикова», согласно которой князь, «как Иосиф в Египте, счастливо управлял государством» и тратил на это «собственные деньги», то есть содержал самого Петра I вместе с двором. 25 мая 1727 года произошло обручение Петра II с Машенькой Меншиковой. Синод повелел во всех церквах поминать рядом с императором «невесту его благоверную государыню Марию Александровну», для которой уже был создан особый придворный штат.
Но правительственная деятельность генералиссимуса и светлейшего князя не поднялась выше выделки гривенников из «непостоянного и фальшивого серебра» с мышьяком и выпрашивания герцогства и новой кареты у австрийского императора. Иностранные дипломаты, как на аукционе, стремились удерживать князя в рамках того или иного политического курса, соответственно расценивая его в качестве «капитала, по утверждению австрийского посла Рабутина, приносящего <…> большие кредиты».
Неуемный произвол временщика — это, можно сказать, ранний этап формирования «культуры» российского фаворитизма, когда его носители еще не представляли себе границ дозволенного. Меншикову — личному другу Петра Великого, выходцу из низов, сознававшему свои заслуги, — определить эти границы было особенно трудно. Более тонко чувствовавшие ситуацию дипломаты сетовали, что князь напрасно демонстрировал «суровость» своей власти и управлял «как настоящий император» вместо того, чтобы вести себя по понятным им правилам: оказывать «милости», заручиться доверием самого царя, его сестры Натальи и членов Верховного тайного совета.
Упоение властью привело светлейшего князя к конфликтам с ленивым и капризным подростком Петром II, репрессиям против недавних союзников и прочих недовольных. Зато исполнение служебных обязанностей Меншикова уже не интересовало: в 1727 году он практически не посещал заседаний Военной коллегии, все реже бывал на заседаниях Верховного тайного совета и подписывал, не читая их протоколы, — и тем самым выпускал из рук контроль над гвардией и государственным аппаратом. Остальное было делом умелой интриги, в результате которой зарвавшийся вельможа был легко устранен, чтобы уступить место новым фаворитам, и закончил свои дни в далеком сибирском Березове.
На смену Меншикову пришел друг и обер-камергер юного царя Иван Долгоруков. Но он оказался для роли правителя «очень прост», по оценке де Лириа: «Он хотел управлять государством, но не знал, с чего начать». Скучной политике князь Иван предпочитал развлечения. «Слюбился он, иль лучше сказать, взял на блудодеяние себе, между прочими, жену К[нязя] Н[икиты] Ю[рьевича]Т[рубецкого], рожденную Головкину, и не токмо без всякой закрытности с нею жил, но при частых съездах у К[нязя] Т[рубецкого] с другими своими младыми сообщниками пивал до крайности, бивал и ругивал мужа, бывшего тогда офицером кавалергардов, имеющего чин генерал-майора, и с терпением стыд свой от прелюбодеяния своей жены сносящего. И мне самому случилось слышать, что единожды, быв в доме сего кн[язя] Труб[ецкого], по исполнении многих над ним ругательств, хотел наконец его выкинуть в окошко», — вспоминал о «политике» фаворита князь Щербатов.
Способности обер-камергера к интриге не шли далее попытки отправить мужа своей любовницы на службу в Сибирь. Обиженному Трубецкому пришлось обращаться с «горькими жалобами» к отцу князя Ивана, обер-егермейстеру Алексею Долгорукову, который сделал сыну выговор. Но и старший Долгоруков пошел по стопам Меншикова и почти успел женить 14-летнего Петра на своей дочери — свадьбе помешала только неожиданная смерть царя. Иван Долгоруков во время агонии Петра II попытался провозгласить сестру императрицей и увлечь за собой гвардейские караулы. Но за вчерашним фаворитом (майором гвардии) никто не пошел. Затем последовала ссылка, а через несколько лет — новое следствие и казнь недавнего любимца.
Устранение кажущихся всесильными фигур трудно даже назвать дворцовыми переворотами, настолько легко они происходили. В этой легкости имелась и заслуга самого Меншикова: именно он и его сторонники своим натиском обеспечили воцарение Екатерины I, а затем — вопреки ее воле — вступление на престол Петра II с последовавшим тут же нарушением ее завещания. Правовой и моральный вакуум на самом верху политической системы неизбежно вел к подковерным методам борьбы и в данном случае обернулся против самого Меншикова. Фаворит, находясь на вершине земных почестей, оставался в одиночестве перед абсолютной властью монарха, которая могла внезапно совершить «отмену» и обратить милости к его противникам. Тогда — не только конец карьеры, но и исключение из властного круга и всей привычной жизни — лишение чинов, «чести», имущества, а то и жизни.
Бирон усвоил специфику российского двора и играл свою роль по иным, «европейским» правилам. «Не злоупотребляет своей силой, любезен и вежлив со всеми и ищет всевозможных случаев понравиться», — вполне одобрял его поведение де Лириа в 1730 году. «Он был довольно красивой наружности, вкрадчив и очень предан императрице», — признавал соперник Бирона фельдмаршал Миних. «В обхождении своем мог он, когда желал, принимать весьма ласковый и учтивый вид, но большей частью казался по внешности величав и горд», — описывал манеры фаворита Миних-сын.
Сын фельдмаршала отмечал не только хорошо известное честолюбие Бирона, но и черты характера, явно мешавшие на его «посту»: «то недоверчивость, то легковерие причиняли ему нередко многое опасное беспокойство. Он был чрезмерно вспыльчив и часто обижал из предускорения; если случалось иногда, что он погрешность свою усматривал, то хотя и старался опять примириться, однако же никогда не доводил до изустного объяснения, но довольствовался тем, что обиженному доставлял стороною какую-нибудь приязнь или выгоду». Таким образом, Бирон осознавал свои недостатки и умел исправлять ошибки — во всяком случае, до поры.
Жизнь фаворита или фаворитки не стоит представлять себе беззаботным существованием среди удовольствий и наград. У семейства Биронов, по сути, не было нормального Дома. Их апартаменты всегда находились во дворце, рядом с покоями императрицы: в московском деревянном Анненгофе спальня обер-камергера размещалась через три небольших покоя, а дальше — комнаты его жены и детей. Так же они жили и в Петербурге, куда двор переехал в начале 1732 года.
Незадолго до того, в декабре 1731 года, саксонский посол Лефорт писал: «На будущий год на границах Ливонии и Курляндии, между Ригою и Митавою, построят загородный дворец и назовут его Аннабургом. Со временем здесь образуется местечко, затем город и, наконец, резиденция. На будущее лето тут предполагается свадьба наследного принца прусского, который сохранит свое положение, а его потомки получат право на русский престол. Аннабург будет цветущим городом и резиденциею, достаточно близкою, чтобы во всякое время подать помощь избранному в мечтах герцогу курляндскому Бирону, в пользу которого царица откажется от всех своих притязаний на Курляндию и прусский двор тотчас же уступит ему права свои на это герцогство».[97]
Может быть, эту мечту о новой «резиденции» подал Анне как раз Бирон, имевший в виду ее практическую пользу на предмет обладания Курляндией? Но реальность не позволяла начать царствование со столь решительного шага. Да и свое положение фавориту постоянно надо было охранять. Отец и сын Минихи сообщали, что он постоянно присутствовал рядом с Анной, «которую никогда не покидал, не оставив около нее вместо себя свою жену». Императрица постоянно обедала и ужинала с семейством Бирона и даже в комнатах своего фаворита; «в угождение ему сильнейшая в христианских землях монархиня лишила себя вольности своей до того, что не только все поступки свои по его мыслям наиточнейше распоряжала, но также ни единого мгновения без него обойтись не могла и редко другого кого к себе принимала, когда его не было <…>. Герцог с своей стороны всеми мерами отвращал и не допускал других вольно с императрицею обходиться, и если не сам, то чрез жену и детей своих всегда окружал ее так, что она ни слова сказать, ни шага ступить не могла, чтобы он тем же часом не был о том уведомлен».
День за днем, год за годом постоянно находиться «при особе ее императорского величества» и при этом не надоесть, не вызвать раздражения — работа нелегкая. Реальные отношения при дворе не похожи на экранно-романные «тайны» с увлекательными интригами и приключениями. В действительности это рутинные будничные проблемы и обязательные церемонии, в том числе прислуживание за столом, переезды, надзор за подчиненными и слугами: не холодно ли в спальне; не заменить ли лакея, чья неловкость во время обеда была замечена гостями; каких лошадей и карету подать завтра на выезд; кого из придворных взять с собой на лето в Петергоф; каковы причины отсутствия одной из фрейлин, замеченного государыней; кого из желающих сегодня стоит допустить к государыне, а кого надо придержать под благовидным предлогом.
Через Бирона шли назначения на придворные должности, приглашения на дворцовые торжества, распоряжения об их подготовке; он вел дела с «гоф-комиссарами» («поставщиками двора»), причем обычно торговался по мелочам. Он выполнял обязанности как обер-гофмейстера (формально сохранявший этот пост Салтыков остался в Москве и реально дворцовым хозяйством управлять не мог), так и обер-шталмейстера, поскольку очень интересовался делами придворного конюшенного ведомства.[98]
За этими повседневными хлопотами нужно было всегда выглядеть свежим и быть одетым к месту, вовремя замечать перемены настроения государыни, развлекать ее неожиданными и непременно приятными сюрпризами — вроде того, как в 1734 году несколько раз во дворце, «к высочайшему удовольствию» императрицы, показывались «острономические обсервации», а также «пневматические и гидравлические опыты». Впрочем, с не меньшим интересом Анна любовалась доставленной из Англии в 1737 году «великой птицей Струе или Строфокамил» и ученым слоном из Ирана, которого она «более часу смотреть изволила». В 1739 году фурор при дворе произвела «мужицкая жена» Аксинья Иванова, обладавшая пышной черной бородой и усами. Придворные спорили, является ли Аксинья женщиной, но академики рассеяли сомнение: бородатую даму подвергли научному «осмотрению» и установили, что она — «подлинная жена и во всем своем теле, кроме уса и бороды, ничего мускова не имела».
Но несмотря на эти успехи, фавориту надлежало подчиняться распорядку дня императрицы, ее склонностям и даже капризам день за днем в течение многих лет — и все это время находиться под прицелом замечавшего любые промахи придворного общества, среди интриг и «подкопов», постоянно ощущая дыхание в затылок соперников. Конкурентов нужно было устранять, но отправлять их не в Сибирь или на плаху, а на почетные посты вдали от двора, как это сделал Бирон с Минихом и камергером Иоганном Корфом. Биография «коллеги» Бирона при французском дворе, знаменитой маркизы де Помпадур, очень хорошо показывает, каких усилий стоило девушке из буржуазной семьи сохранять в течение 20 лет привязанность Людовика XV и превратиться, по свидетельству одного из министров, из проходной «метрессы» в «единственное связующее звено в разделенном правительстве». «Вы думаете, что у меня есть хоть минута для себя? Вы ошибаетесь, мы постоянно в дороге <…>. Здесь (в Версале. —
Нет оснований подозревать Бирона в неискренности, когда он рассказывал о своей «работе» на следствии в 1741 году: «Он в воскресные дни в церковь Божию всегда не хаживал, и то не по его воле, понеже всякому известно, что ему от ее императорского величества блаженные памяти никуды отлучиться было невозможно, и во всю свою бытность в России ни к кому не езжал, а хотя когда куда гулять выезжал, и в том прежде у ее императорского величества принужден был отпрашиваться, и без докладу никогда не дерзал, и партикулярные его письма читывал он как в воскресные, так и в другие дни, когда он от ее императорского величества отлучиться удобное время усматривал».
Фавориту надлежало входить в самые интимные подробности высочайшего самочувствия. Иногда это было сложно, так как сама императрица «оную свою болезнь сами всегда изволила таить, и разве ближние комнатные служительницы про то ведали». За два года до смерти Анны появились первые симптомы ее заболевания — «в урине ее императорского величества такая ж кровь оказалась, и тогда она урин свой чрез комнатную девицу Авдотью Андрееву изволила послать к обретающемуся тогда в Петербурге больному придворному доктору Ле[и]стениусу, который, высмотря той урин, сказал, чтоб ее императорское величество от того не изволила иметь никакого опасения и пользовалась бы только красным порошком доктора Шталя». Бирон тогда, преодолевая сопротивление Анны, нерегулярно принимавшей предписанные лекарства, «припадая к ногам ее императорского величества, слезно и неусыпно просил, чтоб теми от докторов определенными лекарствами изволила пользоваться; а больше всего принужден был ее величеству в том докучать, чтоб она клистир себе ставить допустила, к чему ее склонить едва было возможно».[100]
Можно представить, как герцог и обер-камергер лично расспрашивал «девиц» об этих подробностях, а то и лично отправлял высочайшую мочу на анализ. Ему приходилось не только уговаривать «особу ее императорского величества» поставить клизму, но и сопровождать ее к зубному врачу. Даже враждебные Бирону мемуаристы, вроде Миниха-сына, единодушно признавали, что эта «служба» бывала тягостной: «Весьма часто многие слыхали, как он жаловался, что для своего увеселения ни одной четверти часа определить не может. Я сам чрез целые восемь лет не могу припомнить, чтоб видел его где-либо в городе, в беседах или на пиршествах, но дабы и других людей пример не возбудил в нем к тому охоты, императрица не только худо принимала, если у кого из приватных особ веселости происходили, но называя их распутством, выговаривала весьма колкими речами».
Опытный придворный (в отличие от грубоватого отца-фельдмаршала) камергер Эрнст Миних даже полагал, что «сей неограниченный и единообразный род жизни естественно долженствовал рождать иногда сытость и сухость в обращении между обеими сторонами. Дабы сие отвратить и не явить недовольного лица вне комнаты пред чужими очами, не ведали лучшего изобрести средства, как содержать множество шутов и дураков мужского и женского пола». Тут, возможно, мемуарист ошибался. При дворе, как известно, состояла целая команда шутов, но едва ли они служили для того, чтобы императрица и ее фаворит срывали на них взаимное раздражение.
Повседневная жизнь Анны Иоанновны, в отличие от непредсказуемой Елизаветы, была размеренной: «Она встает, как говорят, между семью и восемью часами утра, а летом еще раньше, и жена обер-камергера, которую тотчас об этом уведомляют, входит к ней в дезабилье с кофе или шоколадом. Иногда же императрица входит к мадам Бирон, если та не сразу готова, и там пьет кофе, поскольку их спальни недалеко друг от друга, а императрица весьма расположена к сей даме», — сообщали коренные петербуржцы интересовавшимся жизнью русского двора иностранцам.
О том же говорит и Миних-младший: «В 9 она начинала заниматься со своим секретарем и министрами; обедала в полдень у себя в комнатах только с семейством Бирон. Только в большие торжественные дни она кушала в публике; когда это случалось, она садилась на трон под балдахином, имея около себя обеих царевен, Елизавету, ныне императрицу, и Анну Мекленбургскую. В таких случаях ей прислуживал обер-камергер. Обыкновенно в той же зале накрывался большой стол для первых чинов империи, для придворных дам, духовенства и иностранного посольства». Завершает рассказ о распорядке дня Анны Иоанновны швед Карл Рейнхольд Берк: «В послеобеденное время императрица предается краткому сну и немного развлекается, хотя бы с синьором Педрилло. Она также иногда посещает придворных дам или сыновей обер-камергера в их апартаментах. О том, что четыре вечера в неделю предназначены для приемов и спектаклей, мы уже знаем. В 8 часов императрица садится за ужин, затем до десяти или половины одиннадцатого беседует с графом Бироном и его семьей и удаляется».
Если эта картина верна, то семейное сосуществование императрицы и обер-камергера не оставляло места для душевной раздвоенности и серьезных конфликтов. Несомненно, Бирон был обязан своим возвышением глубокой личной привязанности к нему императрицы, хорошо помнившей, как ее встретили в России. В 1734 году, оправившись от очередной болезни, она призналась, что фаворит — «единственный человек, которому она может довериться». Даже суровый и язвительный моралист М. М. Щербатов воздержался от однозначного обличения монаршего греха и полагал, что Бирона и Анну связывала настоящая прочная дружба: «Она его более яко нужного друга себе имела, нежели как любовника». Князь, правда, современником этой пары не был, но людей и эпоху, судя по живым подробностям, знал неплохо.
Кажется, не слишком изысканный курляндский помещик сумел дать некрасивой, одинокой, бездетной и несчастной московской царевне то же самое, что дала безродная холопка Марта Скавронская Петру I — ощущение собственного надежного и уютного дома. Анна не обладала способностью Елизаветы укрыться от реальности в мире развлечений — театра и маскарада; ее не прельщала, как Екатерину II, большая политика с ее стратегическими планами, проектами реформ и миссией просветительницы страны.
Зато, как свидетельствуют записки Миниха-сына, «никогда в свете <…> не бывало дружнее четы, приемлющей взаимно в увеселении и скорби совершенное участие, чем императрица с герцогом Курляндским. Оба почти никогда не могли во внешнем виде своем притворствовать. Если герцог явился с пасмурным лицом, то императрица в то же мгновение встревоженный принимала вид. Если тот был весел, то на лице монархини явное отражалось удовольствие. Если кто герцогу не угодил, тот из глаз и встречи монархини тотчас мог приметить чувствительную перемену».
Можно, наверное, сколько угодно спорить о степени влияния Бирона на Анну — вплоть до объяснения их связи мазохистским комплексом Анны. Мы не знаем, что происходило за дверями личных апартаментов государыни, как общались они с Бироном в интимной обстановке, о чем и как спорили и какие аргументы при этом использовали. Анна Иоанновна была не сентиментальной дамой, а властной и порой суровой помещицей. Однако не понимать и не ценить ее душевной привязанности Бирон не мог — хотя бы потому, что сам от нее зависел. Этой зависимостью и повседневными обязанностями он время от времени тяготился, и тогда в его письмах к наиболее доверенному помощнику Кейзерлингу появлялись фразы об усталости и мечты о тихом доме в родной Курляндии.
К тому же не обремененный излишней утонченностью и интеллектом обер-камергер пришелся точно ко двору. Бирон и Анна веселились, наверстывая упущенное за двадцать лет. Однако курляндская глубинка не способствовала развитию вкуса и воображения: в круг пристрастий царицы и ее друга входили нежная буженина, токайское (правда, в меру), карты, танцы, манеж, шуты. На месте Бирона при Анне трудно представить не только талантливого Потемкина или просвещенного Ивана Шувалова, но даже Григория Орлова с его казарменными привычками или насмешливого и буйного во хмелю Алексея Разумовского — им с императрицей было бы невыносимо скучно; а «куколки»-фавориты Екатерины II едва ли подошли бы Анне — не было в них ни хозяйственной основательности, ни грубоватой властности провинциального немецкого дворянина.
Однако пресловутая «грубость» Бирона кажется таковой с точки зрения нравов уже другой эпохи. Чего стоит, например, соревнование придворных дам Екатерины I на скорость выпивания полуторалитрового кубка пива или сцена во дворце в царствование Анны Иоанновны: «Всемилостивейшая государыня! В день коронации вашего императорского величества, <…> пришед <…> Чекин, и толкнул его, Квашнина-Самарина, больно, отчего он, Квашнин-Самарин, упал и парик с головы сронил и стал ему, Чекину, говорить: „для чего-де ты так толкаешь, этак-де генералы-поручики не делают“. И без меня в тот час оный Чекин убил (сильно побил. —
Бирон себе такого точно не позволял и на фоне крепко пьющих дам или дерущихся во дворце генералов мог показаться истинным джентльменом. По сравнению, например, с несостоявшимся ухажером, помянутым нами ранее майором Егором Милюковым. Вернувшись домой после неудачной попытки обольстить Анну, майор сожалел: «Вечор я был пьян и вошел было к государыне в спальню, и государыня была раздевшись в одной сорочке, и увидя де государыня сожалела ево, что он пьян, и приказала ево из спальни вывесть». Похоже, неудачливый кавалер искренне считал, что, ввались он в спальню в более трезвом виде — глядишь, государыня и вывести бы не приказала.
Однако и для роли галантных любовников Бирон и Анна как-то не подходят. Нравы эпохи еще не освоились с приятной легкостью и непринужденностью таких отношений. Переведенный в 1730 году Тредиаковским французский роман «Le voyage de 1 'isle d'Amour» («Езда в остров любви») с его любовными песенками вызвал осуждение; автор вынужден был отбиваться от обвинений в том, что он есть «первый развратитель российского юношества».
Материалы архива Синода показывают, что в подобных случаях даже важным персонам приходилось держать ответ. Так, в 1730 году перед духовными «командирами» оправдывался астраханский губернатор генерал-майор Иван фон Менгден. При живой жене он вступил в связь с молоденькой попадьей: «А с ней, с Пелагеей, начал он, фон Менгден, прелюбодейно жить 727 года июля с 8 числа, и муж ее, Пелагеи, поп Андрей о том прелюбодействе их ведал, понеже за то дал ему он 50 рублев денег и довольствовал его всякими припасы». Генеральские амуры так бы и остались незамеченными, если бы после смерти покладистого батюшки он не поместил любовницу прямо у себя в доме, а на увещания епископа не только не обращал внимания, «но и женит — ца на оной попадье намерен, что всему городу соблазненно».
В объяснении губернатор привел колоритный рассказ о состоявшемся у него с епископом Варлаамом договоре, закрепленном клятвой на иконе. Владыка объяснял генералу недопустимость публичного оказательства его темперамента и дружески советовал: «Хотя де тебе по плоти себя воздержать и невозможно, можно держать, как и протчие, тайно». В итоге духовная и светская власть договорились: генерал обязался вести себя прилично, а епископ — не отсылать провинившуюся в монастырь. Однако «джентльменское соглашение» было нарушено: владыка отправил-таки губернаторскую пассию на «исправление» в монашескую келью.
Тогда Менгден пустился во все тяжкие: сначала «жил недель с пять с Дарьею Ивановою, но, усмотря в ней пьянство, отпустил». Можно себе представить, как «соблазненно» выглядела при этом губернаторская резиденция, если дама сердца могла удивить пьянством генерала петровских времен. Затем Менгден выкрал из монастыря свою прежнюю любовь. Епископ в ответ предал гласности губернаторские похождения в публичных проповедях к вящему соблазну прихожан. В итоге губернатор все же принес покаяние с подпиской о воздержании «от прелюбодейных дел», а прелестницу-попадью выпороли как следует «шелепами» и отправили от греха подальше в Москву с разрешением выйти замуж по причине ее «совершенной младости».[101]
Наряду с генералом по аналогичному случаю ответ держала разбитная молодка — жена адмиралтейского плотника Егора Пачуева Мавра, которая «четырекратно от него, Пачуева, бегала и с тремя человеки прелюбодействовала». Плотник, очевидно, не отличался кротостью своего библейского коллеги Иосифа; чтобы избежать церковных наказаний и домашних побоев, хитрая Мавра выдумала историю соблазнения ее — верной жены — флотским квартирмейстером Андреем Каменевым. Он якобы поднес ничего не подозревавшей адмиралтейской Еве два яблока, «которые она, Мавра, съев, неведомо с чего, а знатно де по какому-нибудь в тех яблоках ухищрению, к нему <…> любовию возгорелась и сама к такому скверному грехопадению желание возымела». Соблазнитель же признал, что угощал свой предмет яблоками — но не до, а после «грехопадения» и по ее же просьбе. Попытка свалить грех на исконного врага рода человеческого оказалась разоблаченной; квартирмейстеру история стоила полгода в каторжных работах, а лукавая бабенка сумела-таки договориться с мужем, согласившимся опять принять ее в супружество.
Да и во дворце привычка «махаться» (термин времен Екатерины II) еще не вполне привилась, и даже намеки на нее могли вызвать необычную для парижского или дрезденского двора реакцию. Леди Рондо рассказывала, что когда один из побывавших в Париже молодых дворян вздумал было хвастаться «чувствами и страстью», якобы пробужденными им в сердцах нескольких дам одновременно, «это достигло ушей господ мужей (а все дамы были замужем); последние какое-то время хранили мрачное молчание и наконец в очень резких выражениях объяснили [женам] причину своего дурного настроения. Дамы пожелали свести молодого человека напрямую со своими мужьями. Все три любящие пары согласились, чтобы одна из нимф пригласила его к себе на ужин, не говоря ему, кто будет еще присутствовать. На крыльях любви полетел он на свидание и был встречен с веселостью; но посреди его восторгов она стала выговаривать ему за те речи, что он произносил. Он все отрицал. Тогда вошли все дамы со своими мужьями, свидетелями его виновности, и он был честно осужден. Мужья произнесли свой приговор, заключавшийся в том, чтобы дамы собственноручно выпороли его кнутом. Кое-кто говорит, что они и впрямь проделали это; другие говорят, что они приказали сделать это своим горничным; во всяком случае, наказание было исполнено с такой жестокостью, что ему пришлось несколько дней провести в постели».
В этом смысле очень характерно сделанное авторитетным современником, князем Михаилом Белосельским (любовником несколько более европеизированной и эмансипированной Екатерины Иоанновны) признание: «Государыня-де царевна сказывала мне секретно, что-де Бирон с сестрицею живет в любви, он-де живет с нею по-немецки, чиновно».
Такое «чиновное», по-своему добропорядочное сожительство, по-видимому, как раз и соответствовало складу характера императрицы, портрет которой в начале царствования оставил герцог де Лириа: «Царица Анна очень высока ростом и темноволоса, ее глаза красивы, руки восхитительны, а осанка величественна. Она очень полна, но в то же время подвижна. Вовсе нельзя сказать, чтобы она была красива, но она приятна во всем, очень щедра ко всем и милосердна к бедным <…>. Она очень страшится пороков, в особенности содомии, ее размышления и идеи очень возвышенны, и она ничем так не занята, как тем, чтобы следовать тем же правилам, что и ее дядя Петр I. Одним словом, это совершенная государыня. Но при том она женщина, и несколько мстительная». О том же писал Миних-младший: «Она была богомольна и при том несколько суеверна, однако духовенству никаких вольностей не позволяла, но по сей части держалась точных правил Петра Великого».
Понятно, что Анне трудно было не быть «несколько мстительной» после принятия унизительных «кондиций»; но в этой зарисовке отражена как московская богобоязненность царицы, так и ее «возвышенные» стремления подражать великому дяде. О целях и характере аннинского правления речь еще пойдет; теперь же для нас важно то, что Анне в личной жизни действительно повезло с Бироном — до такой степени, что очевидный грех ей таковым как бы уже и не представлялся, а выглядел «настоящей» степенной семейной жизнью, где все общее — радости, заботы, болезни, дети.
Может быть, это наивное стремление каким-то образом соответствовало представлениям подданных? Их отзывы о личной жизни повелительницы, конечно, бывали «непристойны»: «Един Бог без греха, а государыня плоть имеет, она де гребетца», «такой же человек, что и мы: ест хлеб и испражняетца и мочитца, годится и ее делать», — и заканчивались для болтунов печально, но все же не содержали такого осуждения, как демонстративные похождения красавицы Елизаветы.
У императрицы и фаворита сходились и характеры, и вкусы. Бирон, как известно, был страстным лошадником и наездником, «и потому почти целое утро проводил он либо в своей конюшне, либо в манеже. Поскольку же императрица не могла сносить его отсутствия, то не только часто к нему туда приходила, но также возымела желание обучаться верховой езде, в чем наконец и успела настолько, что могла по-дамски с одной стороны на лошади сидеть и летом по саду в Петергофе проезжаться».
Обоим было свойственно честолюбивое желание сделать свой двор самым роскошным, памятуя тесные покои курляндского замка и унизительную бедность. Теперь Анна требовала пышности и роскоши: «В торжественные и праздничные дни одевалась она весьма великолепно, а в прочие ходила просто, но всегда чисто и опрятно. Придворные чины и служители не могли лучше оказать ей уважение, как если в дни ее рождения, тезоименитства и коронования, которые ежегодно с великим торжеством [бывали] празднованы, приедут в новых и богатых платьях во дворец. Темных цветов как она, так и герцог Курляндский нарочитое время терпеть не могли, — вспоминал Миних-сын времена своей придворной юности и попытки Бирона стать законодателем мод. — Последнего видел я, что он пять или шесть лет сряду ходил в испещренных женских штофах. Даже седые старики, приноравливаясь к сему вкусу, не стыдились наряжаться в розовые, желтые и попугайные зеленые цвета».
Кажется, большое придворное счастье Бирона как раз и состояло в том, что по уровню интеллектуального развития, складу характера, привычкам властного, но заботливого помещика, наконец, по комплексу «бедного родственника», наконец-то обласканного судьбой, он почти идеально совпадал со своей незаконной «половиной». Но не только в этом.
Бирон стал первым в нашей политической истории «правильным» фаворитом, умело и, надо признать, достойно разыгравшим свою роль по правилам театрализованного века — бедной юностью, фантастическим взлетом, «падением» с последующим возвращением. Его жизнь — настоящий сюжет для захватывающего романа.
Автор одной из первых (изданной в 1764 году) биографий Бирона Ф. Рюль, собирая высказывания современников, составил портрет герцога: «Среднего роста, но необычайно хорошо сложен, черты его лица не столь величавы, сколь привлекательны, вся его персона обворожительна. Его душе, которой нельзя отказать в величии, свойственна совершенно поразительная способность во всех событиях схватывать истину, все устраивать в своих интересах и великолепное знание всех тех приемов, которые могли бы пригодиться для его целей. Он неутомимо деятелен, расторопен в своих планах и почти всегда успешно их исполняет. Как бы велики ни были эти преимущества, их все же омрачает невыносимая гордыня при удаче и доходящая до низости депрессия в противных обстоятельствах; посему Бирон снова погрузился во прах, откуда каприз удачи его вознес. В общении живой и приятный, дар его речи, подчеркнутый необычной благозвучностью голоса, пленителен, каждое движение оживляет большая грация, таким образом, нельзя отрицать, что, если бы Бирон не был достоин взойти на государев трон, у него не было недостатка ни в одном из тех качеств, которые создают превосходного придворного».[102]
Если оставить в стороне пассажи о величии души и исключительной способности «схватывать истину», то это и вправду портрет настоящего европейского придворного — энергичного, гибкого, умеющего быть «обворожительным» и при том «все устраивать в своих интересах». Вроде бы прогресс налицо — по сравнению с безудержным Меншиковым и неотесанным Иваном Долгоруковым. Однако за парадной стороной жизни фаворита — дворцовыми церемониями, блеском нарядов, титулами и прочими милостями — скрывалась другая, которая и сделала малопримечательного курлянского дворянина важным звеном в механизме верховного управления государством.
Неудивительно, что многочисленные противники фаворита изображали его человеком ограниченным, алчным, жестоким, заносчивым, несдержанным, мстительным. По большому счету так оно и было. Другое дело, что Бирон был волевым человеком и умел себя сдерживать: в нужное время с нужными людьми он умел быть любезным и даже очаровательным. Но даже его недруги волей-неволей признавали его влияние не только в придворном мире, но и в куда более важной сфере выработки и принятия важнейших решений.
И здесь критики порой себе противоречили: «Этот человек, сделавший столь удивительную карьеру, не имел вовсе образования, говорил только по-немецки и на своем природном курляндском наречии; он даже довольно плохо читал по-немецки, в особенности же если при этом попадались латинские или французские слова. Он не стыдился публично говорить при жизни императрицы Анны, что не хочет учиться читать и писать по-русски для того, чтобы не быть обязанным читать ее величеству прошений, донесений и других бумаг, присылавшихся ему ежедневно», — характеризовал умственные способности фаворита его главный противник Миних. Манштейн утверждал обратное: «В первые два года Бирон как будто ни во что не хотел вмешиваться, но потом ему полюбились дела и он стал управлять уже всем».
Но нужно ли ежедневно присылать донесения, которые адресат не читает и не понимает? И можно ли в таком случае заниматься делами и «управлять всем»? Два года упомянуты не случайно. Столько времени как раз и потребовалось Бирону, чтобы освоиться в новом положении, укрепить его, оценить новых людей и новые масштабы деятельности. В 1732 году двор вновь перебрался в Петербург, и здесь Бирону удалось оттеснить от трона Миниха. К этому времени фаворит перевез ко двору своих детей и определил цель — стать герцогом Курляндии, о чем осенью 1732 года сообщил саксонский посол И. Лефорт.
И все же «полновластным» или «всемогущим» назвать его было нельзя: употреблявшие эти термины дипломаты в тех же донесениях постоянно называли и других, не менее «сильных» персон — бессменного министра иностранных дел Остермана и Карла Густава Левенвольде. Стабильность аннинского царствования как раз и обеспечивалась известным балансом сил как между отдельными органами власти, так и внутри них. Можно утверждать, что сама Анна и после указа 1735 года о передаче министрам права издания указов не устранилась от дел совсем. Из сохранившегося подсчета итогов работы Кабинета за 1736 год следует, что на 724 указа министров приходятся 135 именных указов Анны, а на 584 их резолюции на докладах и «доношениях» — 108 «высочайших резолюций» (к сожалению, ведомость Кабинета не раскрывает, какие именно вопросы императрица предпочитала решать сама). У Бирона хватало ума и такта не разрушать такую конфигурацию, но надо было найти в ней свое место.
Его имя редко появляется в бумагах Кабинета. Если бы в нашем распоряжении не было других источников, то Бирона вполне можно было принять за обычного придворного на посылках. Он передавал иногда министрам бумаги с резолюциями Анны или далеко не самые важные распоряжения вроде напоминания, чтобы проходившие через Курляндию русские войска ничего не брали «с собственных ее императорского величества маетностей», которые, заметим, реально принадлежали как раз Бирону. В других случаях он получал затребованную информацию или особо интересовавшие Анну вещи — например, подаренные прусским королем штуцеры. Очень редко встречаются адресованные ему документы, так что даже непонятно, с чего бы магистрат польского Гданьска просил именно обер-камергера о снижении наложенной Минихом на город контрибуции.[103]
Столь же редко имя Бирона появляется в документах других учреждений. Например, в 1731 году Монетная контора определяет «вследствие указа <…>, объявленного обер-камергером графом Бироном действительному статскому советнику Татищеву, о представлении во дворец ее величества по одной серебряной медали всех сортов». В 1733 году протокол Адмиралтейств-коллегий фиксирует, что вследствие объявленного графу Головину указа, «полученного через графа Бирона», адмиралу Сиверсу возвращается, «в случае уплаты им казенного долга, его дом, взятый для Главной полицеймейстерской канцелярии».
Однако, к радости исследователей, до нас дошли многие документы Бирона, хотя далеко не все. Когда-то архив герцога хранился в 290 ящиках, ящичках и «баулах», лежавших в комнатах деревянного Летнего дворца, в котором Бирон жил и был арестован в 1740 году. Из ведения Коллегии иностранных дел его передали в Кабинет императрицы, а через 20 с лишним лет их затребовал Петр III для возвращения вернувшемуся из ссылки герцогу.[104]
Как отмечали еще в XIX веке ученые, многие личные документы герцога оказались утраченными. Составленная в 1762 году опись показывает, что уже тогда в архиве многого недоставало — к «арестованным» документам обращались и забирали нужные бумаги, оставляя пустые папки и «разбитые письма». Обращения к архиву Бирона были не случайны: заинтересованные лица искали и уносили оттуда компрометировавшие их документы, как это предусмотрительно сделал еще в 1742 году бывший сообщник опального, а затем канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Потом бумаги герцога отправились в Курляндию и позднее еще не раз страдали от нерадивости и безразличия чиновников ХГХ столетия. Ими раскуривали трубки и даже продавали в лавки для использования в качестве оберточного материала.
Разрозненные части этой документации (сметы содержания вооруженных сил, различные проекты в области финансов, подаваемые Сенатом доклады о количестве решенных и нерешенных дел, ведомости доходов с дворцовых волостей и прочие) на немецком и русском языках сохранились в различных коллекциях бывшего Государственного архива и еще ждут своего исследователя. Но и дошедшие до нас документы и переписка свидетельствуют об огромном объеме работы, которую приходилось выполнять фавориту.
Первое время объектом его внимания была родная Курляндия. Переписка с русскими уполномоченными (в 1730—1731годах этот пост занимал князь А. А. Черкасский; в 1732—1735-м — камергер П. М. Голицын) велась официально от имени Анны, но практически этими делами уже ведал Бирон.[105] Они касались прежде всего хорошо знакомых ему по прежней службе хозяйственных проблем герцогских имений: получения денег, сдачи в аренду, способов увеличения доходов.
Здесь Бирон ориентировался свободно и с увлечением занимался любимым делом: отправлял отобранных им лошадей в курляндские владения. Черкасскому он указывал, «чтоб вы во все деревни послали указы, дабы половина надлежащего с них сена была в отдаче во всякой готовности; понеже ее величество уповает, что из чюжих краев несколько лошадей приведено будет в Митаву в скором времени, которым надобно тамо некоторое время для отдыху пробыть», уточняя, что «помянутые лошади будут гишпанские, а не в лейб-гвардии конной полк куплены». Давал он распоряжения и другим лицам: Соломону Гиндрику надлежало ехать за лошадьми в Митаву, а берейтору Фирингу — «в немецкие край».
На владения Анны по-прежнему претендовал престарелый герцог Фердинанд, пакостивший по мелочам — например, отправляя в герцогские «маетности» своих управляющих. Продолжались трения с вольными баронами, так как ландтаг решил согласиться на инкорпорацию в состав Речи Посполитой и отправить на сейм своего депутата Финка фон Финкенштейна с соответствующей просьбой. Пришлось давать указания: Финкенштейна как можно скорее изловить и «весьма секретно отвезть в Ригу», что и было с должным рвением исполнено князем Голицыным в августе 1732 года.[106]
Но скоро интересы обер-камергера вышли за рамки курляндских владений и дворцового хозяйства. Новый придворный «кумир» довольно быстро приучил должностных лиц доставлять ему необходимую информацию в виде официальных донесений «для препровождения до рук ее величества» или более интимных «наносов».
Выше уже приводилось заявление Миниха о принципиальной нелюбви Бирона к русскому языку и нежелании читать бумаги. Фельдмаршал явно лукавил в отношении соперника. «Отказ» от докладов и прочих бумаг быстро поставил бы Бирона вне круга ближайших помощников Анны, и его место было бы занято более компетентной фигурой. Что же касается языка, то хотя часть поступавших к фавориту бумаг была написана на немецком (или специально переводилась для него), то документы на русском все же преобладают. Бирон обзавелся грамотными секретарями и канцеляристами для разбора корреспонденции и сочинения ответных посланий. Пришлось и самому учиться: тетрадка из архива Бирона свидетельствует о том, что фаворит изучал грамматику и лексику русского языка, несмотря на вполне возможную нелюбовь к нему.[107]
Среди известных нам бумаг Бирона на первое место можно поставить «рапорты» и доклады от различных «мест» и должностных лиц. Одним из первых П. И. Ягужинский начал в 1731 году посылать Бирону свои донесения из Берлина. Так обер-камергер постепенно вникал в хитросплетения большой европейской политики: посол знакомил его с причинами несогласий Австрии и Пруссии, рассказывал о событиях при прусском дворе и прусской политике в Польше.
Вслед за ним это стали делать и другие. В одном из писем А. П. Волынского к Бирону (1732 год) мы читаем, что, посылая «рапорт в Кабинет ее императорского величества», Волынский вместе с тем «с того для известия» прилагает копию на имя Бирона; в другом (1733 год), прилагая на немецком языке «экстракт» своих доношений в Кабинет, он просит Бирона «оный по милости своей приказать прочесть». Только что назначенный главой морского ведомства адмирал Николай Головин отправлял курляндцу «всеподданнейшие рапорты» о состоянии русского флота; при этом отчитывался не только о количестве и вооружении кораблей, но и о строительстве мостов через Неву, и даже о собранных за проезд по ним деньгах. В. Н. Татищев докладывал о работе уральских горных заводов и конфликтах с частными владельцами, в том числе с могущественными Демидовыми. Купцы-компаньоны Шифнер и Вульф сообщали о продаже казенных товаров и полученных казной доходах.[108]
Придворные отчитывались о выполнении данных Бироном поручений. «Сиятельнейший граф, милостивой государь мой! <…> При сем доношу вашему сиятельству: по приказу вашему вчерашняго числа смотрел я на конюшенном дворе стоялых лошадей, а имянно: четыре агленские нововыводные почитай все без ног и на них вашему сиятельству никак ехать невозможно, а приказал готовить для вашего седла старую рыжую аглинскую; да из новых дацких две лошади, одна серая, а другая бурая, обе с просадом, и велел чистить и проезжать берейтору по всякой <…> день до вашего приезду, а лучше этих лошадей здесь никаких не имеется. Сие донесши, рекомендую себя в неотменную милость, и остаюсь со всенижавшим почтением», — докладывал «всенижайший и всепокорнейший слуга», камергер Борис Юсупов, отправленный Бироном инспектировать придворную конюшню и распорядиться насчет собственного выезда. Как здесь не стать специалистом по лошадиной части — малейшая ошибка навсегда уронит репутацию.
Командующие армиями Б. X. Миних и П. П. Ласси и командир действовавшего в Иране корпуса В. Я. Левашов регулярно докладывали Бирону о ходе военных действий; с просьбами и донесениями обращались к нему губернаторы (С. А. Салтыков, Г. П. Чернышев, Б. Г. Юсупов; И. И. Румянцев); военные чины (А. И. Тараканов, М. М. Голицын-младший, И. Б. Вейсбах). На имя обер-камергера поступали доклады и рапорты из Военной коллегии, Адмиралтейства, Соляной конторы, Медицинской канцелярии и других учреждений.
Переписка Бирона показывает различный характер отношений фаворита со своими корреспондентами. Вот, например, короткие почтительные донесения генерал-майора Никиты Юрьевича Трубецкого. Придворный «корнет от кавалергардии» князь Трубецкой, по характеристике известного историка великого князя Николая Михайловича, «к боевой деятельности не был склонен и, благодаря протекции Миниха, который питал большое расположение к его второй жене, княгине Анне Даниловне, получил в заведование комиссариатскую часть». Интендантом он оказался плохим, но благодарный фельдмаршал прощал ему служебные упущения, произвел князя в генерал-лейтенанты и сделал его генерал-кригс-комиссаром.
Но Трубецкой был придворным опытным и осторожным. Поэтому он и в письмах противнику Миниха, «всемилостивому патрону» Бирону помещал ведомости об «отправленном провианте». Князь явно боялся, как бы не пришлось отвечать за срыв поставок, и в его рапортах постоянно упоминаются «великие и непреодолимые затруднения» на днепровских порогах, никак не дававшие возможности доставить количество провианта, требуемое Минихом и Ласси. Заодно он сообщал о прочих передвижениях армий, заведомо дублируя донесения их командиров.[109] Судя по этим письмам, Бирон не удостаивал Трубецкого ответами, на которые, похоже, «нижайший и верный» автор и не надеялся.
Переписка Бирона с находившимся в милости у Анны доверенным лицом русского правительства на Украине, своим ровесником генерал-лейтенантом князем Алексеем Шаховским, демонстрирует уже другой уровень отношений. Конечно, Шаховской тоже не упускал случая польстить, поздравить адресата (протестанта) с православными Рождеством, Пасхой и другими праздниками и уверял его, что сам «родшийся плотию на земли» Христос обеспечит «милостивому государю и патрону всегда мирные и славные имети лета». Но князь выдвигал перед Бироном и важнейшие политические вопросы. В июне 1733 года Шаховской докладывал из Глухова о тяжелой болезни гетмана Даниила Апостола и намерении украинской «старшины» «взять правление Генеральной войсковой канцелярии», то есть самостоятельно образовать нечто вроде коллективного органа управления. Шаховской считал это опасным, поскольку «одну персону легче поклонять», чем целую группу самолюбивых полковников. Петербург молчал, и Шаховской настаивал: следует временно «поручить правление» на Украине русскому министру при гетмане С. К. Нарышкину и поставить автора в известность «о намерении ее императорского величества всемилостивейшей нашей государыни, быть ли гетману или не быть». Сам он был твердо уверен в предпочтительности второго варианта — поставить российского «наместника гетманства» с сохранением при этом украинских «прав». В итоге в Петербурге решили иначе, но позиция Шаховского была учтена: выборы гетмана проводить не разрешили, и было учреждено «Правление гетманского уряда», состоявшее из представителей старшины и русских чиновников.
Между важными делами Шаховской отправлял к столу фаворита «украинскую дичину» — одного кабанчика и трех «коз битых» (подарок отправлен в январе 1735 года, так что, вероятно, доехал до Петербурга свежим), а для души — конечно, лошадей. Князь даже вступал в дискуссию с обер-камергером. Тот считал, «якобы украинские кобылы очень большие и не можно их никак обучить, чтоб были смирны» — отнюдь, вот у Шаховского они простояли четыре месяца на конюшне и стали «весьма смирны», а потому непременно «будут годны» такому знатоку, как Бирон. После разбора лошадиных качеств князь вскользь просил за племянника, поручика Конной гвардии: нельзя ли его «переменить чином» — даже без жалованья, если нет пока вакансий, чтобы государственные деньги зря не расходовать?
Искусная прямота дорого стоит и создает репутацию — тем более что Шаховской был не в лучших отношениях с командующим армией на Украине Минихом. Такому корреспонденту Бирон отвечал регулярно и учтиво; подчеркивал, что ожидает, «дабы ваше сиятельство при нынешних своих важных делах какой-нибудь случай к моему услужению подать мне изволили, что я с моей прилежностью действительно показать не оставлю». Обер-камергер слово сдержал — Яков Шаховской получил чин ротмистра, как и хотел дядя, «до вакансии» — и обратился со встречными просьбами: «содержать в протекции» малороссийского генерального бунчужного Семена Галецкого (Бирон в это время покупал у него деревню), а заодно поискать еще «гайдука немалого роста», за которого «особливо будет должен».
Кроме того, Бирон постоянно информировал собеседника о важнейших политических событиях: русские войска окружили Гданьск, французский десант «избит», флот с припасами и артиллерией из Петербурга отправлен — Шаховской получал новости из первых рук. Такие известия уже сами увеличивали его «кредит» в глазах окружающих, когда генерал в обществе, как бы между прочим, доставал из кармана письмо от столь приближенной к императрице особы и сообщал о последних новостях из дворца.
Поручения исполнялись быстро: Шаховской отвечал, что Галецкому «служить готов», подходящий гайдук в Петербург отправлен, а вслед за ним поехали турецкая кобыла и два мальчика-бандуриста, от которых «детям вашего сиятельства иметь увеселение». Можно бы умилиться приобщением семейства фаворита к духовным ценностям украинского народа, если бы не сделанное вскользь упоминание о «плате» за оторванных от дома и отправленных на север людей — конечно, за счет Шаховского. Но выполненные «комиссии» давали князю основание обратиться к Бирону уже с более серьезной просьбой: нельзя ли получить «за бедные мои ее императорскому величеству службы на Украине деревни»?
Обер-камергер за подарки благодарил; с деревнями же вышла заминка: «Ее величество имела что-то много о деревнях прошений; всем изволила объявить, что никому никакого двора отныне жаловать не изволит, дабы тем все челобитные успокоить». Но Бирон обнадеживал своего корреспондента: «Однако я еще при благополучном случае припомнить не оставлю».[110]
«Благополучный случай» и был главным орудием фаворита: вовремя подать нужный документ, вовремя вспомнить фамилию — и чья-то карьера устроена. Или наоборот — можно подвести неугодного под «горячую руку», наказать не за дело хорошего слугу. Так и случилось с Яковом Шаховским — верным дядиным помощником, дублировавшим все донесения в Кабинет «также к герцогу Бирону». Такая служба, как позднее признавался в записках князь Яков, имела свои преимущества «в приближении моем к лучшим степеням», но таила и опасности.
Явившись однажды на аудиенцию к фавориту, Шаховской-младший изложил просьбу дяди — разрешить отбыть на некоторое время для лечения в Москву. Тут и ожидала его гроза, поскольку Бирон «от фельдмаршала Миниха будучи инако к повреждению дяди моего уведомлен, несколько суровым видом и вспыльчивыми речами на мою просьбу ответствовал, что он уже знает, что желания моего дяди пробыть еще в Москве для того только, чтоб по нынешним обстоятельствам весьма нужные и время не терпящие к военным подвигам дела ныне неисправно исполняемые свалить на ответы других: вот-де и теперь малороссийское казацкое войско, к армии в Крым идти готовящееся, больше похоже на маркитантов, нежели на военных людей, вместо того чтоб должно им быть конным, с довольным еще числом в запас заводных лошадей, по два и по три человека, и те без исправного вооружения, на телегах, в командиры-де над ними по большей части из накладных и военного искусства не знающих казаков присланы».
Племянник пытался доказать несправедливость обвинений. «На сии мои слова герцог Бирон, осердясь, весьма вспыльчиво мне сказал, что как я так отважно говорю? ибо-де в сих же числах командующий войском фельдмаршал граф Миних государыне представлял; и можно ли-де кому подумать, чтобы он то представил ее величеству ложно? Я ему на то ответствовал, что, может быть, фельдмаршал граф Миних оного войска сам еще не видал, а кто ни есть из подчиненных дяде моему недоброжелателей то худо ему рекомендовал; для лучшего же о истине удостоверения счастлив бы был мой дядя, когда бы против такого неправильного уведомления приказано было кому-нибудь нарочно посланному оное казацкое войско освидетельствовать и сыскать, с которой стороны и кем те несправедливые представления монархине учинены? <…> Таковая моя смелость наивящше рассердила его, и уже в великой запальчивости мне сказал: „Вы, русские, часто так смело и в самых винах себя защищать дерзаете“».
Присутствовавшие при начале этой словесной перепалки свидетели спешно удалились из комнаты, предоставив молодому Шаховскому оправдываться наедине с Бироном. Получасовой разнос неожиданно закончился: «Я увидел в боковых дверях за завешенным не весьма плотно сукном стоящую и те наши разговоры слушающую ее императорское величество, которая потом вскоре, открыв сукно, изволила позвать к себе герцога, а я с сей высокопочтенной акции с худым выигрышем с поспешением домой ретировался».
Но уже на следующий день испуганный Шаховской-младший вдруг встретил у гневного фаворита благосклонный прием — гроза миновала.[111] Судя по врезавшейся в память молодого человека сцене, «высокопочтенная акция» — публичный разнос при незримом присутствии императрицы — была уроком Шаховским, который должен был продемонстрировать беспристрастие Бирона. Но племянник его выдержал (если, конечно, не приукрасил свою роль), а дядя доверия не лишился — к конфузу затеявшего эту интригу Миниха.
Неопубликованная переписка с Бироном начальника Тайной канцелярии Андрея Ивановича Ушакова показывает уже отношения людей почти равных. Ушаков у Бирона ничего не просил — он слуга старый, доверенный, имевший прямой выход на императрицу; их корреспонденции — короткие и максимально деловые, без уверений во взаимной преданности и готовности служить. Остававшийся «на хозяйстве» в столице во время отъезда двора Андрей Иванович прежде всего докладывал Бирону для передачи императрице Анне в Петергоф о делах своего ведомства — например, о поступившем доносе на откупщиков или точном времени казни Артемия Волынского: «Известная экзекуция имеет быть учинена сего июля 27 дня пополуночи в восьмом часу». Кроме дел, касавшихся собственно Тайной канцелярии, Ушаков сообщал о других новостях: выборе сукна для гвардейских полков, погребении столичного коменданта Ефимова в Петропавловской крепости или смерти любимой собачки Анны «Цытринушки».
Бирон передавал ответы императрицы: донос является «бреднями посадских мужиков» и не имеет «никакой важности», а вопрос с сукном лучше отложить — государыня не в духе: «Не великая нужда, чтоб меня в деревне тем утруждать». Одновременно через Бирона шли другие распоряжения императрицы Ушакову для передачи принцессам Анне и Елизавете или другим лицам. В иных случаях Андрей Иванович проявлял настойчивость и предлагал, к примеру, все-таки решить вопрос с закупкой сукна в пользу английского, а не прусского товара, в чем сумел убедить своего корреспондента.[112]
Бирон и его «офис» исполняли функции личной императорской канцелярии, что позволяло разгрузить Анну от потока ежедневной корреспонденции. «Я должен обо всем докладывать, будь то хорошее или худое», — писал Бирон в 1736 году близкому к нему курляндцу К. Г. Кейзерлингу, называя в числе своих основных забот подготовку армии к боевым действиям в начавшейся войне с Турцией: «Теперь вся тяжесть по поводу турецкой войны лежит снова на мне. Его сиятельство граф Остерман уже 6 месяцев лежит в постели. Князя Черкасского вы знаете. Между тем все должно идти своим чередом. Доселе действовали с 4-мя корпусами, а именно: один в Крыму, другой на Днепре, третий под Азовом, а четвертый в Кубанской области. Для их содержания все должно быть доставлено. Здесь должен быть провиант, там обмундировка, тут аммуниция, там деньги и все тому подобное; границы должны быть также вполне обеспечены. Все это причиняет заботы. На очереди иностранные, персидские и вообще европейские дела».[113]
В результате такой практики, как вынужден был признать Манштейн, курляндский охотник и картежник через несколько лет «знал вполне основательно все, что касалось до этого государства».[114] Повседневные «доклады» императрице и ведение корреспонденции требовали как минимум понимания внутри— и внешнеполитического положения страны, кадровые назначения — способности разбираться в людях, бесконечные прошения и «доношения» с переплетением государственных и вполне корыстных интересов — умения вести политическую интригу и продумывать каждый шаг, чтобы избежать «злополучной перемены».
Помимо докладов о текущих делах на имя Бирона поступали различные проекты и предложения. Перенапряжение сил страны в ходе петровских преобразований, хроническая нехватка средств для финансирования огромной армии уже не в первый раз заставили правительство учредить специальные комиссии для рассмотрения содержания армии и флота «без излишней народной тягости». Явно в связи с работой этих комиссий на столе Бирона оказываются переведенные на немецкий «Проект о содержании флота в мирное и военное время» из 24 пунктов и смета расходов сухопутной армии на 1732 год. Последний документ перечислял необходимые Военной коллегии средства; указывалось, сколько подушных денег собрано и сколько осталось в «doimke» — эквивалента этого обычного в России при сборе налогов явления переводчики не нашли.[115]
К Бирону за поддержкой обратился обер-секретарь Сената, энергичный чиновник Иван Кирилов. Весной 1733 года он направил обер-камергеру свой проект освоения Дальнего Востока. Кирилов был убежден в необходимости продолжать исследование огромных зауральских владений России, от которых «ждать же пользы той надлежит, что Россия в восточную сторону в соседи своим владением к Калифорнии и Мексике достигнет, где хотя богатых металлов, какие имеют гишпанцы, вскоре не получим, однако ж со временем и готовое без войны ласкою доставать можем, хотя ведаю, что гишпанцам сие не любо будет <…>. И хотя нигде на такой обширности Бог не откроет тово, чем японцы богаты, точию не откинут японцы здешнего торгу, ибо лучше им из первых рук надобныя товары наши покупать, нежели у китайцев перекупныя дороже доставать <…>. К размножению же сей новой восточной коммерции Россия особливо от Бога одарена, что чрез всю Сибирь натуральные каналы, то есть реки великия прилегли, по которым суда с товарами способно ходить могут».
Проект, переведенный на немецкий язык для Бирона известным ученым-историком Г. Ф. Миллером, состоял из двух смысловых частей: первая была посвящена обоснованию необходимости продолжения работы начатой при Петре I Камчатской экспедиции Витуса Беринга; вторая намечала утверждение российского экономического и политического влияния в Западном Казахстане, незадолго до того официально присоединенном к Российской империи. В 1731 году Анна подписала «жалованную грамоту» хану Младшего жуза Абульхаиру о принятии его в российское подданство с обязательством «служить верно и платить ясак». Русскому послу в ханской ставке пришлось пережить немало приключений и даже рисковать жизнью, пока ему не удалось привести казахских старшин и «батырей» к присяге.
Теперь Кирилов призывал не упускать возможность раздвинуть границы империи: «Киргис-кайсацкое и каракалпацкое весма нужное дело, и требует прилежнаго труда, не пропуская сего щастливаго времени». Он обещал, что вскоре после того, как пойдут из России караваны в Ташкент и Бухару, Россия может утвердиться на древних торговых путях Азии и получить доступ к серебряным рудам и драгоценным камням Бадахшана. На поддержку Бирона Кирилов рассчитывал не зря, хотя и здесь пришлось ждать «благоприятного случая». «Апробация» Анны Иоанновны состоялась 1 мая 1734 года, после чего проект стал основополагающим документом для организации Оренбургской экспедиции Кирилова.[116] Колеса государственной машины пришли в движение, полетел поток предписаний соответствующим ведомствам. Следующим шагом стало строительство Оренбургской крепости и укрепленной линии, которая должна была сомкнуться с начатой при Петре Иртышской линией в Сибири и оградить новые российские владения на протяжении трех тысяч верст.
Отправившийся в «киргиз-кайсацкие степи» инициатор этого наступления регулярно информировал высокого покровителя о ходе операции и неотложных нуждах: «Доношу, что в Уфу приехал 10 дня ноября и дожидаю легкой артилерии из Казани, и коль скоро прибудет, то наперед далее путь свой до казачья Сакмарского городка с правиантскими обозами на первой случай из Уфы и Мензелинска отправлю <…>. Также, государь, в драгунских офицерах нужды ради просил отправить одного артилериского капитана или порутчика и двух штык-юнкеров. О том когда соизволите его сиятельству генералу фелтмаршалу упомянуть, то не залежитца в коллегии мое доношение» (ноябрь 1734 года).
Кирилов хорошо понимал, что государыню надо радовать рассказами о народной любви: «служилые тарханы башкирские, служилые ж мещеряки, татары, а притом и ясашные башкирцы, со всякою радостию и охотою лучшие выбираются и одни пред другими тщатся, в чем бы угоднее службу показать». По его сообщениям, «когда уведомились о подлинном ее императорского величества поведении о строении города у Орь реки, и будто отправлено великое войско и множество пушек, то противники в робость, а доброжелательные в бодрость пришли, ибо они прежде отнюдь не верили, что будет тут город».
Но от Бирона он не скрывал, что не все идет гладко: «Подполковник Чириков с пятью ротами, отправясь, шел <…> и воры башкирцы напали и его подполковника и несколько неслужащих и хлопцов, и драгун при обозе осмнадцать человек убили, и обозу первую частицу офицерскаго и прочего оторвали, и как увидели алярм назади ехавшие драгуны и настоящий обоз построили, то более ничего им не учинили, и хотя после своим ружьем с лучишками и с копыликами нападали, но ни одного человека не убили, не ранили» (июль 1735 года).
Кирилов упрекал в «воровстве» не только башкир — с них и спрашивать нечего: «никакого страху не видаючи, живут почти без податей и без службы, попущеные к своевольствам, но токмо одни воеводы, бывшие у них, наживают многие тысячи, свозили, а об интересе не рачили». Начальник Оренбургской экспедиции уверял, что с «ворами» справиться можно: «34 человека выслал в Казань конокрадов, под именем ссылки в Рогорвик, а самим делом в Остзейские полки в извощики, в салдаты и в матрозы, а ныне еще столько посылаю в подспорье рекрутам», — но нуждался в деньгах «до 30 000 рублев, в том числе на учреждение новых драгунских пяти рот и на додачу пехотным баталионам» и по-прежнему надеялся только на «вашего высокографского сиятельства милостивое сему новому делу призрение».[117]
В результате на степном пограничье возник новый центр — Оренбург. На северо-востоке Азии продолжались грандиозные по размаху работы Великой Северной экспедиции В. Беринга по изучению и описанию северных владений России. В казенных отчетах о ее работе Бирон сумел найти интересующие двор детали: Сенат через Ушакова был извещен о пожелании Анны Иоанновны немедленно прислать к ней спасенных моряками Беринга после кораблекрушения японцев Сонзу и Гомзу. По прибытии в Петербург японцы были удостоены царской аудиенции, после чего в июле 1734 года просили Сенат позволить им креститься в православную веру — что могло быть приятнее богомольной императрице? Новообращенные были направлены в Академию наук для изучения русского языка, а в 1736 году стали учителями в основанной при ней школе японского языка.
К помощи Бирона прибегал и другой известный деятель — Анисим Семенович Маслов. Начав службу в 1694 году простым подьячим, он выдвинулся во времена реформ: стал обер-прокурором Сената, затем «обретался у главных дел» в канцелярии Верховного тайного совета и сделался одним из лучших специалистов по финансам. Одновременно с назначением Ягужинского генерал-прокурором Сената в октябре 1730 года Маслов был вновь назначен обер-прокурором, а с отъездом Ягужинского в Берлин остался во главе прокуратуры, исполняя обязанности генерал-прокурора.
Ревностный к службе и искренне преданный государственному интересу, обер-прокурор заставлял сенаторов регулярно являться на работу (даже предлагал обязать их приходить в присутствие дважды в день) и решать дела быстрее; опротестовывал незаконные сенатские приговоры. В числе его противников были президент Коммерц-коллегии Шафиров, «который во многих непорядках и лакомствах запутан», и сын канцлера, М. Г. Головкин, за коим имелись «многие по монетным дворам неисправности». Маслов нажил врагов и среди провинциальных воевод, раскрывая хищения, взяточничество, вымогательство и другие самоуправные действия администрации.
От ненависти и злобы, писал Маслов в докладе императрице в 1732 году, «подвергался токмо под един покров и защищение вашего императорского величества». Покровительство обер-прокурору со стороны могущественного фаворита было не случайным. Пожалованный в 1734 году в действительные статские советники, Маслов занимался «доимочными делами» и имел непосредственный доклад у императрицы. Он стремился как можно скорее завершить растянувшуюся на долгие годы работу по составлению окладной книги налогов и сборов и по этому поводу подал Бирону в 1733 году особую записку («Erinnerung wegen Kunftiger Einrichtung eines neues Oklad-Buches über alle Reichs-Einkunfte»), в которой жаловался на медленную работу Камер-коллегии. Правда, здесь рвение обер-прокурора и даже влияние фаворита оказались бессильны.
Через Бирона Маслов докладывал и о других важных делах. Своему хорошему знакомому, секретарю императрицы Авраму Полубояринову он сообщал: «Я сколько можно ее императорскому величеству о худом состоянии крестьян доносил и предстательством его сиятельства милостивого государя камергера ее императорское величество милость паче прошения нашего являть соизволит». В 1734 году в Сенат поступило «известие о худом состоянии крестьян в Смоленской губернии», в том же году Маслов подал проект о «поправлении крестьянской нужды». Конкретный случай голода он использовал, чтобы указать на общие причины «бедности и несостояния» налогоплательщиков: во-первых, «от начала подушной переписи, за убылых, подушные деньги принуждены были платить оставшиеся»; во-вторых, помещики заставляли крестьян работать и оброк с них собирали, «кто как хотел по своей воле», а при нужде не оказывали им никакой помощи; наконец, в-третьих, при сборах подушных денег и рекрутов офицеры не только не защищали мужиков от обид, «но паче сами многие утеснения и обиды изо взяток чинили».
Маслов мыслил «учреждение во всем государстве по состоянию мест учинить, дабы крестьяне знали, где поскольку (кроме государственных податей) доходов кому платить и работ каких исполнять, без излишнего отягощения». Таким образом, он предлагал довольно радикальную меру — государственное регламентирование размеров оброка и барщины, хотя и понимал, что она вызовет протест дворянства: «Правда, сие в нашем государстве, яко новое и необыкновенное дело, многим будет не без противности, но впредь может быть в лучшую пользу». «Противность» обнаружилась немедленно в самом Кабинете, где проект рассматривался в присутствии автора; князь Черкасский был сильно недоволен чиновником, осмелившимся показать весьма «худое» положение крестьян в его смоленских владениях.
В итоге Кабинет рекомендовал намного более скромные меры: из деревни выводились армейские «экзекуции», помещикам предписывалось ссужать обедневших крестьян семенами и кормить их в «нужное время» помещичьим хлебом; на первую половину 1735 года был отменен сбор подушной подати.[118] Но в конце 1734 года уже больной Маслов по-прежнему пытался «пробить» свою идею. В бумагах Полубояринова сохранился проект указа, предписывавший Сенату совместно с представителями воинских и гражданских чинов («сколько персон к тому за потребное разсудится») установить «меру» оброка и барщины.
Сам обер-прокурор не дождался «такого полезного учреждения» (проекту было повелено «обождать») — в ноябре 1735 года он скончался после долгой и тяжелой болезни, зато и опалы избежал, несмотря на разоблачения злоупотреблений различных, в том числе высокопоставленных, «управителей», пытавшихся, в свою очередь, обвинить Маслова и даже запутать его в «политические» дела. У обер-прокурора была достаточно мощная поддержка: именно Бирону он послал немецкий перевод своих объяснений на показания князя и княгини Мещерских, с помощью которых его противники пытались притянуть надоедливого разоблачителя к соучастию по делу сибирского вице-губернатора Жолобова. К покровительству Бирона Маслов обращался не раз, выражая надежду «при всех обстоятельствах найти убежище у моего уважаемого отца и господина», и просил «не покидать и защищать» (письмо по-немецки от 12 февраля 1735 года).
Поддержка Бироном таких ревностных и добросовестных слуг государства, как Кирилов или Маслов, не обязательно говорит о его собственной честности или стремлении к процветанию России. Она скорее подтверждает, что верховная власть объективно нуждалась в таких деятелях, своими усилиями раздвигавших границы империи, обеспечивавших относительный порядок в системе управления и особенно в финансах, разоблачавших промахи и злоупотребления других администраторов. Этих патриотов всегда можно было использовать в борьбе за власть и влияние. Для них же фаворит являлся, по словам Кирилова, «скорым помощником», говоря современным языком, — в высшей степени влиятельным лоббистом, который был в состоянии не только получить царскую подпись-санкцию, но и одним словом запустить механизм исполнения «полезных дел», чтобы нужные решения не «залежались» в очередной канцелярии.
Эти примеры — далеко не единственные. С чем только к Бирону не обращались: среди его бумаг можно найти проекты «о податях», то есть улучшении системы налогообложения, «о различных учреждениях по части финансов», «о средствах увеличения доходов», об устройстве в России лотереи и о многих других предметах. Однажды обер-камергер со «смиренным богомольцем» Феофаном Прокоповичем даже обсуждали качество перевода с французского сочинения, «названного Грациан придворный»; при этом ни Бирон, ни новгородский архиепископ не владели французским языком. Квалифицированного переводчика, вероятно, так и не нашли, потому что книга не была напечатана в царствование Анны Иоанновны и вышла уже в 1742 году при Елизавете.
Но чаще всего у Бирона чего-нибудь просили. «Сиятельнейший граф, милостивой мой патрон! Покорно вашего сиятельства прошу, во благополучное время, милостиво доложить ее императорскому величеству всемилостивейшей государыне: чтоб всемилостивейшим ее императорскаго величества указом определен я был в указное число генералов, и определить каманду <…>, о старшинстве вступления моего чину и о службах утруждать ваше сиятельство не смею; покорно вас, моего государя, прошу, чтоб я оным против моей братьи обижен не был», — ходатайствовал о назначении вновь в военную службу с «командой и жалованием» Г. П. Чернышев, оказавшийся негодным генерал-губернатором, а заодно пытался оправдать свои промахи тем, что московская полиция находилась в ведении Сената и ему не подчинялась.
Более удачливый его коллега-губернатор князь Борис Юсупов подавал «рабственное прошение о жалованье моем, которого мне, с определения моего, в 738-м доныне ни откуда с 739 году не получал, чтоб оное мне получать, как и прежде сего получал, от двора всемилостивейшей государыни». С жалованьем в то время даже у высших чиновников случались задержки, и Юсупов вскоре вновь напомнил о нем и обещал: «Впредь рабственно ноги целую, и прославлять высочайшее имя вашей высококняжеской светлости и милость до смерти не престану».
«Покорно прошу сиятельство ваше, яко милостивейшего моего патрона и благодетеля, дабы предстательством своим исходатайствовать у ее императорского величества всемилостивейший указ о додаче нам недоставшего числа дворов, — била челом представительница семейства Кантемиров княжна Мария о „додаче“ 40 дворов до пожалованной тысячи. — Истинно бедно живем».
«Вам, государю и милостивому отцу моему, не во утруждение. Обижена я от князя Василья Петрова сына Голицына. Отдан был ему складень алмазной под заклад в трех стах рублех, который в покупке был в две тысячи пять сот рублев, и те его триста рублев все ему отданы, а он того моего складня чрез многие годы не отдает и в том обидиму делает <…> свойственнику своему, безписменно отдала и поверила, и тако я, по силе вашего императорскаго величества указов, в надлежащих судах бить челом на него не могу», — пыталась привлечь фаворита к решению своих денежно-семейных отношений «к вашим услугам всегда слушнейшая» княгиня Прасковья Голицына.
К Бирону — «милостивому и высокому патрону» обращались совершенно незнакомые ему люди: флотский лейтенант Виттен, армейский капитан Алексей Потапов, бургомистр Выборга, донской атаман Андрей Лопатин и множество других. Все они излагали заветные просьбы: определить в службу, уплатить невесть где залежавшееся жалованье; произвести ожидавшееся, но отложенное повышение в чине. Для учета такой корреспонденции был даже изготовлен аккуратный каталог поступавших к фавориту бумаг и прошений, в котором почетное место занимает переписка по поводу доставки ко двору лошадей — известной страсти Бирона.[119]
Для подачи подобных документов и личного общения с жалобщиками и просителями было образовано целое «присутствие» с приемными часами, «аудиенц-каморой» с отдельной «палатой» для знатных и другой для «маломощных и незнакомых бедняков», в которых — по очереди — приходилось дожидаться аудиенции князю Якову Шаховскому. Другим местом аудиенций стал манеж, выстроенный в 1732 году в столице «на лугу против зимняго дому» и ставший, по мнению заезжих иностранцев, самой прекрасной достопримечательностью Петербурга: «Манеж выстроен весьма регулярным, хотя и из дерева. С внутренней стороны имеется круглая галерея, а арена для верховой езды очень большая и с точным соотношением [ширины и длины] два к трем. У графа семьдесят прекрасных лошадей, по нескольку из всех стран».[120]
Фаворит цивилизовал сам процесс своей внезаконной службы. Мы не всегда знаем, какими подношениями или услугами благодарили его просители; но, во всяком случае, к Бирону уже не обращались попросту, как к Виллиму Монсу: «А что вам обещал брат тысячу рублев, у меня готова и моя тысяча вместе; пожалуй, отец наш, не оставь нас бедных, за что весьма останемся рабами».
Дальше начиналось самое важное — таинство невидной и неслышной работы фаворита. Чьей просьбе дать ход, какую бумагу лучше «умедлить», а какую — сразу отправить по инстанциям в официальном порядке? Бирон не желал подменять собой высшие органы власти и был в этом отношении достаточно щепетилен. Сенат стал было отправлять ему свои доклады, но они «по приказу его сиятельства обор-камергера отданы в Кабинет», где доминировал Остерман.
На следствии в 1741 году Бирон цепко защищался: «Мимо обер-камергерской должности от ее императорского величества <…> часто по делам в совете призван был, и в том ему ослушну быть было невозможно; токмо что до внутренних государственных дел надлежит, и в тех публично всегда отговаривался, предоставляя свое в том недознание, в чем он ссылается на тех, которые при ее императорском величестве часто в таких случаях присутствовали, а в потребном случае может в том и свидетелей по именам объявить, отчего следует, что в таких делах от него непорядку и интересу предосуждения приключиться не могло».
Фавориту и не требовалось официально участвовать в текущем управлении — там, где нужно принимать решения, «закреплять» их своей подписью и нести ответственность за возможные ошибки. У него были другие возможности. Но не всегда можно догадаться, почему то или иное дело привлекло его внимание и осталось «у обор-камергера в канторке». Вот Бирон сам пишет некоей Дарье Матвеевне, соболезнует о смерти мужа и обещает помочь; вот, как «всепокорный слуга», успокаивает другого просителя: «Я несколько раз ее величеству докладывал, токмо еще резолюции никакой не получил <…> однако не премину и впредь, усмотря благоприятное время, ее величеству паки докладывать». Скорее всего, этим корреспондентам повезло — благоприятное время было найдено и должным образом использовано.
Но не все были такими счастливцами. Бирон любезно отказал в просьбе камер-юнкеру Ивану Брылкину оплатить его долги. Брылкин — старый сослуживец по курляндскому двору, но государыня велела передать: «Ежели за всех, которые будут должными себя объявлять, ее величеству платить по их прозьбам, то у ее величества столько не достанет». Брылкин с горя решил жениться, добивался дозволения на брак и опять спросил совета у Бирона — невеста оказалась не слишком состоятельной. Фаворит сообщил, что государыня женитьбу разрешила, но от себя намекнул: если, мол, «и сами признаваете, что содержание ваше будет несвободное, то я так рассуждаю, что еще вы не устарели». Не повезло и некоей Ирине Федоровне — ее просьба о получении «процентных денег» была с ходу отклонена, ведь они уже были ей выплачены в прошлом году. Не улыбнулась судьба и одному из близких к Анне лиц, обер-гофмейстеру двора С. А. Салтыкову. На его просьбу о заступничестве Бирон сухо отвечал в 1732 году: «Я уповаю, ваше сиятельство, довольно сами можете засвидетельствовать, что я во внутренние государственные дела ни во что не вступаюсь, кроме того, ежели такая ведомость ко мне придет, по которой можно мне кому у ее величества помогать и услужить сколько возможно».
«Помогать и услужить» — это, собственно, и есть сфера «служебной деятельности» фаворита; вопрос в том, кому и зачем. Похоже, звезда Салтыкова закатилась: «герой» 25 февраля 1730 года свой придворный «кредит» исчерпал, был оставлен в Москве, обвинен в нерадивом управлении и взятках. Помогать ему вроде бы и не стоило — но Бирон все же ему посодействовал: неудачливый московский наместник получил милостивое письмо императрицы и понял, кто в доме хозяин — теперь он называл обер-камергера не иначе как «милостивым государем отцом».
С другими просителями Бирон до объяснений не снисходил, давая вовсе немилостивый ответ: «В ненадлежащие до меня дела не вступаю», — прошение переправлялось в Кабинет или коллегию, и обер-камергера его судьба больше не интересовала. Формально это выглядело вполне корректно — вот только круг «надлежащих» дел и стоявших за ними лиц фаворит определял для себя сам. В его «канторке» соседствовали бумаги о заготовке бочек «к купорному делу», назначении нового бухгалтера придворной конторы (хотя и дела дворцового ведомства, но по должности не обер-камергера, а обер-гофмейстера) и «припасех к городу Архангельскому»; «росписи пожиткам долгоруковским» (предстояли большие раздачи), тяжба по завещанию «furst Boris Prosorovski», донесение о капитан-поручике князе Сергее Кантемире, избитом ямщиками и впавшем от того в «ипохондрию».
Чтобы безошибочно определить круг дел, за которые стоит взяться, нужна была постоянная информация обо всем, что происходило в придворно-служебном мире. Как свидетельствовал Миних-младший, «когда быть страшиму и ненавидиму случается всегда вместе, а при том небесполезно во всякое время стараться сколько можно изведывать о предприятиях своих врагов, то герцог Курляндский не только в отношении первого достаточно был уверен, но так же избыточно снабжен был повсеместными лазутчиками. Ни при едином дворе, статься может, не находилось больше шпионов и наговорщиков, как в то время при российском. Обо всем, что в знатных беседах и домах говорили, получал он обстоятельнейшие известия, и поскольку ремесло сие отверзало путь как к милости, так и к богатым наградам, то многие знатные и высоких чинов особы не стыдились служить к тому орудием». Это свидетельство можно считать тем более достоверным, что Бирон на следствии в 1741 году назвал Эрнста Миниха в числе своих главных информаторов. Именно эти «наговорщики», а вовсе не несуществующие тогда в России полицейские «шпионы», обеспечивали фаворита подробными сведениями: что было сказано вчера за ужином, кто с кем и против кого намерен «дружить».
Одним для получения этой информации приходилось выстаивать в присутствии, «где маломощные и незнакомые бедняки ожидали своих жребиев, <…> его светлость, отделяясь из окружения знатных господ, и во оную палату на краткое время выходит и выслушивает их просьбы, а некоторых удостаивает и своими разговорами». Другим удавалось попасть в круг присутствующих у обер-камергера. «Утром, пока императрица одевается и совершает молитву, к обер-камергеру приходят с визитами. По средам и пятницам собираются в его комнатах, и тогда круг присутствующих очень широк, он состоит из иностранцев, министров и других значительных особ, нуждающихся в дружбе или протекции обер-камергера и почитающих за особую милость, если он заговаривает с ними, так как видели, что порой он то и дело выходит, оставляя всю ассамблею идти своим чередом», — описал уже сложившийся к середине 30-х годов порядок заезжий швед Карл Рейнхольд Берк.
Попасть в избранное общество было дано не всем. Сначала надо было обратить на себя внимание, с честью исполнить поручение вельможи — какое, например, досталось сибирскому губернатору (к сожалению, в копии письма нет даты и имени): «Приискать тамошних сибирских волков белых и велеть из них зделать мех дущатой на большую шубу и чтоб гораздо бел был». Осталось только приказать именно белым сибирским волкам собраться в нужном количестве — но это уже была проблема адресата. А новгородскому вице-губернатору А. Бредихину досталась от Бирона комиссия быстренько купить ни много ни мало — четыре тысячи пудов сена «для меня», как прямо сказано в письме. В отличие от волчьих шкур, особые свойства сена не оговаривались, но думается, польщенный доверием администратор не оплошал насчет качества лошадиного корма.
Еще одному безымянному начальнику и вовсе повезло — в письме Бирона от 1734 года слышится неподдельный азарт коллекционера: «Уведомился я, что в Шацкой провинции у секретаря Протопопова есть вороной иноходец, и сказывают о нем, что очень хорош».[121] Чиновнику можно посочувствовать: как он искал этого секретаря на просторах отечества и так ли уж был хорош его иноходец? Доложить, что нехорош — значило дать понять, что его сиятельство ошибался. Не подумает ли, что от него скрывают лошадиное сокровище? А если секретарь, не дай Бог, заартачится, цену заломит?
Зато именно так можно было попасть в круг полезных для «высокого патрона» людей и, в свою очередь, стать источником благ и милостей для своей фамилии и подчиненных. Не раз упомянутый камергер Борис Юсупов оказался мастером на все руки: и сестру «сдал» в Тайную канцелярию, и в лошадях разбираться научился, и с губернаторством не оплошал. Такому нужно не только жалованье выплатить — предоставить явные знаки монаршего благоволения.
Юсупов же опять оказался умницей — сразу понял, кого надо в первую очередь благодарить: «Вашей высококняжеской светлости, милостивейшему государю чрез сие мое всенижайшее примаю дерзновение припасть к высочайшим стопам вашей высококняжеской светлости, что ее императорское величество, чрез всемилостивейшее писание, меня, всеподданнейшего раба, всемилостивейше удостоить и высочайшею милостью обнадежить соизволила, что мои труды в благоугодности ее императорскому величеству находятся, которое с раболепственною и несказанною радостью получить сподобился, не по заслугам моим, токмо по высочайшей вашей высококняжеской светлости милостивейшему предстательству, за что, припадая к высочайшим стопам вашей высококняжеской светлости, милостивейшему государю, и рабственное благодарение всенижайше приношу, и притом в неотменную и всесильную вашей высококняжеской светлости милостивейшую протекцию себя подвергаю, при которой со всеусердным и рабственным почтением пребуду». И ведь благодарил не зря: помимо высочайшей похвалы, «бедной жене» камергера государыня подарила две тысячи рублей, а самому ему — московский «каменной двор князь Алексея Долгорукова в вечное владение всемилостивейше пожаловать соизволила».
Излишне самостоятельные администраторы могли вызвать неудовольствие. Удаленный с Урала Василий Татищев был переброшен в новопостроенный Оренбург, где энергично и жестоко подавил восстание башкир, но не поладил с подчиненными, которые написали на него донос Бирону. Фаворит тут же (в марте 1739 года) сообщил о «сигнале» противнику Татищева, графу М. Г. Головкину. Тот сразу уразумел важность дела и почтительно доложил Бирону: «Пред недавним временем изволил ваша светлость со мною говорить о Василье Татищеве, о его непорядках и притом изволил мне приказывать, что к тому пристойно, о том бы надлежащим порядком я представил, как в подобных таковых же случаях ее величеству и вашей светлости слабым моим мнением служил. И по тому вашей светлости приказу наведывался, какие его, Василья Татищева, неисправы, и разведал, что полковник Тевкелев вашей светлости о том доносил, того для я призывал его, полковника, и обо всем обстоятельно выспросил». Естественно, «непорядки» были выявлены, Татищев отрешен от должности и отдан под следствие.[122] Формально Бирон оставался в стороне — все дело вели «надлежащим порядком» совсем другие люди. Но из письма младшего Головкина явствует, что такие комбинации, когда адресованный Бирону донос становился толчком для расследования, случались не единожды.
В системе влияния фаворита свое место нашлось и для Бенигны Бирон, к которой обращались жены и дочери главных действующих лиц. «Сиятельнейшая графиня, государыня моя! Нижайше прошу отпустить мою вину, что так долго до вас, государыни моей, не писала, истинно ни за чем другим, токмо за слабым своим здаровьем, в которых за безчастье свое и ныне нахожуся; прошу вас, государыню мою, отдать мой нижайший поклон сиятельнейшему графу, моему государю, а вашему сожителю, и прошу содержать меня и бедных моих детей неотменно в своей милости», — писала к ней первая дама двора обер-гофмейстерина Татьяна Голицына, оставшаяся после смерти мужа-фельдмаршала без всякого «кредита» и уважения при дворе.
«Что же закоснела несколько времени утрудить ваше сиятельство моим покорным писанием, то истинно от моей болезни. И уже всякими способы доктор меня пользует и на малое время боль в боку перерывает, но по нескольком времени опять по прежнему приходит, как бывала, хотя доктор и обещает некоторой способ дать, но я уже безнадежна от такой застарелой болезни. При сем вам, моей милостивой государыне, посылаю бошмаки, шитые по гродитуру алому, другие тканые; извольте носить на здравие в знак того, чтоб мне в отлучении быть уверенной, что я всегда в вашей милости пребываю», — жалуется на болезни и шлет подарки жена канцлера, «нижайшая и покорная услужница» княгиня Мария Черкасская. Она не забыла приложить письмо дочери, богатейшей в России наследницы Варвары, которая только ждала указания, «каким цветом прикажете вышить бошмаки, что я себе за великое щастье прииму, чем бы могла вам услужить».
Так, собственно, и действовал механизм «клиентских» отношений, который давал фавориту возможность использовать в своих интересах придворные «партии» и обеспечивать себе достаточно прочное положение арбитра и посредника[123] — но только до той поры, пока сам «высокий патрон» находится «в силе», которую надо было сохранить любыми средствами.
Своему ближайшему советнику Кейзерлингу Бирон откровенно советовал, «как крайне необходимо осторожно обращаться с великими милостями великих особ, чтобы не воспоследствовало злополучной перемены». Для этого нужно было всегда находиться «в службе ее величества» и соблюдать «единственно и исключительно интерес ее императорского величества». Эти правила обер-камергер вовсю использовал и в другой области своей деятельности — внешней политике.
В этой сфере фавориту пришлось долго ждать, прежде чем он почувствовал себя уверенно. Первое время он вынужден был находиться в тени клана Левенвольде. В поданной Елизавете «записке» Бирон указывал, что первые важные внешнеполитические инициативы нового правления находились в руках Остермана и Рейнгольда Левенвольде. С их подачи Карл Густав Левенвольде уже в 1731 году был отправлен в «турне», целями которого были заключение с соседями — Австрией и Пруссией — соглашения насчет совместных действий в случае смерти польского короля Августа II и выбор жениха для племянницы Анны Иоанновны.
«Левенвольд возвратился с подробным донесением о принцах, которых ему случилось видеть. Отзывы его о маркграфе Карле и принце Бевернском были особенно лестны. Левенвольд очень хвалил характеры и достоинства обоих. Оставалось сделать выбор. Императрица склонилась в пользу принца Антона Бевернскаго. Решено было пригласить принца в Россию, дать ему чин кирасирского полковника и назначить приличное содержание. Левенвольд, по высочайшему повелению, сообщил об этом родным принца. Родные не замедлили прислать избранника в Россию. Явившись при дворе, принц Антон имел несчастье не понравиться императрице, очень недовольной выбором Левенвольда», — не без удовольствия вспоминал Бирон промахи соперника. Выбор и вправду оказался не слишком удачным: юный сын герцога Фердинанда Альбрехта II Брауншвейг-Бевернского Антон Ульрих категорически не понравился принцессе Анне, и Анна-тетка долго колебалась.
Но все же именно Левенвольде-старший после смерти Августа в марте 1733 года был направлен в Варшаву (там уже находился его младший брат — посол Фридрих Левенвольде) с чрезвычайными полномочиями, чтобы не допустить избрания на польский престол французского кандидата Станислава Лещинского. Главный конкурент Бирона на внешней политике и «сломался». Союз «трех черных орлов» был заключен в декабре 1732 года и предполагал в качестве кандидатуры на польский трон португальского принца Эммануила. Но договор не был окончательно ратифицирован Австрией и в действие не вступил вследствие преобладания в нем прусских интересов. Ничего не смогли сделать братья Левенвольде и в Варшаве.
Правда, здесь им было трудно конкурировать с французским послом маркизом де Монти: он не только обещал польским магнатам и шляхте помощь Франции, но и располагал четырьмя с половиной миллионами ливров «предвыборного фонда» для своего кандидата. 11 сентября 1733 года Лещинский во второй раз (впервые — по воле шведского короля Карла XII в 1706 году) стал королем Польши. На смену дипломатам пришлось отправлять армию под командованием сначала П. П. Ласси, а затем противника Левенвольде — Миниха.
В начале 1734 года Левенвольде был удален из Петербурга в действующую армию, а затем отправлен в Вену для ведения переговоров о совместных действиях против Османской империи. Больше он уже ко двору не вернулся: отбыл по болезни в свое имение, где и умер в 1735 году. Фридрих Левенвольде предпочел перейти на службу к императору Священной Римской империи и со временем дослужился до фельдмаршала. При дворе остался только красавец-гофмаршал Рейнгольд Левенвольде, но он в государственные дела не вмешивался.
Зато это попытался сделать Миних. В 1732–1733 годах он выступал сторонником заключения союза с Францией, что означало принципиальную смену ориентиров и разрыв с Австрией. Французский министр иностранных дел Жермен Луи Шовелен в августе 1732 года дал резиденту Маньяну полномочия на заключение договора. Но французское правительство ничего не могло предложить потенциальному партнеру, поскольку категорически отказывалось от каких-либо союзнических обязательств по отношению к Польше (соответственно, и Курляндии как вассального владения Речи Посполитой) и Турции,[124] — а именно там объективно сходились интересы России и Австрии.
Остерман убедительно показал, что предложения Маньяна «недостаточно оправдывают ожидания России относительно преимуществ союза с Францией»; сам резидент в письме в Париж вынужден был признать весомость этих аргументов. Позднее Маньян сетовал, что денег выделено мало и российских министров «перекупил» посол императора за 160 тысяч флоринов. Он отводил душу жалобами на господство в России иноземцев и надеялся на скорый переворот «вследствие чрезвычайно сильного желания всего русского народа освободиться от ига чужеземного владычества».[125] По-видимому, в случае обратного исхода он бы полагал, что министры — истинные патриоты своего отечества, а русский народ души в них не чает.
Поначалу Бирона воспринимали скорее в качестве своеобразного «объекта» внешней политики, на который требовалось должным образом повлиять. Карл Густав Левенвольде, заключая договор в Берлине, запросил 200 тысяч талеров для Бирона (за согласие на выборы курляндским герцогом сына прусского короля) и тогда ручался за его ратификацию. Фридрих Вильгельм I так и поступил — в личном письме обещал Бирону, что в случае избрания его сына, принца Августа Вильгельма, герцогом Курляндии «тотчас же я выплачу господину графу 200 тысяч местных денег здесь в Берлине единой суммой <…> для доказательства особого уважения и почтения, с которым я постоянно остаюсь к господину графу». Миних внушил Маньяну, что нужно подарить фавориту 100 тысяч экю, и французское правительство было готово их предоставить. Летом 1733 года в Петербурге польский дипломат Рудомино вновь передал предложение о союзе с Францией, за который Париж уже был готов заплатить Бирону «значительную сумму» без обозначения ее точных размеров.[126]
Но Бирон не повторял Меншикова, готового брать деньги у кого угодно, — и, кстати, не прогадал: саксонский курфюрст Август III за военную поддержку Россией его кандидатуры на польский трон обещал Бирону уже полмиллиона талеров и герцогский титул в родной Курляндии. Неизвестно, получил ли он эти деньги; важно, что это предложение соответствовало не только желанию обер-камергера, но и внешнеполитическим целям самой России — не допустить утверждения французского влияния в Речи Посполитой и сохранить там анархические шляхетские «свободы».
В августе 1733 года послы России, Австрии и Саксонии заключили в Варшаве договор о союзе. Саксонский курфюрст признавал за Анной Иоанновной императорский титул, обещал отказаться от притязаний Польши на Лифляндию и попыток изменить «старый образ правления» в Польше и Курляндии. Россия со своей стороны гарантировала курфюрсту помощь в достижении польского престола. Русские войска вошли на территорию республики, и под их защитой оппозиционная Лещинскому конфедерация шляхты «избрала» Августа III королем. Сторонники Лещинского разгромили посольства России и Саксонии, после чего генерал Ласси в первый раз в истории русско-польских отношений взял с боем польскую столицу.
Король Станислав через 10 дней после выборов бежал в хорошо укрепленный порт Гданьск. Речь Посполитая не имела ни настоящего аппарата управления, ни сколько-нибудь боеспособной регулярной армии. Кавалерийские наезды шляхетских отрядов сторонников Лещинского ничего не могли изменить. Армия Миниха после нескольких месяцев осады вынудила Гданьск к капитуляции. Станислав во второй раз вынужден был бежать из Польши, французский флот был обращен русскими кораблями в бегство, а двухтысячный десант после нескольких схваток капитулировал и был отправлен в Петербург.
С весны 1732 года после отъезда Левенвольде Бирон стал впервые проявлять инициативу: встречался с иностранными послами и вел беседы по интересовавшим их вопросам. Донесения английского консула Рондо и саксонского посла Лефорта четко зафиксировали это важное изменение в работе дипломатов при петербургском дворе: в 1733 году они докладывали уже об «обычае» посещать обер-камергера, которого неукоснительно придерживались члены дипломатического корпуса — сами авторы, австрийский резидент Гогенгольц, пруссак Мардефельд и другие.[127]
Особенно интересны в этом смысле донесения Клавдия Рондо. Сближение России и Англии завершилось подписанием в 1734 году торгового, а в 1741-м — и союзного договора. В этих условиях английский консул получил более высокий статус резидента и стал желанным гостем Бирона и Остермана. Уровень информированности его донесений резко повысился и выгодно отличался как от собственных сообщений Рондо в 1730 году, так и от депеш французского поверенного Жана Маньяна, уже не пользовавшегося «кредитом» при дворе.
Потерпев неудачу в попытке заключения русско-французского договора, Маньян преувеличивал трудности до полного несоответствия действительности — например, что «нет ни одного человека русского происхождения, обладающего авторитетом или способностями, ни в совете императрицы, ни в Сенате». В донесениях же Рондо никаких опасений по поводу грядущего переворота нет; зато они чрезвычайно богаты реальными наблюдениями, подробно раскрывающими, в числе прочего, методы дипломатической работы фаворита.
Бирон и здесь предпочитал выступать как лицо сугубо частное и категорически отказался принять для официальных переговоров английского посла лорда Джорджа Форбса. Зато в ходе неформальных встреч и бесед Бирон всегда показывал, что находится в курсе поступавших от русских послов за границей новостей — помимо Ягужинского ему посылали свои донесения А. П. Бестужев-Рюмин, Г. К. Кейзерлинг, К. Бракель, Л. Ланчинский, А. Г. Головкин. В письмах к Кейзерлингу Бирон проявлял осведомленность о «дурном состоянии дел» турок в войне с Ираном, аудиенции австрийского посла в Стокгольме, назначении канцлера в Речи Посполитой. Он был в курсе ведущихся между Францией и Австрией переговоров о завершении войны «за польское наследство»; ему были известны военные планы русского командования в начавшейся войне с Турцией и даже «точные сведения из неприятельского лагеря» — и, судя по всему, не только из неприятельского: среди бумаг Бирона имеются копии документов английского посольства в Стамбуле и рескриптов прусского короля своему послу в Петербурге Мардефельду.[128]
Избранная тактика в сочетании с хорошей информированностью оказалась удобной. Бирон мог предварительно прощупать почву для официального запроса русского правительства, высказывался по поводу беспокоивших русский двор обстоятельств, делился имевшейся у него информацией. Вот несколько выдержек из депеш Рондо с передачей содержания его разговоров с Бироном во время открывшихся военных действий против Турции.
«Я недавно имел несколько бесед о турецких делах с графом Бироном. Вице-канцлер, кажется, убедил его в необходимости вызвать Турцию на первый шаг к примирению и притом на обращение к царице непосредственно. Граф в настоящее время, видно, очень недоволен венским двором, который не только не оказывает помощи России, но и даже не сознается в своем бессилии помочь ей при данных обстоятельствах» (17 августа 1736 года).
«Сегодня могу уведомить ваше превосходительство, что как граф Бирон, так и граф Остерман, с которым я беседовал по этому поводу, самым любезным образом поручил передать вам, что ее величество воспользуется первым случаем просить шаха, чтобы он принял королевских подданных и торговые дела их принял под свое покровительство» (5 сентября 1736 года).
«Сообщено мне графом Бироном, который относится ко мне весьма дружелюбно, но, кажется, не расположен открыть: думает ли государыня продолжать войну с турками, и думает ли она обратиться к посредникам в случае, если бы решилась приступить к переговорам в течение зимы. Граф ответил, что на данную минуту ответить он не готов» (11 сентября 1736 года).
«На днях граф Бирон рассказал мне, как Мардефельд (посол Пруссии. —
Кроме таких регулярных бесед Бирон зондировал почву для инициатив (согласие на кандидатуру саксонского курфюрста Августа III на польский престол или предложение о заключении союзного договора с Англией), которые могли бы по той или иной причине быть отклонены и ставили бы российских дипломатов в неудобное положение. Он информировал собеседника о принятых, но еще не объявленных официально решениях — например, о твердом намерении русского правительства заключить торговый договор с Англией или об отправке войск на Рейн в помощь союзной Австрии; разъяснял позицию России по различным вопросам. При этом он умело расставлял акценты: в одних случаях подчеркивал, что говорит «от имени государыни» (и даже однажды, как заметил Рондо, в ее присутствии за занавесью), в других — что действует исключительно «как друг».[129]
К помощи Бирона дипломаты прибегали для разрешения возникавших недоразумений и даже передавали ему свои донесения — они значатся в описи его документов как «реляции от чужеземных министров» и «копии здесь пребывающих министров».
При посредничестве Бирона проходили иногда весьма деликатные переговоры, невозможные по официальным каналам, — к примеру, обсуждение просьбы одолеваемого кредиторами наследника прусского престола (будущего Фридриха II) о секретном займе без ведома его отца-короля. Через саксонского посла кронпринц получил от «верного друга» Бирона три тысячи экю и снова просил в 1739 году уже 20 тысяч талеров, на что Анна потребовала предоставления личного письма от будущего короля. Фридрих согласился с получением секретного займа через французских банкиров в Пруссии. Бирон даже собирался продать с этой целью свою прусскую «вотчину Биген».[130]
Поначалу англичанин Рондо, как и некоторые другие дипломаты, допускал, что фаворита «задаривают» Пруссия и Австрия. Но в дальнейшем он имел возможность убедиться, что подарки не могли изменить мнения Бирона, когда оно касалось главных задач российской внешней политики.
Сам Бирон рассказал английскому дипломату о нескольких попытках Франции подкупить его в пользу отказа от союза с Австрией — через польского посла и через герцога Мекленбургского; в последнем случае в августе 1734 года ему предлагали миллион пистолей и имение под Страсбургом. Как видим, «стоимость» его возможных услуг уже сильно выросла. Но все попытки английского кабинета и самого Рондо «отговорить» Бирона от начинавшейся войны с Турцией, не соответствовавшей интересам британского правительства, закончились провалом. На все намеки следовал твердый ответ: «Дело зашло так далеко, что всякая попытка затушить его окажется уже позднею». Бирон первым проинформировал австрийского посла о неизбежном начале войны и необходимости «диверсии» против турок на Балканах.
По свидетельству Манштейна, Бирон обладал «некоторого рода гениальностью или здравым смыслом». При единодушно отмечавшемся современниками «чрезмерном честолюбии» фаворит ясно осознавал границы своих полномочий. Рондо рассказывал, как обычно сдержанный Бирон «вышел из себя» и накричал на австрийского резидента, поспешившего передать в Вену его слова о том, что Россия не будет настаивать на вступлении австрийских войск в Польшу во время войны за «польское наследство» в 1733 году. Свой гнев он объяснил именно торопливостью австрийца, тогда как он, Бирон, в данном случае «высказал скорее воззрения, чем решения государыни».[131] Фаворит переживал не случайно: оплошность могла быть истолкована его противниками как попытка покушения на прерогативы монарха.
Даже приведенные выше отрывки из донесений Рондо показывают, что подключение к дипломатическим контактам Бирона не умаляло значения Остермана. В разговорах с дипломатами «всемогущий» Бирон мог сколько угодно критиковать вице-канцлера и даже принимать жалобы на медленное течение официальных переговоров; но, как замечал Рондо, в области внешней политики «все дела проходят через руки Остермана», который «много превосходит обер-камергера опытом и <…> умеет ошеломить его своим анализом положений».
Кроме того, Бирону мешал его темперамент, и, как писал Манштейн, «он очень старался приобрести талант притворства, но никогда не мог дойти до той степени совершенства, в какой им обладал граф Остерман, мастер этого дела». Бирон порой искренне завидовал ловкости Остермана, виртуозно умевшего подать успешную политическую акцию как свою заслугу и столь же естественно отсутствовать или «болеть» при неблагоприятном ходе событий. Можно полагать, что многоопытный Остерман следил за чересчур вторгавшимся в «его» внешнеполитическую сферу фаворитом: среди конфискованных в 1741 году бумаг вице-канцлера значатся «копии писем Бирона»: донесения к нему из Вены, послания австрийского дипломата Ботты, а также семейная переписка братьев Биронов. В результате собственно переговорный процесс по-прежнему находился в ведении Остермана, как и текущее руководство Коллегией иностранных дел, и составление инструкций послам. На долю же Бирона оставались те самые вроде бы приватные беседы, содержание которых потом находило воплощение в официальных заявлениях российского двора.
Исключения бывали редко. Восстановление в начале правления Анны дипломатических отношений с Англией сделало актуальным заключение торгового договора. Его проект был вручен русской стороне в 1732 году, но Остерман оказался неуступчивым партнером и прямо заявил (что случалось с ним крайне редко) послу лорду Форбсу, что не считает условия договора подходящими. Проблема была не только в нежелании снижать пошлины на британские товары, чего добивалась английская сторона. Главной целью Остермана было заключение, кроме торгового, еще и союзного договора, чтобы английская морская мощь гарантировала балтийские владения России от возможного шведского реванша. Но этого обязательства Лондон не хотел на себя принимать. Россия оставалась для Англии прежде всего обширным рынком сбыта и поставщиком сырья для английской промышленности.
Переговоры затягивались, и тогда Форбс и Рондо решили обратиться к Бирону. В результате вместо Остермана переговоры возглавил президент Коммерц-коллегии П. П. Шафиров. Он быстро отказался от целого ряда требований, в том числе от права России самостоятельно торговать с английскими колониями в Америке и свободного найма в Англии специалистов (за «сманивание» по английским законам полагалось 100 фунтов штрафа и три месяца тюрьмы); в итоге договор был согласован и после некоторого препирательства о признании титула российской императрицы подписан в декабре 1734 года.
Формально обе стороны имели равные права: на свободный приезд граждан в страну, торговлю любыми незапрещенными товарами, условия проживания, найма слуг и т. д. Но при этом договор создавал преимущества для английских торговцев. Они получили статус «наиболее благоприятствуемой нации», таможенные льготы при ввозе своего основного товара (сукна), право уплаты пошлин российской монетой (а не талерами) и разрешение вести транзитную торговлю с Ираном, которого давно добивались. Отдельная статья договора освобождала их дома от постоя.
Известно, что К. Рондо получил от английской Московской компании 150 золотых гиней в награду за труды. С «гонораром» Бирона вопрос остается открытым. Английский исследователь выяснил, что восстановление дипломатических отношений с Россией обошлось английской казне в 32 тысячи фунтов для окружения императрицы, но в отношении нашего героя ограничился только деликатным замечанием: «Нет основания полагать, что торговый договор являлся исключением из правила». Это тем более странно, что британские архивы вполне точно определяют, например, размеры «оплаты трудов» елизаветинского канцлера А. П. Бестужева-Рюмина: помимо ежегодной «пенсии» в 2500 фунтов от английского правительства, он получал от посла Гиндфорда «сдельно» за заключение важных для Англии соглашений по 5–7 тысяч фунтов; от посла Ч. Уильямса он потребовал и получил 10 тысяч фунтов, от консула Вульфа — 50 тысяч рублей — и при этом давал понять дипломатам, что предоставление ему беспроцентных ссуд можно расценивать как предложение неприличное.[132]
Возможно, англичане сыграли на антипатии Бирона к прусскому королю. В июле 1733 года Рондо отметил, что Бирон «крайне недоволен королем прусским; есть тому и причина, кажется, мало кому известная: несколько времени тому назад король за обедом, выпив, насмешливо отозвался о его сиятельстве, а П. И. Ягужинский <…> сообщил графу слова короля». Ягужинский, как мы знаем, вел постоянную переписку с Бироном, у которого оставались не самые приятные воспоминания о кенигсбергской тюрьме.
Однако заключение торгового договора 1734 года едва ли можно назвать проявлением «антирусской деятельности иностранцев» в русском правительстве в годы «бироновщины». Принципиальная проблема была не в степени «взяткоемкости» Шафирова или Бирона, а в слабости самого отечественного бизнеса. Англия являлась основным торговым партнером империи — но при этом Россия не имела своего торгового флота: практически вся заморская торговля обеспечивалась западноевропейскими, прежде всего английскими, перевозчиками. Даже в середине столетия лишь 7–8 % экспорта приходилось на отечественные торговые суда, ходившие, как правило, только по Балтике. Российские купцы только начинали осваивать западный рынок, не имея ни надежного банковского кредита, ни мощных торговых компаний, ни налаженных связей. В этих условиях отстаивать свои позиции, когда англичане грозились найти другие «каналы коммерции», было нелегко.
Надо признать, что английская сторона на переговорах выглядела более внушительно благодаря поддержке со стороны представителей бизнеса. Руководство Московской компании консультировало дипломатов, готовило проекты документов и соответствующую аргументацию. Благодаря заключению договора объем торговли между двумя странами стал увеличиваться, при этом Россия имела устойчивый активный торговый баланс.
Остерман нисколько не утратил своих позиций — даже в глазах английских дипломатов. Он добился своего позднее, когда Англия все же пошла на заключение союза. Кроме того, осторожный и уклончивый вице-канцлер намного больше подходил для сложной многоходовой дипломатической игры, чем темпераментный и не всегда выдержанный Вирой. Летом 1736 года он был уверен в скорой победе над турками и давал понять это союзникам-австрийцам. «Венский посол, — писал Бирон Кейзерлингу в Варшаву, — начал также хвастать на венский манер. Я дал ему понять, что силы России так велики, как едва ли воображает себе цесарь, и в нашей войне мы его просить не будем <…>. Мы и одни всегда справимся».
Между тем «Рассуждения» Кабинета от 23 марта 1736 года представляли цели войны вполне умеренными: возвращение Азова и прилегавших к нему территорий. Правда, в одном месте документа упоминалось о возможном продолжении войны в следующем году; но этот вариант рассматривался лишь на крайний случай, если расчеты правительства на кампанию 1736 года не оправдаются. «Естли крымская [кампания] счастливо удается, тогда от императрицы зависеть будет дать туркам мир». «Вместе с тем, — предусматривал документ, — отправить лист к визирю, что хотя мы и принуждены были начать с Портою войну, однакож, мы всегда готовы возобновить мир, естли пошлются турецкие министры на границу для постановления кондиций, сходственных для обеих сторон».
Очевидно, что на Бирона повлияли планы и громкие реляции главнокомандующего Миниха. Тот еще в апреле 1736 года написал фавориту письмо с просьбой передать императрице, «чтобы она не слушала слабых советов и не позволила, чтобы несвоевременные переговоры или унизительные и вредные медиации могли когда-либо иметь место». «1736 г.: Азов будет наш; мы овладеем Доном, Днепром, Перекопом, ногайскими землями между Доном и Днепром вдоль Черного моря и, если Богу угодно, даже Крым будет принадлежать нам. 1737 г.: полностью подчинит себе Крым, Кубань и закрепит за собой Кабарду. Она станет владычицей Азовского моря и гирл между Крымом и Кубанью. В 1738 ее императорское величество без малейшего риска подчинит себе Белгородскую и Буджакскую орды по ту сторону Днепра, Молдавию и Валахию, которые стонут под игом турок. Греки обретут спасение под крыльями российского орла. 1739 год. Знамена и штандарты ее императорского величества будут водружены… где? в Константинополе. В первой, древнейшей христианской церкви, в знаменитой церкви св. Софии в Константинополе она будет коронована как греческая императрица и дарует мир» — такие блестящие перспективы рисовал фельдмаршал.
Реальность оказалась сложнее. «…Турецкая война идет не так», — писал Бирон Кейзерлингу уже в 1736 году. Австрия не была готова оказать помощь. Русские войска действительно ворвались в Крым и разорили его, но потери от жары и болезней были огромны. Трудности кампании вызвали разногласия среди генералов.
По свидетельству Манштейна, «принц Гессенский <…> увлекши несколько природных русских генералов, также генерала Магнуса Бирона, двоюродного брата обер-камергера и ничтожнейшего ума человека, <…> со всеми этими господами, одинаково недальними, часто держал совет. Наконец, когда прибыли в Крым и подошли к Бахчисараю, принц сделал им предложение: если фельдмаршал велит идти далее, то не слушаться этого приказания, а если он вздумает употреблять власть, то арестовать его и передать начальство ему, принцу, как самому старшему генералу армии». На такой радикальный шаг во время военных действий генералы пойти, естественно, не могли. Они лишь представили главнокомандующему свои опасения по поводу стремительного роста числа больных в армии. Однако «принц втихомолку послал курьера с письмом к обер-камергеру. Этот же подлинное письмо обратил к графу Миниху. Можно себе представить, насколько этот случай усилил взаимную вражду обоих генералов, и удивительно ли, что они возненавидели друг друга смертельно».
Разумеется, такие вопросы решались не Бироном, а императрицей, но ее обращение к Остерману в начале 1737 года показывает, что информация к ней действительно часто поступала от фаворита. «Андрей Иванович, из посланных к вам репортов и челобитной и в письмах, в которых он пишет к обер-камергеру, довольно усмотрите, какое несогласие в нашем генералитету имеется, чрез что не можно инако быть, как великой вред в наших интересах при таких нынешних великих конъюктурах. Я вам объявляю, что война турецкая и сила их меня николи не покоит; только такие кондувиты, как ныне главные командиры имеют, мне уже много печали делают; потому надобно и впредь того не ждать как бездушны и не резонабель они поступают, что весь свет может знать». В то же время императрица была тверда в своих намерениях уничтожить «бесчестный» Прутский договор 1711 года и продолжать войну в союзе с австрийцами.
Предстояла новая кампания. И опять Миних сначала слал Бирону победные донесения: «армия <…> с Божьей помощью спешит к Очакову», «не знойно, дрова и вода в изобилии в стоянках». Затем последовал победоносный штурм и захват турецкой крепости Очакова. Но после этой победы тон Миниха изменился: «Армия не нуждается ни в чем, но климат убийственный: помимо 2 тысяч раненых, больных 8 тысяч; они умирают как мухи, и все от климата, который что в Венгрии — знойные дни и холодные ночи». В следующем письме Миних сообщил, что его армия покинула Очаков: «Засуха такая, что вода в Буге и Днепре позеленела, стала почти горячей — в течение двух месяцев едва три дождя выпало». А уже в сентябре он известил Бирона, что войска вынуждены были вернуться на Украину, страдая от грязи и дождей: «В августе и сентябре мы желали уж не дождя, а прежней пыли». Несмотря на тяжелейшие потери, Миних по-прежнему был уверен, что победа близка и «все зажиточные турки в Константинополе уже отправляют свои лучшие вещи в Азию и считают гибель своего государства неминуемою».[133] Но и кампания 1738 года оказалась для русских безрезультатной, а австрийцы терпели поражения. К Бирону приходили не только реляции Миниха, но и информация из других источников. «Я до самого въезда моего в Украину столько не знал, что оная почти вся пуста и какое множество оного народа пропало, а и ныне столько выгнано, что не осталось столько земледельцев, сколько хлеба им и для самих себя посеять надобно. И хотя и причтено то в их упрямство, что многие поля без пашни остались, но ежели по совести рассудить, то и работать некому и не на чем, понеже сколько в прошлом году волов выкуплено и в подводах поморено. Ныне сверх того из одного Нежинского полку взято в армию 14 000 волов, а что из прочих полков взято, о том совершенно донесть не могу. Не изволите ль взять в Петербург майора Шилова на время под претекстом некоторых дел по его комиссии, от которого можете обстоятельно уведать, какова стала Украина, и сколько малороссиян поморено, и каков в прошлом годе в крымском походе урон в армейских полках, и что потеряно нерегулярных» — так описал обер-камергеру положение на Украине обер-егермейстер Артемий Волынский.
Бирон нервничал, утратив былую уверенность. Он то выказывал «большую склонность к примирению, лишь бы оно не повлекло за собою ничего, несовместимого с честью России», то выражал желание привлечь к войне Пруссию путем уступок императора королю в споре о германских владениях, то в беседах с другими послами высказывался «о неудовольствии русского двора против Австрии».
В октябре 1738 года разразился даже дипломатический скандал. В беседе с австрийским послом бароном Карлом Генрихом фон Остейном Бирон поинтересовался, отчего это союзники теряют свои крепости (австрийцы незадолго до того сдали туркам город Ниш). Посол обиделся и ответил, что это русские постоянно преувеличивают свои успехи, а сами «подняли большой шум и убили трех татар». Тогда уже Бирон, выйдя из себя, заявил, что австрийцы и татар-то не видели, зато их доблестная армия смогла одолеть всего «пятерых евреев», после чего покинул комнату, не пожелал даже принять Остейна у себя на дне рождения и, что более важно, отказался вести с ним неофициальные деловые беседы. Посол отомстил фавориту знаменитой фразой: «Когда граф Бирон говорит о лошадях, он говорит как человек; когда же он говорит о людях или с людьми, он выражается, как лошадь». Но, поскольку с Бироном ничего сделать было нельзя, австрийскому двору пришлось отозвать посла и назначить на его место более деликатного маркиза Ботта д'Адорно.
Тем не менее на фоне военных неудач колебания Бирона были заметны в сравнении с более выдержанным поведением и тактикой Остермана: старый дипломат хотел добиться закрепления за Россией завоеваний в Северном Причерноморье и на уступки туркам шел медленно. Поэтому стремившаяся скорее выйти из войны австрийская дипломатия даже пыталась в 1738 году «разыграть» Бирона против Остермана и вести дела только с ним, игнорируя вице-канцлера. Тут уже пришлось вмешаться самой Анне: в письме к императору Карлу VI она заявила, что вице-канцлер пользуется ее полным доверием и проводит согласованную и утвержденную ею политику.[134] Надо признать, что на заключительном этапе войны именно Остерман предпочел принять предложение о посредничестве французской дипломатии, в то время как Бирон даже давал Рондо «честное слово его в том, что, доколе он сохранит какое-либо значение у ее величества, никогда русский двор не войдет ни в какие соглашения с Францией». Заключенный австрийцами сепаратный мир вызвал у него приступ ярости.
Но своей личной цели Бирон достиг. Летом 1737 года резидент Рондо сообщил в Лондон: «2-го июня все курляндское дворянство собралось в Митаве. На сейме прочтены были два письма: одно от принца гессен-гомбургского, друroe — от принца брауншвейгского, состоящего подполковником в прусской службе. В письмах своих принцы эти предлагают себя кандидатами на престол покойного герцога, но никто не сказал слова в их пользу и сейм пребывал некоторое время в молчании; наконец Мирбах встал и заявил, что не знает человека более достойного управлять Курляндией, как граф Бирон, охраняющий их права и вольности. Все собрание согласилось с ним и немедленно отправило <…> просить графа принять герцогское достоинство, на что он и изъявил согласие».
Единодушное избрание стало результатом многолетних усилий как самого Бирона, так и российской дипломатии. Бирону опять крупно повезло — его личные «виды» удачнейшим образом совпали — или, лучше сказать, не противоречили линии имперской внешней политики России и ее главной союзницы Австрии. Для сохранения удобных для соседей польских «свобод» нельзя было ни усиливать саксонскую династию (в лице Морица Саксонского), ни допустить раздела Курляндии на «воеводства» польскими магнатами, и уж подавно незачем было «отдавать» ее сыну прусского короля.
Но такие акции не проходят «автоматически». Сначала надо было добиться отмены прежнего решения сейма об инкорпорации вассального герцогства после смерти старого и бездетного герцога Фердинанда, затем — продумать и осуществить безошибочную «предвыборную» стратегию. Естественно, кандидатура Бирона должна быть не навязана, а выдвинута самими курляндцами. Но их предстояло подвигнуть на этот шаг, ведь у рыцарства всегда имелась возможность выбора из отпрысков многочисленных немецких князей с безупречными (в отличие от Бирона) родословными и фамильными связями с дворами великих держав. Понятно, что эти державы, в первую очередь Пруссия, были не в восторге от перспективы выборов Бирона — тем более что русские войска уже свободно маршировали в Польшу через Курляндию, а в ней самой так и стоял драгунский полк.
Правда, новый король Август III в благодарность за поддержку со стороны России еще в 1733 году предложил курляндский трон Бирону. Но ему-то обещать было легко: король в Речи Посполитой бессилен — он даже побоялся выносить эту идею на обсуждение сейма, члены которого по-прежнему надеялись на присоединение Курляндии к Польше.
В политическую игру вступила главная сторонница Бирона — сама Анна Иоанновна. Еще во время борьбы со Станиславом Лещинским русское командование арестовало и выслало в Россию секретаря герцога Фердинанда Бальтазара Грживицкого со всеми его документами — он просидел в Выборгском замке до конца царствования. В послании к курляндскому дворянству в 1735 году императрица торжественно обещала соблюдать все его права и вольности, но при этом заметила: Россия не допустит, чтобы герцогство когда-либо «поступило в чужие руки» или изменилась «старая форма правления». Бароны как будто поняли правильно (руки могли быть только безусловно пророссийские) и, осознавая свою ценность в качестве будущих избирателей, обратились к императрице с просьбами о дополнительных льготах.
Часть из них пришлось удовлетворить — к примеру, компенсировать землевладельцам стоимость лугов, на которых паслись герцогские лошади, чей истинный хозяин был всем известен; но некоторые требования императрица мягко отклонила. Не было разрешено провозить в империю водку — во-первых, на ее продажу существовала государственная монополия, во-вторых, нереально было бы отличить легальную курляндскую водку от контрабандной польской, которая неизбежно проникала бы в Россию при открытости границы герцогства с Польшей. Вывести русские войска, от присутствия которых страдало население Курляндии, также было невозможно — они охраняли независимость герцогства, и польза от такой защиты намного превосходила неудобства от постоя. Касательно судьбы герцогского архива, волновавшей курляндское дворянство, российские власти отвечали, что пока не знают, где он хранится — документы имеют привычку теряться.
В самой же Курляндии работу с «электоратом» проводил новый посол России барон Эрнст Бутлар, отлично знакомый, в отличие от его предшественника П. М. Голицына, с местными условиями. Ему удалось склонить на свою сторону маршала курляндского ландтага Закена, согласившегося с тем, что будущий герцог должен быть немцем «аугсбургского вероисповедания», но не из немецких принцев. Депутатом на сейм рыцарство избрало нужного человека — В. Хейкинга, получавшего деньги на расходы из Петербурга и туда же отсылавшего донесения о проделанной работе.
В Речи Посполитой интересы Бирона защищали один из самых квалифицированных и толковых дипломатов, его старый знакомый и «сослуживец» по курлянскому двору Анны Иоанновны Кейзерлинг и русский резидент в Варшаве Петр Голембиовский — их подробные донесения о «курляндском деле» читали и Бирон, и сама императрица.
Кейзерлинг неизменно оставался одним из самых полезных и доверенных людей фаворита, но при этом не рвался ко вору сумел сохранить на фоне безудержной лести многих придворных свое лицо и известную дистанцию в отношениях с могущественным приятелем, чьи действия не всегда ему нравились. Бирон эту черту ценил. Его письма к Кейзерлингу заметно отличаются по стилю от обращения с прочими «клиентами». Бирон делился своими мыслями и настроениями, хотя и не без некоторого позерства. Их переписка 1733–1734 годов конкретна и деловита — Бирон инструктировал нового посла в Речи Посполитой и держал его в курсе событий развернувшейся войны за «польское наследство». Но уже в 1735 году послания фаворита стали более доверительными и в них все больше места занимали курляндские дела БИРОН сообщил своему корреспонденту, как в беседе с ПРУССКИМ дипломатом дал понять, что курляндцы могли бы в поисках нового герцога обратиться «туда, где получили бы полное покровительство и впредь были достаточно обеспечены от республики».
В феврале 1736 года Август III повторил свое предложение Бирону: «Среди курляндского дворянства не вижу ни одного более достойного и могущественного, кто также был бы одинаково мил и приятен для ее императорского величества так и для меня самого, чем почтенный господин граф и обер-камергер. По сей причине я не упущу возможности сделать все от меня зависящее, дабы выбор пал на вас. Надеюсь ваша известная скромность все же дозволит вам хотя бы пойти навстречу молчаливым согласием и при помощи друзей подвигать дело вперед, куда следует».[135]
Бирон тотчас же написал Кейзерлингу, что «достиг счастья которого я всегда желал своему отечеству из врожденной любви к нему». Он просил посла «продолжать заниматься этим делом относительно Курляндии», что он делал вполне удачно. Нескольким магнатам, в том числе Михалу Радзивиллу, были предложены пенсии и розданы русские ордена, сам король Август III получил взаймы от русского правительства на три года сто тысяч червонцев. Как и предполагалось, на сейме развернулись споры по курляндскому вопросу Особенно непримиримо было настроено духовенство — и курляндцы пообещали вернуть несколько захваченных ранее костелов. После еще нескольких уступок споры поутихли — сыграли свою роль распределенные Кеизерлингом «пенсионы» для влиятельных магнатов; в итоге сейм отменил собственное решение об инкорпорации Курляндии.
Путь К трону был расчищен. Но Бирона сомнения не оставляли. Он беспокоился, что Анна могла подумать, «не было ли то тайным домогательством с моей стороны; во-вторых, чтобы эта милость не слишком сильно привязала меня к интересам его королевского величества; в-третьих, не нашел ли я этим путем средства освободиться от моей нынешней службы». Фаворит опасался будущих проблем: «Откровенно признаюсь, что это великая милость Божия и его королевского величества назначить меня к тому; но когда рассматриваю, в какие заботы, скорбь и печаль я погружаюсь, вступая в страну, обремененную долгами и требованиями [кредиторов], то не знаю, может ли это быть выгодно мне и моему дому. Король прусский возбудит небо и преисподнюю против меня и всей страны <…>. Оставление мною службы может повлечь за собою дурные последствия. Управлять же, отсутствуя, — не дозволяется по законам, предоставить оное правительству — мы имеем теперь хороший пример тому перед глазами, и сверх того нет возможности, чтобы герцог вообще мог существовать; если б даже с помощью ее величества я получил бы сейчас все уделы, которые приносят 36 000 альбертинских рейхсталеров, из которых еще ежегодно не достает многого. Чем же хотели бы выкупить заложенные уделы? Напротив того, если я продолжаю свою службу, то могу употребить тамошние доходы на постройку нескольких домов и на выкуп уделов, а здесь я живу своею службою. Ибо, кроме Митавского дома, нет ни одного, где бы простой человек мог провести ночь, не говоря уже о том, чтобы там мог жить герцог <…>. Признаюсь вам откровенно, что, ей-Богу, не имею и 50 000 рейхсталеров наличных денег».
Эти написанные в августе 1736 года строки часто цитируются в качестве образца лицемерия Бирона. Последнее отрицать не приходится — иначе при дворе выжить не удалось бы; хотя современники находили обер-камергера по характеру и манерам скорее излишне резким мужчиной, нежели ласковым притворой. Но ведь писал-то он о вполне реальных, а не выдуманных проблемах, весьма четко обрисовавшихся перед решающим этапом борьбы за герцогскую корону.
За несколько лет Бирон выучился быть фаворитом, и эта «работа» его не смущала. Но в случае избрания предстояла смена привычной роли, и трудность состояла в том, что выйти из нее было невозможно. Любая власть (даже в Курляндии) — это обязательства и ответственность. Герцог, в отличие от фаворита российской императрицы, — фигура намного менее могущественная, но публичная: он не может уйти от «ненадлежащих дел» или сослаться на «неблагоприятный случай». Надо было выстраивать отношения с дворянством и городами; думать (и отвечать перед подданными) об урожае, торговле, финансах; вырабатывать линию поведения с соседями, чтобы не выглядеть откровенной марионеткой. При этом герцогство было далеко не в лучшем состоянии; помочь ему могло только покровительство России — и надо было найти ту тонкую грань, которая позволяла герцогу «сохранить лицо». Наконец, как «управлять отсутствуя» (а только так и можно сохранить реальную власть, в том числе и в Курляндии), не вызвав при этом нареканий?
От таких забот можно было на время упасть духом и даже погрузиться в мечтания, не слишком лукавя, как хорошо «отказаться от всего света и короткое время моей жизни провести в спокойствии». «Постоянные и беспрерывные заботы, печаль и труды так ослабили меня, что могу сказать: во мне нет ничего здорового с головы до ног. Я довольно также и пользовался своею юностью — к несчастью — что и чувствую ныне».[136] Жалобы справедливы — Бирон уже не молод (46 лет), вроде бы всего добился, но себе не принадлежит и в любой момент может оказаться «вполне несчастлив». И день за днем одолевают заботы, которым нет конца, и «вся тяжесть турецкой войны лежит снова на мне».
Но Бирон — человек волевой и решительный. В письме к надежному человеку он мог позволить себе расслабиться; но уклоняться от борьбы за герцогскую корону он не стал — тем более что это решение соответствовало «видам» России, и возможный отказ только ухудшил бы его положение.
4 мая 1737 года на 82-м году жизни скончался герцог Фердинанд; династия Кетлеров в Курляндии пресеклась. Немедленно образовалась целая очередь кандидатов на вакантное место из безместных «кадетов» (младших сыновей) владетельных дворов Германии — принцев Мекленбургского, Вюртембергского, Гессен-Кассельского, Голштинского, Брауншвейгского. От имени Тевтонского ордена претензии на Курляндию выдвинул курфюрст Кельнский, а в самой Курляндии претендентом выступил внук герцога Якова — Фридрих фон Хомбург.
Напомнил о себе «избранный герцог» Мориц Саксонский, обратившийся к курляндцам с воззванием: «Вы уже предвидели настоящее бедственное положение и произвели на этот случай выбор в мою пользу; такой выбор должен был бы получить в настоящее время свою силу, если бы превратность не была уделом человеческих действий. Что касается меня, то я уверен, вы отдадите мне справедливость в том отношении, что поверите в готовность мою умереть, сражаясь за вас, если нужно будет сражаться». Но сражаться за Морица никто не собирался, и он вновь отбыл из Варшавы во Францию, навстречу своей воинской славе.
2 (13) июня 1737 года в главной митавской церкви открылась конференция курляндского дворянства. Бароны выслушали доклад посла Бутлара; он еще раз подчеркнул, с каким вниманием относится его повелительница к курляндским вольностям, и дружески посоветовал не пытаться «каким-либо образом к нарушению тишины и безопасности в вышеупомянутом герцогстве касаться и, следовательно, к неприятным дальностям повод подать». Для непонятливых сообщалось о присылке из Риги «для сохранения всеобщего спокойствия известного количества кавалерии с пехотою». Однако в 1737 году русское правительство действовало гораздо более корректно по сравнению с «наездом» Меншико — ва десятью годами ранее. Полк солдат был только фоном, на котором сработали гораздо более эффективные методы дипломатии и подкупа.
Твердая позиция России в сочетании с подготовительной работой Бутлара и Кейзерлинга привели к прогнозируемому результату. Его достижению способствовал и сам Бирон. Как сообщал в Лондон Рондо, «несколько дней тому назад новый монарх уверял меня, будто не сделал шага для этого избрания, чему, признаюсь, поверить не могу, так как он недавно отправлял в Курляндию большие суммы денег в небольших переводных векселях от тысячи до четырех или пяти тысяч крон, на предъявителя, с уплатою в Амстердаме. Его светлость заметил также, что избрание его, несомненно, покажется очень обидным королю прусскому».
Королю и вправду было обидно. Фридрих Вильгельм I понимал, что у его сына шансов нет. «Русские делают королей в Польше, поэтому они очень хорошо могут сделать курляндского герцога», — оставил он пометку на донесении посла Мардефельда из Петербурга, но все же выдвинул претензии на «благоприобретенные поместья герцога» под предлогом защиты прав его прусских родственниц и собирался инспирировать официальный протест польских властей против кандидатуры Бирона.
Однако этот претендент оказался единственным «проходным». Конференция даже не стала обсуждать прочих кандидатов и объявила, что ими избран «объединенными голосами и сердцами <…> его светлость и высокоблагородие Ернест Иоханн граф Священной Римской империи, высокопочтенной обер-камергер ее императорского величества всея Руси, рыцарь ордена св. Андрея, Белого польского орла и св. Александра Невского <…> вместе со всеми наследниками мужского пола герцогом Курляндским».[137] Рыцарство просило Анну Иоанновну ходатайствовать об утверждении результатов выборов перед сюзереном Курляндии Августом III, и тот уже через месяц подписал диплом нового герцога.
Цель была достигнута, и Бирон позволил себе съязвить по поводу претензий прусского короля: «Его лиса уже не схватит моего гуся». Наверное, даже был счастлив — теперь он, незнатный дворянин сомнительного происхождения и «сиделец» кенигсбергской тюрьмы, вошел в круг владетельных европейских особ и получал от них поздравления; в его архиве лежали личные письма императора Карла VI, германских князей, польского короля Августа Ш и английского Георга II. Возможно, в глубине души он гордился тем, что впервые за много лет обрел самостоятельность; вышел из тени своего, хотя и достойного по меркам XVIII столетия, но все же двусмысленного положения любимца при государыне, у которого нет ничего своего, даже «50 000 рейхсталеров наличными». Все, что Бирон имел, он получил от щедрот государыни; но милость могла «отмениться», и тогда пришлось бы отправляться в «страну соболей».
Но все же Бирон был человеком практичным и понимал призрачность своей самостоятельности. В письме к Кейзерлингу, отправленному в июле 1737 года уже после избрания на курляндский трон, он больше всего беспокоился о том, как избежать поездки к королю Августу, поскольку в качестве вассала обязан был лично явиться к сюзерену для получения инвеституры: «Если я должен сам явиться в Варшаву, то подумайте, ваше превосходительство, на это путешествие потребуется не менее двух месяцев, во-вторых, подумайте об огромных издержках, которые должен буду употребить на то, в-третьих, каждый пожелает получить от меня подарок; 2-й и 3-й пункты я еще допускаю, но быть так долго в отсутствии от двора не принесло бы мне, поистине, никакой пользы, потому что я должен опасаться, что навлеку на себя немилость ее императорского величества <…>. Или я могу быть уволен от личной инвеституры не иначе, как чрез сеймовое заключительное постановление, то Бог знает, когда теперь состоится новый сейм <…>. Между тем, да устроит Бог все так, как ему угодно, но забыть милость ее императорского величества! Я сделался бы тогда человеком, достойным всякого наказания, если бы захотел предпочесть свое дело императорскому».
Короче говоря, траты на подарки польским вельможам еще допустимы, но «отлучение» от двора было опасно: можно выпустить из рук налаженный механизм управления, по терять «клиентов» и, главное, утратить царское расположение, поставив во главу угла свои интересы, что позволил себе в 1727 году зазнавшийся Меншиков. Хорошо еще, что польский сенат утвердил результаты выборов, а «сделанный» российскими войсками король не стал упрямиться и освободил его от обязательства прибыть к его двору. Эта средневековая процедура состоялась только в марте 1739 года, когда диплом на курляндскии лен от имени герцога принял канцлер герцогства Г. К. Финк фон Финкенштейн.
Осталось исполнить важные формальности, и в ноябре того же счастливого для него 1737 года герцог Бирон заключил с уполномоченными Речи Посполитой и России особую конвенцию, определявшую отношения с соседями и подтверждавшую «порядок управления», включая права дворянства, католической и протестантской церквей, городов.
Август III разрешил новому герцогу управлять страной из Петербурга, и все оставшееся время Бирон ведал Курляндией через своих оберратов. По словам Манштейна, власть Б-рона была тяжела для курляндцев, так как новый герцог преследовал недовольных: «Никто не смел слова сказать, не рискуя попасть под арест, а потом в Сибирь. В ход пустили такого рода маневр. Проболтавшегося человека в ту минуту, как он считал себя вне всякой опасности, схватывали замаскированные люди, сажали в крытую повозку и увозили в самые отдаленные области России. Подобные похищения повторились несколько раз в течение трех лет, что Курляндией правил герцог Эрнст Иоганн. Но одно из них было так странно и вышло так комично, что я не могу не упомянуть о нем здесь. Некто Сакен, дворянин, стоя под вечер у ворот своей мызы, внезапно был схвачен и увезен в крытой повозке. В течение двух лет его возили по разным провинциям, скрывая от глаз его всякую живую душу, и сами проводники не показывались ему с открытыми лицами. Наконец по истечении этого времени ночью отпрягли лошадей, а его оставили спящим в повозке. Он ждал до утра, полагая, что снова поедут, как обыкновенно. Утро настало, но никто не приходил; вдруг он слышит, что около него разговаривают по-курляндски; он отворяет дверцы и видит себя у порога своего собственного дома. Сакен пожаловался герцогу; этот сыграл только комедию, послав и со своей стороны жалобу в Петербург. Отсюда отвечали, что если найдутся виновники этого дела, то их строжайшим образом накажут».
Вообще-то подобные «шутки» были в духе двора Анны Иоанновны, хотя, надо сказать, благородного курляндского рыцаря все же не выпороли и не заставили играть шутовскую роль. Однако не все подобные приключения оканчивались благополучно. В 1740 году Анна Иоанновна приказала арестовать некоего адвоката Андреаса, который имел переписку с Артемием Волынским, за что и поплатился ссылкой в Сибирь.[138]
Герцогу не было необходимости прибегать к более суровым мерам — никакого серьезного сопротивления его власти, за которой стояла военно-политическая мощь Российской империи, Курляндия оказать не могла. К тому же в запасе у Бирона были и более эффективные методы: награды, покровительство на российской службе, раздача земельных аренд сторонникам, которые даже после «падения» герцога остались ему верны и составили партию «эрнестинцев». Сидя в Петербурге, Бирон постоянно следил за курляндскими делами — периодически собиравшимися ландтагами, тяжбами между дворянством и городами. Он требовал исполнения законов, пробовал ввести монополию на продажу спиртных напитков и зерна. Переписка Эрнста Иоганна с оберратами герцогства и другими должностными лицами показывает, что у него были замыслы относительно многих дел, в том числе и строительства школ. В целом, опираясь на свои возможности, герцог выступал в Курляндии энергичным и рачительным хозяином, что даже вызвало недовольство у части дворян.
К концу 30-х годов Бирон уже не был тем скромным и готовым к услугам камергером, которым знал его испанский дипломат в начале аннинского царствования. Герцог стал — и, видимо, чувствовал себя — настоящим вельможей, государем. «Сердце у меня билось так, будто хотело выскочить, однако столь же сильно я был поражен, когда он вышел к нам в своем утреннем халате из серебряной парчи. Заходящее солнце светило на его сверкающий утренний наряд, а его обращение было чрезвычайно дружеское и на нашем материнском, латышском языке. Приветствую вас, дети, сказал он, и это нас так потрясло, что мы стояли молча и по глупости не могли ответить на его вопросы — как долго мы были в пути, почему с нами так строго обошлись и есть ли у нас еще деньги. На ответ, что в дороге мы порядочно издержались, он велел лакею выдать нам по новому рублю каждому, сказал, что о детях будут и впредь заботиться, а также пожелал нам доброй ночи. Я был совершенно пленен этим милосердием. Этот великий господин, который стоит высоко как некий государь, вел себя так дружелюбно и милостиво, будто бы он был подобен нам» — таким увидел его при первой встрече в Петергофе молодой латыш Екаб Скангаль, ставший затем герцогским курьером.[139] Возможно, сам герцог в этот закатный час на фоне петергофских красот вспомнил свою не слишком счастливую юность — и от нахлынувших чувств одарил ошарашенных его величием пажей деньгами.
С другой стороны, блеск императорской резиденции не мог не напомнить, что на деле герцог являлся не столько независимым государем (самостоятельная политика осталась у Курляндии в прошлом), сколько одним из российских вельмож «в службе ее императорского величества» — правда, первым среди них.
Мы подходим к интересному и в духе времени актуальному вопросу о размерах состояния и доходов Бирона. Фавориты обычно не бедствовали: кардинал Мазарини, например, оставил после себя состояние в 40 миллионов ливров. Размеры богатства Меншикова до сих пор не поддаются точному учету, что неудивительно, поскольку после его «падения» Верховный тайный совет и Сенат не располагали сведениями ни о количестве недвижимых имений светлейшего князя, ни о его финансовых операциях. Понятно, что после свержения и осуждения герцога его противники не стеснялись в описании нанесенного им России материального ущерба. «Были вывезены несметные суммы, — вспоминал позже Миних, — употребленные на покупку земель в Курляндии, постройку там двух скорее королевских, нежели герцогских дворцов, и на приобретение герцогу друзей в Польше. Кроме того, многие миллионы были истрачены на покупку драгоценностей и жемчугов для семейства Бирона».
Однако для начала дадим слово самогу герцогу. Отвечая на следствии на стандартное для такой ситуации обвинение в хищении казенных средств, Бирон подробно отвечал: «Что ему от ее императорского величества блаженныя памяти вещми и алмазы дано, оное все налицо и осталось при взятии его в Санктпитербурхе, а другие из Шлютельбурга возвращены; токмо подлинно реестра оным вещам и деньгам не имеет и изустно памятовать не может. А которые деньги ему были пожалованы, и те держал в расход и на выкуп деревень его в Курляндии. А казны государственной он никогда в руках не имел и до казенного ни в чем не касался, в чем чтоб поведено было справиться в тех местах, где государственные деньги в ведомстве имеются. Которые же деньги 500 000 рублей ее императорское величество, при заключении мира, ему изволила пожаловать, из оных денег только получил 100 000, а прочие и поныне в казне остались. Да будучи в Москве, ее императорское величество пожаловала ему ассигнацию, по которой ему взять было несколько тысяч рублев, токмо и по той ассигнации денег никаких не брал, что о несытстве и лакомстве его свидетельствовать может. От партикулярных же людей никогда ничего не бирал, также и от чужих государей ничем не одарен, кроме римского цесаря, который ему в то время, как он графом объявлен, пожаловал 200 000 талеров; на которые деньги, прибавив из своих, купил в Шленской земле деревню, называемую Вартенберг; да прусской король дарил его, по приезде в Россию, Бигенским амтом; а кроме вышеписанной на покупку вартенбергской деревни употребленной суммы, он никаких денег и другого богатства вне государства никуды не отправил и отправить было нечего, понеже еще долгу поныне на нем имеется: в Риге — Циммерману и Бисмарку 100 000, а брату своему Густаву Бирону — 80 000, Демидову 50 000 должен, не считая 500 000 р., которые он еще в Курляндии долгу на нем имеется, также и тех денег, которыми Вермарну и Либману и Вулфу должен. О котором последнем долге и сам подлинно не помнит, сколько реченным Вермарну и Либману и Вулфу с него взять доведется».
Итак, фаворит указал источники своего благосостояния. Но прежде чем их считать, надо отметить одно важное обстоятельство. Периодически в литературе всплывают сведения об огромных зарубежных вкладах и счетах отечественных деятелей, которые доднесь ждут наследников в сейфах европейских банков. Как правило, эти слухи относятся к лицам, печально завершившим свою карьеру — Меншикову, украинскому гетману Полуботку. Начались эти разговоры тогда же, в XVIII столетии. Уже осенью 1727 года кельнские и франкфуртские «ведомости» сообщили западноевропейским обывателям о невероятном богатстве арестованного Меншикова («9 миллионов облигаций или бильетов иностранных банков») и его коварных замыслах «младолетнего монарха погубить».
Поиски таких «кладов» — занятие увлекательное, но оно требует серьезного профессионального исследования коммерческой активности таких фигур и их финансовых операций, совершавшихся обычно через солидных и доверенных купцов, которые, в свою очередь, имели надежных комиссионеров и деловых партнеров в Европе. Большинство действующих лиц того времени (Меншиков в их числе) не стремились как можно скорее бежать с деньгами в швейцарские или английские банки, а вкладывали их в покупку все новых «деревень». Хотя это и не означает, что таких счетов ни у кого не было. Но вельможа — не купец и не предприниматель (большие деньги могут завестись и у оборотистого крестьянина; критерий богатства для людей его круга — недвижимая собственность, «деревни» и «души», постоянно приносившие доход и определявшие статус его фамилии в обществе).
Так же поступал и Бирон. С самого своего появления в России он стремился обзавестись имениями. Первые мызы, как уже говорилось, он получил еще в 1730 году в Лифляндии в размере 41 гака. К ним (неизвестно, когда именно) добавились «копорские деревни» поблизости — в Ингерманландии, с годовым доходом в три тысячи рублей. Приобретал он собственность и в других местах. В переписке с Шаховским Бирон обмолвился, что покупает деревню у бунчужного Галецкого; однако число таких покупок определить трудно, тем более что позднее герцог мог менять или продавать свои владения.
Однако едва ли такую собственность можно считать значительной. Самое существенное в то время свое приобретение — владение Вартенберг — он сделал
Главной же целью для Бирона были имения в родной Курляндии — на их приобретении он и сосредоточил свои усилия. Для Анны Иоанновны в качестве российской императрицы курляндские владения не представляли интереса. Она сначала передала Бирону 27 своих вдовьих и выкупленных Петром I имений (в том числе и Вирцаву, где Бирон когда-то служил управляющим), а после избрания фаворита герцогом официально вручила ему все 46 личных имений в Курляндии и Лифляндии с ежегодным доходом в 32 848 талеров.
Таким образом, в 30-х годах Бирон впервые стал настоящим и довольно крупным помещиком и тут же развернул активную деятельность по приобретению новых мыз. Например, 27 июня 1735 года некая М. Э. фон Платер от имени малолетних братьев и при участии опекунов фон Платера, фон Бутлара и фон Гротгхуса, продала три имения графу Бирону за 97 тысяч флоринов. За день до этого он купил еще одно имение за 11 100 рейхсталеров. Таким образом, он стал владельцем шести крупных имений, в том числе Рундале, где уже начал возводить для себя тот самый дом, в котором мечтал провести остаток дней.
Осенью 1734 года Бирон предложил Франческо Растрелли построить ему резиденцию в Курляндии, и лично утвердил рисунки ее фасадов и планы. В день закладки, 24 мая 1736 года, в присутствии сотен окрестных крестьян в угол будущего дворца была замурована серебряная дощечка с гербом графа. Затем тамошние крестьяне и отправленные из России мастеровые и солдаты стали возводить графское жилище. Бутлар лично докладывал Бирону, на сколько саженей и вершков поднялись стены.
Желанный досуг все никак не наступал, а аппетиты нового землевладельца росли. Всего до 1737 года на покупку и выкуп заложенных герцогских имений ушло 785 812 талеров (число приобретенных «деревень» нам неизвестно). Но по-настоящему Бирон развернулся после избрания: за два с лишним года он выплатил почти полтора миллиона талеров и стал владельцем 99 мыз и «амптов».[140] За некоторые из них он не успел расплатиться до своего «падения», и это делало потом правительство Елизаветы Петровны.
В июле 1737 года Рундальский дворец уже был подведен под крышу и началась его отделка. Но его архитектор был спешно вызван для другой работы и, бросив дела, отбыл строить в Митаве официальную резиденцию нового герцога, на которую только по смете было отпущено 300 тысяч рублей (новый Зимний дворец Анны в Петербурге по смете должен был стоить 200 тысяч). Точная же стоимость всех строительных работ Бирона неизвестна. Весной 1738 года в Митаву потянулись обозы с материалами, мастера, подсобные рабочие, которых герцог отправил на строительство новой резиденции. Ее закладка состоялась 14 мая. Бирон был доволен — ему вновь повезло, на этот раз с архитектором: пышность, размах и быстрота исполнения герцогских пожеланий совпадали с его представлениями о величии. Наградой мастеру был указ 1738 года, которым государыня пожаловала Франческо Бартоломео Растрелли званием обер-архитектора с жалованьем в 1200 рублей. Правда, в отличие от средств для строительства дворца, деньги на жалованье не всегда находились, что, впрочем, в России дело обычное. В 1741 году Растрелли жаловался: «В бытность мою при означенных работах упомянутого бывшего герцога за труды мои никакого вознаграждения не имел».
При этом еще несколько сот тысяч талеров Эрнст Иоганн потратил на выплаты отступного прусским родственникам последнего герцога. При этом фаворит обязан был своим видом поддерживать блеск императорского двора и делал это с успехом. «Обер-камергер все же выделяется среди всех прочих, ибо по торжественным дням его орденский знак, звезда на груди, застежки на плече и шляпе, ключ, шпага, пуговицы на сорочке и пряжки обуви сплошь усыпаны бриллиантами. Он должен иметь самые отборные камни, какие только продаются знати в С.-Петербурге», — отметил появившийся при дворе швед Карл Рейнхольд Берк. Опись конфискованного в 1740 году имущества герцога включает длинный список содержимого его гардероба и домашней утвари — мебели, серебра, фарфора, тканей, одежды. Французский посол маркиз де Шетарди отметил «изысканную и тонкую работу» серебряной посуды Бирона, «какую он показывал мне вчера в манеже, когда я там был, и которую он там расставил»; а также «множество бриллиантов, каким обладает он вместе с герцогиней Курляндскою».
О конюшне Бирона разговор особый. Он высматривал и покупал породистых животных где только возможно — в Дании, Германии, Италии, даже в Стамбуле, откуда дипломат И. И. Неплюев сообщал цены на арабских жеребцов. Достойные герцога экземпляры присылал ко двору вместе с роскошными «конскими уборами» главнокомандующий русскими войсками в Северном Иране В. Я. Левашов. Ему же поручались особо важные заказы — например, добыть персидских «аргамаков одношерстых ровных, чтоб в цук годны были»; таких ценных лошадей доставляли из-за моря с «великим бережением» и выдерживали студеной зимой в теплых конюшнях в Царицыне.
Гордый Бирон заботился, чтобы конюхов-сопровождающих с должным вниманием отправляли на родину. В 1733 году он лично выписал паспорт одному из них: «Я, Эрнст Иоанн фон Бирон, рейсхграф, ее императорского величества обер камергер и орденов святого апостола Андрея, Белого орла и Александра Невского кавалер, объявляю сим обще всем, кому о том ведать надлежит, что <…> персианин Артемей Саркович, которой прислан ко мне был от его превосходительства господина генерала Левашова <…>, по желанию ево отпущен от меня по прежнему в Персию и с товарищем своим. Того ради, в губерниях господ генералов, губернаторов, вице губернаторов, обер камендантов и камендантов, в провинциях воевод, а на заставах стоящих офицеров и протчих чинов прошу: да благоволить оного персианина с товарищем ево с ых пожитками до его родины пропускать везде без задержания, чего ради, во уверение, дан ему сей пашпорт за моею ручною печатью».
Однажды некие «обносители» шепнули графу, что самых лучших коней Левашов берет себе, а ему присылает оставшихся; фаворит в ярости приказал обследовать конюшню в имении генерала и забрать утаенных от него красавцев. Хорошо, что донос не подтвердился; российский генерал-аншеф с облегчением писал, что «безумен был, когда бы вашему высокографскому сиятельству не лучшими лошадьми служил», и радовался тому, что взятые с его собственной конюшни лошади «явились годны» Бирону.[141] Будь то иначе — страсть Бирона к лошадям могла стоить карьеры одному из самых способных российских генералов.
Зато для гостей герцог устраивал настоящий парад своих любимцев. Удостоенные этой чести пленные французские офицеры увидали в манеже Бирона «до сорока или пятидесяти лошадей, поразительных своей красотою и покрытых богатыми красными попонами, шитыми золотом. Во второй раз их провели перед нами без попон с роскошными чепраками и седлами, украшенными также золотым шитьем. Все эти украшения получены из Пруссии. Наконец любезный хозяин приказал оседлать лошадей простыми манежными седлами, и наездники, вскочив в седла, показали нам все искусство этих благородных животных».
При Бироне наступил настоящий расцвет и придворной конюшни. Ее штат состоял из 393 служителей и мастеровых и 379 лошадей, содержание которых обходилось ежегодно в 58 тысяч рублей. Одних только седел по списку 1740 года хранилось 212 штук. Многие элементы сбруи представляли собой настоящие произведения искусства: «Седло турецкое с яхонтами и изумрудами, при нем серебряные, вызолоченные стремена с алмазами и яхонтовыми искрами, удило серебряное, мундштучное, оголов и наперст с золотым с алмазами набором, решма серебряная, вызолоченная, с алмазами, чендарь глазетовый, шитый серебром».
С кем поведешься — от того и наберешься. Сама Анна всерьез пристрастилась к лошадям и, несмотря на свой возраст и величественную комплекцию, научилась ездить верхом. В манеже для нее была отделана особая комната, где она нередко занималась делами и давала аудиенции. «Каких шерстей и скольких лет оные лошади, и сколь велики ростом», — требовала она подать себе подробную опись конюшни казненного Волынского в августе 1740 года. Очень возможно, что именно для нее Бироном был заказан драгоценный «конский убор, украшенный изумрудами», хранившийся некогда в Эрмитаже и проданный в начале 1930-х годов за рубеж всего за 15 тысяч рублей. Во всяком случае, это был бы презент вполне во вкусе Бирона. Преподносил он Анне и другие подарки — например «опахало с красными камнями и брилиантами», приглянувшееся Елизавете Петровне (после переворота 1741 года она его разыскивала).
На какие деньги приобретались роскошные безделушки? Официальное жалованье Бирона по чину обер-камергера составляло 4188 рублей 30 копеек — внушительную цифру для российского генерала (для сравнения — президент коллегии получал [без надбавок] от 1500 до 2000 рублей; губернатор — 809 рублей), но для вельможи такого размаха это пустяк. В 1730 году имения Анны в Курляндии давали всего 15 500 талеров, затем доходы стали расти. В 1735 году российский посол в Курляндии П. М. Голицын докладывал, что поступления с 1729 по 1735 год составили 198 805 талеров. Сумма уже приличная — но ни в какое сравнение с приведенными тратами не идет; тем более, как доносил Голицын, расходовалась она экономно и даже не была целиком потрачена — в остатке имелось почти 80 тысяч. Даже если допустить, что какие-то доходы поступали из заграничных вотчин, их все равно не могло хватить на такую роскошную жизнь. Да и сам Бирон, как помним, жаловался, что у него нет даже 50 тысяч талеров наличными.
Сделанная после ареста Бирона опись его недвижимой собственности показывает, что в зените своей карьеры он располагал 120 «амптами и мызами» с не слишком большим ежегодным доходом в 78 720 талеров.[142] Сумма дохода от имений могла бы быть и больше, но Бирон сознательно и целенаправленно использовал в Курляндии не только кнут, но и пряник: герцогские имения раздавались в аренду членам придворной «партии» и в благодарность за поддержку на выборах — в том числе Кейзерлингу, Бутлару, брату Густаву и другим дворянам.
Что касается оставшихся земель, то герцог оказался рачительным хозяином. Это подтверждали даже его противники, отец и сын Минихи, — оба подчеркивали, что фаворит «был щедр и любил великолепие, но при всем том разумный домоводец и враг расточения». Необходимый опыт у него был. Своих крестьян Бирон освободил от почтовой повинности; одних управляющих награждал, от других со знанием дела требовал изыскания способов увеличения доходов. Нельзя ли поставить новую мельницу? Почему мало водки заготавливается и продается в корчме, стоящей на большой дороге? Почему у крестьян мало скота? Почему еще не розданы в аренду имеющиеся пустоши? Почему не хватает ремесленников? Надо распорядиться отдать «хороших молодых парней» учиться столярному или каменщицкому делу. Герцог строил винокуренные и поташные заводы; в 1739 году он пригласил в Курляндию несколько семейств силезских ткачей для основания мануфактуры и «обучения молодых людей ремеслу ткача». Как и многие другие прибалтийские помещики, Бирон использовал близость портов (благо ему и пошлины платить было не надо): в 1738–1739 годах его имения выдали 1500 тонн хлеба на экспорт.
Бирон не чуждался полезных технических новинок. В 1736 году президент Академии наук и старый знакомый герцога барон И. Корф запросил морское ведомство: «Начатая при адмиралтействе его сиятельству высокородному превосходительному господину обер-камергеру и кавалеру графу фон Бирону пильная машина совсем ли отделана, и на месте, где можно ею действие производить, поставлена ли?» Оказалось, что таковая «при адмиралтействе новым маниром на сестрорецких заводах уже сделана; токмо де еще ко оной надлежит для действия сделать некоторые штуки».
Однако даже если добавить герцогские доходы Бирона (по оценке латышских историков, они составляли примерно 70 тысяч талеров в год), учесть хозяйственные способности Бирона и увеличение его поступлений примерно до 200 тысяч талеров к 1740 году, то их все равно никак не хватило бы, чтобы покрыть резко выросшие расходы.
Следственная «бригада» 1741 года прямо предъявила Бирону претензии в «нецелевом использовании» казенных средств. Потомки добавили к ним обвинение в хищениях в особо крупных размерах в сочетании с насильственными действиями: «При вступлении на всероссийский престол императрицы Анны было государственных податей в недоимке несколько миллионов. Бирон, примыслив сими деньгами без огласки воспользоваться, коварно императрице представил, чтоб ту недоимку собрать особно, не мешая с прочими государственными доходами. Последовало повеление учредить особые для сего правления под именем Доимочного приказа и Секретной казенной, и первому дана великая власть. Посредством всевозможных понуждений взыскано недоимки, в первый год, более половины, да и на платеж процентов немалая сумма <…>. И так каждый год доходы в приказ сей прибавлялися; а он, взыскивая, отсылал в Секретную казну, где, кроме казначея, о числе денег никто не ведал, и как о приходе, так и о расходе объявлять под смертною казнью было запрещено. Большою частью казны сей воспользовался Бирон; однако ж так искусно, что ниже имени его во взятье не воспоминается, но все писаны в расход на особу ее императорского величества <…>. Сею хитростью доставил себе Бирон многие миллионы рублей, а государство вконец разорил. Недоимка взыскивана была с крайней строгостью и без малейшего щадения; от чего несколько сот тысяч крестьян из пограничных провинций за границы разбежалися, и множество селений осталися пусты», — «раскрыл» эту аферу генерал-майор, известный историк конца XVIII века Иван Иванович Болтин.
В просвещенные екатерининские времена Бирон представлялся уже закоренелым злодеем. К вопросу о российских финансах мы еще обязательно вернемся в следующей главе; пока же заметим, что крайне трудно украсть «многие миллионы», когда весь бюджет империи составлял 8–9 миллионов рублей, и создать абсолютную секретность в деле, в котором должны были принимать участие десятки людей (сбор, хранение, отчетность, перевозка) и загадочное учреждение под названием «Секретная казна». Возможно, под этим именем подразумевалась так называемая «канцелярия сбора оставшихся за указными расходами денег» генерала М. Я. Волкова, куда попадали как неизрасходованные за год средства других учреждений, так и собранные недоимки из Канцелярии конфискации — в 1731 году, например, туда поступили 547 529 рублей. Функции этого учреждения до конца еще неясны, но поступавшие туда средства могли расходоваться и на нужды двора, как это произошло при Елизавете Петровне в 1741–1742 годах с «остатками» в размере 666 338 рублей.[143] Однако «многих миллионов» там не было; деньги из этого резерва государственных средств тратились и на другие потребности.
А главное — Бирону или любому другому фавориту совершенно незачем было укрывать и воровать деньги. С обвинениями он, как видим, категорически не соглашался: государыня жаловала его «алмазами» и деньгами; он же «до казенного ни в чем не касался, в чем чтоб поведено было справиться в тех местах, где государственные деньги в ведомстве имеются». Как ни странно, с юридической точки зрения он был прав.
Конечно, основным источником его движимого и недвижимого богатства были пожалования и подарки императрицы; по сути, Бирон и его семейство находились у нее на содержании, то есть на иждивении российских налогоплательщиков, как сказали бы сейчас. Но в России того времени доходы не слишком четко, но все же делились на собственно «государственные деньги» и личные или «комнатные» средства императора. Последние поступали из разных источников: это и оброки с дворцовых крестьян, и жалованье государя как полковника гвардии, и доходы от находящихся в собственности монарха предприятий. Но основную сумму давала соляная монополия. Уже Петр I нерегулярно, но часто тратил соляные деньги на нужды своего двора. В 1731 году Анна Иоанновна передала занимавшуюся соляной торговлей контору в ведение Кабинета, и отныне полученные доходы (в 30-е годы XVIII века они составляли примерно 700–800 тысяч рублей в год) поступали в личное распоряжение императрицы.
Вот эти-то «негосударственные» средства Анна и тратила на себя и свое семейство, в том числе на выплаты содержания сестрам и племяннице Анне Леопольдовне. Дошедшие до нас ведомости Соляной конторы редко упоминают траты на фаворита и его семью. Так, например, майор Конной гвардии Карл Бирон в 1732 году удостоился выдачи в две тысячи рублей, а в 1739-м — уже в 10 тысяч рублей. Тогда же младший сын герцога Карл получил в подарок тысячу рублей и для него был куплен зонтик за 50 рублей 30 копеек. В 1738 году жене герцога Бенигне Бирон выдано 2249 рублей 50 копеек за «яхонтовые камения да за крест и серьги бриллиантовые»; в следующем году она взяла 200 рублей на «китайские товары». Еще иногда встречаются краткие упоминания о «покупке, которая куплена по приказу ея сиятельства госпожи графини фон Бироновой. 1 кисть жемчугу 63 р. 41 золотник 205 р. Куплено бралиянтов 6 крат по 45 руб. крата, а счетом 50 камней, итого 292 р. Всего 700 р., по сему счету заплачено Александру Григорьевичу Строганову», но это уже сущие пустяки. Ведомости не содержат приказов о выдаче денег самому Эрнсту Иоганну.
Официально он был награжден только один раз, в феврале 1740 года, по случаю заключения мира с Турцией. Тогда Анна пожаловала вынесшему «тяжесть турецкой войны» герцогу «золотой великой пакал с бриллиантами» и сама корявым почерком написала черновик указа о награде: «Светлейший, дружебно любезнейший герцог. Во знак моей истинной благодарности за толь многие ваши мне и государству моему показанные верные, важные и полезные заслуги презентую вам сей сосуд и по приложенной при сем осигнации пятьсот тысеч рублев; и будучи обнадежена о всегдашнем вашем ко мне доброжелательном намерении пребываю неотменно и истинно ваша склонная и дружебно охотная Анна». Бумаги Соляной конторы показывают, что из этой суммы он получил в августе 1740 года только 100 тысяч рублей.[144]
Это не означает, что других выдач не было. Скорее всего, императрица как глава дружной семьи просто не выделяла их в особую графу, и все они проходили как расходы ее императорского величества. Эти траты были немалыми: после прозябания в глухом углу Северной Европы почти случайно получившая власть Анна Иоанновна жадно наверстывала упущенное. В 1732 году она заказала бриллиантов на 158 855 рублей, 22 805 рублей были израсходованы на покупку сервизов, еще 9597 рублей разошлись по мелочи. В 1734 году только на украшения Анна потратила 134 424 рубля. Счета ее «комнатных» сумм постоянно фиксируют расходы на роскошную посуду и драгоценности, общая стоимость которых за несколько лет достигла 908 230 рублей.[145]
Эти цифры представляют только часть расходов, точную же их сумму установить вряд ли когда-нибудь удастся. Анна и другие государыни в ту пору не очень стесняли себя финансовой дисциплиной и, скорее всего, искренне не понимали процедуры разделения средств на свои и казенные. В случае необходимости деньги изыскивались в любом подходящем месте, и Анна не раз предписывала расплачиваться за «алмазные вещи» и прочие надобности из бюджетов других ведомств: Коллегии иностранных дел (пенсии родственникам императрицы, покупка за границей драгоценностей, вин, туалетов, приглашение артистов), Канцелярии от строений (ремонт и строительство дворцов), Коммерц-коллегии (покупка товаров за границей). Поступавшие в Доимочный приказ или Канцелярию конфискации недоимки по соляным сборам Анна требовала немедленно сдавать ей. Порой в самых неожиданных казенных местах можно обнаружить распоряжения о выплате — к примеру, указ от 26 февраля 1733 года рижскому губернатору Ласси о выдаче из местной рентереи «обер-камергеру графу фон Бирону 4651 червонных» либо, за отсутствием червонцев, такой же суммы ефимками «взамен денег принятых у него в посольскую казну в Варшаве».
Ведал же царскими закупками придворный «фактор», он же «гоф-комиссар» Исаак Липман, которого порой представляют «серым кардиналом» Бирона и чуть ли не закулисным правителем страны в эпоху «бироновщины». «Герцог <…> следует только тем советам, которые одобрит жид, по имени Липман, достаточно хитрый, чтобы разгадывать и вести интриги. Он один только посвящается в тайны герцога, своего господина, и всегда присутствует на его совещаниях с кем бы то ни было. Можно сказать, что этот жид управляет Россиею», — докладывал саксонский посланник Зум из Петербурга в 1738 году.
На самом деле все было несколько проще. Продолжавшийся процесс «европеизации» царского двора, проходивший по «образцам» окрестных, в основном германских, дворов Центральной Европы, привел к появлению и в России типичной для них фигуры «придворного еврея». «Обер-гоф-фактор», «кабинет-фактор» или «финансовый агент» в XVIII столетии выступал в качестве влиятельного банкира, расторопного комиссионера, поставщика снаряжения и питания для армии, дипломата.
Самуэль Оппенгеймер строил оборонительные укрепления Вены и утверждал, что каждый год «готовит для императора две армии». Его коллега, «императорский придворный фактор» и богатейший еврей Германии (его называли даже «еврейским императором») Самсон Вертхеймер с честью служил трем императорам габсбургской династии, выполнял дипломатические поручения (в частности, оплатил переговоры и заключение Утрехтского мира, завершившего войну за испанское наследство) и осуществлял тайные миссии — в его дворцах в Вене висели портреты королей и герцогов, пользовавшихся его услугами. Придворный еврей Августа II Бернд Лехман в 1697 году сумел собрать 10 миллионов талеров, с помощью которых саксонский курфюрст выиграл «выборы» У французского принца и стал королем Речи Посполитой. Он, кстати, отчасти оплатил и авантюру Морица Саксонского в 1726 году. Подвизавшиеся при прусском дворе Моисей и Элиас Гумперты взяли на откуп всю торговлю табаком.[146]
Такие на все руки советники и агенты имелись при дворе любого уважавшего себя принца — в Мекленбурге, Ганновере, Байрейте, Баварии, Майнце, Вюртемберге, Ансбахе, Брауншвейге и десятках других больших и малых княжеств. Придворные евреи давали сильным мира сего ссуды, переводили из страны в страну крупные суммы, выступали посредниками в сделках; пользуясь своими коммерческими связями и кредитом, они доставляли с ярмарок в Лейпциге и Франкфурте парчу, бархат, кружева, драгоценные камни и любые другие товары. Порой они достигали высокого положения, как «резидент в Верхней Силезии» Лехман или тайный советник герцога Вюртембергского Йозеф Оппенгеймер. Цена успеха была высокой — С. Оппенгеймер и Б. Лехман разорились, а Й. Оппенгеймер («еврей Зюсс» из романа Л. Фейхтвангера) был повешен в 1737 году в Штутгарте по обвинению в государственной измене.
Такой же фигурой стал при русском дворе Липман. Появился он там раньше Бирона и еще при Петре II одалживал деньги иностранным дипломатам. Во времена Анны Иоанновны он стал доверенным комиссионером и «поставщиком двора» по части ювелирных изделий и дорогой посуды. Периодически ему выплачивались крупные суммы в 20–50 тысяч рублей за доставленные товары. Он обеспечивал перевод денег русским дипломатам для чрезвычайных нужд, как это было во время миссии К. Г. Левенвольде в Варшаве в 1733 году; в 1739-м заказал (за семь тысяч рублей) андреевский орден маркизу Вильневу за посредничество на переговорах с турками, а в 1740-м — доставил (за четыре тысячи рублей) к русскому двору немецкую театральную труппу. Одновременно он выступал в качестве крупного купца-подрядчика, поставлявшего казне вино и поташ; его торговые обороты исчислялись сотнями тысяч рублей. Бирон, постоянно испытывавший нехватку денег, занимал их где придется, даже у своего камердинера, и тоже прибегал к услугам Липмана, расплатиться же, кажется, так и не успел: в описи бумаг сосланного герцога значится «щет Липмана з бывшим регентом на двести на дватцать четыре тысячи восемьсот девяносто три рубля».[147]
Кроме Липмана Бирон имел дело с английскими коммерсантами Джоном Шифнером и Яковом Вульфом (последний стал при Елизавете бароном и британским консулом в России). Фирма Шифнера и Вульфа являлась солидным торговым предприятием и давним агентом русского правительства на западноевропейском рынке, занимавшимся продажей русского поташа. Фирме всячески покровительствовал резидент К. Рондо; благодаря его ходатайствам Шифнер и Вульф получили в 1732 году крупный контракт на продажу российского поташа и железа, делавший их на пять лет монополистами. Они же с 1735 года продавали за границей казенный ревень и на протяжении царствования Анны несколько раз выполняли подряды на поставку мундирного сукна для армии и гвардии. По данным Коммерц-коллегии, Шифнер и Вульф приняли в 1732–1740 годах казенные товары на сумму 720 тысяч талеров и 650 тысяч рублей — такого уровня контрактов с казной до того не было ни у кого из английских купцов.
Можно полагать, что предпочтение этой фирме отдавалось не случайно. В Амстердаме их поручителями и компаньонами по операциям с продажей русских казенных товаров была банкирская контора «Пельс и сыновья». Именно Андреас Пельс в 1738 году выступил посредником при заключении крупного займа в 750 тысяч гульденов герцогу Бирону, но по каким-то причинам сделка не состоялась. После дворцового переворота 25 ноября 1741 года впервые попавший под следствие Остерман признался, что через Шифнера и Вульфа уже давно переводил крупные суммы в Англию и Голландию и размещал их у «банкера» Пельса. Происхождение некоторых переводов не поддается объяснению, но в основном они состояли из доходов от лифляндских и прочих вотчин. В среднем за год на счет Остермана поступала приличная сумма — около 100 тысяч рублей. Владелец постоянно пользовался этим счетом и снимал с него деньги на закупку необходимых вещей: вин и другой «провизии», тканей, посуды, драгоценностей, географических карт и прочего. Выяснилось, что сбережения министра находились и у английского банкира Джона Бейкера («в английских зюдзейских аннуитетах» на сумму 11 180 фунтов стерлингов); но и эти средства в 1741 году были переведены в банк Пельса под три процента годовых.
Затем началась долгая история возвращения капиталов Остермана, обнаруженная нами на страницах дипломатической переписки Коллегии иностранных дел с послом в Нидерландах. Пельс проинформировал российскую сторону о наличии в его конторе счета опального вельможи, но раскрывать его, а тем более отдавать деньги без распоряжения вкладчика, категорически отказался. Апелляции к властям Нидерландов не дали результата, послу А. Г. Головкину разъясняли: «Правительство по конституциям здешним не может в то дело вступать, но надлежит судом то отыскивать <…> и для того де надлежит избрать искусного адвоката». Банкир учтиво, но твердо просил предоставить документ, подтверждающий, что «деньги в казну ее императорского величества принадлежат», или представить законных наследников. Но голландскому суду было трудно объяснить особенности российского права, минуя наследников превращавшего частные деньги в казенные, а разжалованных из гвардии сыновей Андрея Ивановича выпускать из России никто не собирался.
В тяжбах и пререканиях протянулись шесть лет. Давно Уже закрылась комиссия «описи пожитков и деревень» арестованных, а сам Остерман окончил свои дни в сибирской ссылке. Императрица Елизавета делала гневные выговоры Головкину: вернуть деньги, «не взирая ни на какие тех купцов отговорки и судебные коварства». Но логика патриархально-самодержавной простоты в отношении имущества подданных не работала в ином «правовом поле», несмотря на все могущество империи. Российский двор продолжал пользоваться услугами Пельса: через его контору шли расчеты русских дипломатических миссий, переводились в Россию «субсидные деньги» по договору 1747 года с Англией.
Дело об «остермановых деньгах» завершилось только в 1755 году. К тому времени опала уже потеряла актуальность, и власти отпустили младшего из сыновей Андрея Ивановича, секунд-майора Ивана Остермана, за отцовским наследством в Голландию. Только тогда банкир раскрыл карты: на счету Остермана к тому времени имелись 10 500 фунтов стерлингов в акциях Английского банка и 346 183 гульдена. 50 тысяч из них наследник получил наличными, а остальные так и остались у банкира на срок до 1776 года с условием ежегодной выплаты в размере 7400 гульденов.[148]
В 1742 году Шифнер и Вульф сообщили российским властям необходимую информацию из своих книг, благодаря которой можно представить себе бюджет и обороты пользовавшихся их услугами других представителей российской элиты: самого Остермана, кабинет-министра М. Г. Головкина и фельдмаршала Миниха. Последний также вкладывал деньги «из процентов» и приобретал собственность — имения в Дании и других странах. Но счетов Бирона у Шифнера и Вульфа не было. Конечно, фаворит имел дело и с другими купцами; но можно предположить, что ему просто нечего было переводить за границу — герцог, как всякий настоящий вельможа, был кругом в долгах, часть которых он назвал на следствии, а других, в том числе Липману и Вульфу, «и сам подлинно не помнил». После его ареста оказалось, что герцог вынужден был заложить 11 своих имений голландским купцам Ферману и Маркграфу и в 1740 году только по этому долгу выплатил 177 тысяч талеров.
Как бы то ни было, Эрнст Иоганн Бирон дорого обходился России — такова уж «природа» его специфической должности. Было бы, конечно, интересно оценить не только затраты, но и эффективность деятельности «скорого помощника» в делах государственных — но для такого исследования еще нет методики. Однако для нас важно не столько определить сумму издержек на семейство фаворита, сколько выяснить характер того режима, который во всех учебниках именуется «бироновщиной».
Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности.
Мы временно оставим нашего героя «за кадром». В центре нашего внимания в этой главе находится тот государственный порядок, который с легкой руки И. И. Лажечникова стали называть его именем — «бироновщиной». Ее суть изложил уже 28 ноября 1741 года манифест Елизаветы Петровны, тремя днями ранее захватившей власть с помощью роты гренадеров: в 1730 году недостойные министры «насильством взяли» правление империей в свои руки и возвели на престол «мимо нас» сначала Анну Иоанновну, а затем «права не имеющего» Иоанна Ш Антоновича. «Немалые в нашей империи непорядки и верным нашим подданным утеснения и обиды уже явно последовать началися», так что пришлось Елизавете спасать отечество от бед. Почти те же претензии, но в наукообразном виде можно встретить и через 150 лет: «„Бироновщина“ обернулась для страны ухудшением положения народных масс, обострением классовых противоречий, застойным характером развития производительных сил, расстройством государственного хозяйства и „утеснением“ подданных, о чем было заявлено в манифесте от 28 ноября 1741 г.».[149]
С иными обвинениями можно только согласиться: утверждение крепостничества в его худшем варианте — факт несомненный, как и дефицит бюджета, тяжелейшие людские и материальные потери в войне с турками. И могущество фаворита, и вызывающая — на фоне голода и нищеты в целых Регионах страны — роскошь двора, как мы убедились, были очевидными для современников. Правда, можно задать вопрос: когда в XVIII столетии или даже раньше имело место благоденствие основной массы подданных или отсутствие их «утеснения»? Ответ едва ли будет положительным.
Феномен «бироновщины» в массовом сознании — второй в нашей истории удачный опыт применения пропагандистского оружия. Первым случаем были, кажется, «открытые письма» народу царя Ивана Васильевича, объяснявшего в 1564 году свою «отставку» кознями злых бояр и просившего поддержки у «черных людей»; результатом была знаменитая опричнина. Но если в XVI веке бояре могли царю ответить хотя бы устами эмигранта князя Андрея Курбского, то спустя двести лет такой возможности уже не было. Зловещий облик Бирона в официальных актах и церковных проповедях дополнился обличением «немецкого засилья», что в высшей степени удачно оправдывало дворцовый переворот 1741 года. Тогда впервые в истории династии Романовых были свергнуты вполне
Сложившаяся во времена Елизаветы и Екатерины II оценка царствования Анны Иоанновны как мрачного времени засилья иностранцев и самодурства императрицы, окружившей себя шутами и дураками, только укрепилась в идейных спорах следующего столетия. Интеллигенты-западники не могли одобрить роста и давления (тем более злоупотреблений и репрессий) государственных структур, а их оппоненты славянофилы принципиально не принимали вторжения в жизнь России иноземных начал. К тому же многие факты культурной истории России тогда еще не были известны — зато имя Бирона благодаря Лажечникову знали все образованные люди.
Можно, конечно, развенчать временщика и переименовать «бироновщину» в «остермановщину».[150] Но важнее представляется понять сам механизм управления страной в то время, когда жил и действовал фаворит. Царствования сильных и умелых правителей Петра I и Екатерины II отмечены массовыми восстаниями, «бунташным» был и XVII век — время первых Романовых. После смерти царя Федора Алексеевича, а потом и Петра происходили большие и малые дворцовые перевороты. На этом фоне царствование Анны — как кстати, и Елизаветы Петровны, — выглядит периодом стабильности. Получается, что при Анне Иоанновне действительно была создана относительно устойчивая структура власти, обеспечившая некоторый порядок в стране. Однако связана она была не только с влиянием Бирона, засилием «немцев» и репрессиями, а прежде всего с первой в послепетровской России масштабной кадровой перестановкой.
«Восстановленный» было Сенат, где большинство составляли вчерашние «соавторы» ограничивавших самодержавие проектов, в первичном составе просуществовал недолго. Волнения и споры не прошли даром для представителей элиты — в том же году умерли четыре сенатора: Г. Д. Юсупов, И. И. Дмитриев-Мамонов, М. М. Голицын-старший и до. Ф. Ромодановский. Затем последовали назначения Головкина, Черкасского и Остермана в Кабинет; Ягужинского отправили за границу, А. И. Тараканова и И. Ф. Барятинского — в армию, Г. П. Чернышева — губернатором в Москву. А. И. Ушаков стал начальником Тайной канцелярии; С. И. Сукин — губернатором; М. Г. Головкин возглавил Монетную контору, а В. Я. Новосильцев — кригс-комиссариат.
К 1731 году Сенат уменьшился до 12 человек, а к моменту переезда императрицы в Петербург был разделен на половины — петербургскую и московскую; последняя называлась Сенатской конторой и работала под командой верного Анне С. А. Салтыкова. Сенат пришлось несколько раз пополнять. В 1730 году сенаторами были назначены А. И. Шаховской и А. И. Тараканов, в 1733-м — А. Л. Нарышкин и П. П. Шафиров, в 1736-м — Б. Г. Юсупов, в 1739-м — П. И. Мусин-Пушкин; в 1740-м — М. И. Леонтьев, М. С. Хрущов, И. И. Бахметев, М. И. Философов, П. М. Шипов и Н. И. Румянцев.
Большой объем работы и постоянное обновление состава, ответственные назначения одних сенаторов (А. И. Шаховского) и периодические опалы других (В. В. Долгорукова, Д. М. Голицына, П. И. Мусина-Пушкина) исключали возможность сделать Сенат органом оппозиции. Была ограничена его компетенция: в 1734 году Сенату было запрещено производить в «асессорский» VIII чин Табели о рангах без высочайшей конфирмации; за нерадивость сенаторам не раз делали выговоры и даже запрещали выплачивать им жалованье прежде получения его военными и моряками.
В ноябре 1731 года Сенат был поставлен под контроль нового высшего государственного органа — Кабинета. В него после всех столкновений и интриг вошел почтенный престарелый канцлер Гавриил Иванович Головкин, олицетворявший преемственность с эпохой Петра Великого, но никогда не претендовавший на самостоятельную роль. Вторым стал бывший сибирский губернатор князь Алексей Михайлович Черкасский, «герой» сопротивления планам «верховников». Князь был честным чиновником, но при этом «человек доброй, да не смелой, особливо в судебных и земских делах», по характеристике хорошо знавшего его по совместной работе генерала Вилима де Геннина. Родовитый вельможа, хозяин огромных имений, владелец родового двора в Кремле и домов в обеих столицах, канцлер и андреевский кавалер, Черкасский отныне ни в каких политических «партиях» замечен не был. Эти качества обеспечили князю в качестве формального главы правительства завидное политическое долголетие: он благополучно пережил царствование Анны, два последующих переворота и скончался в почете и богатстве уже во времена Елизаветы.
«Душой» же Кабинета и фактическим министром иностранных дел стал Андрей Иванович Остерман. Исследования работы этого верховного органа власти и его повседневных «журналов» подтвердили обвинение: при процедуре принятия решений, в механизме их разработки и согласования ключевую роль в нем на всем протяжении царствования играл Остерман.[151] По этой же причине отсутствовали объективные критерии подбора других министров: их лояльность значила больше, чем компетентность.
Над «дипломатическими» болезнями Остермана смеялись, его не любили и даже презирали — но обойтись без квалифицированного администратора, умевшего проанализировать проблему и предложить пути ее решения, было невозможно, что признавали и Анна, и Бирон, и иностранные дипломаты. Но и Остерман не мог претендовать на единоличное господство в новом механизме власти. Для «противовеса» хитроумному министру после смерти Головкина в состав Кабинета последовательно вводились вполне самостоятельные и амбициозные фигуры из русской знати — сначала возвращенный из почетной ссылки Ягужинский (1735 год), затем деятельный и честолюбивый Артемий Волынский (1738 год) и, наконец, будущий канцлер А. П. Бестужев-Рюмин (1740 год).
Такая комбинация обеспечивала работоспособность и устойчивость нового органа, хотя «запланированные» конфликты между его членами порой вызывали проблемы. К тому же права Кабинета никак не были оговорены до 1735 года, когда он получил право издавать указы за подписями всех трех кабинет-министров, заменявшими императорскую.
Существовало еще одно существенное отличие от бывшего Верховного тайного совета: Кабинет занимался преимущественно внутренними делами. В первые годы работы нового органа через него шло подавляющее большинство назначений, перемещений и отставок. При этом даже «недоросли», только что поспевшие в службу, представали перед министрами, а императрица утверждала своей подписью назначения секретарей в конторах и канцеляриях. Огромное количество времени (порой министры заседали, как фиксировалось в журнале, «с утра до ночи») отнимало решение многочисленных дел финансового управления: проверка счетов, отпуск средств на различные нужды и даже рассмотрение просьб о вьщаче жалованья. Позднее на первый план выдвинулись вопросы организации и снабжения армии в условиях беспрерывных военных действий 1733–1739 годов.
Журналы Кабинета за 10 лет поражают разнообразием проходивших через него дел. Наряду с принятием важнейших политических решений (о вводе русских войск в Польшу или проведении рекрутских наборов) министры разрешили постричься в монахи однодворцу из города Новосиля Алексею Леонтьеву, обсудили челобитную украинского казака Троцкого о передаче ему имения тестя, лично рассмотрели план каменного «питейного дома» в столице и ознакомились с образцами армейских пистолетов и кирас. Кроме того, через Кабинет проходило множество мелких административно-полицейских распоряжений: о «приискании удобных мест для погребания умерших», распределении сенных покосов под Петербургом, разрешении спорных судебных дел и рассмотрении бесконечных челобитных о повышении в чине, отставке, снятии штрафа.
Ответственные назначения нового царствования были последовательными и впервые с 1725 года затронули практически все центральные учреждения.[152] О подготовке такой акции по перемене руководящих кадров говорит список кандидатов в президенты коллегий из числа сенаторов и «из других чинов», а также в вице-президенты и советники, составленный весной 1730 года. Список, согласно указанию в заголовке дела, был составлен Остерманом для Бирона; это вполне возможно, так как ни Анна, ни Остерман не нуждались в имевшемся в нем подстрочном переводе на немецкий.[153] Этот документ, кажется, является первым свидетельством интереса, проявленного фаворитом к делам, выходившим за рамки дворцовой сферы.
Из трех «первейших» коллегий только Коллегия иностранных дел не испытала потрясений — над ней стоял могущественный вице-канцлер. Но туда был также направлен брат фельдмаршала Миниха барон Христиан Вильгельм Миних, ставший тайным советником и к концу царствования Анны — первым членом коллегии. На дипломатические посты были поставлены курляндцы К. X. Бракель (посол в Дании и Пруссии), К. Г. Кейзерлинг (в Речи Посполитой) и И. А. Корф (в Дании). Последние двое по очереди руководили в 30-е годы Академией наук.
Армию после смерти М. М. Голицына и опалы В. В. Долгорукова с 1732 года возглавил новый «аннинский» фельдмаршал Бурхард Христофор Миних. Затем дело дошло до морского ведомства. Вицепрезидент Адмиралтейств-коллегий адмирал П. И. Сивере в феврале 1732 года был обвинен в промедлении с проведением второй присяги в 1730 году и хранении списков с «кондиций», отрешен от должности и сослан в свои деревни. Флот возглавил адмирал Н. Ф. Головин, сохранивший высочайшее доверие до конца царствования.
Вслед за военным начальством было сменено руководство финансами. Президент Камер-коллегии и бывший кабинет-секретарь Петра I А. В. Макаров с 1731 года беспрерывно находился под следствием до самой смерти в 1740 году. После отказа А. И. Румянцева принять эту хлопотливую должность президентом назначили было сына князя-«верховника» Сергея Голицына, но в 1733 году его отправили послом в Иран. Освободившееся место занял С. Л. Вельяминов, но через два года попал под суд по делу Д. М. Голицына. Новым президентом коллегии стал И. И. Бибиков, продержавшийся на этом посту до конца царствования. Складывается впечатление, что на эту неблагодарную работу последовательно ставились люди, не пользовавшиеся особым доверием императрицы: все названные лица подписывали в 1730 году проекты и не сделали при Анне карьеры.
Был сменен и глава Берг-коллегии, моряк и горный инженер Алексей Зыбин (он также подписывал «проект 364»). Его назначили судьей в Сыскной приказ и вскоре за «неправедное» решение лишили генеральского чина и отправили строить суда на Днепре.
Во главе Коммерц-коллегии был поставлен возвращенный из ссылки А. Л. Нарышкин, а после его назначения в Сенат президентом стал другой прежний опальный — П. П. Шафиров. Здесь немилость коснулась вице-президента Генриха Фика — одного из участников петровской реформы центрального управления и хорошего знакомого Д. М. Голицына: он был уличен сослуживцами в одобрении «кондиций» и сослан в Сибирь.
Ревизион-коллегия долгое время оставалась без руководства, пока в 1734 году ее не возглавил генерал-майор А. И. Панин. Перемены не обошли и остальные учреждения. Младший брат Д. М. и М. М. Голицыных М. М. Голицын-младший сначала был выведен из Сената, а в 1732 году оставил пост президента Юстиц-коллегии, который занял родственник Остермана И. А. Щербатов.
В декабре 1731 года был снят президент Вотчинной коллегии М. А. Сухотин; его заменил генерал-майор И. И. Кропотов, в свою очередь смененный А. Т. Ржевским, который в 1737 году также попал под следствие по делу Д. М. Голицына, но сумел оправдаться и сохранить свой пост. В 1731 году бывший сенатор И. П. Шереметев был отправлен в Сибирский приказ, С. Г. Нарышкин — министром к гетману Украины; новыми начальниками Канцелярии конфискации и Ямской стали соответственно бригадиры И. Г. Безобразов и Н. Козлов.
Наконец, в том же 1731 году был уволен архиатер (глава медицинского ведомства) Иоганн Блюментрост; его брат, лейб-медик и президент Академии наук Лаврентий потерял свои посты несколько позже — летом 1733 года. После смерти сестры Екатерины Анна Иоанновна приказала генералу Ушакову допросить Блюментроста и потребовать у него отчета о ее лечении. Врач был признан невиновным, но все же выслан на жительство в Москву, где «ни у каких дел не был» и имел только частную практику. Новым придворным врачом стал Иоганн Христиан Ригер, а Академию возглавил дипломат Г. К. Кейзерлинг.
Кампания по обновлению высшей администрации затронула и дворцовое ведомство. В декабре 1731 года новым начальником Конюшенного приказа стал подполковник И. Анненков, а в марте следующего года гоф-интендант А. Кармедон заменил У. А. Сенявина на посту начальника Канцелярии от строений; от прежнего руководства был потребован финансовый отчет за 12 последних лет. Некоторым администраторам не нашлось подходящего места, и они были отрешены от дел: такая судьба постигла обер-секретаря Сената Матвея Воейкова, его коллегу из Синода Алексея Баскакова, братьев Блюментростов, Макарова. Других отослали подальше от столицы: в персидские провинции на войну отправились Д. Ф. Еропкин и А. Б. Бутурлин, строить Закамскую линию — Ф. В. Наумов.
Смена кадров в 1730–1732 годах происходила и в провинциальной администрации. Уже в 1730 году на губернаторство были отправлены: М. А. Матюшкин (в Киев с последующей отставкой в марте 1731 года), А. И. Тараканов (в Смоленск, а затем в армию на юг), П. М. Бестужев-Рюмин (в Нижний-Новгород, а оттуда в ссылку в свои деревни), П. И. Мусин-Пушкин (в Смоленск), М. В. Долгоруков (в Астрахань, затем в Казань и оттуда — в ссылку), А. Л. Плещеев (в Сибирь), В. Ф. Салтыков (в Москву), И. М. Волынский (вице-губернатором в Нижний Новгород).
В 1731 году к новым местам службы отправились Г. П. Чернышев (генерал-губернатором в Москву), И. И. Бибиков (в Белгород), И. П. Измайлов (в Астрахань), опять П. И. Мусин-Пушкин (в Казань), генерал-лейтенант И. Б. Вейсбах (в Киев), бригадиры П. Бутурлин и А. Арсеньев — вице-губернаторами в Сибирь вместо отрешенного от должности И. Болтина.
В 1732 году последовали назначения И. М. Шувалова (в Архангельск), генерал-майора М. Ю. Щербатова (сменил отправленного в армию И. М. Шувалова в Архангельске), генерал-лейтенанта В. фон Дельдена (в Москву в помощь Чернышеву губернатором, в следующем году отставлен), И. В. Стрекалова (в Белгород), камергера А. А. Черкасского (в Смоленск), А. Ф. Бредихина (вице-губернатором в Новгород), стольника С. М. Козловского (вице-губернатором в Смоленск), бригадира И. Караул ова (вице-губернатором в Казань).
Сделанные именно в эти годы назначения свидетельствуют о стремлении удалить из столиц или из Сената нежелательные для новых властей фигуры или быстро найти замену неугодным администраторам, которых отправляли в армию или отрешали от должности. Напомним, что 14 из 23 перечисленных выше лиц подписывали различные проекты и прошения в 1730 году.
Императрица и ее советники стремились как можно скорее убрать неугодные или подозрительные фигуры. Больной M. A Матюшкин не смог немедленно отбыть на губернаторство в Киев, и генерала тут же послали на медицинское освидетельствование, подтвердившее, что «надежда к конечному его исцелению весьма мала». Некоторые назначения были торопливыми и непродуманными. Артемия Волынского отправили было в Иран, но назначение отменили. Генерал Чернышев оказался неспособным губернатором, получал от Анны выговоры и в 1733 году возвратился в Сенат; Афанасий Арсеньев был уже «весьма дряхл» для командировки в Сибирь; назначенный в Москву израненный ветеран фон Дельден не только служить, но даже самостоятельно передвигаться уже не мог. Другие перемещения намеренно имели целью последующую опалу; некоторых лиц перебрасывали из губернии в губернию (как П. И. Мусина-Пушкина) или к другим местам службы (как И. И. Бибикова и А. И. Тараканова), пока не сочли возможным предоставить им более почетные должности в столице.
Перемещения коснулись не только генералитета. В сентябре 1730 года последовали массовые назначения на воеводские посты, куда из столицы отправлялись многие участники недавних событий. Эти назначения также проходили спешно; некоторые из намеченных в списках кандидатур вдруг «снимались» и в последний момент заменялись другими «по нынешней разметке». Воеводами в провинции стали В. Губарев, В. Лихарев, С. Хлопов, А. Плещеев, С. Телепнев, В. Вяземский, А. Киселев, И. Мещерский и другие участники «проекта 364».
Период кадровой перетряски завершился в 1732 году. Последующие назначения уже не носили такого массового характера. Для некоторых лиц они стали «испытательным сроком», как для опального А. И. Румянцева или прощенного бывшего генерал-фискала А. А. Мякинина, для других — даже ступенькой вверх по карьерной лестнице, как для будущего елизаветинского фельдмаршала А. Б. Бутурлина. Последним всплеском опал начала 30-х годов стало «дело» смоленского губернатора А. А. Черкасского. Он обвинялся в том, что якобы посылал письма в Голштинию, к внуку Петра I, которого он считал законным наследником. Навет был, как выяснилось впоследствии, ложным, но перепуганный Черкасский под пыткой признал свою вину и был сослан на берег Охотского моря.
После событий 1730 года количество перестановок в государственном аппарате резко увеличилось. По нашим подсчетам, аннинское царствование оказалось самым неспокойным для правящей элиты; массовые замены должностных лиц имели место и в 1736-м и особенно в 1740 годах. За 10 лет состоялись 68 назначений на руководящие посты в центральном аппарате (в среднем 6,8 в год) и 62 назначения губернаторов (6,2 в год). При этом 29 % руководителей учреждений и 16 % губернаторов за эти десять лет были репрессированы или уволены и оказались «не у дел».
«Перестройка» системы управления не обошла стороной и такое специфическое учреждение, как гвардия. Как уже говорилось, офицеры гвардейских полков получили награды — но само участие поручиков и капитанов в решении вопроса о «самодержавстве» не могло не беспокоить императрицу. Ликвидировать же полки было немыслимо, и действовать пришлось осторожно.
Послужной список офицеров и солдат Преображенского полка 1733 года показывает, что при Анне гвардейцы по сравнению с петровскими временами стали более зажиточными: беспоместных обер-офицеров в полку уже не было, и даже у многих рядовых-дворян имелось по 20–30 душ. Новая власть стремилась поддержать этот порядок: указы императрицы требовали зачислять в полки только солдат и офицеров, которые «достаток имели, чем себя будучи в гвардии содержать», и обязывали их иметь хороших лошадей, на которых караульные офицеры должны были отправляться во дворец.
Верного Салтыкова Анна сделала подполковником Преображенского полка, а А. И. Ушаков наряду с Тайной канцелярией бессменно возглавлял Семеновский полк. Майорами Преображенского полка стали придворный князь Никита Трубецкой, Людвиг Гессен-Гомбургский и запомнившийся Анне в день 25 февраля Иван Альбрехт; в Семеновском полку — также отличившиеся в феврале 1730 года Степан Апраксин и Михаил Хрущов. В течение двух лет из полков были «выключены» все младшие Долгоруковы, а в солдаты стали переводить наиболее исправных нижних чинов из армейских полков.
Кавалергардская рота сначала получила от императрицы месячное жалованье «не в зачет», но уже в следующем году была расформирована; часть кавалергардов была зачислена в новые гвардейские полки; большинство же получили назначение в полевую армию, и им приказано было немедленно отправляться к месту службы, «дабы они в Москве праздно не шатались».
Доклады и приказы по полкам 30-х годов свидетельствуют, что новая «полковница» старалась держать гвардию под строгим контролем. Императрица устраивала «трактования» гвардейских офицеров во дворце с непременной раздачей вина по ротам; регулярно посещала полковые праздники — но одновременно установила еженедельные (по средам) доклады командиров полков и лично контролировала перемещения и назначения в полках. Даже прием новых солдат по итогам дворянских смотров министры Кабинета несли на ее утверждение; так, Анна лично определила в солдаты гвардии шестилетнего будущего полководца Петра Румянцева.
Всем гвардейцам Анна категорически воспретила игру в карты «в большие деньги». Полковое начальство с 1736 года не могло отправлять подчиненных в отпуска и «посылки» без разрешения императрицы. Она же своими резолюциями определяла меру наказания для провинившихся. Загулявший в первый раз сержант Иван Рагозин в качестве штрафа «стоял под 12 фузеями», пропивший штаны гвардеец из придворных лакеев князь Иван Чурмантеев отправился в Охотск, а попавшиеся на воровстве вторично солдаты Федор Дирин, Семен Шанин и Семен Чарыков были повешены. Приговорила Анна к смерти и взяточника поручика Матвея Дубровина, хотя и разрешила его «от бесчестной смерти уволить, а вместо того расстрелять».[154]
Колебания высших гвардейских чинов заставили Анну и ее окружение принять более решительные меры. 30 августа 1730 года, в день орденского праздника Александра Невского и заключения Ништадтского мира, императрица объявила о создании нового гвардейского пехотного Измайловского полка во главе с обер-шталмейстером Карлом Густавом Левенвольде. Рядовых набирали из украинской «ландмилиции» и полевых полков, а офицеров — из наиболее надежных кавалергардов и армии; таким путем в новую часть попали молодой Василий Нащокин и отец известного писателя XVIII века армейский поручик Тимофей Болотов.[155] В феврале 1731 года полк уже получил знамена и приступил к несению караульной службы во дворце.
В конце 1730 года началось формирование еще одного подразделения — полка Конной гвардии. Формально шефом полка считался Ягужинский, но с его отъездом подполковником стал князь Алексей Иванович Шаховской. Конногвардейцев также тщательно отбирали из других полевых полков. В 1732 году императрица повелела Шаховскому определить в конную гвардию 50 украинских однодворцев и дополнить комплект набором «лифляндцев из шляхетства и мещанства».
При формировании новых полков заметно стремление императрицы «укрепить» новые части надежными офицерами, не связанными с аристократическими фамилиями: шотландец Джеймс Кейт стал подполковником, а немец Иосиф Гампф — майором Измайловского полка. В Конной гвардии состояли «младший подполковник» Бурхард фон Траутфеттер, майор Рейнгольд фон Фрейман, ротмистры Стакельберг, Икскуль, Паткуль, Остгоф и другие выходцы из «лифляндского шляхетства». Однако выдвигались не только «немцы», но и родственники находившихся у власти лиц — в Преображенском полку и в Конной гвардии служили младшее поколение рода Салтыковых и целая группа Шаховских: будущий вельможа и мемуарист Яков Петрович и несколько его родственников.[156]
Предпринятая масштабная перетряска основных государственных структур была проведена успешно, хотя и не исключала появления недовольства. Новая императрица и ее советники сумели навести порядок в высших эшелонах власти и получить военно-политическую опору в лице «новой» гвардии.
Грамотно воспользовался открывшейся возможностью и Бирон. Секунд-майором Конной гвардии был назначен старший брат фаворита — Карл Бирон; под начало к родственнику попал пожалованный в ротмистры и «дослужившийся» к 1738 году до подполковника старший сын Бирона Петр. Любимец императрицы Карл в 1732 году в трехлетнем возрасте сделался бомбардир-капитаном Преображенского полка. Младший же брат фаворита в 1731 году стал генерал-майором русской службы и премьер-майором нового Измайловского полка.
Последний выбор был особенно удачным. Густав Бирон оказался прирожденным служакой. Его приказы по полку требовали строжайшей дисциплины и соблюдения уставных требований всегда и во всем, вплоть до внешнего вида: офицерам надлежало «без галстухов и шпаг не ходить», а солдатам, «у которых фалды опустились, чтобы их подняли». Младший Бирон переживал, когда подчиненные не желали «от непотребных баб воздерживаться», и стремился набрать в свой полк как можно больше рослых рекрутов — даже посылал офицеров специально «высматривать» таких.
Густав был настоящим поэтом фрунта. Он самолично демонстрировал Анне Иоанновне новые ружья из Берлина и ружейные приемы, добивался, чтобы солдаты умели «нести ружье круто и ногами ступать в один мах», и даже предлагал реформы: «против прежнего учинить отмену, а именно, чтоб во время поворотов и вздваивания рядов, для лутчего виду, могли оказываны быть темпы ногами, в чем имеет видима быть немалая приличность».
Майор бывал строг и наказывал «без милосердия», но был хозяйственным командиром: требовал от казны всего положенного полку и знал, как добиться беспошлинного пропуска через таможню заказанной за границей амуниции. Он умел блеснуть на смотре «военной экзерциции так хорошо, что и ее императорское величество оное сама всемилостивейше похвалить изволила, а прочие, при том бывшие, тому зело удивлялись», но при этом спрятать тех рядовых, которые «в приемах худо делают и в стрельбе мало бывали». Командир заботился не только о солдатском теле, но и о душе: его распоряжения определяли порядок «говения» в полку (солдатам по 40 человек от роты еженедельно, унтер-офицерам — «по препорции») и призывали живущих далеко от церкви, но близко от его резиденции рядовых молиться у… командира на квартире.[157]
Анна не отказала себе в удовольствии найти примерному майору невесту. «Обручен при дворе маэор лейб гвардии Измайловского полку господин фон Бирон с принцессою Меншиковою. Обоим обрученным показана при том от ее императорского величества сия великая милость, что ее императорское величество их перстни высочайшею особою сама разменять изволила», — сообщила газетная хроника. В августе 1732 года Густав Бирон обвенчался с некогда одной из первых невест в России, а потом несчастной изгнанницей Сашенькой Меншиковой.
Правда, злые языки уже тогда говорили, что брак этот вызван не только добротой императрицы, но был выгоден прежде всего семье Биронов, что для современников не являлось секретом: «В описи имущества и бумаг покойного князя Меншикова нашли, что он имел значительные суммы в банках Амстердама и Венеции. Русский министр сделал несколько попыток завладеть этими деньгами на том основании, что все имущество Меншикова принадлежит царице по праву конфискации, но это осталось без результата, так как директора этих банков, в соответствии с обычаями своих стран, решительно отказались отдать деньги, принадлежащие князю Меншикову, до тех пор, пока они не будут уверены, что этот князь или его наследники будут освобождены и смогут располагать этими средствами. Предполагают, что эти деньги, которые составляют более 500 тысяч рублей, стали приданым госпожи Бирон и что именно этому обстоятельству молодой князь Меншиков обязан тем, что получил место капитан-лейтенанта гвардии царицы и что ему возвратили пятидесятую часть тех земель, которыми владел его отец».[158]
О загадочных зарубежных счетах Меншикова у нас данных нет. Но некоторые владения светлейшего князя молодые действительно получили, как «маетности Литовского княжества, принадлежавшие отцу ее», в том числе «графство» Горы-Горки, маетности Ула, Лолъезерье, Краснополье.
Брак будто бы оказался счастливым, и биограф младшего Бирона мог с полным основанием утверждать, что лейб-гвардии майор (с 1734 года — подполковник) и генерал-адъютант государыни Густав Бирон «среди страстно любимых им удовольствий фронтовой службы мог еще приятнее наслаждаться ожиданием дальнейших несомненных улыбок судьбы». Старший брат мог быть спокоен за охрану порядка в столице. У него же была своя сфера влияния — придворный круг, где отныне принимались важнейшие политические решения, расточались милости и проявлялось во всем могуществе влияние фаворита.
Бирон являлся крупной фигурой уже потому, что двор к тому времени стал важным «учреждением» в системе власти. Петр I как государь могущественной державы строил парадные императорские резиденции. Однако его придворные не принимали участия в большой политике — они были «хозяйственниками» или веселыми собутыльниками. К тому же кочевой образ жизни и простота обихода царя нередко не оставляли у него ни времени, ни желания устраивать придворные церемонии, и тогда он обходился приемами и балами в домах своих вельмож. Ежегодные расходы на придворную жизнь составляли при нем 50–60 тысяч рублей.
После смерти Петра двор не только вырос количественно, но и стал важным элементом в структуре власти. Создается новый штат с системой чинов и окладами придворных, утвержденный в декабре 1727 года; важнейшим по приближенности к императору становится пост обер-камергера. Меншиков сделал главой придворного персонала своего сына Александра, вслед за ним эту должность занял Иван Долгоруков. В списке придворных Петра II, за редкими исключениями (Ягужинский, Сапега), были старинные фамилии: Долгоруковы, Голицыны, Лопухины, Стрешневы, хотя от близости к монарху были удалены ближайшие родственники — Нарышкины. Но на реальную власть и влияние на царя претендовали лишь гофмейстеры А. Г. Долгоруков и А. И. Остерман. Английский консул К. Рондо в мае 1729 года доложил о наметившемся «разделении труда» между ними: разработка внешней политики всецело принадлежит Остерману, «назначения и отличия вполне ведаются Долгорукими».
В 1727 году дворцовый штат Петра II насчитывал уже 392 человека, а через несколько лет, при Анне, только штатных придворных чинов имелось 142 да еще 35 «за комплектом»; всего же при дворе состояло 625 человек и имелось 39 лиц «за штатом». При Петре II на двор тратилось порядка 100 тысяч, а при Анне ежегодная сумма расходов была установлена в размере 260 тысяч рублей (не считая 100 тысяч на конюшню) и была перекрыта только в 1760 году запросами еще более пышного двора Елизаветы.
При Анне двор стал целым миром с разветвленной системой служб и должностей. Под началом главных чинов находились фигуры второго и третьего ряда, нередко также со своим штатом. Обер-камергеру подчинялись камергеры, камер-юнкеры, пажи и камер-пажи, гоф-юнкеры; в ведении обер-гофмейстера и обер-гофмаршала и его Придворной конторы находились «метердотель», мундшенк, кофишенк, мундкох, зильбердинер (хранитель столового серебра), главный кухмистер в генеральском чине с целой армией поваров и поварят, придворный мясник с подведомственной дворцовой «скотобойней», «конфектурный мастер», «водочный мастер», бригады квасников и «медоставов», пивовар с «учениками пивного варения», танцмейстер, капельмейстер с «певчими», «компазитером» и оркестром из 33 музыкантов. Исполнение их обязанностей обеспечивали конюхи, скороходы, птичники, скотницы, мельники, столяры, рыбные ловцы, прачки, псари, истопники, придворные золотари и 20 профосов для наказания провинившихся. Императрицу и ее гостей обслуживали 80 лакеев.
Повышение роли и престижа дворцовой службы отразилось в изменении чиновного статуса придворных. При Петре I камергер был приравнен к полковнику, а камер-юнкер — к капитану. При Анне ранг этих придворных должностей был повышен соответственно до генерал-майора и полковника, а высшие чины двора из 4-го класса перешли во 2-й. В 1733 году она повелела не размещать в домах придворных на постой офицеров и солдат.
Именно в послепетровскую эпоху придворный круг становится «трамплином» для будущей политической и военной карьеры: Б. Г. Юсупов, П. С. Салтыков, Н. Ю. Трубецкой, М. Н. Волконский, М. Скавронский, П. Г. Чернышев, А. Д. Татищев при Анне Иоанновне; 3. Г. Чернышев, братья Шуваловы, Н. И. Панин при Елизавете — все эти будущие министры, генералы и вельможи начинали службу в качестве камер-юнкеров и камергеров. Сам Бирон «определил» на придворную службу своего младшего и особенно любимого Анной сына — восьмилетний Карл Эрнст стал российским камергером в 1737 году.
Однако кому много дано — с того больше и спрашивается. С начала царствования при дворе началось укрепление «производственной дисциплины» — неожиданности прошлых лет требовали бдительности. По приказу императрицы было составлено «клятвенное обещание дворцовых служителей». Все они, включая челядь (лакеи, «арапы», истопники и даже неопределенных занятий «мамзели» и «бабы»), обязывались свою службу «со всякой молчаливостью тайно содержать» и «тщательно доносить» обо всех подозрительных вещах. Придворный даже в небольшом чине уже не мог себе позволить прежних вольностей — за ними следовало монаршее неудовольствие: «В Санкт-Питербурхе на всех островах в кабаках и вольных домах, где имеются бильярды, всем объявить с подпискою: ежели камер-пажи и пажи во оные домы придут пить или играть в карты и другие игры и таких не допуская до питья и игры, брать под караул и приводить в дежурную генерал-адъютантов, а пуще смотреть пажа Ивана Волкова».
Место сосланных Долгоруковых заняли назначенный обер-гофмейстером Семен Салтыков, обер-гофмаршал Рейнгольд Левенвольде; обер-шталмейстером стал сначала Ягужинский, а затем брат обер-гофмаршала — Карл Густав Левенвольде. В том же 1730 году был отправлен в отставку не только прежний обер-гофмейстер М. Д. Олсуфьев, но и весь штат Дворцовой канцелярии вместе с ее начальником А. Н. Елагиным (оба они были среди участников шляхетских проектов). В числе новых «командиров» был назначен только что отличившийся капитан гвардии А. Раевский.
Для обер-гофмейстера и обер-гофмаршала были составлены в 1730 году специальные инструкции. Они требовали, чтобы удостоенные доверия персоны не только «доброго жития и поступка были, довольное знание и искусство, но и знатность и респект имели: верен, секретен и истинен, и такого христианского жития и поступка был, чтоб он паче своим собственным примером, нежели наказанием ему подчиненных и протчих придворных служителей, основание полагал». Согласно особому указу Анны только эти высшие дворцовые чины имели право передавать словесные повеления императрицы всем подведомственным им учреждениям и лицам.
Обер-гофмейстер объявлял приказы императрицы, представлял служащих к наградам и принимал у них присягу. В его руках находились все дворцовые финансы; он занимался поставками и заключением соответствующих подрядов, выплачивал жалованье и «корм» всем придворным служителям, ведал комендантской службой и охраной дворцов, получением аудиенций у государыни и даже судом над дворцовыми «служителями».
Обер-гофмаршал обеспечивал повседневный «стол» и руководил заготовками и закупками. В сферу его ведения входили императорские посуда, «поварня», погреб и обслуживающий их персонал. Он был главным распорядителем придворных церемоний и устанавливал порядок при «торжественных, публичных и всяких иных отправлениях» при дворе, в том числе расставлял и рассаживал приглашенных «по чинам, рангам и характерам», где ошибка могла обернуться международным скандалом.
Фаворит же в этом мире занял особое положение — для обер-камергера не было составлено регламентировавшей его действия инструкции.
В этом придворном мире, где Анна чувствовала себя наиболее уверенно — как властная помещица в кругу своей дворни, больше всего заметна «руководящая роль» императрицы. За непритязательной грубостью и простотой нравов (про Анну рассказывали, что она раздавала пощечины министрам и даже приказала повесить повара за подгоревшие блины) можно заметить черты, которые подчеркивают новую роль двора как главного учреждения империи.
Князь Щербатов считал царствование Анны настоящим рубежом в истории императорского двора: «Двор, который еще никакого учреждения не имел, был учрежден, умножены стали придворные чины, серебро и злато на всех придворных возблистало, и даже ливрея царская сребром была покровенна; уставлена была придворная конюшенная канцелярия, и экипажи придворные всемогущее блистание с того времени возымели. Италианская опера была выписана, и спектакли начались, так как оркестры и камерная музыка. При дворе учинились порядочные и многолюдные собрании, балы, торжествы и маскарады».
Так же думали другие современники, дружно отмечавшие «невыразимое великолепие нарядов» и подчеркнутую роскошь балов и празднеств. Анна Иоанновна старалась, чтобы ее двор не уступал, а превзошел в роскоши иноземные. Французский офицер, побывавший в Петербурге в 1734 году, выразил удивление по поводу «необычайного блеска» как придворных, так и придворной прислуги: «Первый зал, в который мы вошли, был переполнен вельможами, одетыми по французскому образцу и залитыми золотом <…>. Все окружавшие ее (императрицу. —
Но новый стиль требовал жертв не только при дворе: «Число разных вин уже умножилось, и прежде незнаемыя шемпанское, бургонское и капское стали привозиться и употребляться на столы. Уже вместо сделанных из простого дерева мебелей стали не иные употребляться как английские, сделанные из красного дерева мегагене, дома увеличились и вместо малого числа комнат уже по множеству стали иметь, яко свидетельствуют сие того времени построенные здания; зачали дома сии обивать штофными и другими обоями, почитая неблагопристойным иметь комнату без обой; зеркал, которых сперва весьма мало было, уже во все комнаты и большие стали употреблять. Екипажи тоже великолепие восчувствовали: богатыя, позлащенные кареты, с точеными стеклами, обитыя бархатом, с золотыми и серебряными бахрамами; лучшия и дорогие лошади, богатые, тяжелые и позлащенные и посеребренные шоры, с кутасами шелковыми и с золотом или серебром; также богатые ливреи стали употребляться».
Князь Щербатов, которого мы процитировали, делал печальный вывод: «Исчезла твердость, справедливость, благородство, умеренность, родство, дружба, приятство, привязанность к Божию и к гражданскому закону и любовь к отечеству; а места сии начинали занимать презрение божественных и человеческих должностей, зависть, честолюбие, сребролюбие, пышность, уклонность, раболепность и лесть». Относительно прежнего господства «гражданского закона», а также благородства и умеренности можно поспорить — придворный мир при любом монархе требовал иных качеств. Но князь-моралист весьма точно уловил одну важную вещь в системе аннинского правления, на которую еще раньше указал Миних-сын: «Предшественников ее подарки состояли большей частью из земель, но наличными деньгами никто не жаловал столь великие суммы, как она».
Нарочитая роскошь требовала значительных расходов. Жалованье придворных было немалым (камергер получал 1 356 рублей 20 копеек; камер-юнкер — 518 рублей 55 копеек, что намного превосходило доходы простых обер-офицеров), но его постоянно не хватало. При Анне даже вельможи, подобно Артемию Волынскому, тяготились «несносными долгами» и искренне считали возможным «себя подлинно нищим назвать». «Нищета» была, конечно, весьма относительной, но зато давала возможность императрице проявить милость и щедрость к тем, кто их заслуживал. Именные указы Соляной конторе показывают, что царица умело направляла поток милостей за счет своих «комнатных» средств. В результате, как печалился тот же князь Щербатов, «вельможи, проживаясь, привязывались более ко двору, яко ко источнику милостей, а нижние к вельможам для той же причины».
Постоянными получателями императорской «материальной помощи» были герцог Людвиг Гессен-Гомбургский, С. А. Салтыков, А. М. Черкасский, братья Левенвольде, Г. П. Чернышев, Б. X. Миних, Ю. Ю. и Н. Ю. Трубецкие. Обычно это были суммы в 500—1000 рублей, но порой намного больше. В 1732 году С. А. Салтыков получил в два приема 4800 рублей, К. Г. Левенвольде — 8 тысяч рублей, богатейшему магнату А. М. Черкасскому достались 7 тысяч; только что ставшему фельдмаршалом Б. X. Миниху вместе с чином были пожалованы 10 тысяч, а верному А. И. Ушакову выпала некруглая сумма в 1045 рублей 69 копеек.
В следующем году Левенвольде в качестве чрезвычайного посла в Речь Посполитую получил 4 тысячи рублей «на экипаж» и еще 20 тысяч на прочие расходы. Еще через год получателями стали камергер С. Лопухин (7 тысяч рублей), будущий жених императорской племянницы принц Антон Брауншвейг-Люнебург-Бевернский (8 тысяч), фельдмаршал И. Ю. Трубецкой (7 тысяч), А. П. Бестужев-Рюмин (тысяча). В раздачу пошла значительная часть поступившей от капитулировавшего Гданьска контрибуции: по 12 тысяч рублей досталось Черкасскому, Миниху и Остерману; намного больше — 33 500 рублей — снова получил Левенвольде, а генерал-майору Измайлову пожаловали только 2800 рублей.
Как правило, такие выдачи были единовременными, но иногда они превращались в постоянные «пенсионы», как 500 рублей генералу Л. Г. Гессен-Гомбургскому и 5 тысяч — Миниху. Одним деньги давались безвозмездно — на лечение, «за проезд за моря», «для удовольствия экипажу» или без всяких объяснений; другим — только в долг, как 5 тысяч рублей Артемию Волынскому и 8 тысяч камер-юнкеру Алексею Пушкину. Появились особые нормы выдач — на приданое фрейлинам или подарки на крестины, в которых первые вельможи государства были «уравнены» с гвардейскими офицерами и придворными «служителями»: все получали по 50—100 червонных.
Выдавались деньги (по 200–300 рублей) и гвардейским офицерам; суммы, конечно, были меньше по сравнению с подарками знатным особам, но, впрочем, сопоставимы с офицерским годовым жалованьем. Столько же получали из рук Анны архитектор Д. Трезини и знаменитый шут Иван Балакирев, а художник Луи Каравакк довольствовался 100 рублями. Иногда счастливцам выпадали и неожиданные подарки. Так, однажды улыбнулось счастье гвардии поручику Петру Ханыкову, который за неизвестные заслуги получил на двоих с гоф-юнкером Симоновым в 1736 году полторы тысячи рублей.
Не забывала Анна Иоанновна и незнатных, но близких слуг. Придворная дама Анна Юшкова получила как-то тысячу рублей, духовнику императрицы отцу Варлааму полагалось 500 рублей. «Матера безножка» получала по 100 рублей, карлицы Аннушка и Наташка — по 50; далее ведомости называют прочий специфический дамский штат императрицы — «бабу Материну», «горбушку», «Катерину персиянку», безымянных «поповну», «посадскую», «калмычку», которым выплачивали по 15–20 рублей.[159] За девять лет (1731–1739), по нашим подсчетам, эти расходы Анны составили 898 312 рублей, то есть примерно по 100 тысяч в год. Точную же сумму назвать едва ли возможно, поскольку Анна не стесняла себя рамками «комнатных» доходов и порой приказывала выдать деньги из Штатс-конторы (как, например, пять тысяч рублей дипломату Карлу Бреверну в 1740 году) или из любого другого места. Как мы показали в предыдущей главе, из этого источника шли выдачи Бирону, а затем — всем последующим фаворитам.
Все эти выплаты привязывали их получателей к властной «хозяйке», тем более что они иногда превосходили их служебные оклады. Последние также были весьма различными, так как в 30-х годах XVIII столетия получила распространение практика назначения высоких персональных окладов, называемых «иноземческими» и «другим не в образец». Придворные раздачи служили тем самым пряником для привлечения к трону верхушки «шляхетства», которая его непосредственно окружала и могла представлять хоть какую-то опасность для режима. Но к прянику непременно полагался кнут.
Кому не доводилось слышать или читать про знаменитую Тайную розыскных дел канцелярию, как называлось это учреждение при Анне Иоанновне и Елизавете Петровне, где велись дела по не менее известному «слову и делу». «Повсюду рыскали шпионы, ложные доносы губили любого, кто попадал в стены Тайной канцелярии. Тысячи людей гибли от жесточайших пыток» — подобные оценки ее деятельности в эпоху пресловутой «бироновщины» можно встретить в десятках книг. И читатель им верит: для нашей социальной памяти массовый террор государства против своих подданных представляется делом естественным не только для недавнего прошлого.
Но так ли обстояло дело 250 лет назад? Неплохо сохранившийся архив карательного ведомства дает нам возможность заглянуть в недра политического сыска. Тайная канцелярия была вовсе не похожа на аппарат спецслужб XX столетия с их разветвленной структурой и многотысячным контингентом штатных сотрудников и нештатных осведомителей. В петровскую и послепетровскую эпоху она являлась скромной конторой с небольшим «трудовым коллективом». В 1740 году в ней несли службу секретарь Николай Хрущов, четыре канцеляриста, пять подканцеляристов, три копииста и один «заплечный мастер» Федор Пушников. В Москве работал ее филиал — Контора тайных розыскных дел во главе с секретарем Василием Казариновым и 12 штатными единицами. Через двадцать лет, в 1761 году, штат даже уменьшился до 11 человек и годовой бюджет сократился примерно с 2100 до 1660 рублей при прежних ставках: новый палач Василий Могучий получал, как и его предшественник, 15 рублей жалованья. Никаких местных отделений и тем более сети штатных «шпионов» не было.
Для сравнения — в 1730-х годах в ведении лейтенанта полиции Парижа (выполнявшего в том числе аналогичные ведомству Ушакова функции) находился не только штат его центрального офиса, но и 22 инспектора с помощниками, каждый из которых имел свою сферу деятельности — уголовные преступления, проституция, надзор за иностранцами и т. д. Чины полиции были в курсе всех событий дневной и ночной жизни столицы — у них на службе состояли 500 агентов и информаторов из всех слоев общества: благородные шевалье, деревенские кормилицы, слуги и служанки аристократических фамилий, рыночные торговцы, адвокаты, литераторы, мелкие жулики и содержательницы публичных домов.[160] И все это — только в одном городе королевства.
Специальные сыщики наблюдали за деятельностью особенно интересовавших правительство дипломатов и подозрительных иностранцев. Отдельно существовал «черный кабинет», где осуществлялась перлюстрация писем. Стоила такая организация недешево (100 тысяч ливров в год) — зато король уже наутро мог получить информацию о том, что вчера сказал такой-то вельможа в таком-то салоне, сколько стоят бриллиантовые серьги, которые загулявший русский «бояр» подарил любовнице-актрисе, и с какой именно барышней провел ночь нунций его святейшества папы римского.
До подобного размаха Тайной канцелярии было далеко. Ее малочисленный штат был занят преимущественно бумажной работой — составлением и перепиской протоколов допросов и докладов. Доставку подозреваемых и преступников осуществляли местные военные и гражданские власти. Объем работы неуклонно расширялся. От эпохи «бироновщины» в петербургской Тайной канцелярии осталось 1450 дел, то есть рассматривалось в среднем по 160 дел в год. Но от времени «национального» правления доброй Елизаветы Петровны до нас дошло уже 6692 дела, то есть интенсивность работы карательного ведомства выросла более чем в два раза — до 349 дел в год.[161]
Протоколы Тайной канцелярии за 1732 год раскрывают ее будничную жизнь. Благонамеренные обыватели подавали доношения на деревенских попов, не совершавших вовремя молебнов и не поминавших имени императрицы — батюшки оправдывались «сущей простотой», извинительным «беспамятным» пьянством и неизвинительным участием в сельских работах. 13-летний ученик Академии наук Савелий Никитин донес на караульного солдата, укравшего стаканы из адмиралтейского «гофшпиталя» — какое-никакое, а все же государственное имущество. Поручик Карташев похитил «алмазные вещи» у генерал-майора Трубецкого, и часть уворованных «камней» оказалась у лекаря Елизаветы Петровны Армана Лестока; поскольку дело касалось придворных «персон», бриллианты у Лестока изымал сам начальник Тайной канцелярии А. И. Ушаков. Неизвестный доброжелатель сообщил, что отставной генерал-майор Василий Вяземский не стал пить за здоровье сестры государыни — Екатерины Иоанновны; дело «не следуется», поскольку не признано важным, да и сестру свою Анна не очень жаловала.
Обычным явлением было большое число ложных доносов — таким путем проштрафившиеся пытались избегнуть наказания или смягчить его. Например, буйный вояка отставной капрал Иван Мякишев убил бывшего игумена Елизарова монастыря Симеона и теперь заявлял «слово и дело» и на самого покойного, и на нынешнего игумена Виссариона. Правда, опытные следователи довольно быстро разбирались с такими делами и признавали их «неосновательными», в том числе донос «приказчика китайского каравана» Ивана Суханова о якобы имевших место злоупотреблениях самого генерал-прокурора П. И. Ягужинского.
Проходили через Тайную канцелярию и отпетые злодеи, подобно разбойнику-рецидивисту Гавриле Никонову. Попавшись в 1737 году, он был опознан жертвами и соучастниками — но отрицал все и грозил следователям, даже будучи подвешенным за ребра на крюке. Палачи оказались бессильны: Никонов вытерпел шесть пыток подряд, но ни дыба, ни «зжение огнем» в присутствии майора гвардии Альбрехта и самого Ушакова не заставили его «виниться». Он так и умер нераскаянным грешником, о чем по должности доложил также потерпевший неудачу «разговорить» разбойника на исповеди священник.
Порой приходилось разбираться не только с земными грешниками, но и с нечистой силой. Супруга страдавшего от запоев каменщика Ивана Лябзина обратилась в Тайную канцелярию с жалобой на мужа, а тот стал оправдываться — винить во всем «тритцать демонов», заявивших ему: «Ты Лябзин наш, за тебя на рынке у нас был бой». Для спасения от не поделивших душу каменщика чертей его надолго посадили «под караул».[162]
Крестьяне — огромное большинство населения страны — были относительно редкими гостями Тайной канцелярии. Попадали они туда только по доносам тех, кто имел возможность (и желание) ехать несколько верст в канцелярию провинциального или городового воеводы. Согласно «Книге о поступивших колодниках» 1732 года, в Тайную канцелярию попало 272 человека; среди тех, у кого указаны профессия или социальное положение, большую часть составляют военные (71 случай или 26,1 %), затем следуют мелкие чиновники (43 случая или 15,8 %), далее низшее духовенство (28 случаев или 10,3 %); крестьян же — всего 12 человек.[163]
Большинство «сидельцев» и доносчиков — городская или «служилая» публика, посадские и торговые люди. Они были наиболее грамотны для сочинения доносов и подметных писем, в их среде прежде всего распространялись всевозможные «толки и слухи»; наконец, им было проще и ближе явиться с «доношением». Из этой среды выходили профессиональные доносчики и отчаянные головы, готовые «поклепать» своих действительных или мнимых обидчиков даже ценой «очищения кровью» — утверждения своей правоты после нескольких допросов под пыткой.
Охраняли и конвоировали «колодников» в Петропавловской крепости (где помещалась и сама канцелярия) офицеры и солдаты гвардейских полков, в том числе представители лучших фамилий. Они держали заключенных «в крепком смотрении», следили, «дабы испражнялись в ушаты, а вон не выпускать»; допускали на свидания родственников с условием, чтобы жены «более двух часов не были, а говорить вслух». Они же выдавали узникам «молитвенные книжки» и «кормовые деньги», у кого они были.
Иные, особенно знатные арестанты, проходившие скорее как свидетели, могли рассчитывать на поблажки: им разрешалось «держать ножик», вилки и даже бриться. Порой в казематы заглядывал и врач, который прописывал необычным пациентам «теплова и лехкова пива с деревянным маслом». «Подлым» на заботу и дополнительный корм рассчитывать не стоило, и иные арестанты «с голоду» или от болезней не доживали до решения своих дел.
В случае необходимости гвардейцы отправлялись вести следствие по доносам; так, отличившийся 25 февраля 1730 года капитан-поручик Алексей Замыцкий был отправлен в 1732 году в Полтаву, откуда докладывал, что арестовал уже 41 человека. Не стеснялись тюремно-полицейской службы и первые вельможи империи. Грубо скроенный, но крепко сшитый выходец из бедной дворянской семьи Андрей Иванович Ушаков в 1704 году стал солдатом-добровольцем Преображенского полка и быстро дослужился до офицерского чина. При Петре он сделал стремительную карьеру, уже с 1714 года возглавлял в майорском чине особую «розыскную канцелярию» и был готов выполнить любой приказ весело и с полным душевным спокойствием — так же, как он по-свойски шутил в письме к П. А. Толстому: «Кнутом плутов посекаем, да на волю отпускаем». Природное добродушие, верность и отсутствие политических амбиций обеспечили Андрею Ивановичу долгую придворную жизнь: при всех «дворских бурях» он возглавлял Тайную канцелярию с 1718 по 1726 год, а затем с 1731 по 1747 год, пользуясь благосклонностью сменявших друг друга царствующих особ и фаворитов.
Однако основой могущества этого учреждения стала не гвардия и не участие вельмож. Строившая «регулярную» империю верховная власть столкнулась с проблемой контроля над разраставшейся бюрократической машиной. В идеале опека над подданными должна была сочетаться с их инициативой и «радением» на пользу «общему благу». Для решения этой задачи контроль «сверху» надо было дополнить не менее эффективным надзором «снизу», а единственным средством такой обратной связи в централизованной самодержавной монархии было поощрение доносительства.
Заложенную веком ранее традицию «государева дела и слова» — обязанности подданных доносить о покушении (или только умысле на него) в любой форме на личность монарха, неотделимую юридически от государственного строя, Петр I подхватил и рационализировал. В 1713 году он впервые обязался лично принимать и рассматривать доносы «о преслушниках указам и положенным законом и грабителем народа». За такую «службу» доноситель мог получить движимое и недвижимое имущество виновного, «а буде достоин будет — и чин» и таким образом рассчитывать не только на вознаграждение, но и на обретение нового социального статуса в петровской системе. Именным указом от 25 января 1715 года «похищение казны» было включено в число преступлений по «слову и делу государеву» и стало основой для многочисленных жалоб на злоупотребления администрации.
Правление Анны эту традицию поддержало. Один из первых указов императрицы прямо предписывал доносить на ближнего «без всякого опасения и боязни того ж дни. А если в тот день за каким препятствием не успеет, то, конечно, в другой день», ибо «лучше донесеньем ошибиться, нежели молчанием». Изымая дела «по первым двум пунктам» из компетенции местных властей, правительство поддерживало авторитет и веру в справедливость царской власти. В результате крестьяне и посадские часто придавали этим пунктам иное толкование и стремились таким путем сообщить о произволе и воровстве местных чиновников.
Усилия не пропали даром: донос стал для власти средством узнавать о реальном положении вещей в том или ином ведомстве или провинции, а для подданных — возможностью восстановить справедливость или посчитаться с влиятельным обидчиком. «Демократичность» доноса и освящение его в виде достойной «службы» связывали безвестного доносителя с самим государем и стали основанием массового — во всяком случае широко распространенного — добровольного доносительства.
Донос становился единственным средством участия в политической жизни, и доносители это отлично сознавали. «По самой своей чистой совести, и по присяжной должности, и по всеусердной душевной жалости <…>, дабы впредь то Россия знала и неутешные слезы изливала», — восторженно доносил в 1734 году подьячий Павел Окуньков на соседа-дьякона, что он «живет неистово» и «служить ленитца». «Пряником» в этом деле служила награда, а «кнутом» — наказание за недоносительство, при котором любой, даже невольный свидетель происшествия, относящегося «к первым двум пунктам», мог превратиться в обвиняемого и должен был спешить, чтобы донести первым. Правда, доносчика следовало арестовать и закованного выслать в Тайную канцелярию точно так же, как и всех оговоренных им — несмотря на то, что власти пытались смягчить эту норму и отправлять доносчика «за поруками» или «за провожатыми под честным арестом».
Доносили не какие-то штатные «шпионы», а простые русские люди, нередко сослуживцы, собутыльники и соседи. Можно представить, с каким чувством «глубокого удовлетворения» безвестный подьячий, солдат или посадский сочиняли бумагу или объявляли «слово и дело» устно, в результате чего грозный воевода или штаб-офицер, а то и свой брат чиновник могли угодить под следствие со всеми вытекающими последствиями. В традиционном обществе, где люди из поколения в поколение жили на одном месте, в одном узком кругу, исчезнуть было невозможно — точнее, очень немногие могли бросить все и попытаться скрыться. Из дел Тайной канцелярии не видно, чтобы виновники сопротивлялись; как правило, они позволяли доставить себя к ближайшему военному или штатскому начальству.
Стоило перед строем драгунскому капитану Тросницкому обругать чертом невнятно читавшего императорский указ солдата, как тут же «имевший с ним ссоры» поручик Сурмин заявил: «Тут-де чорта не написано», — и побежал докладывать о предосудительном поведении однополчанина. Копиисты Коммерц-коллегии в 1736 году как-то поутру донесли на своего коллегу-канцеляриста Андрея Лякина, крамольно заявившего в дружеской ночной попойке, что не только он, но и государыня «де и на престоле серет». Плети воздействовали на Лякина благотворно в смысле воздержания от хмельного и даже подвигли его к государственному мышлению. Пятнадцать лет спустя он, уже почтенный архивариус Мануфактур-коллегии, подал в Тайную канцелярию как самое компетентное учреждение по части последствий проект «О избавлении российского народа от мучения и разорения в питейном сборе». Опытный чиновник сожалел, что нельзя «вовсе пьянственное питье яко государственный вред искоренить», так как народ к нему «заобыклый» и «по воздуху природный и склонный», но предлагал отменить государственную монополию на водку и откупы и перейти к свободному винокурению с уплатой соответствующих налогов: «Где запрещение — там больше преступления». Следы этого проекта теряются в Сенате, куда дело было послано из Тайной канцелярии.
Сенат утвердил специальную форму для «доношений»: «Доносит имярек на имярека. А в чем мое доношение тому следуют пункты…». Но в неграмотной стране доносы писали редко, обычной практикой было устное «доношение» в ближайшее «присутствие». Иные из доносителей наотрез отказывались сообщать что-либо местному начальству — их-то и доставляли в Москву и Петербург со всех концов страны. В Тайной канцелярии «колодники» рассказывали о своих подозрениях, часто необоснованных или недоказуемых — не случайно около половины заявлений признавались ложными. Другие «ходоки» добирались до Тайной канцелярии по своей воле.
Награды за «правый» донос на знатных «изменников» бывали щедрыми. Сибирский подьячий Осип Тишин, по чьей инициативе началось последнее и роковое для семейства Долгоруковых дело 1739 года, получил от Анны целых 600 рублей. Это показалось Ушакову даже слишком, и он докладывал, что деньги лучше выдавать не сразу, а «погодно», ибо подьячий «к пьянству и мотовству склонен»: «ежели сразу все пропьет, то милость не так чювственно помнить будет». Опытный Андрей Иванович оказался прав: пьяный до безобразия, но гордый доносчик явился в Сенат, стал там куражиться и грозил всех разоблачить. В застенке он, естественно, вспомнить ничего не мог, но в уважение прежних заслуг от наказания был освобожден и назначен секретарем в Сибирский приказ.
Другим везло не так, но упорством они отличались не меньшим. В 1740 году дьячок из села Орехов Погост Владимирского уезда Алексей Афанасьев пробился в местное духовное правление, затем в Синод и наконец попал в Тайную канцелярию с доносом на своего батюшку-начальника в том, что поп не учитывает не исповедовавшихся и «сидит корчемное вино» в ближнем лесу. Следствие не обнаружило искомого самогонного аппарата, но упорный дьячок, заявивший, что на донос его подвигло видение «пресвятой Богородицы, святителя Николая и преподобного отца Сергия», грозил: «Я де пойду и к самой государыне», — и не отказался от своих слов даже на дыбе, вытерпел все полагавшиеся пытки и был сослан в Сибирь.[164]
Порой зависть и злоба заставляли врагов идти на дурно пахнувшие, в буквальном смысле, поступки. В октябре 1732 года на дворе Соловецкого монастыря торжествующий иеродьякон Самуил Ломиковский, «вышед из нужника, держал в руках две картки, помаранные гноем человеческим, и сказал: „За эти де письма кому-нибудь лихо будет“». Оказалось, что на них написан «титул ея императорского величества и ея величества фамилии, а признавает он, Ломиковской, что теми картками подтирался помянутой иеромонах Лаврентий» — старинный «друг» иеродьякона монах Лаврентий Петров.[165]
Перечислять подобные смешные и горькие казусы можно до бесконечности — так много их было в делах Тайной канцелярии, что даже ее чиновники стали отдельно группировать дела «о лицах сужденных за брань против титула» и против казенных бумаг с упоминанием высочайшего имени, в том числе обвинения в «непитии здоровья» императрицы. Стоило поручику в заштатном гарнизоне обругать очередной приказ, возлагавший на него новые тяготы, или загулявшему посадскому в кабаке сравнить императорский портрет на серебряном рубле со своей подругой, как тут же находились «доброжелатели», готовые обличить беднягу в оскорблении титула и чести государыни.
При любом исходе дела со всех привлеченных к нему бралась расписка о неразглашении услышанного и испытанного в застенке — чтоб «нигде ни с кем разговоров не имел» под страхом жестокой казни. Но в основном приговоры Тайной канцелярии не отличались особой жестокостью: в 1732 году были казнены три человека — чудовский архимандрит Евфимий, солдат Макар Погуляев и поп-расстрига Савва Дугин.
Обычным исходом для большинства провинившихся в неосторожной болтовне было наказание плетьми (в более серьезных случаях — кнутом) и «свобождение» на волю или к прежнему месту службы. Хотя случалось, что грубая фраза оборачивалась бедой: в 1734 году солдат столичного гарнизона Петр Агеев на вопрос сослуживца-капрала, была ли императрица на водосвящении, простодушно ответил, что стоял далеко, а потому «черт де ее знает, была ль или нет», и по доносу того же капрала был «истязай» кнутом и навечно сослан в Охотск.
При подозрении на групповой сговор или запирательстве подозреваемых начиналось следствие: допрос с «пристрастием», очные ставки, затем — при упорстве — пытка на дыбе под ударами кнута и «жжением» по спине тлеющим веником. Всего же за десятилетие «бироновщины» через Тайную канцелярию прошло 10 512 узников, а в сибирскую ссылку отправились 820 человек, что никак не соответствует упоминающимся в литературе 20 тысячам ссыльных.[166] По подсчетам К. Г. Переладова, при Анне были сосланы 977 человек.[167]
Документы Тайной канцелярии позволяют «подслушать» разговоры и мысли разных людей той эпохи — в изложении чиновников. Впрочем, правила делопроизводства заставляли их дословно излагать самые «непристойные» слова подследственных, вплоть до обвинений в адрес высочайших особ. О чем же говорили «клиенты» Ушакова? В круге вопросов, интересовавших следователей, на первое место выступали личность и действия самодержицы и ее двора. Подданные как в ту пору, так и в более поздние времена неизменно проявляли вполне объяснимый интерес к личной жизни повелителей, несмотря ни на какие наказания за «непристойные слова» в адрес матерей и отцов отечества. О придворной жизни судачили не только чиновники и офицеры, «дворцовые служители», но и крестьяне в забытой Богом глуши.
Новгородец Иван Селезнев заработал пятилетнюю каторгу рассказом о том, как царь Петр «жил до венца» с Екатериной, окрестил ее, «а о том никто не ведали. Когда де он приехал обвенчавши во дворец и велел палить из всех пушек, и господа все дивитца стали». Про Анну иногда говорили, что она «до народа всякого звания милостива», а порой даже жалели. В 1739 году жительница Старой Руссы Авдотья Львова угодила на дыбу за исполнение песни о печальной молодости императрицы, по приказу Петра I выданной замуж за курляндского герцога:
Не давай меня, дядюшка,
Царь государь Петр Алексеевич,
В чужую землю нехристианскую, бусурманскую.
Выдай меня, царь государь,
За своего генерала, князя, боярина.
Тщетно бедная мещанка уверяла, что пела «с самой простоты», как исполняли эту песню многие во времена ее молодости. От имени той самой Анны ее ожидало «нещадное» наказание кнутом с последующим «свобождением» и вразумлением о пользе молчания.
Прямых отражений в народных «толках и слухах» два государственных переворота 1730 года не нашли — они были, согласно известной формуле, «страшно далеки от народа». Пожалуй, только одно из дел привлекло внимание самого Ушакова, который лично присутствовал при допросах. Дьякон из городка Велье Псковской провинции Осип Феофилатьев вместе с развозившим указы о новой присяге «мужиком» Иваном Евлампиевым истолковали их так: «Выбирают Де нового государя». Подобные разговоры, как показало следствие, обвиняемые вели со многими лицами — все они отправились в Сибирь.
Тем не менее начало правления Анны вызвало политические проекты не только «сверху», но и «снизу». 18 июля 1733 года в «летний дом» императрицы в Петергофе явился сенатский секретарь Григорий Баскаков и потребовал вручить его бумаги императрице. Чиновника задержали и даже полагали «в уме повредившимся», тем более когда выяснилось, что он в последнее время «весьма пил». В поданной бумаге секретарь и вправду сокрушался об «умножении различных противных Богу вер» и для их искоренения призывал Анну Иоанновну «итти с войною в Царьград» (война с Турцией вскоре началась, однако по решению куда более трезвых государственных деятелей). Но далее речь шла уже о вполне конкретных непорядках: «несходстве» финансовых документов, «неправом вершении дел» и «страждущей юстиции». Секретарь предлагал приучать молодых дворян к «доброму подьяческому труду», для чего следовало определить при коллегиях 60 «юнкоров» под начало опытного приказного, который учил бы шляхтичей канцелярским премудростям на разборе конкретных дел.[168] Секретарь отделался легко — его скоро отпустили.
Гораздо печальнее судьба другого прожектера — «распопы» Саввы Дугина, принадлежавшего к породе вечных правдолюбцев. Еще в 1728 году он доносил о злоупотреблениях управляющего Липецким заводом; затем отправлял свои сочинения в Синод и в конце концов угодил на каторгу, но не успокоился и продолжал писать, страстно желая, чтобы государыня прочла его «тетрати». В своих сочинениях, написанных в том же году, что и шляхетские проекты, Дугин обличал церковные непорядки — невежество и пьянство священников и «сребролюбие» епископов, предлагая священников «отставлять» от прихода и повсеместно «запретить, чтоб российский народ имел воскресный день в твердости, тако же и господские праздники чтили».
Но далее «распопа» «дерзнул донесть, в какой бедности, гонении и непостоянстве и во гресех и в небрежении указов и повелений находитца Россия» от лихоимства больших и малых властей, неблагочестия, воровства, чрезмерно тяжелых наказаний за «малые вины». Для борьбы с этим злом бывший священник предлагал, чтобы «во всяком граде был свой епископ» для просвещения как духовенства, так и паствы. Прокуроров следовало «отставить» по причине их бесполезности; воевод же надлежало оставлять в должности не более двух-трех лет, а администрация при них должна быть выборная: «по 10 человек для розсылок и наряду по неделе по очереди».
Расстриженный и сеченый каторжник требовал введения в России принципа неприкосновенности личности («без вины под караул не брать»), предлагал запретить телесные наказания («батожьем бить отнюдь воспретить во всей империи»); наблюдать же за охраной прав граждан должен был местный протопоп. Дугин считал, что «народу полезнее» сократить подушную подать до 50 копеек с души; а с безземельных дворовых, а также со стариков после шестидесяти и с детей до семи лет ее не следует брать совсем, как и с умерших.
Впрочем, защитник гражданских прав признавал крепостное состояние вполне нормальным явлением. Как и министры Анны, он был озабочен массовым бегством крестьян, для борьбы с которым предлагал сочетание экономических и «наглядных» мер. Так, за выдачу и привод беглых нужно учредить премию в пять рублей, а самим беглым в наказание отсекать большой палец на ноге и «провертеть» ухо; пойманным же во второй раз рубить ноги, «а руками будет на помещика работать свободно». В застенке Дугин ни в чем не винился — напротив, собирался продолжить свой трактат и объяснить Анне, «каким образом в рекруты брать и как в чины жаловать, и каких лет в службе быть», но не успел — 4 апреля 1732 года был казнен на Сытном рынке столицы.[169]
Идеи этих проектов касались тех же самых проблем, которые волновали шляхетское общество в 1730 году, а позднее — министров и сенаторов Анны. Но новая власть не была намерена поощрять подобную инициативу ни сверху, ни снизу. В дальнейшем таких интересных документов по ведомству Ушакова уже не встречается — они заменяются более привычным жанром «подметных писем». Два из них, подброшенные монахом Симеоном в кремлевских соборах, извещали о грядущем конце света (этот вопрос интересовал и Дугина, вычитавшего, что в 1736 году «погибнет Африка», а через два года ожидается второе пришествие); другие касались более насущных проблем.
Одно из посланий обличало московских откупщиков: «похищают явно великой интерес» казны. Однако автора письма волновали не только злоупотребления кабатчиков, но и само пьянство как следствие насаждения кабаков: «Наливают покалы великие и пьют смертно; а других, которыя не пьют, тех заставливают силно, и мнози во пьянстве своем проговариваютца, и к тем праздным словам приметываютца приказныя и протчия чины».
Недовольство «низов» выражалось в их специфически российском участии в политической жизни — самозванчестве. В августе 1732 года в Тамбовском уезде был пойман очередной «царевич Алексей Петрович» — бывший крепостной Новодевичьего монастыря Тимофей Труженик. В том же году беглый драгун Нарвского полка Ларион Стародубцев назвался другим сыном Петра «царевичем Петром Петровичем». Один из четырех объявившихся при Анне «Алексеев», мелкий украинский шляхтич Иван Миницкий, сумел распропагандировать солдат расквартированной под Киевом воинской команды, так что они были готовы «за него стоять» и даже несли круглосуточное дежурство у избы, где жил «царевич». Перед походом на Москву Миницкий отслужил торжественный молебен, за что священник вместе с самим самозванцем был посажен на кол, а перешедшие на его сторону солдаты — четвертованы.
С 1732 года стали объявляться лже-Петры II — вплоть до 1765 года. Рано умерший юный царь воспринимался как «законный» в условиях полной правовой неразберихи с престолонаследием и сомнительного «женского правления». Народные ожидания только подогревались официальными манифестами, призывавшими присягать неизвестному «наследнику всероссийского престола, который от ее императорского величества объявлен будет», но не провозглашенному до самого конца царствования.
«Механизм» появления таких «претендентов» еще не очень понятен, его трудно однозначно отнести как к «нижнему», народному, так и к «верхнему» (по терминологии Н. Я. Эйдельмана) самозванчеству, свойственному правящему слою. Часть подобных случаев можно объяснить психическими расстройствами. Однако сборник дел Тайной канцелярии под названием «О лицах, сужденных за поступки и слова, которые делались и произносились в умопомешательстве», показывает, что само это «умопомешательство» принимало какой-то отчетливо политический характер. Бывший кавалергард майор Сергей Владыкин в 1733 году послал императрице письмо, в котором называл ее «теткой», а себя «Божией милостью Петром третьим»; просил определить его майором гвардии и дать «полную мочь кому голову отсечь». Магазейн-вахтер Адмиралтейства князь Дмитрий Мещерский поведал, что офицеры уговаривали его поближе познакомиться с принцессой Елизаветой: «Она таких хватов любит — так будешь Гришка Рострига». Отставной профос Дмитрий Попрыгаев в 1736 году отправил письмо бывшему лидеру «верховников» князю Д. М. Голицыну с обещанием: «Великим монархом будеши!»[170] Может быть, это злополучное письмо ускорило судебный процесс (начавшийся как раз в тот год) над князем, давно уже бывшим на подозрении.
И совсем уж обычными среди материалов Тайной канцелярии были многочисленные критические отзывы о правлении «женского пола». Ее дела содержат рассуждения, а то и споры мещан, солдат и мелких чиновников, с кем же «телесно живет» государыня — с Бироном, «Левальдом» или все-таки с фельдмаршалом «фон Минихиным»; на последнем настаивал солдат Макар Погуляев, за что и поплатился головой в 1732 году. Тогда же посадский Иван Маслов из анализа политической ситуации («государыня императрица соизволила наследником быть графу Левольде, да она же де государыня на сносех») сделал авторитетный вывод — «и ныне де междоусобной брани быть».
Толковали о тайных «чреватствах» и рождении детей («у государыни Анны Иоанновны есть сын в Курляндской земле»; «слышал он в народной молве, бутто у ея императорского величества имеетца сын»). Но сами любопытствовавшие подробностей не знали, передавали именно «слухи и толки», лично во дворцовых покоях никогда не были и свечку не держали — так что полагаться на эту «информацию» не стоит. «Я де был в гвардии и стаивал в государеве дворце на первом крыльце и знаю все тайности», — хвалился солдат Лавр Зайцев; на следствии же выяснилось, что служил он хоть и в столичном Невском полку, но в гвардии не состоял и во дворце не был.
И все же, судя по многим делам, отношение к Анне в придворно-военной среде было несколько более спокойным и терпимым по сравнению с Елизаветой. После лихого солдатского переворота 1741 года, похоже, разница в положении «земного бога» и «рабов» намного сократилась. «И сама де государыня такой же человек, как и я, только де тем преимущество имеет, что царствует», — был убежден 19-летний сержант Алексей Ярославцев: возвращаясь с приятелем и дамой легкого поведения из винного погреба, он не счел нужным в центре Петербурга уступить дорогу Елизавете Петровне «и бранили тех ездовых и кто из генералов и из придворных ехали, матерно, и о той их брани изволила услышать ее императорское величество».
В то время имевшие отношение к дворцу люди с поразительным знанием дела обсуждали интимную жизнь государыни. Простой поручик Ростовского полка Афанасий Кучин в 1747 году заявил всемогущему А. И. Ушакову: «Ее императорское величество изволит находиться в прелюбодеянии с его высокографским сиятельством Алексеем Григорьевичем Разумовским; и бутто он на естество надевал пузырь и тем де ее императорское величество изволил довольствовать», — кажется, впервые указав на появившуюся при дворе новинку в области противозачаточных средств.
А рядовой лейб-компанец Игнатий Меренков мог по-дружески позавидовать: вот его приятель, гренадер Петр Лахов «с ее императорским величеством живет блудно» — а чем он лучше? За «свою сестру блядь» держали Елизавету Арина Леонтьева из сибирского Кузнецка и другие «посадские женки» не слишком строгих нравов. Дела Тайной канцелярии показывают осведомленность подданных и о внебрачных детях императрицы, про которую «с самой сущей простоты» сложили веселую песню:
Государыню холоп
Подымя ногу гребет.[171]
«Немца» Бирона при Анне, конечно, поминали, но во всем XVIII столетии никто, кажется, не вызывал такой лютой ненависти, как пробившийся «из грязи в князи» православный славянин — фаворит Елизаветы, добродушный сибарит Алексей Разумовский. Чего только ему ни приписывали — и планы «утратить» наследника, и использование его матерью колдовства («ведьма кривая, обворожила всемилостивейшую государыню»); выдумывали даже, что у самой благодетельницы он велел «подпилить столбы» в спальне, чтоб ее «задавить». Мнение значительной части дворянского общества выразил по этому поводу унтер-экипажмейстер А. Ляпунов: «Всемилостивейшая де государыня живет с Алексеем Григорьевичем Разумовским; она де блядь и российской престол приняла и клялася пред Богом, чтоб ей поступать в правде. А ныне де возлюбила дьячков и жаловала де их в лейб-компанию в порутчики и в капитаны, а нас де дворян не возлюбила и с нами де совету не предложила. И Алексея де Григорьевича надлежит повесить, а государыню в ссылку сослать».[172]
После дворцовых переворотов 1740–1741 годов такие заявления уже могли стать реальностью. Но в 30-е годы российское «шляхетство» еще не вошло во вкус дворцовых «революций». Да и власти в это время с подозрением относились именно к возможной дворянской оппозиции, памятуя о «кондициях» и «прожектах» 1730 года.
Плохая «социальная репутация» правления Анны в немалой степени была вызвана репрессиями против представителей благородного сословия. Расправа с кланом Долгоруковых, «дела» смоленского губернатора А. А. Черкасского, князя Д. М. Голицына, А. П. Волынского и его «конфидентов» показали, что государыня все помнит и не спускает даже малейших проявлений «своеволия». Хотя порой Анна умела быть и великодушной. Жена сосланного ей Бестужева-Рюмина не стеснялась в «непристойных словах к чести ее императорского величества», о которых сразу же донесли ее крестьяне. Но государыня вместо расследования повелела отписать мужу, что отправляет к нему виновную, «милосердуя к ней, Авдотье» — и пусть впредь не болтает.
Из 128 важнейших судебных процессов ее царствования 126 были «дворянскими», почти треть приговоренных Тайной канцелярией принадлежала к «шляхетству», но вовсе не обязательно к знати; списки осужденных показывают, что в Оренбургские степи, в Сибирь, на Камчатку отправились «пошехонский дворянин» Василий Толоухин, отставные прапорщики Петр Епифанов и Степан Бочкарев, «недоросли» Иван Буровцев и Григорий Украинцев, драгун князь Сергей Ухтомский, отставной поручик Ларион Мозолевский, подпоручик Иван Новицкий, капитан Терентий Мазовский, воевода Петр Арбенев, коллежский советник Тимофей Тарбеев, майор Иван Бахметьев и многие другие российские дворяне.[173]
Одних из подследственных ожидали жестокие пытки и казнь, как упомянутого Алексея Жолобова или Егора Столетова, который тоже на свою беду в подробностях рассказывал, как сестра царицы, мекленбургская герцогиня Екатерина Иоанновна, сожительствовала с его приятелем князем Михаилом Белосельским.
Другим повезло больше — в ссылку «без наказания» были отправлены коллежский советник Иван Анненков и асессор Константин Скороходов. В 1735 году сын лифляндского мужика и племянник императрицы Екатерины I, уже безмерно обласканный судьбой кадет Мартин Скавронский размечтался: «Нынешней де государыне, надеюсь, не долго жить, а после де ее как буду я императором, то де разошлю тогда по всем городам указы, чтоб всякого чина у людей освидетельствовать и переписать, сколько у кого денег». Царствовать беспутный кадет, естественно, не стал, но легко отделался: после отсидки в тюрьме Тайной канцелярии был выпущен и дослужился впоследствии до действительного тайного советника 1-го класса и обер-гофмейстера двора. Наряду с искателями придворной фортуны в застенки попадали и люди с более твердыми убеждениями: в 1734 году был казнен бывший гвардеец, полковник Ульян Шишкин, объявивший «по совести своей» на следствии, «что ныне императором Елисавет», а Анну «изобрали погреша в сем пред Богом».
Нельзя сказать, чтобы все подследственные и осужденные дворяне или чиновники являлись политическими преступниками или страдальцами за свои убеждения. Протоколы учреждения со страшноватым названием «Канцелярия конфискации» показывают вполне рутинную деятельность по «штрафованию» нерадивых воевод и чиновников, взысканиям с недобросовестных или прогоревших подрядчиков казны, разоблачению «похищений» казенных средств, взиманию недоимок — и отнюдь не только с бедных крестьян. «Бывшего в канцелярии моей секретаря Егора Мишутина за имеющуюся на нем доимку за пятьсот за семьдесят рублев двор ево с пожитками и с людьми продать», — распорядился обер-гофмейстер двора С. А. Салтыков в отношении своего подчиненного.
Дела о конфискации имущества в царствование Анны, показывают, что имения и дворы отбирались не у «патриотов», а по тем же причинам, что и до того, и после: за невыполнение подрядных обязательств по отношению к казне, долги по векселям, «похищение казны». Трудно считать жертвами «бироновщины», например, московского «канонира» Петра Семенова, продававшего «налево» гарнизонные пушки, или разбойничавшего на Муромской дороге поме- ' щика Ивана Чиркова.[174] Дворяне были недовольны неудачной войной, тяжелой службой, ответственностью помещиков за выплату их крепостными податей. Но эти сугубо российские проблемы не связывались с каким-либо «иноземным засильем» и не порождали «патриотического» протеста.[175]
После коронации, в июне 1730 года, была объявлена программа реформ. Серия именных указов предусматривала скорейшее составление нового Уложения, учреждение комиссий для рассмотрения состояния армии «без излишней народной тягости», «сочинение» новых штатов государственных учреждений, разделение Сената на департаменты. Почти каждый из указов отмечал, что он является исполнением заветов «государя дяди нашего». Эта программа осталась в итоге нереализованной; но даже ее выполнение означало бы только консервацию созданной Петром I системы с некоторой корректировкой, но без каких-либо принципиальных изменении в чем единодушны историки разных поколений.
Пришлось, однако, пойти на уступки «шляхетству» и его требованиям 1730 года. Был уничтожен петровский закон о единонаследии и сделан шаг по пути дамской эмансипации: Анна (не по собственному ли опыту?) повелела выделять поcле смерти мужей женам седьмую часть недвижимого и четверть движимого имущества (плюс приданое), которым вдовы могли распоряжаться по своему усмотрению. Права дочерей не были столь же четко оговорены, и дворянки послепетровской эпохи стали проявлять все большую активность в деловых вопросах — например, требовать свою долю из отцовского наследства, несмотря на полученное приданое, покупать землю в собственность у своих же мужей и даже самовольно продавать семейную собственность. В 1738 году некая Анна Бартенева впервые подала в суд на мужа за то, что он заложил ее приданое имение.[176]
Был открыт Сухопутный шляхетский кадетский корпус для подготовки из дворянских недорослей офицеров и «статских» служащих. В 1731 году правительство в поисках лучшей системы «произвождения» в первые обер— и штаб-офицерские чины в армии восстановило отмененную было при Екатерине I практику баллотирования. В первые годы царствования Анны помещичьи крестьяне потеряли право приобретать земли в собственность, им было запрещено брать откупы и казенные подряды. С другой стороны, все поползновения дворянского «общенародия» на участие во власти (например, предложения проектов 1730 года о выборности должностных лиц в центральных учреждениях и губерниях) были решительно отвергнуты.
Экономическая политика этого периода представляет собой отдельную тему, еще нуждающуюся в изучении. Но и имеющиеся данные позволяют говорить, что эта политика стала более гибкой, чем в петровское время, хотя принципы ее кардинально не менялись: государство, как и прежде, оставалось главным контролером, покупателем и заказчиком промышленной продукции. Это покровительство обеспечивало стабильный рост, и даже в годы Русско-турецкой войны правительству уже не надо было прибегать к принудительной мобилизации экономики на военные нужды.
При этом «немецкое» правительство не стремилось ослабить русскую промышленность или подчинить ее иностранцам. Берг-регламент 1739 года подтверждал право каждого, обнаружившего залежи полезных ископаемых, на их разработку; разрешал приписку казенных крестьян к частным заводам и освобождал промышленников от пошлин на доставляемые к предприятиям продукты и припасы. Документы Кабинета свидетельствуют, что правительство осторожно подходило к запросам иностранных дельцов. Так, в 1733 году прусскому предпринимателю фон Иттеру было отказано в передаче его компании казенных суконных фабрик в Москве и Казани, в 1739 году министры не разрешили отдать «в содержание» англичанину Мееру ряд сибирских заводов.[177]
Подготовленный Комиссией о коммерции во главе с Остерманом новый таможенный тариф 1731 года ушел от крайностей петровской политики: были снижены ввозные пошлины на импортные товары (с 75 % по тарифу 1724 года до 20 %) и отменил запретительное обложение экспорта льняной пряжи. Тем самым он заставлял отечественных «фабриканов» конкурировать с заграничными производителями и восстанавливал традиционные статьи экспорта. В то же время для развития отечественного производства предусматривалась отмена пошлин на ввоз сырья и инструментов.[178] Но этот рост достигался, как и в предьщущие времена, за счет увеличения доли подневольного труда: закон 1736 года разрешал предпринимателям оставить в своем владении всех обученных ими прежде свободных рабочих.
Неумолимый дефицит бюджета заставил отказаться от некоторых предпринятых ранее либеральных мер: в 1731 году были восстановлены казенные монополии на соль и ревень, ликвидированные в годы правления Верховного тайного совета. Финансовые проблемы заставили подумать об изменениях даже в самых знаменитых и удачных петровских нововведениях — в армии и на флоте. По современным подсчетам, они хронически недофинансировались: недоимки составляли по армии от 6 до 30 %; по флоту — 24 % в год. Строившиеся при Петре из сырого леса суда быстро приходили в негодность: из 36 линейных кораблей полностью боеспособными остались к началу 30-х годов только восемь. Созданная в 1732 году «Воинская морская комиссия» вместе с Сенатом пришла к выводу о необходимости отказаться от петровской программы строительства больших военных кораблей в запертом Балтийском море. В докладе Сената флоту отводилась более реалистичная вспомогательная роль обороны побережья от наиболее вероятного противника — Швеции, и «по пропорции опасности» надлежало строить преимущественно средние 66-пушечные суда.[179]
В отличие от расходов на флот, с тех пор остававшихся стабильными до конца эпохи, сократить армию не удалось. «Бироновщина» успешно продолжила традицию имперской внешней политики. По мнению исследователей, с начала 30-х годов можно говорить о «новой доктрине» внешней политики, определившей ее курс на полвека вперед. Главным ее содержанием стала смена направления: отказ от дальнейшей экспансии на Балтике во имя активного утверждения русского влияния в соседней Польше и наступательных действий против Турции и Крыма.
В начале царствования Анны российская дипломатия покончила с «голштинской» проблемой: Россия и Австрия подписали в 1732 году договор с Данией, по которому последняя соглашалась выплатить голштинскому герцогу миллион талеров в качестве компенсации за утраченные им земли; в случае отказа союзники не имели больше по отношению к нему никаких обязательств. Изменилась к началу 30-х годов и ситуация в европейском «концерте». Ценой уступок (в частности ликвидации собственной морской торговли) Австрия добилась восстановления в 1731 году союза с Англией. Новая комбинация означала распад враждебного России и Австрии Ганноверского союза, в результате чего международную ситуацию на Западе все больше стало определять разраставшееся соперничество двух крупнейших колониальных держав — Англии и Франции.
Проверкой для союзников стал разразившийся в Польше в связи со смертью в феврале 1733 года короля Августа II кризис. Впервые была опробована ставшая затем обычной тактика вторжения русских войск в Польшу с целью поддержки нужного кандидата на польский престол. С помощью этих мер королем был утвержден сын покойного, саксонский курфюрст Август III.
Новые горизонты европейской политики и согласованные действия союзников в Польше подготовили следующий шаг — наступление на Турцию в качестве реванша за Прутский поход. Осенью 1733 года фельдмаршал Миних представил план подготовки к «предбудущей кампании» южного театра боевых действий: складов провианта, осадного оборудования, транспортных средств. По сообщению английского консула Рондо, русское правительство принципиально решило вопрос о будущей войне уже в начале 1734 года.[180] Но в Польше затянулись военные операции против сторонников Станислава Лещинского; к тому же надо было окончательно решить проблему закаспийских территорий и Урегулировать отношения с Ираном, выходившим из внутреннего кризиса.
В июне 1730 года главнокомандующему генералу В. Я. -Ненашеву и отправленному к нему на помощь П. П. Шафирову было поручено «склонять» нового правителя Ирана Надира к заключению договора, в крайнем случае уступив в обмен на союз земли «до Куры реки». В конце года было решено вернуть Ирану уже все занятые прежде провинции за «вольности в торговле», чтобы не допустить турок к берегам Каспийского моря.[181] При этом сохранившаяся дипломатическая документация не дает оснований говорить о решающей роли Бирона в отказе от этих завоеваний. В иранском лагере под Гянджой в мае 1735 года русский посол С. Д. Голицын подписал окончательные условия мира: новый властитель Ирана обязался быть постоянным союзником России и бороться с турками, а русская сторона возвращала в двухмесячный срок территорию Азербайджана и Дагестана с Баку и Дербентом.
С трудом Россия вышла из одной войны, чтобы немедленно начать другую, для чего и готовил армию фельдмаршал Миних. Реформы в послепетровской армии вызывают различные оценки. В советской литературе можно встретить скорее отрицательные суждения о них, как о «возвращении к прошлому» (какому? —
Образованный и способный офицер (он хорошо знал латынь, французский язык, математику, инженерное дело), Миних с 16 лет служил во французской, австрийской, польской и нескольких германских армиях; сражался под знаменами принца Евгения Савойского в битвах Войны за испанское наследство. Петр I взял его на службу в 1721 году генерал-майором, но держал в качестве опытного строителя. Честолюбивый Миних только при Анне получил возможность реально возглавить всю военную машину России и начать ее частичную перестройку.
Миниху удалось объединить в рамках Военной коллегии громоздкую систему управления, включавшую семь канцелярий и контор, что можно считать скорее шагом вперед в процессе централизации. Основанный им кадетский корпус стал не только школой подготовки офицерских кадров, но и одним из важнейших учебных заведений России той эпохи. На командные должности запретили назначать неграмотных, вновь открылись гарнизонные школы, жалованье русских офицеров было уравнено с жалованьем иностранных. Из артиллерийского полка был выделен самостоятельный Инженерный корпус, состоявший из саперов, минеров и понтонеров.
Другие же преобразования были менее удачны. Протяженные укрепленные линии на Украине, строительство которых потребовало огромных средств, не всегда могли предупредить татарские набеги — как, например, зимой 1736/37 года. Новые правила обучения солдат предусматривали преимущественно неприцельную стрельбу в ущерб штыковой атаке. Увеличение количества пушек вдвое снизило их мобильность и привело к разномастности калибров артиллерийского парка.
Миних считал, что именно тяжелая кавалерия (рейтары и кирасиры) сыграла решающую роль в победах Евгения Савойе кого над турками. Поэтому он в 1731 году переформировал четыре драгунских полка в кирасирские. Рослых лошадей для них ввозили из Германии. Стоимость содержания тяжелой кавалерии была намного выше, чем драгунских частей. Появление кирасирских полков способствовало улучшению коннозаводства, но они обходились весьма дорого и оказались бесполезными на театре военных действий против турок и татар.
Названные меры вроде бы свидетельствовали о стремлении быстрее «европеизировать» русскую армию. Но в условиях России это было не всегда разумно, как и расходы на новую форму и введение «пуклей с косами»: в армии появились светлые парики, пудра, белила, манжеты, «штиблеты» (холстинные гетры); длинные косы у рядовых должны были оплетаться черной кожей, у офицеров — черной лентой. Для нижних чинов пудра заменялась мукой, которую для затвердевания накладывали в жидком виде. Введение прусских мундиров не учитывало холодного климата страны. Кажется, на склоне лет вернувшийся из ссылки Миних это понял и советовал Петру III не вводить прусских мундиров в русской армии.
Так или иначе, эти реформы закрепляли взятый при Петре I курс на строительство военной империи: к концу правления Анны армия составляла почти семь процентов населения, в полтора раза превосходя по численности торговцев и ремесленников.[182] В 1735 году впервые после Северной войны русская армия двинулась на запад. При Петре I русские полки воевали только в северо-восточном углу Германии — теперь же они двинулись на Рейн помогать терпевшему неудачи в войне с Францией австрийскому союзнику. Это была обычная «королевская» война: соперники долго готовились, полководцы совершали марши и контрмарши, вели осады крепостей по всем правилам военного искусства. Например, в ходе сражения за крепость Кель французские потери составили убитыми 16 солдат и Два офицера; ранеными, соответственно, 46 и семь, а также 179 дезертиров.
Марш русского корпуса П. П. Ласси грозил нарушить порядок этой чинной войны. Поэтому в сражении ему побывать так и не пришлось: имперцы и французы сами решили прекратить распрю «за польское наследство», тем более что в Варшаве вопрос был уже давно решен. В корпусе царила высокая дисциплина, что отмечал принц Евгений Савойский, которому подчинялись российские вспомогательные войска.
Однако «командировка» русских солдат и офицеров имела и другие, не совсем приятные последствия: познакомившись с высоким уровнем жизни и отсутствием крепостнических порядков в австрийских и прирейнских землях Священной Римской империи, солдаты (они исправно получали из имперских магазинов хлеб, мясо, гречневую крупу, дрова, свечи, постели и солому «ради ночного покоя») нередко предпочитали дезертировать в поисках лучшей, чем в отечестве, доли. Ласси уже из австрийской Силезии докладывал в Кабинет министров: «Пред вступлением в Шлезию и по вступлении на первых днях бежало изо всех полков салдат до 20 человек, ис которых несколько переловлено, и страха ради некоторым имеет быть смертная казнь учинена». Командованию пришлось даже делать специальные объявления о поимке беглых «со обещанием от меня привотчикам по шести талеров за человека».[183]
С трудом Россия вышла из иранской и «польской» войн, чтобы немедленно начать другую. Уже осенью 1735 года генерал Леонтьев совершил первый, хотя и неудачный, поход во владения крымского хана. Затем началась долгая война, потребовавшая огромного напряжения сил и столь же огромных потерь. Союзники действовали несогласованно, русские армии два года подряд совершали изнурительные марши в Крым, откуда были вынуждены уходить из-за жары, болезней и отсутствия провианта и фуража. В 1738 году под угрозой эпидемии русские войска ушли с берегов Черного моря и оставили только что взятую крепость Очаков. Только в 1739 году главнокомандующий Миних наметил оправдавший себя впоследствии маршрут через Молдавию прямо в турецкие владения на Балканах и даже заключил с молдавским господарем договор о его переходе в русское подданство.
Однако наметившийся после сражения при Ставучанах оперативный успех развить не удалось: как раз в это время австрийцы были разбиты под стенами Белграда и вынуждены были заключить мир ценой потери всех территорий, завоеванных к 1718 году. Император Карл VI бросил в тюрьму своего фельдмаршала Валлиса и заключившего мир графа Нейперга; но воевать в одиночку Россия не была готова, несмотря на возмущение Миниха, даже осмелившегося отказаться прекратить военные действия до ратификации мирного договора. По Белградскому договору, условия которого от имени русского правительства согласовывал в Константинополе французский дипломат, Россия не получила ни выхода к морю, ни права держать там свой флот; ей достались только Азов без права строить там укрепления и полоса степного пространства к югу вдоль среднего течения Днепра.
В литературе не раз назывались ошибки не жалевшего солдат и офицеров Миниха: бесплодные вторжения в Крым по образцу походов конца XVII века, плохая организация, огромные обозы, неуклюжие построения войск в виде огромного каре. В походе к Днестру летом 1738 года 25 тысяч телег с 12 тысячами погонщиков-украинцев и гурты скота двигались за армией. Участник похода, австрийский капитан Парадис отмечал, что одной из больших помех был непомерный багаж: «Чтобы судить о том, я скажу, что есть старшие офицеры, у которых до 30 подвод, не считая верховых лошадей. Командир гвардейцев, Бирон однажды в моем присутствии сказал, что у него под вещами до 300 возов и лошадей, не считая 7 мулов и 3 верблюдов, что есть даже сержанты гвардии, у которых до 16 телег».
Миних-сын обвинял в провале этой кампании Бирона-фаворита, якобы запретившего двигаться кратчайшим путем в Молдавию через Польшу, потому что боялся осложнений в земле своего суверена — польского короля. Но Бирон к тому времени уже был избран герцогом и едва ли мог опасаться неудовольствия безвластного польского монарха. Миних-отец, никого не спрашивая, на обратном пути как раз вступил на польскую территорию. Бедствующая армия основательно «побеспокоила» имения магнатов, которые жаловались на разорение их владений русскими войсками при следовании армии от Буга к Днестру и затем при отступлении.
Не лучшим образом действовали и дипломаты: сначала на переговорах с турками в 1737 году они «запросили» слишком многого — все Северное Причерноморье до Дуная вместе с Молдавией и Валахией под русским протекторатом. Такие аппетиты вызвали несогласие не только турок, но и союзников-австрийцев, и в итоге переговоры были сорваны. Зато потом, в 1739 году в Петербурге русские согласились на невыгодные условия мира: Россия даже не могла вести торговлю на своих кораблях, что разрешал договор 1700 года. Но для этих уступок были свои причины.
Швеция собиралась начать войну в случае неудачной для России летней кампании, и необходимо было избежать войны на два фронта. Срыв военного союза Швеции и Турции стал необходим, и в июне 1739 года высшее руководство страны решилось на опрометчивый шаг: российские офицеры по приказанию Миниха выследили и убили в Силезии ехавшего под чужой фамилией из Стамбула шведского агента капитана Синклера. Убийство дипломата получило резонанс по всей Европе и стало для шведского правительства дополнительным поводом к войне. Ожидание шведского вторжения явилось одной из основных причин спешного заключения русской дипломатией мира с Турцией, почти не воспользовавшись плодами ставучанской победы.
Но дело было не только в опасении шведского реванша. Перемена внешнеполитического курса и переход на новый театр военных действий не могли пройти безболезненно. Иные условия ведения наступательной войны на огромных пространствах, необходимость координации действий на разных фронтах, учет международной ситуации и состояния противника — все это требовало известного опыта, приобретение которого подготавливало почву для будущих успехов времен Екатерины. Только цена этого опыта оказалась высока, а слава досталась уже другим.
Стоит отметить еще одно последствие имперских амбиций: «мирная» внешняя политика также стала намного дороже — за счет приема многочисленных посольств и всевозможных чрезвычайных выплат. При Анне стало традицией делать крупные подарки прибывавшим ко двору «чужестранным министрам» стоимостью от двух до шести тысяч рублей; только на эти выдачи ушло в ее царствование 83 тысячи рублей.[184]
Параллельно с «польским» и «турецким» направлениями активизировалась и политика России на восточных рубежах для выполнения поставленной Петром I задачи: «Оная киргиз-кайсацкая орда степной и легкомысленной народ, токмо де всем азиатским странам и землям оная орда ключ и врата; и той ради причины оная орда потребна под российской протекцыей быть».[185] В феврале 1731 года Анна подписала «жалованную грамоту» хану Младшего казахского жуза Абульхаиру о принятии его в российское подданство с обязательством «служить верно и платить ясак». Следующим шагом стало строительство Оренбургской крепости и системы укреплений, которая должна была сомкнуться с Иртышской линией в Сибири и оградить новые российские владения на протяжении трех тысяч верст.
Продвижение в глубь Азии ставило новые проблемы. Столкновение могущественной в ту пору Китайской империи с западномонгольским Джунгарским ханством привело к тому, что оба противника стремились привлечь Россию на свою сторону. Об отправке против джунгар находившихся в русском подданстве калмыков просили китайские послы; о желательности военного союза с Россией говорил русскому представителю в своей ставке и джунгарский хан Гаддан-Церен. У обоих вариантов в России нашлись свои сторонники. Во всяком случае, основатель Оренбурга И. Кирилов и вице-губернатор Сибири Л. Ланг выступили за вмешательство в конфликт на стороне Джунгарии. Бывшему послу в Китае Савве Владиславичу-Рагузинскому даже пришлось в 1731 году подать специальный доклад с оценкой ситуации на Дальнем Востоке. Опытный дипломат допускал, что Россия «могла бы в несколько годов <…> все земли, уступленные при мире Нерчинском, отобрать». Но «сие учинить не весьма легко»; к тому же этот шаг привел бы к прекращению всей «коммерции» с Китаем. Далее отставной дипломат предостерегал: «С Китаем за малой причиной отнюдь войны не начинать, но обходиться по возможности приятельски и содержать мир».[186] Рекомендации были услышаны, и российская дипломатия сохранила нейтралитет в конфликте и мир на русско-китайской границе.
На северо-востоке Азии продолжались грандиозные по размаху работы Великой Северной экспедиции В. Беринга по изучению и описанию северных владений России. Как и при Петре, продвижение на восток сопровождалось созданием российской администрации. Там, где эксплуатация коренного населения приобретала отчетливо колониальный характер с конфискацией или передачей частным лицам огромных земельных владений, как в Башкирии, вспыхивали восстания, беспощадно подавлявшиеся. Просвещенный инженер и ученый, автор первой научной истории России В. Н. Татищев, выступавший в данном случае в качестве колониального администратора, в марте 1738 года приказал башкира Тонгильды Жулякова «на страх другим при собрании всех крещеных татар сжечь» даже не за вооруженную борьбу, а за «совращение в магометанство».
Однако несомненное укрепление власти государыни и мощь ее армии вовсе не гарантировали утверждения пусть и жесткого, но «регулярного» порядка, о котором мечтали Петр I и его преемники.
Триста лет назад самодержавная власть куда больше опиралась на традицию, чем на всепроникающую бюрократию или репрессивные «органы». В 1725 году имелось около двух тысяч чиновников в Сенате, центральных коллегиях и канцеляриях; примерно таким же было количество служащих на местах. Всего же, поданным обер-прокурора Сената И. К. Кирилова, в империи в конце петровского царствования в системе управления были заняты 1189 «управителей» — классных чиновников и 3685 «приказных» на 16 миллионов населения. С учетом того, что основные кадры аппарата были сосредоточены в столицах и крупных городах, получается, что один более или менее грамотный приказный приходился примерно на 10 тысяч простых обывателей. Для сравнения, в соседней Пруссии времени «короля-солдата» Фридриха Вильгельма I (1713–1740) на три миллиона населения приходились две тысячи управленцев, то есть один чиновник на полторы тысячи подданных.
Неквалифицированные и малочисленные «управители» и «канцеляристы» еле справлялись с обилием текущих местных дел и часто не могли внятно ответить на поток запросов из центра. О канцелярское «безлюдство» разбивались все попытки оперативно получить требуемую информацию.
Указы и манифесты далеко не всегда исполнялись даже в центре. В любом учебнике отмечено, что Петр I уравнял поместья и вотчины еще в 1714 году; на деле Вотчинная коллегия и при Анне раздавала земли в поместное владение, пока в 1736 году ей этого не запретили. За сотни верст от Петербурга воеводы и прочие должностные лица становились совершенно неуправляемыми. Единственная за всю «эпоху дворцовых переворотов» сенаторская ревизия графа А. А. Матвеева вскрыла огромные «упущения казенных доимков» (170 тысяч рублей только по одной Владимирской провинции), бездействие судов и произвол «особых нравом» начальников. «Непостижимые воровства и похищения не токмо казенных, но и подушных сборов деньгами от камериров, комиссаров и от подьячих здешних я нашел, при которых по указам порядочных приходных и расходных книг здесь у них отнюдь не было, кроме валяющихся гнилых и непорядочных записок по лоскуткам» — такими увидел Матвеев новые учреждения в действии.
Но даже законопослушное начальство не могло реально контролировать повседневную жизнь населения. Значительная часть подданных «регулярной» империи жила как бы в ином мире (иногда — в прямом смысле: в надежно укрытых от воевод и духовенства скитах и общинах) со своими традициями, законами и авторитетами. Пока в Петербурге менялись цари и министры, в этом мире кипели свои страсти и заключались свои союзы — например «между Андреем Дионисьевичем (главой старообрядческой Выговской пустыни. —
Отсутствие кадров усугублялось колоссальными пространствами страны, где между редкими городами связь осуществляла целая армия курьеров. В 1732 году Сенат полагал, что необходимо привлечь к этой деятельности еще 4038 человек, чтобы с прежними они составили 5488 рассыльщиков, необходимых для работы государственной машины. На деле к фельдъегерской работе привлекалось огромное количество всякого служилого люда, прежде всего — гвардейские и армейские солдаты и офицеры. Жизнь многих из них так и проходила на бесконечных дорогах империи, где иные из гонцов навсегда пропадали «безвестно».
Только из одного дела о рассылке императорского указа от 7 сентября 1727 года о «неслушании» никаких распоряжений Меншикова следует, что во все концы страны 3345 печатных распоряжений повезли сотни курьеров: несколько десятков из столицы, а остальные — из Москвы и других губернских центров. На доставку даже столь важных бумаг в старую столицу требовалась неделя (прибыли 16 сентября); а на окраины европейской России они приходили примерно через месяц: в Симбирске указ был получен 3 октября, на Дону — 7-го, в Уфе — 8 октября. С уведомлением о получении местные власти не торопились и отправляли рапорты с ближайшей оказией. В данном случае такие расписки пришли в Петербург через два месяца (из Уфы и Симбирска — 9 декабря 1727 года), когда сам светлейший князь давно уже находился в ссылке и исполнение указа потеряло всякий смысл.
Темпы доставки корреспонденции на протяжении столетий почти не менялись: в XVII столетии почта из Москвы в Архангельск двигалась со скоростью 10 верст в час, то есть при непрерывной езде гонец в сутки мог одолеть 240 верст, что являлось пределом возможного. Только некоторое улучшение дорог в следующем веке позволило фельдъегерям Николая I достичь максимума — 300–350 верст в сутки со страшным напряжением сил и опасностью для жизни. «Приходилось в степях, при темноте, сбиваться с пути, предоставлять себя чутью лошадей. Случалось и блуждать, и кружиться по одному месту. По шоссейным дорогам зачастую сталкивались со встречным, при этом быть только выброшенным из тележки считалось уже счастием. Особенно тяжелы были поездки зимою и весною, в оттепель; переправы снесены, в заторах тонули лошади, рвались постромки, калечились лошади», — вспоминал тяготы службы старый фельдъегерь в середине XIX века.
Петровский курс на создание полиции в качестве «души гражданства» был продолжен при Анне. К сожалению, вопрос, насколько Петровские реформы с их «ревизией», налогами и солдатчиной ухудшили криминогенную обстановку в стране, пока еще не исследован.
Охранять порядок и «благочиние» действительно было необходимо — особенно в крупных городах с наплывом нищих, поденщиков, «дворовых», слуг и обитателей городского «дна». «Слезные и кровавые подати» заставляли крестьян бежать; правительственные указы признавали, что многие, «покинув свои жилища и отечество, за чужие границы ушед, живут». Мужики бежали не только в близкую Польшу, но и в Иран, и даже «Бухарскую сторону» или оказывали сопротивление властям.
Однако надо признать, что в эпоху «бироновщины» со всеми ее строгостями и репрессиями власти часто были бессильны перед шайками беглых крестьян или дезертиров. В славном уголовными традициями Тамбовском краю одна такая разбойничья партия из ста человек весной 1732 года разгромила купеческую пристань и таможню (с пятью тысячами рублей) на реке Выше. Поделив «дуван», разбойники спустились на лодках вниз по реке, грабя по дороге помещичьи имения. В вотчине А. Л. Нарышкина они перебили всех «вотчинных начальников» и растащили или уничтожили барскую рухлядь. В богатом селе Сасове шайка грабила уже всех подряд, а в таможне опять взяла казенных денег «тысяч с пять и больше». Близ Сасова с разбойниками вступили в перестрелку немногочисленные шацкие гарнизонные солдаты; но некоторых сразу «подстрилили», другие «от того разбойнического страху» поспешно отступили. Разбойники же с песнями отправились вниз по реке.
Другая такая шайка в это же время гуляла под Калугой, где разгромила усадьбу помещика Домогацкого село Звегино. Тридцать человек «с огненным ружьем и рогатинами, с дубьем и ножами оный его дом разбили и пограбили»; дворовых «били и мучили смертно» и, оставив их связанными, «побрали разные его пожитки и деньги, подрали и пожгли выписи из писцовых и переписных книг и на его земельные дачи выписи и купчие на людей и на крестьян и все зделанные им записи, а также прочие письма». Один из пойманных разбойников, беглый рекрут Ларион Телебиков, рассказал, что «перед тем как выехать на разбой, был у нас спор. Беглые крестьяне Домогацкого Иван и Алексей Дмитриевы и есаул Осип Иванов кричали, что надо де Домогацкого изрезать в пирожные части, а я, Ларион, и другие мои товарищи не соглашались с ними; говорили им, не за что де резать его, надо только пожитки побрать».
Таких примеров можно привести немало и во времена «бироновщины», и после нее. Уже с конца 20-х годов Верховный тайный совет стал направлять офицеров «с пристойными партиями» солдат и драгун в те провинции, где беглые действовали наиболее активно. В 1730 году Сенат послал отряд подполковника Реткина в Нижегородскую губернию, который ловил волжских разбойников до 1738 года. В Московской губернии действовал со своей командой секунд-майор Луцевин, в Казанской и Воронежской губерниях — гвардии поручик Зиновьев. В 1732 году по распоряжению начальника Тайной канцелярии генерала Ушакова были созданы «непрестанные разъезды», обязанные «искоренять» ватаги беглых крестьян.[188]
Впрочем, на большую дорогу в России выходили и дворяне. Одни из них совершали лихие наезды на имения соседей, как каптенармус Лабоденский в июле 1740 года на усадьбу отставного прапорщика Ергольского. «24-го того же июля Лабоденский с людьми и со крестьянами своими умышленно скопом приступали ко двору его в селе Которце с огненным ружьем, с дубьем и с кольем, и сам он, Лабоденский по нем, и по жене, и по дочери из пистолета стрелял многократно, а крестьянин его Ермолай Васильев из фузеи палил. От стреляния его дочь его, Ергольского, девица Мария, со страху едва жива осталась», — жаловался пострадавший, которого местный воевода по дружбе с обидчиком засадил в тюрьму. Другие грабили уже всех подряд. «В 1739 году пойман был разбойник князь Лихутьев и в Москве на площади казнен; голова его была поставлена на кол. Сие для меня первое было ужасное зрелище», — вспоминал события своей молодости майор Данилов. «Шалили» даже пастыри духовные — в Кинешемском уезде в вотчине поручика Бестужева-Рюмина крестьяне «миром» повязали местного батюшку и дьячка, которые после обедни разругались и стали перед прихожанами обвинять друг друга в разбое, чем себя и выдали.
Правительство для борьбы с этим злом даже разрешило в 1732 году, «когда купечеству или шляхетству потребно для опасения от воровских людей, на казенных заводах продавать по вольным ценам» пушки. Однако власти не могли подавить разбои даже в столичных губерниях — под Москвой и Петербургом; Сенат в 1735 году распорядился, «дабы ворам пристанища не было», вырубить лес по обеим сторонам дороги от Петербурга до Соснинской пристани и расчистить леса по Новгородской дороге «для искоренения воровских пристанищ».
В 1733 году были учреждены особые «полиции» в губернских и провинциальных городах: Новгороде, Киеве, Воронеже, Астрахани, Архангельске, Смоленске, Белгороде, Казани, Нижнем Новгороде, Пскове, Вологде, Калуге, Твери, Переяславле-Рязанском, Костроме, Ярославле, Симбирске, Орле. Капитаны или поручики местных гарнизонов назначались полицеймейстерами, для караулов и содержания съезжих дворов им придавалось по унтер-офицеру и 5—10 рядовых и канцеляристов; жалованье им уплачивалось, соответственно, из гарнизонных сумм и «сборных денег, которые будут во взятых в тех полициях», то есть за счет населения.
Брать штрафы полиция научилась быстро, а вот охранять порядок — нет. Подходящих кадров для этого не было. В 1736 году Кабинет обратил внимание, что в полицию приходится зачислять строевых солдат и офицеров, а это в условиях начавшейся войны увеличивало «некомплект» в полках. Поэтому, размышляли министры, не разумней ли будет переложить эту обязанность на плечи самих обывателей. На практике так оно и было: горожане сами по разнарядке выходили «на дежурство» по охране порядка от воров и грабителей.
Затормозилась разработка Уложения: к концу царствования были готовы только две главы будущего свода законов — Вотчинная и Судная, но ни одна из них так и не была обнародована. Безрезультатно завершились при Анне Иоанновне усилия по составлению новых штатов государственных учреждений. Сенат обсуждал этот вопрос в 1732 году, потом в 1734-м, после чего он был отложен; только в 1739 году Сенат передал в Кабинет штаты некоторых коллегий и контор. Летом 1740 года Кабинет вернул документы на доработку, которая так и не закончилась до конца царствования. Ведомственные интересы не допустили централизации: Военная коллегия, Соляная контора, Генерал-берг-директориум, Медицинская коллегия и все дворцовые ведомства получили право самим утверждать свои штаты.
Правительственные решения воспроизводили уже такие опробованные меры, как сокращение штатов в коллегиях, слияние учреждений (Берг— и Коммерц-коллегии), уменьшение жалованья «приказным» на треть, выдачу его «сибирскими товарами» или вообще запрет получать деньги до окончания расчетов с армией. Такое «удешевление» замыкало порочный круг и оборачивалось проблемой хронического отсутствия нужного количества подготовленных кадров. Остававшиеся чиновники еле-еле могли обеспечить текущее управление и не имели возможности заниматься собственно выработкой государственной политики — для этого постоянно приходилось создавать вневедомственные комиссии.
Выход из этого тупика обычно отыскивался по принципу «тришкиного кафтана»: приказных забирали из одного места и перебрасывали в другое, где в данный момент нужда в них была самой острой. Поэтому случались ситуации, когда первые сановники империи лично перемещали подьячих из Ямской канцелярии в Тайную или решали, где именно надлежит работать секретарю Петру Зеленому, поскольку на него претендовали сразу две конторы. В итоге было принято соломоново решение: ценному специалисту «в Провиантской канцелярии <…> быть в неделе по 2 дни, а прочие 4 дня быть в Генеральном кригс-комиссариате».
Донесения крупных и мелких администраторов в Кабинет содержат одни и те же жалобы на нехватку «подьячих». На подобные просьбы Кабинет неуклонно отвечал отказом — присылать было некого. Обычные наказания в виде штрафов, кажется, никого уже не пугали. Посланные для «понуждения» чиновников к скорейшему исполнению столичных приказов и «сочинению» необходимых справок и отчетов гвардейцы сообщали, что «секретари и приказные служители держатся под караулом без выпуску». То же иногда приходилось делать и местным начальникам — или платить штрафы по 50—100 рублей, но дело с места не сдвигалось: бывалые «подьячие» подобные начальственные наскоки «ни во что считали», а экономию на их жалованье с лихвой восполняли за счет всевозможных поборов с населения.
Да и качество управленческого персонала оставляло желать лучшего. Составленные в 1737–1738 годах по указу Кабинета списки секретарей и канцеляристов коллегий и других центральных учреждений с краткими служебными характеристиками десятков низших чиновников представляют коллективный портрет российского «приказного». Конечно, в рядах бюрократии среднего и высшего звена были и заслуженные, прошедшие огонь и воду военных кампаний и бесконечных командировок люди — например секретарь Военной коллегии Петр Ижорин. Ему и другим чиновникам посвящены весьма похвальные отзывы: «служит с ревностию», «безленостно» и «в делах искусство имеет».
Но рядом с ними встречаются характеристики иного рода: «пишет весьма тихо и плохо»; «в делах весьма неспособен, за что и наказан»; «стар, слаб и пьяница»; «в канцелярских делах знание и искусство имеет, токмо пьянствует»; «всегда от порученных ему дел отлучался и пьянствовал, от которого не воздержался, хотя ему и довольно времяни к тому дано». Последняя «болезнь» являлась чем-то вроде профессионального недуга канцеляристов с обычным «лекарством» в виде батогов. Особо отличались неумеренностью приказные петербургской воеводской канцелярии, где в 1737 году за взятки и растраты пошли под суд 17 должностных лиц. Из данных служебных характеристик следует, что в пьянстве «упражнялись» два из пяти канцеляристов, оба подканцеляриста и 13 из 17 копиистов; последние не только гуляли, но еще и «писать мало умели». Даже начальник всей полиции империи вынужден был просить Кабинет прислать к нему в Главную полицеймейстерскую канцелярию хотя бы 15 трезвых подьячих, поскольку имеющиеся «за пьянством и неприлежностью весьма неисправны».[189]
На какие доходы можно было гулять и пьянствовать? Только старшие чиновники — секретари и обер-секретари — получали более или менее приличные деньги (около 400–500 рублей в год, а наиболее заслуженные, как упоминавшийся Петр Ижорин, — 800), сопоставимые с доходами армейского полковника. Оплата труда канцеляриста составляла от 70 до 120 рублей в год; разброс в жалованье самой массовой категории, копиистов, был от 90 до 15 рублей, что сопоставимо с оплатой труда мастеровых, которым по причине ее недостаточности полагался еще натуральный паек. Выходом были «безгрешные» акциденции, «наглые» хищения и более сложные комбинации с неизменным «участием» чиновника в прибылях казны, что служило своеобразной компенсацией низкого социального статуса и убогого материального положения бюрократии.
Пожалуй, лишь смоленский губернатор А. Б. Бутурлин не только заступился за подчиненных, но и принципиально поставил вопрос о порочности существовавшей системы управления и контроля. В конце 1739 года он прислал в Петербург один за другим два доклада. В первом губернатор объяснял: после разрешения в 1737 году коллегиям и конторам штрафовать местные власти последние получили… 54 контролирующие инстанции, каждая из которых посылала на головы губернаторов «угрозительные повеления». Выполняя одно, непременно приходилось откладывать другое; в результате у чиновников «нужнейшие дела из рук выходят и внутренним течением пресекаются»; можно было не выполнять ничего, так как штрафы все равно были неизбежны.
Второй доклад Бутурлина можно назвать настоящим трактатом «о изнеможении счетов годовых сочинением» его подчиненных. Прежде всего требовалось составить месячный «репорт» для отправления в Камер-коллегию, Сенат и еще несколько мест. Затем ответственным за ведение счетов «приходчикам» необходимо было привести в порядок 16 книг («по форме» надо бы все 19) по каждому виду денежных поступлений, что «немалое мозголомство приносит от состоящих вновь форм», после чего сдать еще четыре книги (по недоимкам и по расходам на новый год) своему преемнику вместе с наличной «денежной казной»… и садиться сочинять годовой «репорт». Одновременно приходилось составлять всевозможные отписки и справки по требованию вышестоящих инстанций и прибывавших с очередным «повелением» офицеров под угрозой штрафов и сидения под караулом. В результате подведение финансовых итогов требовало не менее трех месяцев, в течение которых текущие дела «запускались».[190] Но такой исход был только в том благополучном случае, если ответственные за финансовые документы чиновники были живы и здоровы, не угодили уже под следствие и не были отправлены к срочным делам налетевшим из столицы гвардейцем.
При такой работе через руки подьячих с грошовым жалованьем проходили порой колоссальные суммы. Если счета не сходились, а особенно при малейшем подозрении, начиналась долгая волокита, а иногда и следствие, где виновными в итоге оказывались не начальники, а «стрелочники». Порой даже не отличавшийся милосердием в ту эпоху Сенат просил императрицу простить какого-нибудь копииста Алексея Михайлова, который допустил в отчетности по сумме в 600 тысяч рублей «прочет» в 127 рублей и при этом был «нимало не корыстен», а ошибся исключительно «от великого приема и раздачи суммы». Кабинет в снисхождении отказал.
Не менее страшно было для приказного подпасть под гнев начальства. Каширский воевода Яков Баскаков убил подчиненного, степенного и опытного канцеляриста Емельянова. История вышла трагическая: сын старого подьячего Андрей Емельянов влюбился в крепостную фаворитку Баскакова и собрался за нее свататься. Не ладивший с Емельяновыми воевода взревновал и сначала жестоко избил жениха, а затем с пятью солдатами напал на стариков Емельяновых: «Ругательски, немилостиво» исколотил мать соперника, а самого чиновника, которого держали солдаты, стал бить «дулом, прикладом и цволиной». Избитый Степан Емельянов был перенесен в канцелярию на носилках, «на которых навоз носят», где под караулом «умре».
Этот случай — вопиющий, но не единственный. За то же был вызван к следствию воронежский вице-губернатор Лукин, в том же обвинялся и белгородский губернатор И. М. Греков. В Москве же президент Вотчинной коллегии А. Т. Ржевский и секретарь Обрютин прямо в «асессорской камере» избили палками и плетьми канцеляриста Максима Стерлигова, после чего его «содержали в цепях и в железах под коллежским крыльцом» за попытку разоблачения злоупотреблений чиновников Елецкой провинциальной канцелярии. Но не только в провинции — даже в столичной Коммерц-коллегии чиновники могли получить «по щекам» или плевок в лицо от вспыльчивого президента Павла Петровича Шафирова, и назначенные туда советники публично спрашивали начальника, «будет ли он до них милостив».[191] От такой жизни («мужики молчать не тихи, а бояре очень лихи») иной чиновник был готов бежать даже в армию:
Прочь и перья, прочь бумага,
Пала в сердце мне отвага.
Из подьячих вон я рад,
Лучше буду я солдат.
Если начальники позволяли себе такое с государственными служащими, то разгул самодурства по отношению к обывателям и представить себе сложно. Один из тамбовских воевод, майор Свечин, разгневавшись, «убил черкашенку вдову Прасковью без умыслу, но от единаго токмо жестокосердия и неистовой дурости». До убийства дошел и смоленский вице-губернатор князь Козловский, бравший взятки и обкрадывавший казну на подрядах. Калужский воевода князь Вяземский, чтобы заставить местного мелкого дворянина продать ему землю, «держал его шесть недель на цепи, где тот и умре». Переславль-Залесский воевода Зуев сам никого не убивал, но зато покрывал убийства, совершенные местными помещиками, и мешал следствию.
Хорошо, что хоть на некоторых одуревших от власти администраторов находилась управа. В 1738 году был казнен Зуев; немного позднее последовала «экзекуция» Баскакова — при желании и их можно записать в жертвы «бироновщины». Но не со всеми можно было справиться. 18 жалоб и «доношений» подали жители далекого Енисейска на своего воеводу Михаила Полуэктова, обвиняя его и во взятках, и «в бою и в обидах», и в лихом судопроизводстве «не по форме суда», и отбирании у жителей подвод «для ловли зайцов». Воевода же не смущался, по вызову губернатора «к суду не пошел», а приехавшего гвардейского офицера пообещал заколоть. Затем он обвинил одного из жалобщиков в том, что его дед был стрельцом: «Род ваш изменнической и цареубийцы», — и сам стал писать доносы на губернатора — о взятках «от набору рекрут» и продаже пороха «в другое государство». Когда Полуэктова все-таки скрутили и отправили в Тайную канцелярию, правление Анны Иоанновны и регента Бирона уже закончилось, а новая правительница милостиво повелела «вину ему упустить». Полуэктов вышел на свободу и, надо полагать, тоже считал себя жертвой «немецкого засилья».
И без того неповоротливую повседневную работу государственной машины тормозили не только некомпетентность и произвол «управителей», но и недостача средств в нужном месте и в нужное время. В 1732 году Сенат подсчитал, а Кабинет в начале следующего года обнародовал, что накопившиеся с 1719 года недоимки составили семь миллионов рублей только по таможенным, кабацким и так называемым канцелярским сборам.[192] Порой срочные расходы заставляли Сенат и Камер-коллегию посылать гонцов в поисках денег, «где сколько во всех калегиях и канцеляриях и канторах есть». Каким образом потом проходил расчет между отдельными ведомствами и учреждениями, похоже, не было до конца известно никому, как и то, доходили ли деньги по назначению.
Отсутствие «единства кассы» сделало невозможным для современников (и для историков) точный учет реальных потребностей, доходов и расходов отдельных ведомств. Например, в непрерывно жаловавшейся на недостаточное финансирование Военной коллегии (военные оценивали долги государства перед ними за пять лет с 1724 года в 2 227 057 рублей 57 и 3/4 копейки[193]) «штатская» комиссия князя Д. М. Голицына обнаружила объявлявшиеся каждый год «остаточные» деньги, складывавшиеся из невыплаченного жалованья, «разных сборов», помимо подушной подати, сэкономленных на закупках сумм и т. д., составившие за три года почти шесть с половиной миллионов рублей, не считая стоимости хранившегося в армейских «магазинах» провианта и фуража.[194]
По — прежнему оставались запутанными финансовые отношения между учреждениями. Один из еженедельных докладов Сената от 17 сентября 1732 года сообщил: Штатс-контора не считает возможным выдать деньги из Монетной конторы на жалованье своим коллегам из Ревизион-коллегии, «доколе та контора с Штатс-конторою возымеет счет».
Количество «неокладных» (не имевших точно определенных источников поступлений) трат достигло в 1732 году, по данным за подписью обер-прокурора Сената А. Маслова, 2 740 947 рублей,[195] что составляло около трети всего бюджета. Они включали в себя расходы не только на колониальную войну в Иране, но и, согласно тому же документу, на содержание новых полков гвардии, «пенсии» знатным иностранцам и вдовам иноземцев, находившихся на русской службе, завершение строительства Ладожского канала, ремонт крепостей, «ружные» выдачи церквям и монастырям и прочие большие и маленькие выплаты. Например, известный маскарад с «Ледяным домом» обошелся в 1740 году вместе с «привозом народов, зверей и скотов» почти в 10 тысяч рублей.[196] От года к году подобные расходы менялись, но неуклонно имели тенденцию к увеличению.
Выведенные из Ирана полки не были расформированы, а платить им было нечем — расходы на «Низовой корпус» не были заложены в бюджет и не покрывались подушными деньгами. В 1737 году Военная коллегия жаловалась на Штатс-контору; Кабинет распорядился деньги выплатить, но их не оказалось. После новой жалобы военных министры уже «наижесточайше» повторили прежнее указание, но получили ответ Штатс-конторы, что сами же члены Кабинета велели содержать эти части за счет «таможенных доходов», а также поступлений с Украины, Коллегии экономии и других «остаточных» статей, но теперь «вышеписанных доходов деньги в Статс-контору не приходят». Далее контора напоминала, что по прежним указам доходы от продажи казенных железа и меди остаются в Коммерц-коллегии, от торговли ревенем — у Медицинской канцелярии; к тому же командующие армиями Миних и Ласси постоянно требуют денег, и все свободные средства уходят на «турецкий фронт».
На такое разъяснение министры хоть и обиделись («из того ничего подлинного выразуметь невозможно»), но смогли только порекомендовать конторе «изыскать способы» найти деньги совместно с Сенатом. Опытные сенаторы, постоянно сталкивавшиеся с подобными заданиями, выход нашли. В Петербурге обнаружили 15 тысяч рублей, из московских канцелярий и контор выгребли 35 тысяч, а затем взяли «заимообразно» из Монетной конторы еще 50 тысяч и в итоге обеспечили необходимые выплаты.[197]
Мы приносим извинение за скучные бухгалтерские подробности, но такие проблемы являются типичными для финансовых порядков как до, так и после «бироновщины». Несовершенство налоговой службы и децентрализация сбора и расходования средств постоянно порождали такие ситуации, когда все участвовавшие стороны были правы и найти виновного было невозможно. Опытный начальник Штатс-конторы Карл Принценстерн ничем не рисковал и, несмотря на бесчисленные «наижесточайшие» указы и выговоры, благополучно возглавлял свое ведомство с петровских времен до самой смерти в 1741 году — вероятно, как раз потому, что был способен ориентироваться в дебрях ведомственных касс и вовремя «доставать» необходимые суммы.
Поэтому неудивительно, что правительство Анны поставило перед собой задачу упорядочить финансовую неразбериху. Прежде всего власти намеревались ужесточить сбор налогов и взыскать недоимки. В 1730 году Сенату приказали срочно составить «государственную о всех доходах книгу». Третьим направлением «битвы за финансы» стали попытки проконтролировать прежние расходы путем проверки счетов всех учреждений и составить их твердые штаты.
Новых подходов к решению этих задач министры предложить не смогли. Основы петровской финансовой системы были сохранены, даже возобновлен сбор подати при помощи военных команд. Для успешного сбора недоимок по другим статьям Камер-коллегию разделили на две — старую и новую; последняя должна была сосредоточить свои усилия на сборе текущих поступлений и не «запускать» их.
Через год военные приступили к сбору недоимок. «В случае непривоза денег в срок полковники вместе с воеводами посылают в незаплатившие деревни экзекуцию», — гласил утвержденный императрицей регламент Камер-коллегии. Но как в 1727 году, эта практика была опять отменена в 1736-м по тем же причинам: поборы, взятки и злоупотребления военных и статских сборщиков росли вместе с недоимками, что и констатировал очередной указ.
Порой дворяне и мужики объединялись против государства. Тогда военные, как сборщик сержант Ф. Сивцов в 1732 году, докладывали: «Карачевского уезду деревни Кореевы Иван Александров, вычтя у него инструкцию, бил его, сержанта, и солдат и кричал крестьянам своим, чтоб дали дубья и учинился противен, и от таких ему противностей в зборе подушных денег чинится немалая остановка». Помещик Нестеров из села Губино Козельского уезда выслал 30 крестьян с собаками на солдат, и поле битвы осталось за поселянами. Фельдмаршал Миних, говоря о причинах недоимки по подушному сбору, отмечал, что «в Мценске доимка не на самих крестьянах, но на помещиках чрез то, что некоторые помещики надлежащие подушные деньги, собрав с крестьян своих сполна, употребляют в свой избыток, а потом их при взыскании сами, отбыв от домов своих, оставляют».
Ужесточение сбора недоимок, помимо прочего, означало наступление на интересы дворянства, поскольку виновными в неуплате по закону становились владельцы крестьян. Составленная в 1737 году по требованию Кабинета «Ведомость о имеющемся недобору на знатных и других» показала, что первыми неплательщиками были… сам кабинет-министр князь А. М. Черкасский (за ним числились недоимки в 16 029 рублей), сенаторы (7900 рублей), президенты и члены коллегий (16 207 рублей), генералитет (11 188 рублей) и прочие «знатные» (445 088 рублей).[198]
В этом случае ничего не могли сделать даже бесстрашные гвардейцы. 38 офицеров и нижних чинов в 1738 году были брошены в провинцию, чтобы «о взыскании доимки на прошлые годы иметь прилежное понуждение» в адрес местных властей. Атака успеха не имела: уже через год «понудители» вернулись и рапортовали, как прапорщик Бунин, командированный в Астраханскую губернию: «Доимки, за пустотою, взыскать не с кого 1390 р. 77 к., да за опасной болезнью и за пустотою же взысканием до указа оставлено 55 747 р. 79 к.».
Тем, у кого имелась не только «пустота», приходилось хуже — за долги перед казной власти конфисковывали движимое и недвижимое имущество. Им оставалось, как московскому купцу Новикову, бить челом о том, что «за доимку на нем по дворцовой канцелярии, за шестьсот рублей, сослан на каторгу, а двор и пожитки его в Москве не проданы, и чтоб с каторги отпустить, и двор и пожитки в ту доимку продать, а чего не достанет, то отдать его, по силе указа, купцу Москвину, который за него будет платить по двадцати по четыре рубля на год». Кампания по сбору недоимок закончилась провалом. По ведомости Сената на 1739 год недоимки только по подушной подати составляли 2 772 209 рублей. Они постепенно «выбирались» и в условиях войны тут же отправлялись на «чрезвычайные воинские росходы»; но эти данные Сенат не смог представить «до свидетельства счетов».[199]
Как можно судить на основании этих данных, никаких собранных и украденных «многих миллионов» в ходе недоимочной кампании не существовало. Перед «пустотой» налогоплателыциков и слабостью администрации была бессильна даже гвардия: в России оказалось намного проще совершить дворцовый переворот, чем вовремя и полностью собрать налоги.
Решение второй и третьей задачи также оказалось Сенату не под силу. Составление «окладной книги» было перенесено сначала на 1732-й, потом на 1733 год — а затем так и тянулось до конца царствования Анны, будучи осложнено тем, что многие присланные с мест ведомости погибли в московском пожаре 1737 года. В августе 1740 года Сенат в очередной раз доложил о своих усилиях, а Кабинет — уже не надеясь на успех — признал, что с делом «исправиться невозможно», и точного срока больше не назначал, а лишь напоминал о необходимости окончить работу в обозримом будущем.[200]
Безуспешность правительственных усилий чаще всего объясняется некомпетентностью провинциальных администраторов, которые «не могли и не умели составить бухгалтерской отчетности». Однако изучение материалов Кабинета министров показывает, что у провала правительственной инициативы были и другие причины.
С самого начала Сенат и Кабинет столкнулись с настоящим саботажем всех инициатив по наведению порядка в финансах. Ревизион-коллегия в мае 1732 года доложила Сенату: при попытке собрать и проверить отчетность за 1726 год коллегии и конторы прислали счеты «неисправные», из которых «о суммах приходу и росходу видеть было нельзя».
Ревизоры перечисляли уловки, при помощи которых достигался этот эффект: одни чиновники ссылались на исчезнувшие документы или на отсутствие ответственного за «счеты» лица, уже давно скончавшегося или отбывавшего срок; в других учреждениях бумаги составлялись за подписью мелких клерков, а не руководства; третьи действовали по принципу «подписано — и с плеч долой» и категорически отказывались принимать «неисправные» документы обратно.
Наиболее невразумительными отчетами отличалось самое «затратное» военное ведомство: присланные им бумаги оказались «весьма неисправны, а против прихода и расхода написаны недостатки, и в прочем одни с другими смешанные, отчего не только впредь, но ныне произошла камфузия». Нужно признать эти выводы справедливыми: при разборе архивных документов по финансовой отчетности Уразуметь их смысл и систему подачи цифр бывает порой весьма мудрено, а сопоставить с показателями других лет — часто невозможно.
Составление «окладной книги» также тормозилось. На требование Камер-коллегии подать «на каждое место и звание доходам от губернаторов по третям, а о подушном сборе в полгода подробные репорты» чиновники притворялись непонятливыми — а может, в самом деле не были в состоянии постичь правила бухгалтерской отчетности. Начальство получило «о таможенных и прочих сборах месячные, а не третные репорты, писанные по прежним формам». На посылку же «новых форм» на местах либо не реагировали вообще, либо оправдывались, что их не получали, и действовали по «прежним указам»; либо докладывали, что «в скорости сочинить никоим образом не можно, ибо за раздачами приказных служителей в разные команды и в счетчики осталось самое малое число». В итоге — о доходах «коллегия никакого известия не имеет, и для того генеральной ведомости сочинить не из чего».
Немногим лучше была ситуация с расходами. В 1732 году Сенат смог составить ведомость «окладным» и «неокладным» тратам за предшествующие семь лет. Эта сводка показывает некоторое сокращение расходов в послепетровской России, однако приведенные цифры являются далеко не полными и охватывают от половины до трети реального бюджета. Чиновники Штатс-конторы посчитали даже мелкие расходы — например, на строительство «ердани» на крещенском параде, содержание «зазорных младенцев» или награды «за объявление монстров», но зато вообще не смогли указать расходы по Военной коллегии и Коллегии иностранных дел за 1730 год. Не всегда приведены данные о выплатах на медицину, Морскую академию, сведения о «пенсионах» и выдачах «в тайные и нужные расходы».
Власти не смогли предложить ничего, кроме грозных указов и создания новых административных органов в помощь уже существовавшим. Так появилась Генеральная счетная комиссия с задачей «ревизии» счетов всех правительственных «мест», начиная с 1719 года. Но гора родила мышь: к 1736 году комиссия рассмотрела только 78 счетов и вернула казне 1152 рубля, что, по официальной оценке, было меньше, чем зарплата ее персонала за годы работы. Учреждения не присылали вовремя счетов ни туда, ни в Ревизион-коллегию. От ревизии вообще были освобождены гвардия и придворные службы; свои счетные экспедиции сохранялись в Военной коллегии и Генерал-кригс-комиссариате. Об «успехах» работы последних Кабинет объявил в августе 1737 года: армейские ревизоры за семь месяцев проверили только шесть счетов из имевшихся 115, а остальные 364 еще даже не были ими получены.
Отсутствие действенного контроля над большими и малыми начальниками приводило к исчезновению денег и материальных ценностей неизвестно куда. Хорошо, если это могли обнаружить сразу, как в Новгородской губернии, где по вине «верных сборщиков» в 1736 году пропали 11 тысяч рублей уже собранных денег, — хотя бы виновные были налицо. Когда же недостачи обнаруживались спустя несколько лет, то спросить было уже не с кого. Например, фельдмаршал Миних докладывал, что по ведомству его фортификационной конторы в городе Выборге кондуктор 3. Маршалков допустил в 1733 году растрату казенной извести и прочих материалов на 4417 рублей. Выяснилось это только семь лет спустя, когда и сам виновный, и обер-комендант крепости генерал-лейтенант Де Колонг уже умерли. Пострадали лишь наследники кондуктора, с которых удалось взыскать 65 рублей 15 копеек; за семейство разини-начальника вступился… сам Миних, оправдывая его действия «единой простотой и недовольным знанием приказных порядков».
Даже когда дело было абсолютно ясным, оно могло тянуться годами, как история дворянина-рядового Ингерманландского драгунского полка Андрея Тяпкина. В 1730 году он был отправлен в качестве «счетчика» в Белгородскую губернию и должен был доставить из губернской канцелярии в Москву 2732 рубля 42 копейки. По приезде из суммы «не явилось» 391 рубль и 83 с половиной копейки. Куда и каким образом они исчезли, документы умалчивают; но Тяпкин спорить не стал и в возмещение тут же предоставил… 70 рублей, заявив, что больше у него нет. У виновного описали имение из трех «жеребьев» и 11 душ в двух деревнях Костромской провинции (как и многие мелкие помещики, драгун владел этими деревнями совместно с другими служивыми) и оценили его в 466 рублей. Затем дело оставалось без всякого движения до 1734 года, когда Тяпкин доложил Сенату, что на имение «купца и закладчика не сыскал», и просил сенаторов самим продать его «жеребьи». Через год Сенат взял эту задачу на себя, а драгун-растратчик отправился продолжать службу в армии на Украине.[201]
Не только в далекой провинции, но и под самым носом грозной императрицы и ее фаворита безнаказанно процветали бесхозяйственность и «наглые» хищения. В 1740 году обнаружились «многие непорядки» в Канцелярии от строений и придворной садовой конторе, прежде возглавлявшихся к тому моменту уже покойным гоф-интендантом Антуаном Кармедоном. Здесь речь уже шла о сумме в более чем Миллион рублей, по которой не было вообще никакой отчетности, поскольку «приходы и расходы многие чинили по словесным приказам его, Кормедона, и без расписок; и партикулярным людям деньги даваны были на ссуду»; то есть гоф-интендант в течение нескольких лет свободно распоряжался казенными деньгами как собственными и даже раздавал их под проценты.
Следствие сразу обнаружило недостачу около 10 тысяч рублей, но доложило, что для завершения «надлежит со 100 счетов сочинить, а за вышеписанными непорядками и неисправностями оных вскоре сочинить <…> ни по которой мере невозможно». Чиновники канцелярии приходно-расходных записей не вели или записывали их «в своих тетратях» и при ревизии «друг на друга прием показывали». Анна прикинула, что такие проверки «разве что в 10 лет окончаны быть могут», и велела ограничиться составлением тех счетов, «где можно отыскать виновных», и то таких, которые «сами или их наследники имеют свои имения».[202]
Так же случайно раскрылись в 1736 году воровство и подлоги чиновников столичной «городовой канцелярии», уличенных во взятках с подрядчиков и приписках о якобы проделанных ими для благоустройства города работах. Императрица была возмущена даже не столько тем, что они «сие свое воровство чрез многие годы, не престаючи, продолжали», сколько просьбой Сената о смягчении наказания и невзыскивании «взятков». Рассерженная Анна указала сенаторам: «Разве нагло казну нашу разворовывать не в воровство вменяется?»[203]
Наконец, деньги можно было просто не платить. Опытные откупщики и иные держатели казенных статей всегда это учитывали и вовремя докладывали, какой именно ущерб они понесли от карантина, военных действий или других непредвиденных обстоятельств, не забывая просить об уменьшении платежей. В других случаях спросить было опять же не с кого. В 1739 году откупщик московских мостов Степан Буков жаловался Кабинету, что за провоз казенных грузов ему никто ничего не платил и ему приходится возмещать «недобор» в 10 тысяч рублей. Незадачливый откупщик сочинил по делу 85 (!) «доношений», но начатое следствие погрязло в бесчисленных счетах между ведомствами и конторами.
На практике составить точную картину состояния финансов оказалось невозможно. И дело было не только в хищениях. Деньги (с опозданиями и не полностью) приходили в разные кассы, куда (а иногда в совсем другие места) позднее более или менее успешно доставлялись доимки за разные годы.
Далее вступала в действие система «заимообразных» зачетов, когда нужные средства изыскивались из сумм другого ведомства и затем могли годами не возвращаться. В 1740 году за Штатс-конторой состоял долг в 500 тысяч рублей, взятых двумя годами ранее из Соляной и Монетной контор, но так и не возвращенных. Насколько далеко заходили счеты между учреждениями, показывают постоянные конфликты с той же конторой Военной коллегии. В
1739году генералы в очередной раз жаловались на неуплату им суммы в 710 746 рублей, но штатские чиновники полагали, что должны только тысячу рублей, и платить отказались. Не имевший никакой возможности рассмотреть дело по существу Кабинет отправил бумаги обратно с требованием «учинить счеты» и найти деньги. Дело, как обычно, разрешилось компромиссом: Штатс-контора тут же где-то отыскала 200 тысяч рублей, а просьбу выдать недостающее отправила «наверх» — к императрице, распоряжавшейся средствами Соляной конторы.[204]
Аппетиты ведомств и соответствующие «неокладные» расходы постоянно возрастали. Коллегия иностранных дел в
1740году указала, что теперь ее расходы «выходят более» установленного «оклада» в 20 тысяч рублей, и просила увеличить его до 25 тысяч; кроме того, постоянно требовались чрезвычайные суммы на «презенты» чужеземным послам и «пенсии» лицам, оказавшим услуги русскому двору. Огромные средства уходили на прием пышных восточных посольств. Дружба нового союзника, иранского шаха Надира, обошлась в ПО тысяч рублей, потраченных на его послов за 1736–1739 годы; содержание и «отпуск» нового посольства Хулеф-мирзы в 1740 году стоили еще 28 500 рублей.
Наконец, центральный аппарат не имел реального представления о том, сколько и каких сборов должно было поступать в казну. Недостатки подушной переписи сказались еще при жизни ее создателя. Но и с учетом других поступлений дело обстояло не лучше. Так, Камер-коллегия доложила в 1737 году, что не имеет сведений о количестве кабаков и винокуренных заводов в стране по причине неприсылки соответствующих ведомостей. В ответ Анна гневно выговорила министрам, что «самонужное государственное дело» тянется Уже полтора года и конца ему не видно.
Сенатский доклад в августе 1740 года указал еще на одну причину чиновничьего саботажа: местные начальники не Желали показывать «ясного о тех окладах и сборах обстоятельства», поскольку многими «не только в окладе неположенными оброчными статьями секретари и подьячие сами владели, но и из окладных оброчных статей, противно присяге и должности, под видом откупов за собой держали».[205]
Это означало, что имевшиеся в городах и уездах источники казенных доходов в виде мельниц, рыбных ловель, мостов и перевозов, «отдаточных» казенных земель и другие были успешно «приватизированы» местными приказными; официально же они значились сданными в откуп (на сумму гораздо меньшую, чем реальный доход) или просто лежащими «впусте». Отдельные дошедшие до столичного расследования дела показывали, что в присвоение этих средств была вовлечена буквально вся местная администрация во главе с губернатором. В итоге одного расследования оказалось, что оброчная сумма с казенных земель в 1482 рубля «превратилась» в 162 рубля 71 копейку — именно столько получило государство; остальное пошло в карман белгородскому губернатору И. М. Грекову, заодно «приватизировавшему» и обширные сенные покосы. Даже гвардейцы, прибывавшие с «понуждениями», не знали, что в таких случаях делать: документацию от них прятали, сам губернатор отправлялся «в поле с собаки», а другие чиновники — «по хуторам своим».
Установить реальную величину возможных налоговых поступлений можно было только путем повсеместной ревизии таких доходных мест с выяснением, сколько их убыло и прибыло, что действительно лежит «впусте» и сколько реально можно получить денег от каждой сданной мельницы или другой откупной статьи. Но если даже сбор основного прямого налога встречал неодолимые трудности, то для решения столь масштабной задачи правительство и подавно не имело никакой возможности. В итоге государство получало с таких оброчных статей и пошлин едва половину предполагавшегося «оклада».
Вероятно, потомки были бы благодарны «немецкому» правительству Анны Иоанновны, если бы ему удалось навести хоть какой-то порядок в российских финансах. Напрашивается даже непатриотическая мысль: может быть, для наведения порядка в делопроизводстве надо было импортировать больше немецких чиновников?
Но много ли их было или мало? Откуда они брались, чем занимались? Почему оставили по себе такую память?
Немец в поведении прост, ростом высок, в одежде подражателен, в кушании славен, в нраве ласков, лицом пригож, в писании изряден, в науке знаток, в законе тверд, в предприятии орел, в услуге верен, в браке хозяин, немецкие женщины домовые.
Как известно, без иноземцев в Московской Руси не обходились ни Рюриковичи, ни Романовы. Одни из них приезжали временно, как английские и голландские купцы, другие оставались надолго. Число иностранцев, прежде всего — выходцев из германских земель, стало возрастать с середины XVII века, когда московское правительство начало формировать воинские части по европейскому образцу. Туда старались принимать «знатных, прожиточных и семьянистых иноземцев», которые приезжали бы «на вечную службу и собою добры». Размер жалованья иноземных офицеров уже тогда превышал оклады командиров стрелецких полков, но и по уровню профессиональной подготовки немцы превосходили своих русских коллег.
Однако торговцы имели дело прежде всего с такими же московскими купцами, а офицеры концентрировались в полках иноземного строя. В повседневной жизни иноземцы (военные, врачи, переводчики, мастера) были отделены от московских подданных границами Новонемецкой слободы. Проживали в ней примерно полторы тысячи представителей различных наций: шотландцы, датчане, голландцы, французы, англичане, итальянцы, шведы. Но немцы составляли большинство, и обитатели слободы объяснялись между собой на немецком.
Массовое пришествие «немцев» из разных стран началось в первые годы XVIII столетия с петровскими преобразованиями. Именно тогда узкий круг специалистов увеличился примерно до 10 тысяч человек, вышел за рамки Немецкой слободы и элитных частей и расширил «поле» столкновении русских с иноземцами — конечно, за исключением деревни.[206]
Теперь офицеры-иноземцы находились практически во всех регулярных полках армии. Их численность не превышала 13 процентов офицерского корпуса. Но именно они занимали командные места, и роль «немцев» в обучении войск и организации новых полков была выше их процентного соотношения. Выезжего «немца» теперь можно было встретить не только в полку, но и в новом «присутственном месте»; в школе, куда велено было отдать дворянского недоросля; мастера на только что основанном заводе и просто на улицах больших городов в качестве ремесленника, матроса, торговца, содержателя «герберга», трактира или «ренского погреба». Отсюда и обострившаяся неприязнь к ним — как «подлые» люди, так и потомки древних фамилий видели в иноземцах главных виновников тягот государевой службы и потрясений привычного уклада жизни.
Далекие потомки воспринимают Петровскую эпоху по учебникам, где реформы изложены в систематическом порядке (ошибочно подразумевая, что так было и в жизни) с указанием их очевидных (для нас) плюсов и минусов, что едва ли было понятным людям того времени. Многие из них ничего не слышали про Сенат или прокуратуру, а о новом таможенном тарифе или успехах внешней политики вместе с «меркантилизмом» даже не подозревали. Зато им были куда более близки и понятны рекрутчина и бесконечные походы, увеличивавшиеся подати (включая, например, побор «за серые глаза»), разнообразные «службы» и повинности, в том числе бесплатно трудиться на новых предприятиях.
Даже российским дворянам, которым не привыкать было к тяжкой военной службе, пришлось перекраивать, хотя бы отчасти, на иноземный обычай свой обиход и учиться; в чужой стране надо было усваивать премудрости высшей школы, не учась до того и в начальной. В самой России отсутствовали квалифицированные преподаватели, методика и привычная нам школьная терминология.
Не обремененному знаниями тинейджеру XVIII столетия каждый день предстояло с голоса запоминать и заучивать наизусть что-то вроде: «Что есть умножение? — Умножить два числа вместе значит: дабы сыскать третие число, которое содержит в себе столько единиц из двух чисел, данных для умножения, как и другое от сих двух чисел содержит единицу». Он вычерчивал фигуры под названием «двойные теналли бонет апретр» или зубрил по истории вопросы и ответы: «Что об Артаксерксе II знать должно? — У него было 360 наложниц, с которыми прижил он 115 сынов», — и хорошо, если по-русски, а часто — еще и по-немецки или на латыни. Вот и бывало, что отправке в Париж или Амстердам отпрыски лучших фамилий предпочитали монастырь, а четверо русских гардемаринов из солнечного испанского Кадикса сбежали от наук в Африку — правда, скорее всего, из-за проблем с географией.
Нашим современникам трудно представить себе потрясение традиционно воспитанного человека, когда он, оказавшись в невском «парадизе», видел, как полупьяный благочестивый государь царь Петр Алексеевич, в «песьем облике» (бритый. —
Возможно, поэтому самый талантливый русский царь стал первым, на жизнь которого его подданные — и из круга знати, и из «низов» — считали возможным совершить покушение. Иногда шок от культурных новаций внушал отвращение и к самой жизни: в 1737 году служитель Рекрутской канцелярии Иван Павлов сам представил в Тайную канцелярию свои писания, где называл Петра I «хульником» и «богопротивником». На допросе чиновник заявил, что «весьма стоит в той своей противности, в том и умереть желает». Просьбу по решению Кабинета министров уважили: «Ему казнь учинена в застенке, и мертвое его тело в той же ночи в пристойном месте брошено в реку».
Логично, что в таких необъяснимых переменах подданные винили прежде всего «немцев». Но время шло, преобразования худо-бедно утверждались, а воспитанное в их атмосфере новое поколение (прежде всего «шляхетство» и городская верхушка) постепенно привыкало к вторжению новой культуры в их повседневную жизнь. Ведь «немцы» стали уже неотъемлемой частью новых имперских структур и многие из них — лифляндские и эстляндские мужики, бюргеры и дворяне — из иностранцев превратились в соотечественников.
В январе 1725 года все послы России в европейских странах получили для обнародования императорский манифест, не вошедший в Полное собрание законов. Он предписывал им немедленно объявить, «дабы всяких художеств мастеровые люди ехали из других государств в наш российский империум» с правом свободного выезда, беспошлинной торговли своей продукцией в течение нескольких лет.
Государство обязалось предоставить прибывшим «готовые квартеры», «вспоможение» из казны, свободу от постоя и других «служб».[207] Похоже, что Петр, как в начале своего царствования, готовил очередную «волну» иммигрантов, чтобы дать новый импульс преобразованиям.
И они ехали. Точное число иноземцев, проживавших в России во время царствования Анны Иоанновны, нам неизвестно — таких переписей и подсчетов не велось. Но более или менее видных «немцев» на русской службе можно попытаться хотя бы приблизительно посчитать.
Начнем со двора, где, собственно, и властвовал Ьирон. Остерман «царствовал» в Коллегии иностранных дел и Кабинете, Миних с 1733 года почти постоянно находился в армии, так что «конкуренцию» обер-камергеру составлял только клан Левенвольде — братья Карл и Рейнгольд занимали высшие придворные посты обер-шталмейстера и обер-гофмаршала. По должности Бирон являлся главой высшего круга придворных, как обычно, обновлявшегося с приходом нового государя.
При Анне Иоанновне камергерами стали представители молодого поколения: Б. Г. Юсупов, А. Б. Куракин, П. С. Салтыков (сын Семена Салтыкова), П. М. Голицын (сын фельдмаршала), В. И. Стрешнев (родственник Остермана), Ф. А. Апраксин; к концу ее царствования — П. Б. Шереметев, А. Д. Кантемир, И. А. Щербатов (зять Остермана), П. Г. Чернышев, как правило, дети петровских вельмож, поддержавших Анну в 1730 году.
В число камер-юнкеров вошли состоявшие при Анне еще в Курляндии И. О. Брылкин, И. А. Корф, а также П. Г. Чернышев, А. П. Апраксин, А. М. Пушкин, М. Н. Волконский, П. М. Салтыков. Рядом с ними служили пожалованные до 1730 года отпрыски московской знати: И. В. Одоевский, Н. Ю. Трубецкой, П. И. Стрешнев, Ф. А. и В. А. Лопухины. Не менее знатными были и юные пажи — А. Волконский, И. Нарышкин, И. Ляпунов, Н. Лихачев, П. Кошелев, И. Вяземский. Ф. Вадковский, И. Путятин.
Т. Б. Голицына, жена фельдмаршала, была пожалована обер-гофмейстериной, а новыми статс-дамами двора стали деятельно участвовавшие в борьбе Анны за престол графини Е. И. Головкина, Н. Ф. Лопухина, П. Ю. Салтыкова, Е. И. Чернышева, баронесса М. И. Остерман и княгиня М. Ю. Черкасская. В избранное общество попала и супруга обер-камергера Бенигна Готтлиба Бирон — после избрания ее мужа герцогом она «брала первенство» перед всеми дамами, включая обер-гофмейстерину.
В этом кругу старых служилых фамилий «немцев» было немного: среди камергеров мы видим И. А. Корфа, Э. Миниха, родственника Минихов К. Л. Менгдена и ничем не известных де ла Серра и барона Кетлера; среди камер-юнкеров — шурина Бирона фон дер Тротта-Трейдена. Команда пажей была более интернациональной — здесь имелись «Жан француз», «Петр Петров арап», И. М. Бенкендорф, И. Будберг, А. Скалон, В. Бринк.[208]
Очевидно, больше иностранцев не требовалось. Во-первых, придворная служба была исконным почетным правом русской знати; во-вторых, Бирону были не нужны конкуренты. Он явно старался отдалить от трона все более-менее яркие фигуры безотносительно их национальности — не только лояльного А. И. Шаховского или слишком активного Миниха, но и хорошо знакомых ему курляндцев И. А. Корфа, Г. К. Кейзерлинга, К. X. Бракеля, отправляя их в Академию наук или послами за границу. После удаления Карла Левенвольде серьезных соперников у Бирона не осталось, и он старался заместить придворные посты своими «креатурами»; так, обер-шталмейстером стал верный Б. А. Куракин, а обер-егермейстером — А. П. Волынский.
Строптивые, подобно фельдмаршалу В. В. Долгорукову или генералу А. И. Румянцеву, получали показательный урок со смертным приговором, замененным на заключение или ссылку. Другие отправлялись в дальние «командировки». Оставались те, кто готов был не только признать первенство и власть фаворита, но и угождать его и Анны не слишком взыскательным вкусам.
Никогда не служивший в строю гвардии майор и камергер Никита Юрьевич Трубецкой (1700–1767) сумел проявить редкостную способность угождать любой «сильной персоне» с полной отдачей, включая собственных жен: первая пользовалась расположением обер — камергера Ивана Долгорукова, вторую предпочитал фельдмаршал Миних. Он участвовал во всех «судных» расправах аннинского царствования (над Д. М. Голицыным, Долгоруковыми, Волынским), избежал отправки на губернаторство в Сибирь, получил в 1740 году должность генерал-прокурора — и сумел остаться «непотопляемым» на протяжении семи царствований.
Сын знаменитого петровского дипломата (по существу, главы дипломатической службы в Европе) Б. А. Куракина Александр Борисович Куракин (1697–1749) получил блестящее образование за границей, владел немецким, французским и латинским языками. Начав службу при отце, молодой Куракин в 25 лет стал российским послом в Париже и представлял свою державу на Суассонском международном конгрессе. За возвращением последовало камергерство с участием в празднествах и забавах и почетным дозволением (единственному из придворных) напиваться до положения риз: «Обершталмейстер угождал ему (Бирону. —
Бывший гардемарин Тулонской морской школы во Франции Борис Григорьевич Юсупов (1695–1759) также в высшей степени успешно усвоил дух нового царствования и стал верным клиентом Бирона — образцы его посланий к фавориту приводились выше. Правда, князь Юсупов сумел показать себя не только в придворных развлечениях, но и на губернаторстве и даже, как увидим, имел смелость иногда думать.
Для других придворных Анны новые чины стали почетной приставкой к богатству или состоявшейся карьере — как для вельмож Петра Шереметева, Николая Строганова или купца и дипломата Саввы Владиславича-Рагузинского; для третьих — князей Никиты Волконского, Алексея Апраксина, Михаила Голицына — «вершиной» придворной службы в должности императорского шута. Некоторые аристократы не стали шутами по профессии, но приноравливались к стилю двора и демонстрировали соответствующие таланты. Павел Федорович Балк «шутками своими веселил государыню и льстил герцогу, но ни в какие дела впущен не был»; будущий главнокомандующий русской армией в Семилетней войне, а в 30-е годы граф и камергер Петр Семенович Салтыков делал из пальцев разные смешные фигуры и чрезвычайно искусно вертел в одну сторону правой рукой, а в другую правой ногой.
Эти судьбы кажутся нам не случайными. Здесь Бирону опять повезло — уровень его личности и его запросы удачно
После смерти царя-реформатора новое поколение дворянских недорослей предпочло иной путь сближения с «во нравах обученными народами» — увлеклось прежде всего внешней стороной: «шумством», «огненными потехами», показной роскошью, атмосферой вечного праздника, что запечатлели сатиры Антиоха Кантемира:
Румяный, трожды рыгнув, Лука подпевает:
В веселье, в пирах мы жизнь должны провождати:
И так она недолга — на что коротати,
Крушиться над книгою и повреждать очи?
Не лучше ли с кубком дни прогулять и ночи? <…>
Медор тужит, что чресчур бумаги исходит
На письмо, на печать книг, а ему приходит,
Что не в чем уж завертеть завитые кудри;
Не сменит на Сенеку он фунт доброй пудры.
При дворе с размахом праздновались тезоименитства, дни рождения и годовщины коронации. Дамы успешно осваивали европейские моды, танцы и язык мушек: «На правой груди — отдается в любовь к ковалеру; под глазом — печаль; промеж грудей — любовь нелицемерная». На роскошных приемах не жалели средств на иллюминацию и фейерверки, рекой текли вина, гремела музыка и гостей ожидали десятки блюд. «Я бывал при многих дворах, но могу вас уверить: здешний двор своею роскошью и великолепием превосходит даже самые богатейшие, потому что здесь все богаче, чем даже в Париже», — констатировал испанский посол герцог де Лириа.
В 20—30-е годы XVIII века в состав двора входили не только собственно придворные (их деятельность в первую очередь бросается в глаза), но и те, кого можно назвать организаторами повседневной придворной жизни, носителями ее традиций и порядков. Вот здесь-то влияние «немцев» было более значительным. Анну обслуживали немецкие фрейлины (Трейден, Вильман, Швенхен, Шмитсек); гофмейстерина Адеркас с мадам Бельман и «мадемозель» Блезиндорф воспитывали племянницу императрицы Анну Леопольдовну. Русские камер-юнгферы и карлицы были подчинены камер-фрау Алене Сандерше.
Придворными служителями командовали «метердотель» Иоганн Максимилиан Лейер, над армией поваров и поварят «кухмистром» в генеральском чине состоял Матвей Субплан, дворцовую скотобойню возглавлял императорский мясник Иоганн Вагнер. В более изящных сферах вращался зильбердинер Эрик Мусс — ведал придворным серебром, а балами распоряжался танцмейстер Игинс. На придворных концертах гостей восхищали «певчая» мадам Аволано (с окладом в тысячу рублей в год) и «кастрат Дреэр» (его зарплата была и того выше — 1237 рублей) под руководством концертмейстера Иоганна Гибнера и его брата «композитера» Андреаса Гибнера.
В таких условиях постепенно и не без влияния иноземцев вырабатывался универсальный европейский тип придворного, постигшего высокое искусство «обхождения» с сильными мира сего: вовремя польстить и вовремя быть правдивым, вести тонкую интригу и хранить верность очередному «высокому патрону»; уметь наслаждаться не только гончими, но и оперой или балетом, быть способным оценить сервировку стола, не обязательно при этом матерясь или напиваясь.
Манштейн отметил роль в деле воспитания придворных самого фаворита, большого охотника до роскоши и великолепия: «Этого было довольно, чтобы внушить императрице желание сделать свой двор самым блестящим в Европе. Употреблены были на это большие суммы денег, но все-таки желание императрицы не скоро исполнилось». Зоркий глаз адъютанта Миниха приметил разительные контрасты нового стиля петербургского двора: «Часто при богатейшем кафтане парик бывал прегадко вычесан; прекрасную штофную материю неискусный портной портил дурным покроем или если туалет был безукоризнен, то экипаж был из рук вон плох: господин в богатом костюме ехал в дрянной карете, которую тащили одры. Тот же вкус господствовал в убранстве и чистоте русских домов: с одной стороны, обилие золота и серебра, с другой — страшная нечистоплотность. Женские наряды соответствовали мужским; на один изящный женский туалет встречаешь десять безобразно одетых женщин. Впрочем, вообще женский пол России хорошо сложен; есть прекрасные лица, но мало тонких талий. Это несоответствие одного с другим было почти общее; мало было домов, особенно в первые годы, которые составляли бы исключение; мало-помалу стали подражать тем, у которых было более вкуса. Даже двор и Бирон не сразу успели привести все в тот порядок, ту правильность, которую видишь в других странах; на это понадобились годы; но должно признаться, что наконец все было очень хорошо устроено».
Так что можно говорить об успешно продолжавшейся «европеизации» российского двора — в смысле приближения к «стандартам» немецких королевских и княжеских дворов того времени. Редко кто из пишущих о царствовании Анны не упоминал о варварских «охотах» императрицы и ее пристрастии к ружейной пальбе, грубых шутовских выходках придворных «дураков» или о знаменитой свадьбе шута князя Голицына в «Ледяном доме». Но при этом нужно помнить, что многие «образцы» придворной европейской культуры также были в ту пору далеки от утонченности.
Анна Иоанновна — возможно, в память об умершем муже — пьяных терпеть не могла. Только памятный день 19 января ежегодно отмечался по особому ритуалу с выражением чувств в духе национальной традиции. Гостям во дворце надлежало пить «по большому бокалу с надписанием речи: „Кто ее величеству верен, тот сей бокал полон выпьет“». «Так как это единственный день в году, в который при дворе разрешено пить открыто и много, — пояснял этот обычай Рондо в 1736 году, — на людей, пьющих умеренно, смотрят неблагосклонно; поэтому многие из русской знати, желая показать свое усердие, напились до того, что их пришлось удалить с глаз ее величества с помощью дворцового гренадера».[209]
В радостный день дозволялось выразить свои патриотические чувства, как это сделал некий придворный в беседе со шведским ученым и чиновником Карлом Берком: «Нынче какой-то господинчик, подойдя ко мне, привязался с разговорами о том, как здорово он напился, а на мой ответ, мол, в столь замечательный день и следует веселиться, он вскричал, что я прав, тем более что сохранены права дворянства сравнительно с князьями. При этом он употреблял неприличные слова, наверняка слышные нескольким сидевшим рядом господам». Скорее всего, «неприличные слова» должны были означать радость по поводу отмены петровского закона о престолонаследии, который «господинчик» по простоте путал с «восстановлением» самодержавия. Однако и швед отмечал, что «любящая скромность императрица не особенно жалует» упившихся.
Германские же дворы эпохи «старого режима» благонравием решительно не отличались и жили по принципу «Der kbnig ist vergnugt, das land erfreut» («когда король доволен — страна радуется»). «Данашу я вашему высочеству, что у нас севодни все пияни; боле данасить ничево не имею», — докладывала в 1728 году из столицы голштинского герцогства Киля фрейлина Мавра Шепелева своей подруге, дочери Петра I Елизавете о торжествах по случаю рождения у ее сестры сына, будущего российского императора Петра III. Пить же надлежало «в палатинской манере», то есть осушать стакан в один глоток; для трезвенников немецкие князья заказывали специальные емкости с полукруглым днищем, которые нельзя было поставить на стол, не опорожнив до дна. После одной-другой сотни тостов наступало непринужденное веселье, когда почтенный князь-архиепископ Майнцский с графом Эгоном Фюрстенбергом «плясали на столе, поддерживаемые гоф-маршалом с деревянной ногой»; эта сцена аристократического веселья несколько удивила французского дипломата.
«Мы провели 4 или 5 часов за столом и не переставали пить. Принц осушал кубок за кубком с нами, и как только кто-то из компании падал замертво, четверо слуг поднимали его и выносили из зала. Было замечательно видеть изъявления дружбы, которыми мы обменивались с герцогом. Он обнимал нас, и мы обращались к нему по-дружески, как будто знали друг друга всю жизнь. Но под конец, когда стало трудно продолжать пить, нас вынесли из комнаты и одного за другим положили в карету герцога, которая ждала нас внизу у лестницы» — так восторженно описала одна французская дама теплый прием у герцога Карла Ойгена Вюртембергского.
«Я есть отечество», — заявлял этот «швабский Соломон», кстати, такой же страстный лошадник и охотник, как и Вирой с Анной. Карл Ойген содержал огромный двор в 1800 человек с оперой и балетом, но при этом иногда порол своих тайных советников и искренне пытался организовать полк, где все офицеры были бы его детьми от сотни любовниц, осчастливленных княжеским вниманием. Хорошо еще, что по очереди. Баденский маркграф завел себе сразу целый гарем, за что и получил прозвище «его сиятельное высочество германский турок».
Наскучив пьянством и «дебошанством», владыки брались за государственные дела — продавали своих солдат на службу Англии или Франции и торговали дворянскими титулами: за графское достоинство просили тысячу флоринов, за простое дворянство — 500. Герцог Брауншвейгский коллекционировал клавесины и спинеты, которыми никто не смел пользоваться, за исключением его любимой кошки. «Серьезная дискуссия началась на предмет объявления вне закона всех собак во владении князя <…>. Все чиновники составляли подробные списки с указанием имен собак, их размера, возраста, породы и назначения. Руководствуясь этими списками, совет вынес резолюции о собаках Melac, Damit, Blanchet, Ouvre-L'Oeil, Empoigne. Обсуждение стало более оживленным, когда очередь дошла до собаки Mordeuf, поскольку это был настоящий породистый пинчер. Председательствующий предложил убить его. Но первое лицо (сам князь. —
С успехом истребляли не только собак. «Сегодня с дозволения императора будет дано следующее представление: дикий венгерский бык, чьи уши и хвост украшены петардами, будет атакован бладхаундами. Затем на огромного медведя набросятся мастиффы», — приглашала венская афиша в 1731 году. В том же году в королевском Берлине с не меньшим успехом проходили «бои» медведей с бизонами, одного из которых изволил лично застрелить Фридрих Вильгельм I.
С королевским размахом гулял Август III, о чем извещали российских читателей «Санкт-Петербургские ведомости» в марте 1740 года: «Из Дрездена от 23 февраля. Сего месяца восьмого числа, то есть в высокий день рождения ее императорского величества императрицы всероссийской, изволил его королевское величество от своих министров и других знатных персон сам торжеством принесенные всепокорные поздравлении принять; а потом с ее величеством королевою, также с принцами и принцессами, в провожании всего придворного стата в егерские палаты идти, для смотрения звериной травли; которая с девятого часу утра до первого часа по полудни продолжалась. Туда приведены были разные звери, а именно лев со львицею, бабр, леопард, тигр, рысь, три медведя, волк, дикой бык, два буйвола, корова с теленком, ослица, жеребец, две дикие лошади и двенадцать превеликих кабанов. Лев с медведем того же часа на диких свиней напали, и убив их, стали есть. Леопард принялся за теленка; а дикой бык ослицу рогами убил. Другой медведь атаковал волка и несколько раз к верьху ево так бросал, что волк, от него ушедши, к диким свиньям прибежал. Король после того из своих рук рысь и медведя застрелил; а по окончании сей травли изволил его величество с принцами и принцессами в большой сале сего егерского дому за особливым на сорок персон приготовленным столом кушать». Остается добавить, что во время таких пиршеств саксонских курфюрстов подгулявшие гости немилосердно били посуду, а радушный хозяин для засвидетельствования гостеприимства публично взвешивал приглашенных до и после застолья.
После таких аппетитных подробностей известие тех же «Ведомостей», что «с 10-го июня по 6-е августа ее величество, для особливого своего удовольствия, как парфорсною охотою, так и собственноручно, следующих зверей и птиц застрелить изволила: 9 оленей, 16 диких коз, 4 кабана, 1 волка, 374 зайца, 68 диких уток и 16 больших морских птиц», выглядит почти как тихое семейное развлечение. Куда ей до герцога Карла Вюртембергского, который только в 1737 году уничтожил шесть с половиной тысяч оленей и пять тысяч кабанов. Да и вообще петербургский двор на фоне многих германских подражаний Версалю выглядел едва ли не богоугодным заведением.
Соответствовали тогдашней «моде» и другие пристрастия императрицы. «Карлы»-шуты имелись не только у саксонского курфюрста и короля Баварии, но и при венском дворе императора Карла VI (кстати, тоже большого любителя охоты). Обзавестись смешными живыми игрушками стремились и другие государи, а некоторые создавали рядом со своими замками настоящие «карликовые» деревни с маленькими домиками, мебелью и прочими предметами обихода. Так что шутовство при дворе Анны имело в основе не только московские, но и европейские образцы. Да и сами шуты нередко были иноземцами, как знаменитые Лакоста и Педрилло. Еще один странствовавший по королевским дворам комик И. X. Тремер после Дрездена больше года провел в Петербурге, участвовал в придворных развлечениях вместе с другими шутами, которых описал в своей книге.
Другое дело, что выходки «дураков» петровских и аннинских времен уже не соответствовали несколько более утонченной атмосфере конца XVIII — начала XIX века и казались весьма неблагопристойными. Однако так ли уж далеко ушли потомки? При екатерининском дворе грубых драк, конечно, быть не могло, но умеренное шутовство почтенных вельмож принималось благосклонно — вспомним хотя бы строки Грибоедова о герое того времени:
На куртаге ему случилось обступиться;
Упал, да так, что чуть затылка не пришиб;
Старик заохал, голос хрипкой:
Был высочайшею пожалован улыбкой;
Изволили смеяться; как же он?
Привстал, оправился, хотел отдать поклон,
Упал вдругорядь — уж нарочно,
А хохот пуще, он и в третий так же точно.
Это не просто литературный вымысел. Вот как описывал бывший паж Екатерины II один из вечеров императрицы и затеянную игру в «муфти» с штрафными фантами: «Фанты вынимала Анна Степановна Протасова, и достался фант „lе docteur et le malade“, больной был А. П. Нащокин, а лекарь — граф Эльмпт. Сняли белые чахлы с кресел, устлали биллиард, положили Нащокина, оборотили стул вместо подушки, повязали голову салфеткой, убрали тело чахлами белыми, и сделался халат. Пошли перед царицею кругом биллиарда; все шли по два в ряд, а граф Эльмпт сзади шел. Привязали к петлице несколько пустых бутылок, длинные бумажные ярлыки, каминная кочерга коротенькая вместо клистирной трубки; положили Нащокина и — ну ему ставить клистир. Государыня так хохотала, что почти до слез.»[211]
Но при этом многие культурные новации вошли в жизнь столичного общества именно при Анне Иоанновне. В ту пору начался долгий и трудный процесс создания русского литературного языка, занявший большую часть столетия; у его истоков стояли поэты и переводчики Антиох Кантемир и Василий Тредиаковский, которого Г. К. Кейзерлинг принял на службу в Академию переводчиком и обязал «вычищать язык русский, пишучи как стихами, так и не стихами», а заодно обучать «российскому языку» его самого.
В первую годовщину коронации Анны, 29 апреля 1731 года, русский двор впервые услышал во время праздничного обеда итальянские «кантату на день коронации императрицы Анны Иоанновны» для сопрано, скрипки, виолончели и клавесина. В том же году в Россию из Дрездена прибыл целый театральный коллектив; под началом директора труппы актера Томмазо Ристори состоял ансамбль комедии дель арте, при которой имелись музыканты и певцы; затем приехала группа европейских музыкантов с капельмейстером Гибнером.
Еще недавно культурной новинкой при дворе были незатейливые персидские «комедианты», скорее всего, вывезенные из оккупированных русскими войсками прикаспийских иранских провинций. Но с появлением европейских мастеров мода меняется, и «персиянские комедианты Куль Мурза с сыном Новурзалеем Шима Амет Кула Мурза да армяня Иван Григорьев и Ванис отпущены в их отечество». Россия впервые реально вступила в культурное сообщество европейских стран, то есть стала центром, посещавшимся знаменитыми артистами и музыкантами. Театральные труппы приглашались на два года, сменяли друг друга и вносили в жизнь русского двора новые представления и интересы, помимо шутовства, охоты и застольных развлечений. По свидетельству современников, «многие молодые люди и девушки знатных фамилий обучались в то время не только игре на клавикорде и других инструментах, но и итальянскому пению, добившись в короткое время больших успехов»; молодая княжна Кантемир, например, «играла не только труднейшие концерты на клавесине и аккомпанировала генерал-басом с листа».
Фаворит, кстати, оценил новые культурные веяния, и на очередном празднике коронации 28 апреля 1734 года любимец Анны маленький Карл Эрнст Бирон поднес Анне Иоанновне «экземпляр» панегирической пьесы «Aria о Menuet» («Ария или менуэт») для сопрано и клавесина. Пожалуй, фаворит с высоты своего положения мог бы одобрить звучавшие в ней проклятия в адрес злополучной судьбы:
Иди же прочь, хитрая потаскуха!
Неверная судьба! Докучливое наважденье!
Ты не имеешь права впредь обезьянничать со мной.[212]
Музыка придворного композитора неаполитанца Франческо Арайи отныне вошла в обиход, и «Санкт-Петербургские ведомости» от 2 февраля 1736 года сообщили, что «в прошлой понедельник, то есть 29 числа сего месяца, представлена от придворных оперистов в императорском зимнем доме преизрядная и богатая опера под титулом „Сила Любви и Ненависти“ к особливому удовольствию ее императорского величества и со всеобщею похвалою зрителей». Правда, постоянной труппы еще не было; драматический театр прижился уже при Елизавете Петровне, приучавшей придворных ходить на представления штрафами в 50 рублей.
Зато в 1738 году танцмейстер шляхетского кадетского корпуса Жан Батист Ланде получил императорский указ об основании предложенной им «Танцевальной ее императорского величества школы» и о выплате ему и его ученикам жалованья из «комнатных» денег. Так появилась на свет русская танцевальная труппа «обретающихся во обучении балетов российских 12 человек», в том числе включавшая первых профессиональных отечественных балерин — «женска полу девок» Аксинью Сергееву, Елизавету Борисову, Аграфену Иванову и Аграфену Абрамову.[213]
Исполнители итальянской музыки, опер и балетов стоили недешево; «годовая сумма 25 675 рублев» выплачивалась из соляных доходов императрицы. Насколько сильной была ее тяга к высокому искусству и обсуждала ли она с Бироном достоинства «богатых» оперных постановок, нам неизвестно. Однако новый стиль жизни — дорогие дома с богатой обстановкой и мебелью, роскошные туалеты и аксессуары, щегольские экипажи — должен был востребовать творчество архитекторов и художников, обеспечить работой каменщиков, плотников, портных, шорников, каретников, ювелиров, мебельщиков и прочих мастеров-ремесленников.
Иноземцы были не только при дворе. В столичных учреждениях с петровских времен появились немцы-чиновники, хотя в «статской» службе их было немного. Составленный в 1740 году «Список о судьях и членах и прокурорах в колегиях, канцеляриях, конторах и протчих местах» свидетельствует: на закате «бироновщины» из 215 ответственных чиновников центрального государственного аппарата «немцев» было всего 28 (по сравнению с 30 при Петре 1 в 1722 году). Если же выбрать из этих служащих лиц в генеральских чинах I–IV классов, то окажется, что на 39 важных русских чиновников приходилось всего шесть иностранцев (чуть больше 15 %) — намного меньше, чем в армии.[214]
Наиболее широко они были представлены в Коллегии иностранных дел и Коммерц-коллегии, требовавших высокой квалификации, знания языков и «прав» иных государств. Камер-коллегия нуждалась в специалистах по финансам, а Юстиц-коллегия — в юристах, тем более имея специальное подразделение «лифляндских, эстляндских и финляндских дел». Многие «статские» служащие также появились на русской службе во времена Петра I. В Коммерц-коллегии с петровских времен трудились советник Иоганн Павел Бакон и асессор Яков Гювит. Универсальным специалистом стал советник Андрей Кассис — он служил с 1724 года в Мануфактур-коллегии, Коммерц-коллегии, Юстиц-конторе и Монетной конторе. Бессменным вице-президентом Юстиц-коллегии стал с 1720 года Сигизмунд Адам Вольф, бывший гофмейстер детей Меншикова и «тайный секретарь» Петра I; его брат Яков Вольф стал известным купцом, банкиром и основателем торговой фирмы.
Под началом С. А. Вольфа и его преемников трудились Иоганн Фитингоф, Иоахим Гагемейстер и швед Альбин Грундельшерн. Другой швед, Лоренц Ланг, с 1715 года совершил с торговыми караванами шесть путешествий в Китай, где налаживал дипломатические и торговые отношения с Россией, а затем с 1740 по 1752 год был вице-губернатором в Иркутске. Капитан морской артиллерии Андрей Беэр служил в Оружейной канцелярии и успешно руководил Сестрорецким оружейным заводом. На протяжении пяти царствований занимал свое место вице-президент Штатс-конторы Карл Принценстерн. За 42 года службы обрусел, получил дворянство и вотчины и в очередной раз был представлен к повышению в 1764 году 64-летний вице-президент Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел Федор Иванович Эмме.
При Анне Иоанновне пост генерал-директора дворцовой конторы занял некий фон Розен; под его началом в качестве дворцовых управителей подвизались «доменс-советник» Фирек, асессор Гохмут, комиссар Пеллинг. Француз Антуан Кармедон возглавил тогдашний «Госстрой» — Канцелярию от строений. На русской службе находились греки, итальянцы, поляки, турки, шведы, французы и многочисленные выходцы из германских земель, которые указывали свою особую национально-государственную принадлежность: «голштинцы», «курляндцы», «эстляндцы»; в Юстиц-коллегии служил асессор Гейсон «из немецких шляхтичей», президент Академии наук барон Корф был родом «ис курляндских шляхтичей», а советник академической канцелярии И. Д. Шумахер — «альзацкои нации»; директор Петербургской почтовой конторы Ф. Аш происходил «города Бреславля из гражданского чину».
Но из всех вновь прибывших иноземцев историки чаще всего связывают Бирона с Шембергом. Саксонский камергер, обер-берг-гауптман и барон Курт Александр Шемберг (или Шомберг) в 1736 году обратился в Кабинет министров с предложением своих услуг опытного горного специалиста и обещал привлечь на российскую службу других «горных людей»-мастеров. Предложение было принято, и барон прибыл в Россию вместе с 14 специалистами («обер-берг-амтовым актуариусом» Карлом Фохтом, «гистеншрейбером» Иоганном Леманом, штейгерами Иоганном Буртгартом, Кристианом Пушманом, Иоганном Шаде и другими). Всех прибывших приняли на службу, а с самим Шембергом заключили «капитуляции» — правда, на менее выгодных условиях, чем он рассчитывал: вместо жалованья в шесть тысяч рублей в год ему положили только три.[215]
Попытка «сократить» петровскую Берг-коллегию в 1727 году оказалась неудачной: важность данной отрасли для российской экономики и наличие местных органов горного ведомства заставляли восстановить центральный аппарат под иным названием — Генерал-берг-директориум. Его и возглавил Шемберг. При нем в 1737 году началось строительство Верхне-Туринского завода на реке Туре; через два года завод начал производить пушечные ядра, бомбы, якоря и другие снасти для российского флота.
Шемберг выступил сторонником приватизации казенных предприятий, но желал, чтобы его ведомство этим процессом руководило, и считал возможным, чтобы его подчиненные могли сами вступать в рудокопные компании и становиться владельцами заводов. Такая позиция вызвала понятное удивление: «Когда они будут интересанты, то уже кому надзирание над ними иметь?» Тем не менее так и случилось — генерал-берг-директор одновременно раздавал предприятия и сам стал предпринимателем: получил в 1739 году Туринский и Кушвинский заводы вместе с рудным богатейшим месторождением (горой Благодать) с приписанными селами и землями. Для управления этим хозяйством был создан целый «Благодатский обер-бергамт» с нанятыми в Саксонии мастерами, а на производстве введен саксонский способ углежжения.
Небеспристрастный по отношению к Бирону Манштейн писал об этой истории, что Шемберг, заведовавший рудниками в Саксонии, «знал основательно все, что необходимо для этих работ, и устроил их наилучшим образом, но так как двор отдал ему в то же время эти рудники в аренду, то он много приобрел через министерство, которое увидело, что заключенный контракт был слишком выгоден для Шемберга, а двор получал от него мало прибыли. Уже в царствование Анны начали привязываться к Шембергу, но тогда не удалось сделать его несчастным; наконец в царствование Елизаветы враги нашли средство не только нарушить контракт, двором с ним заключенный, но даже арестовать и отдать Шемберга под суд. Он просидел год в тюрьме и считал себя весьма счастливым, что получил свободу и позволение возвратиться в Саксонию, отказавшись от всего нажитого богатства. Между тем двор пользуется улучшениями, введенными Шембергом в горном деле, и извлекает из этих рудников значительные доходы».
Какую роль в появлении Шемберга и передаче ему казенных заводов сыграл Бирон и участвовал ли он в получении заводских доходов, сказать на основании казенных документов трудно. Можно предположить, что без его ведома и поддержки это дело не обошлось; во всяком случае, контракты с полусотней нанятых саксонских специалистов заключал от имени Генерал-берг-директориума посол Кейзерлинг. Гарантии платежеспособности и честности Шемберга дал сам Бирон; барон получил от государыни 50 тысяч рублей, привилегию на разработку руды в Лапландии (под «особливой всемилостивейшей протекцией» самой императрицы) и сальный промысел в Архангельске на 10 лет. Кроме того, предприимчивый саксонец стал закупать казенное железо для реализации его за границей.
Однако Шемберг владел предприятиями недолго и почти сразу же стал испытывать финансовые трудности. Уже в 1739 году он не смог рассчитаться с казной за взятые для продажи 239 тысяч пудов железа и вместо положенных 135 594 рублей уплатил только 90 тысяч.[216] В конце концов в 1742 году заводы был возвращены в казну за долги.
Скорее всего, здесь имело место не хищение в особо крупных размерах, а неудачный опыт приватизации с привлечением иностранных инвестиций и технологий. Только Акинфий Демидов изъявил желание получить три железоделательных завода; на остальные предприятия заявок не поступило, и они в итоге остались в казенном владении. В то же время трудно признать эффективным соединение в одном лице государственного чиновника, призванного отвечать за развитие всей отрасли, и собственника, заинтересованного не в конкуренции, а в максимальной прибыли. Можно также предположить, что Гороблагодатские заводы являлись достаточно привлекательным объектом, поскольку при Елизавете были вновь приватизированы (также неудачно) уже исконно русским вельможей Петром Ивановичем Шуваловым. Однако преступления в действиях Шемберга правительство Елизаветы не обнаружило; примерно половина из нанятых саксонских специалистов оказались квалифицированными мастерами, продлили свои контракты и остались служить в России. Вице-президентом, а затем и президентом восстановленной при Елизавете Берг-коллегии остался другой немец — Винцент Райзер.
И впоследствии приток иностранцев на государственную службу продолжался. Перепись чиновников 1754–1756 годов показала, что только в центральных учреждениях страны служили 74 иностранных специалиста-разночинца (не считая дворян), составляя уже 8,2 % служащих.
Особым видом государственной службы для иностранцев было ученое поприще. При Анне продолжал работать в Морской академии один из первых призванных Петром ученых — британский математик и российский бригадир Генри Фарварсон. Под руководством И. А. Корфа на благо науки в Императорской академии трудились ботаник Иоганн Амман, химик Иоганн Георг Гмелин, зоолог Иоганн Дювернуа, астроном Луи Делиль де ла Кройер, физик Георг Вольфганг Крафт, историки Готлиб Байер и Герард Миллер.
Президент Академии наук Корф умел выпрашивать у Анны Иоанновны деньги для своих подопечных. По его инициативе в Академию приглашены видные ученые: Я. Штелин, П. Л. Леруа, И. Ф. Брем, Г. В. Рихман, Ф. Г. Штрубе де Пирмонт; на обучение за границу направлены ученики Славяно-греко-латинской академии, в числе которых были М. В. Ломоносов и Д. И. Виноградов — будущий химик-технолог и основатель Петербургской «Порцелиновой мануфактуры». Одной из заслуг Академии наук является выход в 1728–1742 годах «Примечаний» — первого русского журнала и первого научно-популярного издания. В 1739 году при Академии был основан Географический департамент, который через несколько лет издал первый атлас России.
Кстати, уже тогда научные изыскания академиков порой имели практическое применение. Востоковед Георг Яков Кер состоял «профессором ориентальных языков» при Коллегии иностранных дел. Академик-математик Христиан Гольдбах стал главным специалистом российского «черного кабинета», организованного в 1742 году по инициативе вице-канцлера А. П. Бестужева-Рюмина для систематической перлюстрации дипломатической почты; именно его усилиями были дешифрованы депеши французского посла маркиза де Шетарди.[217] Иван Греч, прусский «профессор истории и нравоучения» и юстиц-советник 5-го класса (предок знаменитого во времена Николая I консервативного издателя и журналиста Н. И. Греча), в середине 30-х годов был приглашен в Митаву в качестве секретаря герцога Бирона, а затем служил уже в Петербурге в Шляхетском кадетском корпусе и даже побывал учителем великой княгини Екатерины Алексеевны — будущей Екатерины II.
Еще одной профессиональной сферой, практически целиком занятой иностранцами, стала медицина. По инициативе нового лейб-медика и архиатера Иоганна Фишера императрица утвердила «Генеральный регламент о госшпиталях и о должностях определенных при них докторов и прочих медицинского чина служителей», который впервые определял порядок работы русских больниц. По его же представлению Сенат в мае 1737 года повелел «в городах, лежащих по близости от Санкт-Петербурга и Москвы, а именно во Пскове, Новгороде, в Твери, в Ярославле и прочих знатных городах, по усмотрению Медицинской канцелярии, для пользования обывателей в их болезнях держать лекарей». Так постепенно в русскую жизнь стал входить немец-доктор. В 1738 году в Петербурге был назначен специальный врач для бедных, обязанный ежедневно находиться при главной аптеке, «прописывать бедным и беспомощным лекарства и раздавать оные безденежно».
В провинции рядовые «обыватели» этого еще не почувствовали, но в Петербурге солдат и матросов пользовали военные врачи Дамиан Синопеус, Даниил Мезиус, Льюис Калдервуд, Джеймс Маунси, Христиан Эйнброт, Иоганн Хатхарт и другие. В 1736 году зубной доктор Герман публиковал объявление, что у него, кроме лечения зубов, «можно в ванне мыться» и пользоваться «парами из лекарственных трав».
Поступивший в 1731 году на русскую службу Иоганн Якоб Лерхе (1703–1780) успел побывать полковым врачом в иранских провинциях, ходил вместе с русской армией по причерноморским степям во время Русско-турецкой войны, боролся в Харькове с эпидемией чумы. Затем были поход во время войны со шведами в Финляндию, поездка с русским посольством в Персию, недолгая служба «штадт-физика» в Москве и продолжительная работа в Медицинской канцелярии. Во время «Чумного бунта» 1771 года старый доктор издал правила профилактики этой страшной болезни.
Наивно было бы полагать, что зарубежные специалисты прибывали с благородной целью помочь отсталой стране поскорее создать образцовый аппарат управления. Однако высокая квалификация делала их практически незаменимыми, да и служебной этикой они превосходили многих из отечественных петровских «выдвиженцев». Пройдя огонь, воду и медные трубы приказной службы, российский чиновник быстро усваивал нормы служения не закону, а «персонам» и собственной карьере, в случае удачи обещавшей даже «беспородному» разночинцу дворянский титул и связанные с ним блага. Оборотной стороной выдвижения новых людей в государственном аппарате и судах были хищения, коррупция, превышение власти, котор*ые не только не были истреблены грозным законодательством Петра, но перешли, так сказать, в новое качество.
Недавнее исследование криминальной деятельности петровских «птенцов» показало не только вопиющие размеры «лакомств», но и их причину. Стремительная трансформация патриархальной московской монархии в бюрократическую империю вызвала резкое возрастание численности бюрократии: только за 1720–1723 годы число приказных увеличилось более чем в два раза. Результатом стали разрыв традиции гражданской службы и снижение уровня профессионализма — при возрастании амбиций и аппетитов чиновников.[218] Проще говоря, дьяки и подьячие XVII века брали умереннее и аккуратнее, а дело свое знали лучше, чем их европеизированные преемники, отличавшиеся полным «бесстрашием» по части злоупотреблений.
В записках вице-президента Коммерц-коллегии Генриха Фика (именно он по заданию Петра I собирал в Швеции материалы для коллежской реформы) приводится характерный портрет такого «нового русского» чиновника, с которым сосланному при Анне Иоанновне Фику пришлось встретиться в Сибири. Это был «молодой двадцатилетний детинушка», прибывший в качестве «комиссара» для сбора ясака, который на протяжении нескольких лет «хватал все, что мог». На увещевания честного немца о возможности наказания «он мне ответствовал тако: „Брать и быть повешенным обое имеет свое время. Нынче есть время брать, а будет же мне, имеючи страх от виселицы, такое удобное упустить, то я никогда богат не буду; а ежели нужда случится, то я могу выкупиться“. И когда я ему хотел более о том рассуждать, то он просил меня, чтоб я его более такими поучениями не утруждал, ибо ему весьма скушно такие наставлении часто слушать».[219]
И все же двор, коллегии и конторы — это довольно узкий столичный круг. Провинциальный русский дворянин, купец, а то и мужик, скорее всего, ничего не знали о славной певице Людовике Зейфрид, получившей от Анны Иоанновны только за одно выступление 29 февраля 1731 года 200 дукатов, и никогда в жизни не имели дело с асессором Коммерц— или Камер-коллегии, зато вполне могли столкнуться с немецким офицером на русской службе.
Военная коллегия каждый год составляла «список генералитету, штаб— и обер-офицерам». По подсчетам сравнившего такие списки за 1729 и 1738 годы Е. В. Анисимова, в 1729 году из 71 генерала полевой армии 41 был нерусского происхождения, всего же из 371 генерала и штаб-офицера — 125 (34 %). В 1725 году лишь один из 15 капитанов балтийской эскадры был русским. В 1738 году количество отечественных и иноземных генералов уже было почти равным — соответственно 30 и 31; а общее число иностранных генералов и штаб-офицеров (майоров, подполковников, полковников) составляло 192 из 515 (37,3 %).[220]
Увеличение доли иноземцев, как видим, незначительное, чтобы говорить о каком-то предпочтении им при чинопроизводстве. Однако при этих подсчетах оценивалось все количество генералов и офицеров, включая тех, кто получил свой чин до 1730 года и продолжал служить при Анне. Но кого же делала генералами она? В нашем распоряжении есть списки 1740 и 1741 годов, и мы можем оценить и «качество» этого слоя, и отношение к нему в «верхах».
Итак, в царствование Анны Иоанновны были назначены Два из трех имевшихся к 1740 году фельдмаршалов — Б. X. Миних и П. П. Ласси, оба иноземцы; произведены 12 генерал-аншефов (семь «немцев» и пять русских); 21 генерал-лейтенант (соответственно 11 и 10) и 48 генерал-майоров (соответственно 27 и 21). Таким образом, по всем генеральским категориям иноземцы преобладают, что при общем их количестве в русской армии как будто говорит о явном предпочтении «немцам».
Но все не так просто. Биографические данные генералов показывают, что большинство «немцев» поступили на русскую службу не в 30-е годы, а много раньше. При Петре начали служить Миних и Ласси; при нем же и в первые годы после его смерти получили свои чины шесть из служивших при Анне десяти генерал-аншефов «немцев», 13 из 21 генерал-лейтенанта «немца» и 29 из 42 генерал-майоров «немцев». То есть офицеры-иностранцы действительно получали чины и звания, только это были «немцы» не «аннинские» и не «бироновские», а бывшие капитаны, майоры и полковники армии Петра Великого.
Иные из них служили еще предкам Петра, как ветеран Вилим фон Дельден: за время 50-летней службы «тяжко ранен, прострелен в грудь смертельным страхом и лежал между трупа, и от таких тяжких ран и десятилетнего полонного терпения пришел в глубокие тяжкие болезни и безсилие», как оправдывался он перед Анной, будучи не в состоянии принять губернаторскую должность. Другие (ирландец Петр Ласси, швед Ульрих Спаррейтор, немцы Матвей Витвер и Федор Балк, пруссак Людвиг Альбрехт, отметившийся 25 февраля 1730 года) еще вместе с юным Петром были под Азовом и Нарвой.
Филип Богислав фон Шверин и шотландец Отгон Дуглас служили Карлу XII (Иоганн Кампенгаузен даже в чине капитана дрался в рядах шведов под Полтавой), а затем стали русскими офицерами. Французы Петр и Андрей де Бриньи, Александр Клапье де Колонг создавали инженерную службу, Миних строил Ладожский канал, голландец артиллерист Вилим де Геннин успешно руководил казенными уральскими заводами. Еще один шотландец, Иоганн Людвиг Люберас, строил Ревельскую и Рогервикскую гавани, укрепления и док в Кронштадте, был вице-президентом Берг-коллегии, руководил комиссией по описанию и составлению карты Финского залива, заведовал при Анне Кадетским корпусом, при Елизавете воевал со шведами, а в 1744–1745 годах находился с дипломатической миссией в Стокгольме.
В этом ряду «служилых» немцев-генералов можно выделить, пожалуй, только трех человек, чья карьера была тесно связана с Бироном. Оба его брата одновременно поступили на службу, в 1737 году стали генерал-лейтенантами, а к концу аннинского царствования — генерал-аншефами. Хотя оба и были настоящими солдатами и участвовали в походах Русско-турецкой войны, но едва ли могли рассчитывать на столь быструю карьеру по своим личным заслугам. Густав всю жизнь оставался исправным и храбрым служакой, но отнюдь не полководцем; Карл был способнее (Миних вынужден был признать, что старший из братьев «ревностен и исправен в службе, храбр и хладнокровен в деле»), но отличался жестокостью и надменностью, с командующим не ладил и после окончания войны ушел в отставку. Вернулся он на службу только по настоянию герцога и в октябре 1740 года был назначен генерал-губернатором в Москву.
Лудольф (Рудольф) Август фон Бисмарк, сын прусского генерала, дослужился до полковника, но вызвал неудовольствие начальства и решил искать счастья в России. Неизвестно, при каких обстоятельствах состоялось его знакомство с Бироном, но последствия оказались для неудачливого офицера благотворными. В августе 1732 года фельдмаршал Миних объявил о принятии на русскую военную службу «генерал-маеором прусского полковника Людольфа Августа фон Бисмарка, с жалованием по 3000 руб. в год» и назначении его в Петербург «для учреждения экзерциции по новому воинскому штату», В следующем году Бисмарк получил в команду расквартированный в столице Астраханский полк — и тут же стал генерал-лейтенантом и мужем свояченицы Бирона Теклы Тротта фон Трейден. Бисмарк был в 1734 году послан с дипломатическим поручением в Англию, участвовал в польской и турецких кампаниях, но отличился главным образом тем, что в 1737 году «страховал» со своими полками «выборы» в Курляндии. К концу царствования свояк герцога получил чин генерал-аншефа и пост вице-губернатора в Риге.
Помимо Бисмарка и братьев Биронов имелись и другие выдвижения не по заслугам — например карьера принца Людвига Груно Гессен-Гомбургского, личности амбициозной и бездарной, прославившейся не столько военными подвигами, сколько умением передергивать карты, причем даже играя во дворце. Но в числе клиентов Бирона он не был и с воцарением Елизаветы по-прежнему остался видным лицом при дворе.
Большинство же получивших генеральский чин при Анне заработали его ратной службой — с 1733 года империя постоянно вела военные действия, и награждать было за что. Федор Штофельн в 1738 году героически защищал от турок Очаков. Ирландец Юрий (Джордж) Броун сражался с турками и, будучи командирован к союзникам-австрийцам, вместе с ними попал в плен; офицера три раза перепродавали на рынках Стамбула, пока ему не удалось бежать, захватив с собой важные документы турецкого командования. Иван Альбрехт потерял ногу, а Ганс Юрген фон Икскуль погиб в бою со шведами при Вильманстранде в 1741 году. Кстати, решение о начале этого сражения принял в августе военный совет, шесть из восьми участников которого вместе с главнокомандующим Ласси были «немцами». Служить России будут и их дети — появятся военные династии Штофельнов, Вейсбахов, Ласси.
Со времен Петра I иноземные специалисты занимали высшие должности в военном флоте: в царствование Анны Иоанновны им командовали «петровские» адмиралы англичане Томас Сандерс, Томас Гордон, норвежец Питер Бредаль, швед Даниил Вильстер, немец Мартин Госслер; в должности обер-интенданта ведал строительством Балтийского флота талантливый английский конструктор Ричард Броун.
Эти генералы (Петр Ласси, Иоганн Люберас, Андрей Девиц, Кристиан Киндерман, Вилим Фермор, Юрий Броун, Федор Штофельн, Ридигер Вейдель, Иоганн Капменгаузен, Ульрих Спаррейтор, оба де Бриньи, Федор Брадке, Юрий Ли — вен и другие) также служили России при Елизавете и Екатерине II, как генералы «статские» — дипломаты И. А. Корф, Г. К. Кейзерлинг или сын петровского вице-президента Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел Германа Бреверна Карл Бреверн.
Сравнение сделанных при Анне назначений со списком генералов 1748 года показывает, что «национальное» правительство Елизаветы проводило точно такую же политику: из пяти полных генералов было два произведенных ей «немца», из восьми генерал-лейтенантов — четыре, из 31 генерал-майора — 11.
Военная служба была наиболее престижной и предоставляла большие возможности для карьеры, особенно в условиях постоянных войн и открывавшихся «вакансий». Кроме того, многие офицеры из прибалтийских губерний вынуждены были служить в имперской армии — их небольшие имения не давали иного выбора. Подпоручиками и прапорщиками в полевые полки отправлялись и их дети — выпускники Шляхетского кадетского корпуса (в 1741 году — 21 «немец» из 71 «курсанта»), не получавшие никаких особых благ при распределении.
Так служил лифляндец Вилим Фелькерзам, начавший карьеру 16-летним бомбардиром, на полях сражений Семилетней войны ставший генерал-майором и вышедший в отставку генерал-аншефом. Кадет Карл Фелькерзам дослужился до бригадира; его однокашник Христофор Эссен, пойдя на службу 13-летним рядовым, во время Семилетней войны получил чин генерал-майора и закончил боевой путь в боях против турок при Екатерине II. Вместе с ним сражались против Фридриха II бывший рядовой Конной гвардии Рейнгольд Вильгельм Эссен и бывший паж и поручик Иоганн Михель Бенкендорф — оба впоследствии стали российскими генералами. Рядовой Измайловского полка и участник Русско-турецкой и Русско-шведской войн Иоганн Мейендорф на склоне лет был назначен комендантом, а затем вице-губернатором Риги. Родоначальниками плеяды российских офицеров и дипломатов стали Якоб и Людвиг Будберги и Георг Вильгельм Ламздорф.
Как и раньше, иноземных офицеров принимали в российскую службу: так, в 1732 году в рядах армии оказались ротмистр Марселет, капитан Капельн, поручик фон Меркельбах («в драгунские полки Украинского корпуса»), «бывшие на шведской службе» подполковник фон Штокман и майор фон Кафлер («в ландмилицкие полки»), начинавший «на гессенской службе» лифляндец капитан Радинг, генерал-майор Шпигель из «гессен-дармштадтской службы», «бывший в гессен-кассельской службе» полковник Я. Марин и его сын прапорщик С. Марин («теми же чинами <…> в Низовой корпус»), капитан Жан Батист де Турвилье («в армейские пехотные полки»). В 1737 году вместе с принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским на русскую службу поступил его паж — знаменитый впоследствии барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен; кстати, он стал корнетом кирасирского Брауншвейгского полка «по просьбе герцогини Бирон».
Государство поощряло прибытие иностранных специалистов и до, и после «бироновщины», издав по этому поводу на протяжении первой половины XVIII века 32 законодательных акта. Приток иностранцев был вызван очевидной нехваткой отечественных специалистов, но в то же время перекрывал путь менее квалифицированным российским офицерам, тем более что до 1732 года иноземный офицер на русской службе получал вдвое большее жалованье, чем россиянин. Но как раз с целью повысить профессиональный уровень офицерства в 1731 году был основан Сухопутный шляхетский кадетский корпус. Один из его учеников Карп Сытин в 1736 году угодил в Тайную канцелярию за «пасквиль» на обер-профессора Иоганна фон Зихейма — но написал он его в оригинале как раз на немецком языке: «Высокопочтенный гуснсрот и обер-хлебной жрец! Долго ли тебе себя хвалить; все то напрасно. Не ведаешь ты того, что ты природной осел». За оскорбление преподавателя кадет отделался поркой «кошками» и отсидкой в карцере на хлебе и воде, но все же остался в корпусе.
Не раз отмечалось, что именно при Анне иноземцы потеряли право на двойное жалованье по сравнению с русскими офицерами. Кроме того, с 1733 года не разрешалось определять иноземных офицеров без доклада императрице; в 1735 году «немцам» (прежде всего прибалтийским) запретили после отставки возвращаться на службу с новым чином, что прежде давало им известное преимущество перед русскими сослуживцами.[221]
Что же касается собственно «немецких» территорий — Лифляндии и Эстляндии, — то еще в 1726 году Екатерина I включила в 4-й класс Табели о рангах должности местных ландратов и регирунгсратов, уравняв их в ранге с генерал-майорами, и Анна Иоанновна это подтвердила. Остзейские провинции по-прежнему сохраняли внутреннюю автономию — систему местных выборных учреждений и судов, но дополнительных привилегий не получили.
Манштейн рассказывал, что граф Левенвольде добивался, чтобы лифляндские привилегии были подтверждены без оговорки, которую сделал в свое время Петр I: «Ягужинский воспользовался этим случаем, намекнул Левенвольде, что если ему, Ягужинскому, возвратят его прежнюю должность обер-прокурора Сената, то он берется окончить дело по желанию Левенвольде. Обер-шталмейстер без труда исходатайствовал у императрицы восстановление Ягужинского, а этот, со своей стороны, тоже сдержал слово и выхлопотал, чтобы подписали привилегии Лифляндии». Утверждая остзейскую автономию, царь подчеркнул суверенитет России («однако же наше и наших государств высочество и права предоставляя без пред осуждения») и указал, что привилегии имеют силу, «елико оные нынешнему правительству и времени приличаются»; эти формулы немецкое рыцарство и хотело бы упразднить.
Остзейские привилегии были действительно подтверждены Анной Иоанновной: в 1730–1731 годах были подписаны права лифляндского и эстляндского рыцарства и городов (Риги, Ревеля и затем Дерпта и Пернова). Однако хотя названные выше ограничения (clausula majestatis) отсутствовали, но по существу все прежние оговорки сохранились: «Права и привилегии подтверждаются в той силе, как они были конфирмованы Петром I и Екатериной I». По-видимому, и Анна Иоанновна, и придворные «немцы» не собирались принципиально менять имперскую политику ради сословных выгод прибалтийского дворянства. С 1730 года до февраля 1737 года не собирался лифляндский ландтаг, а на ходатайство рыцарства Сенат отвечал отказом и потребовал даже объяснения, на каком основании ландтаги вообще собираются. Впоследствии положение изменилось только благодаря посредничеству вице-губернатора и родственника Бирона Л. А. Бисмарка.[222]
Незадолго до конца правления Анны в 1739 году Камер-контора и Юстиц-коллегия лифляндских и эстляндских дел объединились в одну Коллегию лифляндских и эстляндских дел; таким образом, было создано объединенное центральное учреждение, в котором были сосредоточены все дела по управлению остзейскими губерниями. Но просуществовало оно недолго и было уничтожено в декабре 1741 года после воцарения Елизаветы Петровны: «Оному департаменту лифляндских и эстляндских дел быть по-прежнему под ведомством Камер-коллегии и сообщить оную Камер-конторе российских дел, как таковые дела были в ведомстве Камер-коллегии при жизни <…> Петра Великого, у которых дел быть по-прежнему ж советнику фон Гагенмейстеру и приказным служителям тем, кои у тех дел прежде были и те Камер-конторе лифляндские и эстляндские дела исправлять так, как оные прежде в сообщении с упомянутою Камер-конторою исправляемы были».
Вице-губернатор Бисмарк распределял аренды государственных имений в пользу местного дворянства. «Аренды от сего времени никому иному, как только таким персонам отданы были, которые из тамошнего шляхетства суть, и собственных довольных пожитков себя и своих детей по природе содержать не имеют, и или сами или же дети их в нашей действительной службе обретаются, и нам и своему отечеству заслуги показать старание и рачение прилагают», — гласил сенатский указ 1737 года на его имя.
Однако при аренде государственных имений предписывалось соблюдать старые шведские правила; в случае их нарушения принимались жалобы. «Крестьяне, подданные наших мариенбургских маетностей, — извещал указ 1735 года по поводу одного из арендаторов, капитана Липгардта, — всеподданнейше жалобы к нам приносили, как о учиненных им от помещика несносных насильствах и утеснениях, также и о неполучении по прошениям своим у ландгерихта судебной расправы». Над арендатором началось следствие; несмотря на то, что за Липгардта заступились местные власти, он был признан виновным и лишен аренды. Петербург требовал охраны казенных владений от разорения и напоминал местным властям о необходимости следить, чтобы «такими от арендаторов над крестьянами насильствами и утеснениями наши маетности разорены и таким беспорядочным администрациям отданы не были». Недовольные такой политикой бароны даже искренне считали Бирона покровителем латышских мужиков и евреев.
В 30-х годах XVIII века «немцы» уже появились в крупных городах за пределами собственно «немецких» провинций. В столице в 1737 году они составляли 8–9 % ее 70-тысячного населения. Были налажены регулярные рейсы пакетботов из столицы в Гданьск и Любек (за три рубля в один конец), а в самом городе французские комедианты «безденежно» разыгрывали для всех желающих пьесу «Ле педан скрупулез», что в переводе звучало как «Совестный школьный учитель».
Датчанин Педер фон Хавен оставил свои впечатления от петербургской улицы того времени: «Пожалуй, не найти другого такого города, где бы одни и те же люди говорили на столь многих языках, причем так плохо. Можно постоянно слышать, как слуги говорят то по-русски, то по-немецки, то по-фински <…>. Но сколь много языков понимают выросшие в Петербурге люди, столь же скверно они на них говорят. Нет ничего более обычного, чем когда в одном высказывании перемешиваются слова трех-четырех языков. Вот, например: „Monsiieur, paschalusa, wil ju nicht en Schalken Vodka trinken. Izvollet, Baduska“. Это должно означать: „Мой дорогой господин, не хотите ли выпить стакан водки. Пожалуйста, батюшка“. Говорящий по-русски немец и говорящий по-немецки русский обычно совершают столь много ошибок, что их речь могла бы быть принята строгими критиками за новый иностранный язык. И юный Петербург в этом отношении можно было бы, пожалуй, сравнить с древним Вавилоном».
Первыми иностранными жителями Петербурга стали голландцы, но во времена «бироновщины» наиболее влиятельной стала английская колония, куда входили богатые купцы и судовладельцы; англичане же преобладали среди моряков. Французы были представлены высококвалифицированным обслуживающим персоналом — поварами, парикмахерами. Самую же многочисленную группу иностранцев составляли немцы. Немецкая колония состояла из разных социальных групп: офицеры, врачи и ученые-чиновники стояли ближе к власти и находились в привилегированном положении; быстрее и глубже в русскую жизнь входили ремесленники — ювелиры, каретники, мебельщики, слесари, столяры, брадобреи, сапожники, пивовары, портные, булочники.[223]
Одни спустя время, с прибылью или разорившись, покидали «дикую Россию». Другие продлевали свои контракты и оседали на новом месте; женились, крестились в православную веру, хотя могли этого и не делать, поскольку петровские указы разрешали иностранцам браки с русскими без перехода в православие. Иностранцы пользовались правом свободно заниматься избранным видом деятельности, беспрепятственно уезжать из России, отправлять богослужение. Ко времени Анны Иоанновны в Петербурге действовали четыре протестантские общины — немецкая, голландская, французско-немецкая реформатская и шведско-финская церковь. Патроном старейшей немецкой общины Святого Петра был вице-адмирал Корнелий Крюйс. После его смерти этот почетный пост занял фельдмаршал Миних. В храме Святого Петра на богослужениях присутствовала сама Анна Иоанновна вместе с другими членами императорской фамилии — например в декабре 1737 года при освящении нового органа. Три другие евангелические общины получили от императрицы в дар участки земли для строительства своих церквей; 3 мая 1735 года был заложен первый камень в основание церкви Святой Анны, постройка которой была окончена в 1740 году.
И в обыденной жизни Москвы незаметно, но прочно утвердились иноземные новшества. Дневник войскового подскарбия Якова Андреевича Марковича за 1728–1729 годы фиксирует новые для приезжего украинца, но уже обычные для москвичей детали: в Грановитой палате устраивались ассамблеи, на улице можно было зайти в «кофейный дом», а о царских милостях и новостях из Лондона, Парижа, Вены и даже Лиссабона — прочитать в газете, приходившей из Петербурга с месячным опозданием.
Летом и осенью 1731 года любопытствующие могли узнать из «Санкт-Петербургских ведомостей» помимо «официальных» сообщений о действиях коронованных особ о других заграничных событиях:
«Из Парижа от 1 дня иуня. <…> На прошедшей неделе осуждена в камморном суде некоторая богатая прикащическая жена из Пикардии, так что оная прежде повешена, а потом сосжена, а ея 2 сына живые лошадьми разорваны быть имеют. Ея преступление состоит в том, что она некотораго слугу обеим своим сыновьям убить велела, понеже он у нея с угрозительными словами 500 ливров требовал, которые она ему за то, что он в ея соседстве некоторый двор зажег, обещала» (17 июня).
«Из Митавы от 29 дня августа. С прибывшею ныне сюда почтою получено известие, что 25 дня сего месяца в Кенигсберге военных и вотчинных дел советник фон Шлублут во всем уборе, в платье, башмаках и чулках на новой пред военного и вотчинного коморою нарочно к тому пристроенной виселице повешен. Здесь обнадеживают, что притчиною его смерти суть захваченные от него казенные денги. При сем приключилось и сие нещастие, что некоторый кузнечный подмастерье, смотря сию эксекуцию с высокого места, упал и до смерти ушибся. Здесь надеются оттуда еще о многих пременах известие получить» (23 августа).
«Из Гамптонкурта от 31 дня августа. <…> Вчерашнего дня были в Витеале генералы в собрании, чего ради ныне объявляют, что все офицеры, которых полки в Ирландии стоят, к своим полкам отъехать имеют. За день до того бегал салдат третьяго полка гвардии сквозь 300 человек спиц рутен, а потом выгнан оный при битии в барабан с веревкою на шее из полка, понеже он у убогаго армянскаго священника 3 шилинга и 6 фенингов украл» (16 сентября).
«Из Парижа от 5 дня ноября. <…> Близ Витра в Шампании найдена на высоком дереве дикая женщина около 18 лет, но как она туда пришла, не известно. Она не ест ни хлеба, ниже варенаго мяса, но питается токмо осиновым листвием, лягушками и сырым мясом, которое она с великим желанием глотает. Она бегает как заец и взлазывает на дерева в подобие кошке, о чем тамошний интендант королевскому двору известие подал» (22 ноября).
«Из Гаги от 14 дня ноября. <…> Найденная во Франции дикая женщина есть зело хорошая обезьяна, которая пред несколькими годами от дука де Виллероа ушла, но помянутой женщине так подобна была, что разность между ними токмо по учиненном подлинном осмотрении изобретена. <…> В Гулсте казнен недавний великий разбойник, которой и на своих свойственников руки поднял, следующим образом: сперва отсек у него палач правую руку, а потом бил его оною по лицу. После того был он колесован, и лежав с четверть часа, со всем амбоном, на котором эксекуция чинилась, живый сожжен» (25 ноября).
Из этих сообщений следует, что, кажется, уже с момента появления средств массовой информации в России «газетары» стремились удивить читателя сенсацией и захватывающими подробностями уголовной хроники, напоминавшими, что вызывавшие живой интерес публики «эксекуции» имели место не только в «бироновской» России.
Без всякого принуждения в повседневный обиход горожан вошли «Канарский цукор», оливки (четыре алтына за фунт), кофе по 20 алтын за фунт. А вот доставляемый караванами из Китая чай был еще дорог (фунт стоит целых шесть рублей) и несоизмерим по цене с таким нынешним деликатесом, как икра (пять копеек за фунт). Не только царедворцы, но и простые обыватели уже могли купить настоящую картину по 40 алтын за натюрморт, или, как называли этот жанр в то время, «битых птиц». Менее искушенные в прекрасном могли развлекаться карточной игрой «шнип-шнап» (немецкая колода предлагалась всего за восемь копеек). Для любителей более серьезных занятий продавались учебники (первый отечественный курс истории «Синопсис» стоил 50 копеек), «Политика» Аристотеля, «книжка об орденах» и «коронные конституции» Речи Посполитой.
В тележном ряду можно было приобрести «английскую коляску»; купить слугам готовые «немецкие кафтаны» по два рубля 25 копеек, а для хозяев — китайские фарфоровые чашки (50 копеек), «померанцевые деревья с плодами» (пять рублей) и такие приборы, как «barometrum» и «ther-momethrum» (за оба — полтора рубля). А вот «тартуфли» (картофель) оставались еще заморской экзотикой — они в 30-е годы подавались на императорский стол поштучно.
Просвещенный малороссиянин легко находил себе достойный круг общения: с вице-президентом Синода Феофаном Прокоповичем можно было поговорить о рецептах осветления пива, с вице-президентом Камер-коллегии Генрихом Фиком — о трудах Декарта и о наличии «памятствований» и ума у животных, а с «посольскими купчинами» — обсудить завоевание Китая маньчжурами, кои «гораздо разнятся от китайцев». При этом расширение круга интересов даже способствовало решению насущных проблем с прислугой: теперь можно было купить в приличный дом не только «дивчину калмычку» за 10 рублей с полтиной, но и персидских мальчиков.[224]
Не только в Петербурге и Москве, но и в других российских городах можно было приобрести «немецкие башмаки», оконные стекла, селедку «амбурку», заморский сахар (по семь рублей с полтиной за пуд) и даже готовые камзол со штанами на немецкий манер (за полтора-два рубля). В столичном Петербурге «устерсы» стали популярной закуской, и купцы скоро сбили цены на них с пяти до двух рублей за сотню. В 1736 году купец Иоганн Дальман бойко торговал «цитронами» по три-четыре рубля за сотню и продавал бутылку отличного шампанского или бургундского вина по 50 копеек.
С потоком товаров и людей в Россию проникали не только Декарт с барометром, но и иные плоды цивилизации, в том числе бордельный промысел — оказание сексуальных услуг в изысканной обстановке. В 1750 году императрица Елизавета начала первую в отечественной истории кампанию против «непотребства». Тогда и выяснилось, что владелица самого фешенебельного публичного дома Анна Кунигунда Фелькер (более известная под именем Дрезденши) начала свою трудовую деятельность много лет назад, когда явилась в Петербург «в услужение» к майору Бирону — брату фаворита.[225] Утешив должным образом майора, бойкая особа вышла замуж за другого офицера, а когда тот ее оставил без средств — занялась сводничеством, что в большом военном городе позволило ей быстро накопить первоначальный капитал и открыть уже настоящее увеселительное заведение с интернациональным персоналом.
И все же, несмотря на известные издержки, к 1730-м годам преобразования стали необратимыми. Потребность в образованных людях была настолько велика, что по-прежнему предписывалось «имати в школы неволею». Основанные Петром I училища продолжали свою деятельность, несмотря на скудость отпускаемых средств и суровые порядки. По ведомости 1729 года в московских Спасских школах обучались 259 человек. Из них «бежали на Сухареву башню в математическую школу в ученики 4 <…>, из философии бежал в Сибирь 1, из риторики гуляют 3, из пиитики 2». Отставные гвардейские солдаты и унтера давали подписку «в бытность в доме своем <…> будет носить немецкое платье и шпагу и бороду брить. А где не случитца таких людей, хто брить умеет, то подстригать ножницами до плоти в каждую неделю по дважды и содержать себя всегда в чистоте, так как в полку служил», под страхом военного суда.
Неуловимые на первый взгляд перемены коснулись даже твердыни старообрядчества — знаменитой Выговской общины, добившейся от правительства официального признания и самоуправления. Ее наставник Андрей Денисов с упреком обращался к молодым единоверцам, склонным к своеволию и мирским радостям: «Почто убо зде в пустыне живете? Пространен мир, вмещаяй вы; широка вселенная приемлющая вы. По своему нраву прочая избирайте места».
Переведенный и опубликованный в 1730 году В. К. Тредиаковским роман французского писателя П. Талемана «Le voyage de 1'isle a Amour» («Езда в остров любви») становился чем-то вроде самоучителя «политичных» любовных отношений, и его стихотворения становились популярными песенками:
Можно сказать всякому смело,
Что любовь есть велико дело:
А казаться всегда умильну
Кому бы случилось?
В любви совершилось.
А светские консерваторы еще более энергично обращались к прекрасному полу, представительницы которого
Любят все холопей хамскую породу
Мирскую прокляту семсотого году <…>.
Дуры глупые, бесчестны вы стали,
Хамы вас бивши, руки изломали.
Смеютца, прокляты: «Палок уж де мало»;
Куды, какая глупость к вам припала?
Бросьте их проклятых, зла эта порода,
Есть кого любить — мало ли народу?
Каналий, курвы, ни к чему не годны,
Образумьтесь дуры! В том-то ли вы модны?[226]
Но городские «глупые дуры» почему-то уже предпочитали более европеизированных кавалеров:
Чтоб был бел да румян, по-французски убран,
Чтоб шляпа со блюмажом, золотой позумент,
Чтобы золотые пряжки со искарпами.
Надо признать, что критика была во многом справедливой: поколение «семсотого году» еще не усвоило галантные манеры и допускало рукоприкладство. Если же отвлечься от дамского видения проблемы, то все же можно сказать, что У иноземцев было чему учиться. Их русские ученики на склоне лет это осознали. Майор Данилов с благодарностью вспоминал свой класс в «Чертежной школе», где «был директором капитан Гинтер, человек прилежный, тихий и в тогдашнее время первый знанием своим, который всю артиллерию привел в хорошую препорцию». Его ровесник, военный инженер Матвей Муравьев, в записках с не меньшим почтением отзывался о «моем генерале» Люберасе и его желании «зделать мне благополучие».[227] А живший в Петербурге камер-юнкер герцога Голштинского Берхгольц писал в Дневнике, что они с приятелями немцами часто собирались за Шнапсом и вчетвером пели… русские песни: «Стопочкой по столику стук-стук-стук!»
Другое дело, что вместе с инженерами и моряками в послепетровскую Россию прибывали и самоуверенные молодые люди, которых с иронией описал другой их соотечественник и ученый-историк Август Шлецер в 1760 году: «Эти дураки представляли себе, что нигде нельзя легче составить карьеру, как в России; многим из них мерещился тот выгнанный из Иены студент богословия (Остерман. —
Однако и без них ставшее относительно массовым столкновение традиций и культур должно было породить проблемы. При Петре российским «верхам» или даже более-менее затронутому реформами «шляхетству» было не до рефлексии по поводу иноземцев. Темпы и размах преобразований в сочетании с железной волей и дубиной государя не оставляли для этого возможности, да и такого желания у большинства петровских «птенцов» не появлялось.
Для тех же, кто годами работал бок о бок с «немцами», они быстро становились «своими» и удивления не вызывали. Служивший под началом Левенвольде Нащокин искренне ценил своего командира, бывшего генерал-адъютанта Петра: «Как оный граф Левенвольд, со справедливыми поступками и зело с великим постоянством, со смелостью, со столь высокими добродетелями редко рожден быть может». Моряк и дипломат Иван Иванович Неплюев сохранил самую теплую память об Остермане: «Я не могу отпереться, что он был мой благотворитель и человек таковых дарований ко управлению делами, каковых мало было в Европе».
«Низы» же и ранее, и после еще долго видели в «немце» средоточие грехов, умеряемых или, наоборот, поощряемых «начальством»: «У нас немец онагдысь холеру по ветру на каланче пущал. С трубкой, значит. Возьмет это, наведет на звезды и считает. Сколь сосчитает — столь и народу помрет, потому у кажинного человека свой андел, своя звезда. Ему, немцу, от начальства такое приказание, значит, вышло, должен сполнять. Много бы у нас народа померло, да, вишь, начальство смилостивилось по штафете, ну и ослобонили».
Наиболее «продвинутые» и всерьез познакомившиеся с западной жизнью россияне, как дипломаты Борис Куракин или Андрей Матвеев, позволяли себе осуждать излишнее «дебошанство» или сравнивать российские порядки с иностранными. Матвеев был в восхищении от прогулок по «Версальской слободе» Людовика
Однако рассуждения о нерушимых правах, парламенте и «произвольном самовластии» после 25 февраля 1730 года стали неактуальными. Доля же «немцев» не уменьшилась, а скорее увеличилась, но не столько в количественном отношении, сколько в качественном — иноземцев было немного, но зато они попадали на ключевые посты в управлении, военном деле и науке.
С другой стороны, поколение «семсотого году» уже воспринимало себя элитой великой европейской державы. Но сами эти «величие» и «европеискость» выглядели в глазах новоприбывших иностранцев, не прошедших петровскую школу реформ и походов, достаточно сомнительными, хотя уже нельзя было, как во времена Ивана Грозного, игнорировать московских подданных и считать их необразованными, нерадивыми и предающимися неумеренному пьянству варварами. Русский, даже неблагородного происхождения, оказывается, «способен понимать все, что ему ни предлагают, легко умеет находить средства для достижения своей цели и пользуется представляющимися случайностями с большою сметливостью». «Можно с уверенностью сказать, что русские мещане или крестьяне выкажут во всех обстоятельствах более смышлености, чем сколько она обыкновенно встречается у людей того же сословия в прочих странах Европы» — такой «открывал» для себя послепетровскую Россию один из самых умных и вдумчивых мемуаристов Манштейн, отмечая, что подобные выводы невозможно делать, не зная языка страны, и сожалея, что «немногие иностранцы приняли на себя труд изучать его; от этого и возникли столь неосновательные рассказы об этом народе».
Такой противоречивый образ России, в основе которого лежали еще представления немецких писателей и путешественников XVI—XVII веков (С. Герберштейна, А. Олеария и других), запечатлен в популярной немецкой энциклопедии — «Универсальном лексиконе всех наук и искусств» Генриха Цедлера, изданном в 1732–1754 годах в Лейпциге и Галле. В статьях о России отмечены ее природные богатства; русские же люди «недоверчивы, высокомерны, склонны к предательству, упрямы и от природы угрюмы», но в то же время они «способны в науках, упорны и внимательны». По-прежнему Россия оценивалась как «одна из самых суровых европейских монархий, где жизнь и имущество подданных находятся в полной власти монарха». Отмечены и удивлявшая иноземцев «русская баня», и невежество народа, усугубленное «русским пьянством». Царь Петр I начал проводить реформы, при нем появились просвещенные люди — но внедрение новых обычаев и законов «произошло слишком быстро, старые свободы были уничтожены». Анна Иоанновна называется там уже «правительницей всего культурного мира». Особо отмечается ее политика в области экономики, образования и науки — при том, что по-прежнему «крестьянин живет в большой нищете, к которой он привык с детства». Простой же народ, по мнению автора, по-прежнему сопротивляется европейскому влиянию, призванному превратить его в «цивилизованных людей».[228]
К тому же победы империи порождали опасения в связи с возросшей военной мощью России. В западных сочинениях и в прессе появились высказывания, что реформы Петра I направлены не на искоренение природного российского «варварства», а на усиление военной мощи и использование технических достижений Запада против него самого. Именно с XVIII века пошло сравнение русских с медведями — тем более актуальное, что, по мнению иностранцев, эти звери до сих пор ходят по улицам русских городов.
Изображенную картину новой России благостной не назовешь, но она уже лишена былой цельности, выводившей «московитов» за пределы цивилизованного европейского мира, даже если принять во внимание «политкорректность» по отношению к «просвещенной» Анне Иоанновне. Можно предположить, что таким было отношение к России у многих «немцев», приехавших в нее жить и служить, в том числе и у Бирона.
Не стоит относить к проявлению национальной спеси брань в адрес сенаторов и угрозы положить их вместо бревен на мосты, которые его светлость нашел неисправными, — это обычный на Руси стиль общения с подчиненными, ничего общего с «немецким» происхождением не имеющий. Но герцог, похоже, русским становиться не собирался — в отличие хотя бы от женатого на боярышне Стрешневой Остермана или появившейся при дворе пятнадцатью годами позже немецкой принцессы Софии Фредерики Августы Ангальт-Цербстской. Порой он позволяв себе непочтительные высказывания в их адрес, как во время выволочки молодому Шаховскому: «Вы, русские, часто так смело и в самых винах себя защищать дерзаете». Герцог не трудился, особенно в конце аннинского царствования, свое отношение скрывать: «Он презирает русских и столь явно выказывает свое презрение во всех случаях перед самыми знатными из них, что, я думаю, однажды это приведет к его падению; однако я действительно считаю, что его преданность ее величеству нерушима и благо своей страны он принимает близко к сердцу».
Внимательная леди Рондо, давшая Бирону эту характеристику, не только верно предсказала будущее фаворита, но, кажется, уловила в нем то же самое противоречие: русские, конечно, нация непросвещенная и даже достойная презрения (а какую еще оценку могли вызвать желания исконно русских аристократов «рабственно целовать» ему ноги?); но в то же время он — слуга великой империи и должен этой роли соответствовать. Поэтому Бирон и стал
Размывание «комплекса превосходства» у иностранцев сопровождалось схожим процессом изживания противоположного комплекса и формирования национального сознания у российских подданных. Этот сдвиг уловить трудно, он происходил подспудно; мы, к сожалению, не располагаем ни перепиской, раскрывающей мысли и чувства корреспондентов на сей предмет, ни обстоятельными мемуарами людей той эпохи — эти жанры войдут в обыкновение 40–50 лет спустя.
Короткие дневниковые записи тех лет не дают возможности понять, замечали ли их авторы «немецкое засилье». Они служили — рядом с теми же «немцами», воевали, получали чины, женились, заботились о своем хозяйстве, как будущий адмирал Семен Мордвинов:
«В 1733 году в марте получил я указ, что флотские капитаны все одного — полковничья ранга, лейтенанты — майорского, в том числе и я, мичманы — поручики; по именному указу пожалованы 1732 года в декабре.
В 1734 году в августе месяце по указу сменил меня капитан-лейтенант Нанинг, и я, отдав команду, поехал в Астрахань, а оттуда до Царицына водою, а из Царицына до Москвы и Санкт-Петербурга сухим путем; в Москву прибыл октября 17-го дня, а в Петербург ноября 1-го числа.
По прибытии в Петербург отпущен в дом марта по 1-е число 1735.
1735 года по прибытии из деревни определен в кронштадтскую команду и тот весь год пробыл в Кронштадте.
В 1736 году в январе месяце подана от меня в адмиралтейскую коллегию книга о эволюции флота, сочиненная мною наооссийском языке („Книга о движении флота на море“. —
Января 16-го числа родился у меня сын Семен, 18-го дня крещен и того же дня умре и похоронен в Кронштадте у церкви Богоявления Господня, 20-го числа.
В марте послан я для следствия, в силе именного указа, о недоимках в Новгород.
В 1737 году в усадище своем Мелковичах построил деревянную церковь во имя Покрова Пресвятые Богородицы, заложена на Святой неделе, а освящена ноября 9-го числа.
В 1738 году, для следствия в августе ездил я в Старую Руссу, а в декабре сменен лейтенантом Нащокиным и прибыл в Петербург 31-го декабря.
В 1739 году в январе определен я в Комиссариатскую экспедицию на должность советника.
В 1740 году был я на море на корабле, именуемом „Императрица Анна“, в 112 пушек, на котором был вице-адмирал (О'Бриен. —
Октября 17-го числа государыня императрица Анна Иоанновна скончалась. Ноября 4-го дня пожалован с прочими в капитаны 1-го ранга».
Целое царствование прошло на глазах автора, он много чего видел на суше и на море и во многом участвовал, но его отношения к своему времени и его героям в таких записях > «летописного типа» не видно.
Однако немногие косвенные данные позволяют утверждать, что к концу правления Анны Иоанновны в этой шляхетской среде петровские преобразования, видевшиеся накануне и после его смерти тяжким испытанием, стали восприниматься как время славы и благополучия — хотя бы по сравнению с тяготами аннинского царствования. На это указывает идеализация Петра в появившихся в те годы в народной среде своеобразных «преданиях», где он представал царем-«солдатом» и героем сюжета о воре, не смевшем посягнуть на царскую казну.
Об этом же процессе свидетельствуют и интересы столичных читателей. По данным «Учетной книги» изданий Синодальной типографии 1739–1741 годов, в это время особой популярностью пользовалась литература о Петре I и его семействе. Офицеры, чиновники и прочая публика покупали «Проповедь в день годишного поминовения» императора, «Похвальное слово» и другие произведения, связанные с его именем и «домом»: «Описание о браке» Анны Петровны, «Слово на погребение» Екатерины I.[229]
Молодой Ломоносов из германского далека в знаменитой «Оде на взятие Хотина» прославлял русские войска, ведомые не Минихом, а самим императором Петром Великим в компании с Иваном Грозным:
И, чувствуя приход Петров,
Дубравы и поля трепещут.
Кто с ним толь грозно зрит на юг,
Одеян страшным громом вкруг?
Никак смиритель стран Казанских?
Поэт уже видел будущие победы русских героев («Обставят Росским флотом Крит; Евфрат в твоей крови смутится»), но пока был уверен:
Россия, коль щастлива ты
Под сильным Анниным покровом!
Какия видишь красоты
При сем торжествованьи новом!
Однако обращение к недавнему великому прошлому должно было неизбежно вызвать сравнение — и здесь новые придворные светила, за исключением, может быть, бравого Миниха, явно уступали Петру и его «птенцам», тем более что многие из петровских выдвиженцев были удалены или умерли в опале, хотя далеко не всегда по вине «немцев».
Ни Остерман, ни Бирон, ни большинство их клиентов в герои, «мореплаватели и плотники» не годились — да к тому же были «немцами», что уже могло раздражать поколение дворян, осознавших себя «новыми людьми» великой державы. Однако и открытого ропота они пока не вызывали, поскольку действовали на «своем» месте: Остерман — в качестве признанного министра, а Бирон — в «тени» легитимной (при всей условности этого понятия в послепетровской России) государыни.
Едва ли герцог был способен уловить эти настроения в обществе; насколько мы можем судить, его натуре такие тонкости были чужды. Его повелительница была уверена, что действует в лучших традициях «дяди нашего». В целом так оно и было — только привело в итоге к крушению «бироновщины».
19 января 1740 года двор торжественно отмечал десятую годовщину восшествия Анны Иоанновны на престол. В ее честь звучали русские и немецкие вирши:
Благополучная Россия! посмотри только назад,
На прошедшую ночь давно минувших времен.
Вспомни тогдашнюю темноту:
Взирай на нынешнее свое цветущее щастие.
Удивляйся премудрости Великие Анны.
Рассуждай ее силу, которая ныне твою пространную империю,
Славой своего оружия одна защищает
Ее величие везде и во всем равно.
То и двор ее своим великолепием все протчие превышает,
Свет ее славы пленяет слух и сердце чужестранных народов,
Они числом многим бегут сюда спешно, живут с удовольством.
Кто не ее подданный, тот подданным быть желает.
Сие златое время России
По желанию сердец наших именем Великие Анны назвали.
Естественно, не обошлось без «огненной потехи»: «Описание оного фейерверка, который 1 дня генваря 1740 года, пред зимним домом ее императорского величества самодержицы всероссийской в Санкт-Петербурге зажжен был <…> в сей день победу и мир представить в образе двух жен, руки одна другой подающих и смотрящих на образ ее императорского величества всероссийской самодержицы. Надпись при этом употреблена сия: „Чрез тебя желание наше исполняется“».
Исполнением своих желаний — во всяком случае, некоторых — мог бы быть доволен и сам Петр, никогда не рассматривавший Анну в качестве своей преемницы. Экстенсивное освоение богатейших природных ресурсов восточных регионов дало толчок развитию российской промышленности. За время аннинского царствования в стране появились 22 новых металлургических завода. Россия увеличила производство меди до 30 тысяч пудов (по сравнению с 5500 в 1725 году) и заняла прочные позиции на мировом рынке в торговле железом, вывоз которого из России за десять лет увеличился в 4,5 раза. Вместе с продукцией новых отраслей промышленности рос экспорт пеньки, льняной пряжи и других товаров.[230]
Однако возвращение к политике Петра означало не столько защиту интересов собственно дворянства, сколько приоритет государственных потребностей. Их рост и тяжелая война требовали все новых средств, которых постоянно не хватало. Разорение центральных районов страны, по которым в 1732–1734 годах прокатился голод, вызвало гибель и бегство крестьян, а недоимки по подушной подати с 1735 года стали быстро расти. Горожан, как и при Петре, заставляли нести всевозможные службы: заседать в ратуше, собирать кабацкие и таможенные деньги, работать «счетчиками» при воеводах.
Царствование Анны стало новым этапом в ужесточении контроля над духовенством и подготовке секуляризации церковных вотчин. В 1738 году по причине накопившихся казенных недоимок в 40 тысяч рублей Коллегия экономии, управлявшая церковными и монастырскими вотчинами, была изъята из ведения Синода и передана в подчинение Сенату.
Анна, как и ее грозный дядя, самовольно назначала архиереев: «Определить псковского Рафаила в Киев, переяславского Варлаама во Псков, суздальского Иоакима в Ростов, Илариона, архимандрита астраханского, посвятить в архиереи в Астрахань», — при этом высочайшие резолюции не обращали внимания на синодские представления. Дела о неотправлении молебнов и поминовений возникали в массовом порядке; виновных ждали не только плети и ссылка, но во многих случаях и лишение сана. Тех же, кто по каким-то причинам не присягнул новой императрице, рассматривали как изменников, и следствие по таким делам передавалось в Тайную канцелярию.
Каких-либо свидетельств участия Бирона в обсуждении и решении церковных вопросов нет. Однако основной массе духовного сословия — приходским и «безместным» священникам, дьяконам, пономарям и их семьям — от этого легче не было. 3 сентября 1736 года Синод выслушал полученную из Сената меморию: «Синодальных и архиерейских дворян и монастырских слуг и детей боярских и их детей, также протопопских, поповских, диаконских и прочего церковного причта детей и церковников, не положенных в подушный оклад, есть число не малое; того ради взять в службу годных 7000 человек, а сколько оных ныне где на лицо есть, переписать вновь, и за тем взятием, что где остается годных в службу ж и где им всем впредь быть, о том определение учинить, дабы они с прочими в поборах были на ряду. Вышеописанных же чинов некоторых губерний у присяги не было более 5000 человек, из которых взять в службу годных всех, сколько по разбору явится».
Так начались продолжавшиеся несколько лет «разборы» Церковнослужителей и их родственников, которых власти немедленно отправляли в армию, чтобы восполнить огромные потери. Синод тогда отчитывался: в Тверской епархии: «Взято в службу 506 человек, в Казанской 464, в Нижегородской — 1233». Следом полетело новое распоряжение — выявлять незаконно постригшихся: «Прилежно везде испытать, кроме тех чинов людей, каковых указами блаженные памяти Чгх императорских величеств велено, не постригали ли где В''монахи и в монахини без указу». До того государыня, «кроме вдовых священников и диаконов и отставных солдат, которых указами постригать в монашество поведено, в мужеских в монахи, а в девичьих в монахини, отнюдь никого ни из каких чинов людей постригать не повелела».
В итоге некоторые храмы и монастыри остались без богослужения; даже безропотные губернские власти доносили, что если взять действительных дьячков и пономарей, то «в службе церковной учинится остановка».[231] Такие гонения вполне могли расцениваться как происки исконно враждебных православию «немцев».
В отношении дворянства предоставление льгот сопровождалось увеличением служебных тягот. В 1734 году Анна повелела сыскать всех годных к службе дворян и определить их в армию, на флот и в артиллерию; с началом большой войны в 1736 году для явки «нетчиков» был определен срок 1 января и разрешено подавать доносы о неявившихся даже крепостным.
В то время дворянина на службе еще могли выпороть; но даже не битый не был уверен в достойном «произвождении»: порядок получения нового чина не раз менялся; к тому же добиться повышения, отпуска или отставки влиятельному и обеспеченному офицеру было гораздо легче.[232] Проблемы ожидали дворян и дома. Вместе с восстановлением военных команд для сбора подушной подати был возобновлен и запрет помещикам переводить без разрешения крестьян в другое имение; хозяева стали ответственными плательщиками за свои крепостные «души» и их недоимки. В неурожайные годы дворянам предписывалось снабжать крестьян семенами и не допускать их ходить по миру. В 1738 году власти даже в одном из указов официально осудили «всегдашнюю непрестанную работу» помещичьих крестьян, при которой они не могут исправно платить государственные подати.[233]
«Уже пять или шесть лет, как слышатся жалобы, во-первых, на слепую снисходительность императрицы к герцогу Курляндскому; во-вторых, на гордый и невыносимый характер последнего, который, как говорят, обращается с вельможами, как с последними негодяями; в-третьих, на его фаворита, еврея Липмана, придворного банкира, подрывающего торговлю; в-четвертых, на вымогательство огромных сумм, частью истраченных на женщин, а частью на выкуп поместий герцога и на постройку ему великолепных замков; в-пятых, на сдачу трех четвертей молодых людей в солдаты, которых убивают как на бойне, вследствие чего поместья дворян обезлюдены и они не в состоянии уплатить общественных податей» — такими представлялись настроения российского шляхетства офицеру-иностранцу на русской службе в 1740 году.[234]
Наконец, выход в отставку после 25 лет службы по закону 1736 года был отложен до окончания турецкой войны. Но даже оказавшись в родном поместье, не всегда можно было насладиться покоем; например, в мае 1738 года государыня почему-то запретила под Москвой охотиться на зайцев, мотивируя тем, что охотники «зайцов по 70 и по 100 на день травят».
Недовольство дворянства проявлялось в появлении на свет проектов и записок. Среди бумаг московского губернатора Б. Г. Юсупова нами был обнаружен черновик одного такого документа, где автор в конце царствования Анны выражал взгляды своего сословия. По его мнению, манифест о 25-летнем сроке службы на деле не выполняется: после полученной отставки «ныне, как и прежде, раненые, больные, пристарелые <…> расмотрением Сената определяются к штатцким делам». В результате «нихто в покое не живет и чрез жизнь страдания, утеснения, обиды претерпевают». Юсупов был убежден: «Без отнятия покоя и без принуждения вечных служеб с добрым порядком не токмо армия и штат наполнен быть может, но и внутреннее правление поправить не безнадежно», — так как получившим «покой» служилым «свой дом и деревни в неисчислимое богатство привесть возможно».[235] Наиболее явным симптомом недовольства стал последний большой политический процесс царствования — «дело» А. П. Волынского.
Суд над Д. М. Голицыным (в 1736 году) и казни Долгоруковых (в 1739-м) можно считать последним актом затянувшейся расправы Анны с ненавистными ей «верховниками». Невозможно представить, чтобы Бирон был не в курсе этих процессов или не интересовался ими; но едва ли они были его инициативой. Однако в расправе с Волынским он, несомненно, принял участие, тем более что конфликт был вызван его же «взбунтовавшимся» клиентом.
Младший из «птенцов» Петра, Артемий Петрович Волынский, едва не попал под опалу в начале царствования за обычные губернаторские прегрешения, однако в «политике» замечен не был и сделал при Анне удачную карьеру под началом К. Г. Левенвольде. Сумел он найти дорогу и к Бирону — уже с 1732 года он надеялся на его «отеческую милость» и посылал «патрону» донесения с «экстрактами» на немецком.[236] К тому же С. А. Салтыков усиленно рекомендовал фавориту своего родственника. В 1733 году Волынский стал генерал-лейтенантом и начальником дворцовой Конюшенной канцелярии, а в 1736-м — обер-егермейстером, то есть занял весьма важные должности, учитывая пристрастия императрицы и Бирона.
Волынский доверие оправдал и «тешил» Анну с размахом. При нем штат охотничьей команды включал 175 служителей, расходы же на охоту превысили в 1740 году 8300 рублей. Обер-егермейстер доставлял в Петергоф сотни зайцев и куропаток, строил специальный «двор для ловления волков». Царская охота напоминала бойню, и нередко прямо во дворе Зимнего дворца либо в Летнем саду на глазах императрицы свора гончих травила медведей, волков, лисиц.
Волынский отлично сошелся с Бироном, благо у обоих имелись общие «лошадиные» увлечения. Левенвольде «общим проектом с обер-камергером фон Бироном да генералом Волынским представили государыне императрице Анне Иоанновне, чтоб в государстве конские заводы размножить, и потому немалое число жеребцов и кобыл куплено в немецких краях и определено по заводам и конские покои по проекту Артемия Петровича Волынского построены. Сим лучший порядок при заводах учрежден, и с 1734 года повелись в государстве лучшие лошади. Оные Левенвольд, Бирон и Волынский великие были конские охотники и знающие в оной охоте. И с того времени знатные господа граф Николай Федорович Головин, князь Куракин и другие немалым иждивением собственные конские заводы завели, а до сего великая была скудость в России в лучших лошадях верховых и каретных». С точки зрения офицера-гвардейца Нащокина, польза этого предприятия была очевидна, хотя экономическая эффективность дорогостоящих закупок и появления «верховых и каретных» красавцев представляется сомнительной. Но стремление укрепить престиж двора и истинная страсть к лошадям, по крайней мере, вызывают понимание.
Как и многие другие придворные, Волынский заверял Бирона в своей преданности: «Увидев толь милостивое объявленное мне о содержании меня в непременной высокой милости обнадеживание, всепокорно и нижайше благодарствую, прилежно и усердно прося милостиво меня и впредь оные не лишить и, яко верного и истинного раба, содержать в неотъемлемой протекции вашей светлости, на которую я положил мою несумненную надежду, и хотя всего того, какие я до сего времени ее императорского величества паче достоинства и заслуг моих высочайшие милости чрез милостивые вашей светлости предстательствы получил, не заслужил и заслужить не могу никогда, однако ж от всего моего истинного и чистого сердца вашей светлости и всему вашему высокому дому всякого приращения и благополучия всегда желал и желать буду, и, елико возможность моя и слабость ума моего достигает, должен всегда по истине совести моей служить и того всячески искать, даже до изъятия живота моего».
В этом письме 1737 года Волынский предсказал свою судьбу — «живот» был изъят как раз якобы за недостаточное служение. Но тогда его звезда только восходила, и герцог заверял обер-егермейстера в своей поддержке: «В одном письме вашего превосходительства упоминать изволите, что некоторые люди в отсутствии вашем стараются кредит ваш у ее императорского величества нарушить и вас повредить. Я истинно могу вам донести, что ничего по сие время о том не слыхал и таких людей не знаю; а хотя б кто и отважился вас при ее императорском величестве оклеветать, то сами вы известны, что ее величество по своему великодушию и правдолюбию никаким неосновательным и от одной ненависти происходящим внушениям верить не изволит, в чем ваше превосходительство благонадежны быть можете».
Волынский зарекомендовал себя не только «конским охотником», но и вполне «благонадежным» слугой: в 1736 году он участвовал в суде над Дмитрием Голицыным, а в 1739-м — над Долгоруковыми. Энергичный и усердный слуга представлялся наилучшим кандидатом в члены Кабинета после смерти Ягужинского и Шаховского, тем более что Остерману надо было противопоставить достойного противника. В этом смысле расчет Бирона вполне оправдался. Разногласия Волынского и Остермана буквально по всем обсуждавшимся вопросам привели к тому, что осторожный вице-канцлер даже в присутствие не являлся, предпочитая объясняться с коллегами письменно. Волынский перетянул на свою сторону князя Черкасского, и Остерман без споров уступил ему свое место при «всеподданнейших докладах» Кабинета императрице.[237]
Однако искушенный в интригах вице-канцлер оказался прав: выдвижение Волынского на первый план объективно подрывало позиции не только Остермана, но и самого Бирона. К тому же у нетерпеливого кабинет-министра не хватало умения приспосабливаться к «стилю руководства» и влиянию Бирона на Анну; он горячился, в раздражении заявлял, что «резолюции от нее никакой не добьешься, и ныне у нас герцог что захочет, то и делает». В самом же Кабинете Остерман постоянно представлял возражения на резолюции и проекты указов, составленные Волынским, подчеркивая их недостатки и промахи.
Можно предположить, что Волынский осознавал: справиться с двумя ключевыми фигурами ему не по силам. Поэтому он показал Бирону специально переведенную на немецкий язык копию письма императрице, поводом для которого стали жалобы «отрешенных» Волынским от должности за какие-то «плутовства» шталмейстера Кишкеля и унтер-шталмейстера Людвига (людей из ведомства другого бироновского клиента — обер-шталмейстера Куракина), в свою очередь, обвинивших Волынского в «непорядках» на конских заводах. Министр не только оправдывался («служу без всякого порока»), но и в качестве доказательства безупречной честности привел свои «несносные долги», из-за которых мог «себя подлинно нищим назвать». Но на этом обиженный министр не остановился и обличал не названных по именам, но отлично угадываемых подстрекателей (Остермана и его окружение), стремившихся «приводить государей в сомнение, чтоб никому верить не изволили и все б подозрением огорчены были». Так из-за двух безвестных немцев начался конфликт, который привел Волынского на плаху.
Сам ли Бирон заподозрил министра в стремлении играть самостоятельную роль или на нарушение баланса сил ему указал тот же Остерман (позднее на следствии он признавался, что старался «искоренить» Волынского с помощью «темных терминов») — не столь и важно. Главное, что сам Волынский опасности не замечал и был уверен в поддержке со стороны герцога; на следствии он даже показав, что Бирон рекомендовал вручить письмо Анне. Но Волынского «подставили» — послание пришлось не ко двору. «Ты подаешь мне письмо с советами, как будто молодых лет государю», — проявила неудовольствие императрица.
Однако Артемий Петрович не унывал и в свою звезду верил. Для этого были основания: дельный министр, бойкий придворный, краснобай, лошадник, охотник — он на редкость удачно вписывался в окружение Анны Иоанновны, умея потакать ее вкусам. Но именно этим он и был опасен Бирону, тем более что успешно «забегал» ко двору императорской племянницы, где сам герцог потерпел поражение в попытке стать ее свекром. Приятель Волынского, кабинет-секретарь императрицы Иван Эйхлер предостерегал министра еще летом 1739 года: «Не очень ты к принцессе близко себя веди, можешь ты за то с другой стороны в суспицию впасть: ведь герцогов нрав ты знаешь, каково ему покажется, что мимо его другою дорогою ищешь».
Предостережения не помогли — Волынского, что называется, «понесло». Он не скрывал радости от провала сватовства сына Бирона к Анне Леопольдовне: при его удачном исходе «иноземцы <…> чрез то владычествовали над рускими, и руские б де в покорении у них, иноземцов, были».[238] Его не смущало, что брак мекленбургской принцессы и брауншвейгского принца трудно было назвать победой «русских». Но зато в будущем можно было рассчитывать на роль первого министра при младенце-императоре, родившемся от этого брака, и его неопытной матери, что было исключено, если бы принцесса породнилась с семейством Биронов. Брачные намерения герцога Волынский расценил как «годуновской пример».
Он все реже являлся к Бирону, жаловался, что тот «пред прежним гораздо запальчивее стал и при кабинетных докладах государыне герцог больше других на него гневался; потрафить на его нрав невозможно, временем показывает себя милостивым, а иногда и очами не смотрит». «Ныне пришло наше житье хуже собаки!» — сокрушался Волынский, заявляя, что «иноземцы перед ним преимущество имеют».[239]
Последним триумфом Волынского стал знаменитый праздник со строительством Ледяного дома и устройством в нем шутовской свадьбы с участием диковинных «скотов» и подданных из отдаленнейших углов империи.
Торжество удалось на славу: «В день свадьбы все участвовавшие в церемонии собрались на дворе дома Волынского, распорядителя праздника: отсюда процессия прошла мимо императорского дворца и по главным улицам города. Поезд был очень велик, состоя из 300 человек с лишним. Новобрачные сидели в большой клетке, прикрепленной к спине слона; гости парами ехали в санях, в которые запряжены разные животные: олени, собаки, волы, козы, свиньи и т. д. Некоторые ехали верхом на верблюдах. Когда поезд объехал все назначенное пространство, людей повели в манеж герцога Курляндского. Там, по этому случаю, пол был выложен досками и расставлено несколько обеденных столов. Каждому инородцу подавали его национальное кушанье. После обеда открыли бал, на котором тоже всякий танцевал под свою музыку и свой народный танец. Потом новобрачных повезли в Ледяной дом и положили в самую холодную постель. К дверям дома приставлен караул, который должен был не выпускать молодых ранее утра». Из этого описания, сделанного Манштейном, между прочим следует, что и Бирон должен был принимать участие в задуманном его соперником празднике, что едва ли его радовало.
Можно посочувствовать несчастному Михаилу Голицыну-«Кваснику» (внуку фаворита царевны Софьи) и посетовать на пошлость шутовских развлечений — но «шоумейкером» Волынский оказался хорошим. Его представление, несомненно, имело успех как раз потому, что отвечало вкусам не только императрицы, но и прочей публики. «Поезд странным убранством ехал так, что весь народ мог видеть и веселиться довольно, а поезжане каждый показывал свое веселье, где у которого народа какие веселья употребляются, в том числе ямщики города Твери оказывали весну разными высвистами по-птичьи. И весьма то бьио во удивление, что в поезде при великом от поезжан крике слон, верблюды и весь упоминаемый выше сего необыкновенный к езде зверь и скот так хорошо служили той свадьбе, что нимало во установленном порядке помешательства не было», — искренне радовался забаве вместе с народом гвардеец Нащокин.
Однако, чтобы удержаться у власти, одних режиссерских способностей было мало. Для успеха Волынскому (как самому Бирону, Остерману или Миниху) надо было четко найти свою «нишу» — круг обязанностей, которые делали бы его необходимым, и уметь осторожно делить компетенцию, не посягая на чужой «огород». Ничего этого удалой министр сделать не смог, зато неумеренными амбициями насторожил всех.
Сразу после театрального успеха Волынского Бирон нанес ему удар. В личной челобитной обер-камергер и герцог предстал верным слугой, который «с лишком дватцать лет» несет службу, «чинит доклады и представления», тем более сейчас, когда один министр Кабинета «в болезни», второй «в отсутствии», а третий, то есть Остерман, «за частыми болезнями мало из двора выезжает». Волынский же, подав письмо против тех, кто «к высокой вашего императорского величества персоне доступ имеет», тем самым возвел «напрасное на безвинных людей сумнение». Как бы не понимая, о ком идет речь в этом письме, Бирон просил защитить его честь и достоинство и потребовать от Волынского, чтобы «именование персон точно изъяснено» было.
Бирон также обвинил кабинет-министра, осмелившегося 6 февраля 1740 года «в покоях моих некоторого здешней Академии наук секретаря Третьяковского побоями обругать». Как писал в слезной челобитной сам поэт, «его превосходительство, не выслушав моей жалобы, начал меня бить сам перед всеми толь немилостиво по обеим щекам; а притом всячески браня, что правое мое ухо оглушил, а левый глаз подбил, что он изволил чинить в три или четыре приема <…>. Сие видя, и размышляя о моем напрасном бесчестии и увечье, рассудил поутру, избрав время, пасть в ноги его высокогерцогской светлости и пожаловаться на его превосходительство. С сим намерением пришел я в покои к его высокогерцогской светлости по утру и ожидал времени припасть к его ногам, но по несчастию туда пришел скоро и его превосходительство Артемей Петрович Волынский, увидев меня, спросил с бранью, зачем я здесь, я ничего не ответствовал, но он бил меня тут по щекам, вытолкал в шею и отдал в руки ездовому сержанту, повелел меня отвести в комиссию и отдать меня под караул». От Тредиаковского министр всего лишь потребовал написать стихи на шутовскую свадьбу в Ледяном доме, но вызванный в неурочный час на «слоновый двор» (штаб подготовки этого «фестиваля»), он возмутился, а Волынский, который никак не мог допустить такой помехи торжеству, лично «вразумил» стихотворца.
Собственно, факт избиения поэта Бирона не интересовал. Для него Тредиаковский был чем-то вроде шута, но из иного, не придворного ведомства; в другое время он сам вместе с Волынским посмеялся бы над забавным приключением. Но теперь это происшествие пришлось кстати: Волынский рукоприкладствовал по отношению к просителю, не только прибывшему в приемную «владеющего герцога», но и, что самое страшное, в «апартаментах вашего императорского величества» — а это уже пахло оскорблением императрицы в традиции «государева слова и дела».[240]
Тут, пожалуй, интересными являются не сами обвинения, а причины, заставившие Бирона выйти из «тени», самому предстать жалобщиком и вынести придворные склоки на публичное разбирательство. Не были ли они вызваны желанием поскорее расправиться с не оправдавшим надежд клиентом при отсутствии других возможностей? Впрочем, Волынскому от этого легче не стало: ему запретили являться ко двору, 12 апреля заключили под домашний арест, а через три дня начали допрашивать. Заодно началась ревизия денежных сумм по всем «департаментам», подведомственным обер-егермейстеру.
Его могло ждать обычное в таких случаях «падение» в виде пристрастного разбирательства, смертного приговора и ссылки в армию или в «деревни» с последующим прощением и отправкой на вице-губернаторство куда-нибудь в Сибирь. Но Волынский, на свою беду, замечал «непорядки» и расстройство государственной машины. Вокруг него сложился кружок, его «конфидентами» стали в основном «фамильные», но образованные люди: архитектор Петр Михайлович Еропкин, горный инженер Андрей Федорович Хрущов, морской инженер и ученый Федор Иванович Соймонов, президент Коммерц-коллегии Платон Иванович Мусин-Пушкин, секретарь императрицы Иван Эйхлер и секретарь иностранной коллегии Жан де ла Суда.
Компания собиралась по вечерам в доме Волынского на Мойке: ужинали, беседовали, засиживаясь до полуночи. До нас дошли обрывочные сведения о предметах обсуждения: «о гражданстве», «о дружбе человеческой», «надлежит ли иметь мужским персонам дружбу с дамскими», «каким образом суд и милость государям иметь надобно». Интеллектуальные беседы подвигнули министра на сочинение обширного проекта, который он сам на следствии называл «Рассуждением о приключающихся вредах особе государя и обще всему государству и отчего происходили и происходят». Отдельные части проекта обсуждались в кружке и даже «публично читывались» в более широкой аудитории.
Сам проект до нас не дошел. Волынский доделывал и «переправливал» его вплоть до самого ареста, затем черновики сжег, а переписанную набело часть отдал А. И. Ушакову — этот пакет сгинул в Тайной канцелярии. Но из обвинительного заключения и показаний самого Волынского можно составить некоторое представление о предполагавшихся им преобразованиях.
Недоверчивая императрица сразу велела спросить своего бывшего министра о памятных ей событиях 1730 года: «Не сведом ли он от премены владенья, перва или после смерти государя Петра Второва, когда хотели самодержавство совсем отставить?» Для подозрений были основания: в бумагах Волынского нашлись копии «кондиций» и некоторых появившихся тогда проектов. Однако сравнение этих документов с предложениями опального министра показывает существенную разницу между «оппозиционерами» 1740-го и «конституционалистами» 1730 года. Волынский предлагал:
— расширить состав Сената и повысить его роль за счет перегруженного делами Кабинета; при этом упразднить пост генерал-прокурора, чтоб не чинить сенаторам «замещение»;
— назначать на все должности, в том числе и канцелярские, только дворян, а на местах ввести несменяемых воевод; для дворян ввести винную монополию, для горожан — восстановить в городах магистраты, для духовенства — устроить академии, куда тоже желательно привлекать дворян;
— сократить армию до 60 полков с соответствующей экономией жалованья на 180 тысяч рублей; устроить военные поселения-«слободы» на границах;
— сочинить «окладную книгу», сбалансировать доходы и расходы бюджета.[241]
В отличие от прожектеров 1730 года, Волынский обходил проблему организации и прав верховной власти. Министр и прежде не сочувствовал ее ограничению, а выступать с такими идеями в конце царствования Анны и подавно не собирался. Проект трудно назвать крамольным — скорее наоборот, он находился на столбовом пути развития внутренней политики послепетровской монархии. Сократить армию безуспешно пытался еще Верховный тайный совет; при Анне предпринимались попытки «одворянить» государственный аппарат (устройство дворян-«кадетов» при Сенате) и сбалансировать бюджет; при Елизавете будет введена винная монополия и восстановлены магистраты.
План Волынского носил сугубо бюрократический характер; речь о выборном начале не заходила даже в тех случаях, когда предполагалось расширить права и привилегии «шляхетства». В этом смысле он находился в тех же рамках петровской системы, которые пыталось несколько раздвинуть дворянство в 1730 году. Но, похоже, аннинское десятилетие отучило ставить подобные вопросы даже просвещенных представителей кружка Волынского. В этом, нам кажется, и состояла главная заслуга «бироновщины» перед российским самодержавием.
Сказалась также смена поколений. В 20—30-е годы с политической сцены ушли последние крупные, самостоятельные фигуры — старшие петровские выдвиженцы: Меншиков, Бутурлин, Макаров, Шафиров, Апраксин, Брюс, Толстой, старшие братья Голицыны, В. Л и В. В. Долгоруковы, Ягужинский. Одни из них умерли или отошли от дел, другие были сброшены с вершины власти и ушли в политическое небытие. Большинство из них не были теоретиками — но они выросли в атмосфере петровской «перестройки» и были способны на решительные и дерзкие действия. К тому же практика реформ заставляла учиться или хотя бы иметь ученых помощников, подобно В. Н. Татищеву или Генриху Фику.
При Анне надобности в реформаторах уже не было. Востребованы были верноподданные, а главной политической наукой стали придворные «конъектуры». Соперничавшие «партии», включавшие как русских, так и «немцев», боролись за милости с помощью своих клиентов и разоблачений действий противников. В такой атмосфере карьеру легче было сделать как раз людям другого типа — послушным, хорошо знавшим свое место и умевшим искать покровительство влиятельного «патрона». К примеру, когда-то радовавшийся ограничению власти императрицы, но мудро воздержавшийся от подписания проектов капитан-командор Иван Козлов при Анне выслужил генеральский чин, стал членом Военной коллегии и на ее заседаниях в числе прочих решал вопрос о размере содержания когда-то вызывавших его с докладом «на ковер», а теперь заточенных «верховников» В. В. Долгорукова и Д. М. Голицына (им полагалось по рублю «кормовых денег» на день).
Протекшие «дворские бури» оказали деморализующее влияние на дворянское общество. В новой атмосфере менялся сам интеллектуальный уровень дискуссий. Просвещенные собеседники Волынского сенатор В. Я. Новосильцев и генерал-прокурор Н. Ю. Трубецкой дружно свидетельствовали, что их политические разговоры с хозяином вращались вокруг одной темы: «х кому отмена и кто в милости» у императрицы, о ссорах Волынского с другими сановниками, о назначениях. Трубецкой с негодованием отверг саму возможность чтения им каких-либо книг; вот в молодости, при Петре, он «видал много и читывал, токмо о каковых материях, сказать того ныне за многопрошедшим времянем возможности нет».
Новосильцев же сразу искренне покаялся в грехах: «Будучи де при делах в Сенате и в других местах, взятки он, Новосильцев, брал сахор, кофе, рыбу, виноградное вино, а на сколько всего по цене им прибрано было, того ныне сметить ему не можно. А деньгами де и вещьми ни за что во взяток и в подарок он, Новосильцев, ни с кого не бирывал», — и далее перечислил «анкерок» вина, двух лошадей, «зеленого сукна 4 аршина», серебряные позументы,[242] которые «взятком» считать, с точки зрения сенатора, никак нельзя. То есть брать — брал, но «политики» — никакой. В результате Анна поверила в политическую невинность обоих. Новосильцеву объявили выговор — но не за взятки, а как раз за
При таком настроении дворянства на первый план выходил не способ осуществления тех или иных преобразований, а то, чья «партия» будет в милости. Такие перестановки могли осуществиться либо путем интриг и «организации» соответствующего решения монарха, либо с помощью дворцового переворота.
Планы Волынского так и были истолкованы следователями; дворецкий опального Василий Кубанец выдал не только его служебные преступления (министр был крупным взяточником), но и его «конфидентов». Холоп обвинил хозяина в намерении «сделать свою партию и всех к себе преклонить; для того ласкал офицеров гвардии и хвастался знатностью своей фамилии, а кто не склонится, тех де убивать можно».
Еропкин и Соймонов на пытке подтвердили показание Кубанца о намерении Волынского произвести переворот; о таких планах министра ходили разговоры и в среде дипломатического корпуса.[243] Но сам он, признавшись во многих служебных проступках и взяточничестве, и после двух пыток категорически это отрицал: «Умысла, чтоб себя государем сделать, я подлинно не имел». Следствие так и не смогло ничего выяснить про заговор; не были обнаружены и какие-либо связи Волынского с гвардией.
В результате Анна повелела «более розысков не производить», а в обвинительном «изображении о преступлении» ничего не говорилось о якобы готовившемся захвате власти. Императрица явно колебалась: Волынский, безусловно, заслужил опалу, но допустить на десятом, «триумфальном» году царствования позорную казнь толкового министра? Вирой бросил на весы все свое влияние: «Либо я, либо он», — угрожая уехать в Курляндию. Обер-шталмейстер Куракин призвал Анну завершить еще одно дело Петра Великого. «Что же такое?» — спрашивала она. «Петр I, — отвечал Куракин, — нашел Волынского на такой дурной дороге, что накинул ему на шею веревку; так как Волынский после того не исправился, то если ваше величество не затянете узел, намерение императора не исполнится». Наконец она решилась. 27 июня 1740 года на Сытном рынке столицы состоялись казнь Волынского, Еропкина и Хрущова и «урезание языка» графу Мусину-Пушкину. Соймонова, Суда и Эйхлера били кнутом и сослали в Сибирь на каторгу.
Далее последовала уже отработанная процедура конфискации и перераспределения движимого и недвижимого имущества. За ним, как это обычно бывало, немедленно выстроилась очередь. Барон Менгден получил двор Волынского на Мойке, а камергер Василий Стрешнев — богатый дом казненного министра со всей обстановкой, но без обслуги, поскольку было решено отправить «всех имеющихся в доме Артемия Волынского девок в дом генерала, гвардии подполковника и генерал-адъютанта фон Бирона». В петербургский дом Мусина-Пушкина на Мойке перебрался генерал-прокурор Трубецкой. Дача «близ Петергофа» отошла фельдмаршалу Миниху; «Клопинская мыза» — опять же брату фаворита Густаву Бирону. Но большинство «отписных» земель и душ осталось в дворцовом ведомстве.
Наличные «пожитки» тогда нестеснительно выгребались из домов арестованных и порой свозились прямо в Зимний дворец. К дележу в первую очередь допускались избранные. К себе в «комнату» императрица взяла четырех попугаев; в Конюшенную контору переехали «карета голландская», «берлин ревельской», две «полуберлины» и четыре коляски. Породистые «ревельские коровы» удостоились чести попасть на императорский «скотский двор», а дворцовая кухня получила целую барку с обитавшими на ней 216 живыми стерлядями. Бирон не смог удержаться от личного осмотра конюшни Мусина-Пушкина, однако не обнаружил ничего для себя интересного и распорядился передать 13 лошадей графа в Конную гвардию. Елизавета отобрала для себя оранжерейные («винные» и «помаранцевые») деревья, кусты «розанов» и «розмаринов». А вот библиотека Мусина-Пушкина в эпоху, когда чтение являлось подозрительным занятием, так и осталась никем не востребованной.
Горы вещей выставлялись на публичные торги. Благодаря сохранившимся документам («Щетной выписке отписным Платона Мусина-Пушкина пожиткам, которые вступили в оценку») можно представить, как на таких «распродажах» знатные и «подлые» обыватели соперничали за право владения имуществом опальных.[244]
Гвардейский сержант Алексей Трусов приобрел за 95 рублей «часы золотые с репетициею», семеновский солдат князь Петр Щербатов потратился на золотую «готовальню» (335 рублей при стартовой цене в 200). Капитан князь Алексей Волконский заинтересовался комплектом из 12 стульев с «плетеными подушками» (12 рублей 70 копеек). Тайный советник Василий Никитич Татищев пополнил свой винный погреб 370 бутылками «секта» (по 30 копеек за бутылку); а настоящий гвардеец прапорщик Петр Воейков лихо скупил 270 бутылок красного вина (всего на 81 рубль 40 копеек), 73 бутылки шампанского (по рублю за бутылку), 71 бутылку венгерского (по 50 копеек), а заодно уж и 105 бутылок английского пива (по 15 копеек) — не оставлять же. Преемник Волынского в должности кабинет-министра Алексей Петрович Бестужев-Рюмин обнаружил более высокие запросы: он вывез четыре больших зеркала в «позолоченных рамах» (за 122 рубля) и еще два зеркала «средних» (за 30 рублей). Приобретать имущество на торгах имело смысл — те же импортные товары в обычной продаже стоили дороже.
Менее утонченная публика разбирала предметы повседневного обихода и столовые припасы, вплоть до заплесневелых соленых огурцов и рыжиков из кладовых. Никого не заинтересовали картины графа («женщина старообразная», «птицы петухи», «птицы и древа» и прочие по 3 рубля за штуку). Зато соль, свечи, платки, салфетки, перчатки, одеяла, барская (фарфоровая и серебряная) и «людская» (деревянная) посуда, котлы, сковородки, стаканы, кофейники, ножи расходились лучше. Нашли своих новых владельцев «немецкие луженые» перегонные кубы, «медная посуда английской работы», «четверо желез ножных и два стула с чепьми» (актуальная вещь для наказания дворовых) и даже господский ночной горшок-«уринник с ложкой и крышкой».
Там же можно было приодеться. В. Н. Татищев купил себе суконный «коришневой» подбитый гродетуром кафтан с камзолом из золотой парчи «с шелковыми травами по пунцовой земле» (50 рублей), а другой, похожий, уступил майору гвардии Никите Соковнину. Отличился лекарь Елизаветы, будущий герой дворцового переворота 1741 года Арман Лесток: он скупал подряд дорогие парчовые кафтаны по 80 рублей, «серебряные» штаны, поношенные беличьи меха, галуны, бумажные чулки, полотняные рубахи (60 штук за 60 рублей). Так что столичный бомонд вполне мог встречаться в бывших покоях опальных вельмож в одежде с их плеча. Капитаны и поручики гвардии приобретали платья, юбки, шлафроки, кофты, фижмы, «шальки» и белье — надо полагать, чтобы порадовать своих дам.
Уничтожение соперника стало явной победой Бирона, но обнаружило слабость его позиций. Решающим фактором оказалось только личное влияние фаворита, его упреки и уговоры. Но это означало, что за десять лет пребывания у власти у Бирона так и не появилось сколько-нибудь надежной «партии», кроме нескольких подобострастных клиентов вроде Куракина, даже заявившего Анне, что пьет неумеренно только оттого, что пьянство на него «напустил Волынский».
Далеко не всегда удавалось фавориту выбирать нужных людей: Волынский оказался неуправляемым, а среди его «конфидентов» оказался другой «выдвиженец» герцога — кабинет-секретарь императрицы Иван Эйхлер. Немцы — гвардейские командиры Гампф и Ливен — умели не хуже русских коллег приспосабливаться к «конъектурам» и служили всем правящим на данный момент «персонам» без какой-либо «немецкой» солидарности. Братья были надежными служаками, но не политиками, а Кейзерлинга и других курляндцев Бирон держал в отдалении от столицы — и они ему это, как увидим, припомнили.
У других «партийное строительство» получалось лучше. Надежные и верные «креатуры» были у Остермана — дипломаты И. И. Неплюев, И. А. Щербатов (зять) и братья жены Стрешневы, которых вице-канцлер продвигал «по долгу свойства». Отодвинутый некогда Миних «прогибался» перед фаворитом, но, как показали события, ничего не забыл и слугой Бирона не стал. Зато он с успехом обзаводился связями: его сын Эрнст стал камергером и придворным «оком» отца, а тот присмотрел ему невесту — Доротею Менгден, чья сестра Юлиана была по приятному совпадению лучшей подругой и фрейлиной Анны Леопольдовны. Кузен Юлианы и Доротеи, Карл Людвиг Менгден, женившийся на племяннице фельдмаршала Христине Вильдеман, занял в 1740 году пост президента Коммерц-коллегии. Второй из братьев Менгденов, Иоганн Генрих, являлся президентом рижского гофгерихта и был женат на дочери Миниха Христине Елизавете, а третий, Георг (генерал-директор лифляндской экономии, ведавшей управлением государственными имуществами), — на третьей из сестер Менгден. Таким образом, образовался довольно сплоченный клан, чья поддержка позволила Миниху на короткое время стать после свержения Бирона правителем России. При этом в то время большинство чиновных «немцев» из рядов «генералитета» (Минихи, Левенвольде, Менгдены и другие) еще не интегрировались в состав российской знати и держались своим кругом, что помогало им в тяжелое для российских вельмож царствование Анны.
Борьба с Волынским впервые заставила Бирона выйти из рамок «службы ее императорского величества» и роли «честного посредника», который готов «помогать и услужить», но не может являться стороной в публичном конфликте, к тому же закончившемся кровавой развязкой. И хотя «судьями» Волынского были только российские вельможи, ответственность за их предрешенный приговор в глазах всего столичного общества явно лежала на Бироне, к тому же не побрезговавшем прихватить часть имущества опальных для родственников.
Придворная «победа» в стратегическом плане обернулась промахом герцога, позволившим направить набиравшее силу общественное недовольство не на государыню, а на завладевшего ее волей «немца». Другой же ошибкой была сама жестокая казнь Волынского и его друзей. Правление племянницы Петра Великого заставило дворян забыть о попытках «вольности себе прибавить». Но оказалось, что даже признавшим «правила игры» новое время ничего не гарантировало: обеспеченное, казалось, положение могло в любую минуту обернуться катастрофой — незаслуженной и оттого еще более страшной и позорной. Прусский посол Мардефельд сообщал в Берлин летом 1740 года, что даже родственники Анны Салтыковы, «завидуя огромному доверию, оказываемому герцогу Курляндскому, <…> иногда искали забвения в вине и напивались до такой степени, что у них невольно вырывались оскорбительные слова, навлекшие на них негодование ее императорского величества и его высочества». Эта хмельная «оппозиция» не была серьезной; но требуя от Анны голову Волынского, Бирон подрывал основы стабильности, с трудом установленной в начале царствования.
У фаворита не нашлось советника, способного подсказать ему более тонкий ход? Или его подвели природная «запальчивость», стремление любой ценой взять реванш за проигранное накануне еще одно придворное сражение?
У Анны Иоанновны не было детей. Если даже признать, что младший из сыновей Бирона был на самом деле ее ребенком, то предъявить мальчика в качестве наследника было немыслимо. К 1733 году обе сестры императрицы умерли; зато оставались цесаревна Елизавета и внук Петра I в Голштинии. Он были указаны как ближайшие наследники в завещании Екатерины I, и этот «виртуальный» документ (вроде бы существовавший, но в то же время объявленный подложным) необходимо было лишить юридической силы. В декабре 1731 года Анна восстановила петровский закон о престолонаследии — подданные вновь обязаны были присягать неизвестному наследнику, «который от ее императорского величества назначен будет». Таким образом, через шесть лет после смерти Петра I ситуация повторилась: сильная, но непопулярная власть не получила прочного юридического основания, и претензии на трон могли заявить различные кандидаты.
По-видимому, Анна-старшая поначалу хотела сделать наследницей свою племянницу, «благоверную государыню принцессу» Анну — дочь старшей сестры Екатерины и мекленбургского герцога Карла Леопольда, но то ли не пожелала ей одиночества на троне, то ли опасалась продолжения «женского правления». В 1733 году девочка приняла православие и сразу стала объектом пристального внимания дипломатов. С самого начала царствования стали обсуждаться возможные брачные комбинации вокруг «самой завидной невесты в мире», как называл юную Анну английский резидент. В мужья ей предполагали сначала голштинского принца-епископа Любека, затем молодого маркграфа Бранденбургского Маньян докладывал о планах брака с прусским наследным принцем — будущим Фридрихом Великим.
Как позднее признал на следствии Остерман, одновременно в узком кругу приближенных Анны Иоанновны обсуждался вопрос об устранении от наследия престола «петровской» линии, прежде всего Елизаветы, которую планировали выдать замуж «за отдаленного чюжестранного принца». Вопрос так и не был решен — министры Анны ничего не могли сделать с «ребенком из Киля» — сыном Анны Петровны и голштинского герцога.
Весной 1733 года в Петербург прибыл сын герцога Фердинанда Альбрехта II Брауншвейг-Бевернского принц Антон Ульрих. Престижный жених из «старого дома» являлся одновременно двоюродным братом наследницы австрийского престола Марии Терезии и шурином будущего прусского короля. О браке Анны-младшей и Антона Ульриха при дворе говорили с момента появления принца. Но событие месяц за месяцем и год за годом оттягивалось. К тому же и Бирон позволял себе посмеиваться и пренебрежительно отзываться о брауншвейгском посланнике, так что тот даже просил отозвать его из России.
На некоторое время вопрос о браке отложили, и принц отправился волонтером на русско-турецкую войну. К тому времени юная Анна успешно постигала более приятные науки. «Принцесса была молода, а граф — красавец», — прокомментировал Рондо придворную драму, главными действующими лицами которой стали наследница русского престола и законодатель тогдашних мод саксонский посол Мориц Линар. В результате Анна Иоанновна выслала из России гувернантку принцессы мадам Адеркас и отправила в дальний гарнизон камер-юнкера принцессы Ивана Брылкина, а Бирон просил саксонский двор не присылать более в Россию графа Линара.
По возвращении принца с войны императрица «изволила поцеловать» его в щеку и объявила через Бирона, что он «ближе всех прочих при дворе к ее императорскому величеству держаться может»; сам герцог нанес Антону Ульриху визит и пробыл у него почти два часа, что было знаком исключительного уважения, однако дело опять не сдвинулось с места.
Главным препятствием оставалась позиция Бирона. По-видимому, герцог сам колебался между желанием женить своего сына Петра на Анне Леопольдовне, просить для него руки брауншвейгской принцессы или выдать свою дочь Гедвигу Елизавету замуж за кого-то из младших братьев Антона Ульриха. Позднее сам он в записке императрице Елизавете писал только о том, что «императрица австрийская чрез министров своих графа Остейна и резидента Гогенгольцера просила меня похлопотать о бракосочетании принца, предлагая, в знак высокого своего ко мне уважения, выдать за сына моего, наследного принца курляндского, одну из принцесс вольфенбюттельских, с ежегодным доходом по 100 000 червонцев из собственной кассы ее величества. Хотя я и благодарил императрицу, отклоняясь молодостью моего сына, но все-таки успел в подозрении, что ищу женить его на принцессе Анне, чего никогда не приходило мне в голову».
К нему уже обращался зять Петра Великого, голштинский герцог Карл Фридрих с просьбой о пособии в 100 тысяч рублей, предлагая взамен устроить брак дочери обер-камергера со своим маленьким сыном — будущим императором Петром III. Бирон показал письмо герцога императрице, но она терпеть не могла «голштинского чертушку» и его родителя и категорически отказала: «Этот пьяница ошибается, думая выманить у меня подобным предложением деньги. Кроме презрения, он ничего от меня не дождется». Сама она хотела выдать Гедвигу Елизавету за наследного принца Гессен-Дармштадтского, однако отец принца ландграф Людовик VIII заявил, что никогда не примет в свою семью «внучку конюха».
Но проблема брака наследника Петра была важнейшей, и она из головы Бирона не выходила. Первый вариант был самым желательным, однако и самым трудно осуществимым. Фаворит не мог не понимать, что попытка породниться с императорской династией резко выводила его из привычной «службы» и среды, такого успеха не прощавшей; уроков Меншикова и Долгоруковых не знать он не мог. Во-вторых, намерение императрицы передать престол Анне или ее потомству нечбыло официально подтверждено. И, наконец, в важнейшем династическом вопросе нельзя было «давить» на императрицу — это могло быть ею расценено как покушение на самодержавную власть, к радости всех его придворных «друзей» вроде Миниха, Волынского или Остермана.
Второй вариант был реальнее: у Антона Ульриха были две незамужние сестры — Луиза Амалия и София Антония. Выдать дочь за одного из братьев Антона Ульриха (Людвига Эрнста или Фердинанда) тоже было бы неплохо — только следовало дождаться, когда подрастет невеста. Возможно, Бирон продумывал и четвертый вариант — женить Петра на прусской принцессе Ульрике.
Что касается самой Анны Леопольдовны, то ее мнения никто не собирался спрашивать. Но принцесса неожиданно проявила характер и отказалась идти замуж за неказистого жениха. Возможно, именно это обстоятельство подтолкнуло Бирона к действию. Осенью 1738 года Рондо докладывал в Лондон, что, по его сведениям, герцог Курляндский намерен выдать принцессу за своего старшего сына Петра, а дочь — за принца Антона с «отступным» в виде звания российского фельдмаршала.
Действовал он достаточно осторожно: заручился поддержкой английского двора и добился от принцессы заявления, что брауншвейгский жених ей не нравится.[245] Однако интриганом Бирон оказался неискусным — в этом отношении он всегда уступал Остерману. Саксонский дипломат Пецольд передавал, что Бирон рекламировал мужские достоинства своего сына словами, «которые неловко повторить».[246] Пообещав в очередной раз поддержку принцу, он допустил промашку: на очередной бал Петр Бирон явился в костюме из той же ткани, из которой было сшито платье принцессы Анны. Брауншвейгский дипломат обиделся: «Все иностранные министры были удивлены, а русские вельможи — возмущены. Даже лакеи были скандализованы».
Лакеи бы, конечно, потерпели, даже с брауншвейгской фамилией герцог бы справился — но на стороне глуповатого принца Антона оказались особы более опытные и ловкие: Остерман, Волынский, австрийский посол маркиз Ботта д'Адорно и даже старый приятель самого Бирона Кейзерлинг, передававший, по словам брауншвейгского дипломата Гросса, все сведения о словах и поступках Бирона Остерману.
Как показало позднее следствие по делу Волынского, амбиций Бирона не одобряли и другие вельможи. Князь Черкасский говорил: «Если б принц Петр был женат на принцессе, то б тогда герцог еще не так прибрал нас в руки Как это супружество не сделалось? Потому что государыня к герцогу и к принцу Петру милостива, да и принцесса к принцу Петру благосклоннее казалась, нежели к принцу брауншвейгскому; конечно, до этого Остерман не допустил и отсоветовал: он, как дальновидный человек и хитрый, может быть, думал, что нам это противно будет, или и ему самому не хотелось. Слава Богу, что это не сделалось, принц Петр человек горячий, сердитый и нравный, еще запальчивее, чем родитель его, а принц брауншвейгский хотя невысокого ума, однако человек легкосердный и милостивый».
На принца работало и время. Чтобы сохранить корону за старшей ветвью династии Романовых, племянница обязана была представить старевшей императрице наследника, ведь боак Анны-младшей с иноземцем, не являвшимся российским подданным, делал ее собственное вступление на престол проблематичным. Бирону-младшему же было всего 15 лет Поэтому в марте 1739 года начались приготовления к ее свадьбе с принцем Антоном. В условиях цейтнота Бирон пошел ва-банк и предложил принцессе своего сына.
Брауншвейгский историк X. Шмидт-Физельдек в конце XVIII века на основе имевшихся в его распоряжении документов нарисовал сложную интригу, авторами которой, по всей вероятности, стали Кейзерлинг и Остерман. Чтобы подтолкнуть Бирона к действиям, некий «барон О***» сообщил ему многие европейские дворы уверены в том, что затягивание сватовства принца — следствие интриг обер-камергера После этой беседы Бирон отправился к принцессе, убедился что Антона она по-прежнему не терпит и даже просила его «не ходатайствовать за принца так горячо, как будто он ему — родной сын». Бирон пересказал содержание этого разговора «барону О***», и тот заметил, что про «родного сына» принцесса сказала неспроста; тогда Бирон послал к принцессе сына Петра с предложением руки и сердца. Анна Леопольдовна выгнала претендента и оскорбленный отец поступил, как и предполагал «барон О***», объявил императрице, что пора наконец выдать гордую принцессу за Антона Ульриха. Очевидно, для императрицы это оказалось последним толчком.
Волынский же уламывал на брак с Антоном Ульрихом Анну-младшую, которая откровенно выказала находившемуся тогда в зените своей карьеры придворному свои чувства: «Вы, министры проклятые, на это привели, что теперь за того иду, за когда прежде не думала», — упрекнув, что ее жених «весьма тих и в поступках не смел». Опытный царедворец галантно парировал укоры и разъяснял молодой женщине всю пользу именно такой ситуации, когда муж «будет ей в советах и в прочем послушен».[247]
В итоге поставленная перед выбором принцесса согласилась на «тихого», но хотя бы породистого жениха. Анна Иоанновна от радости устроила пышные торжества. Бирон проиграл и должен был присутствовать на свадьбе фактической наследницы престола с заурядным немецким принцем, делая хорошую мину при плохой игре.
Во время парадного шествия в церковь герцог выступил j во всем блеске — «в совершенно великолепной коляске, с двадцатью четырьмя лакеями, восемью скороходами, четырьмя гайдуками и четырьмя пажами — все они шли перед коляской; кроме того, шталмейстер, гофмаршал и два герцогских камергера верхами». В этом поезде участвовали и младший сын, принц Карл, и Бенигна Бирон «с дочерью в карете с такой же свитой, что и у Елизаветы». В соборе невесту вела на место императрица, а жениха — Бирон. После венчания состоялся обед во дворце, где рядом с новобрачными опять сидело семейство герцога. Вечером зажглась иллюминация, на радость народу три фонтана били вином. Свадьба продолжалась несколько дней. На третий день открылся придворный бал, в субботу опять состоялся обед, но уже у новобрачных, где по старинному русскому обычаю «молодые» прислуживали за столом. После обеда в «дворцовом театре» представили «оперу». В воскресенье проходил маскарад в саду Летнего дворца. Набережная Невы озарялась огнями иллюминации и фейерверков, в свете, разноцветных огней по обеим сторонам ангела с миртовым венком стояли женские фигуры России и Германии под надписью «Бог соединяет их вместе».
Леди Рондо отмечала «невыразимую роскошь и великолепие» карет и ливрей, а также богатство туалетов дам. На невесте «было платье с корсажем из серебряной ткани; корсаж спереди был весь покрыт бриллиантами; ее завитые волосы были разделены на четыре косы, перевитые бриллиантами, а на голове была маленькая бриллиантовая корона; кроме того, множество бриллиантов было украшено в ее черных волосах, что придавало ей еще более блеску». Правда, дав согласие на брак, Анна Леопольдовна залилась слезами, а ее характер не обещал мужу радостей.
Проблемы возникли и у принца. Много лет спустя находившийся в ссылке в Казани полковник Иван Ликеевич поведал приятелям, что в 1739 году медовый месяц молодых начался с конфуза: императрице доложили, что «Антон Улрих плотского соития с принцессой не имел, и государыня на принцессу гневалась, что она тому причина. И после де того призывали лекарей и бабок, и Улриха лечили. И принцесса де с мужем своим жила несогласно, и она де его не любила, а любилась с другими».[248] В общем, супруги явно не подходили друг другу.
Бирон, злорадствуя, сообщил Кейзерлингу, что Анна Иоанновна не хочет допускать молодую чету к своему столу и намерена приказать им обедать в своих комнатах. Это открывало Бирону простор для интриги; но он все чаще срывался — например, прямо заявил и так-то не слишком счастливому Антону Ульриху: «Я, по крайней мере, знаю, что, когда вы за нее сватались, она сказала, что лучше бы положила голову на плаху, чем выходить за вас. Против вас у меня нет ничего; итак, вместо того, чтобы во всем слушаться жены, советую вам вытолкать в шею тех, которые делают ей такие прекрасные внушения. Я очень хорошо знаю, какие чувства она питает ко мне; но я в милостях ее не нуждаюсь, да и никогда нуждаться не буду». О самом принце в беседах с дипломатами он отзывался довольно презрительно: «Всякий знает герцога Антона Ульриха, как одного из самых недалеких людей, и если принцесса Анна дана ему в жены, то только потому, чтобы он производил детей; однако он, Бирон, считает герцога недостаточно умным даже для этой роли».
Таким образом, герцог испортил отношения с «молодым двором» да к тому же ошибался в оценке способностей принца. 12 августа 1740 года Анна Иоанновна восприняла от купели долгожданного наследника, названного по прадеду Иоанном. 3 сентября дни его рождения и тезоименитства были вписаны в табель «высокоторжественных дней» в качестве официальных праздничных дат.
После замужества Анны Леопольдовны и появления наследника всемогущий фаворит стал, по оценке саксонских Дипломатов, так задумчив, что никто не смел к нему подойти. Подумать было над чем. Пока Бирон действовал исключительно «в службе ее величества» и соблюдал правила ИГРЫ, он оставался непотопляемым. При этом в расцвете своей карьеры фаворит ясно представлял себе ее возможный конец. Узнав в 1736 году, что основные препятствия к занятию им герцогского трона Курляндии преодолены, Бирон написал Кейзерлингу: «До тех пор, пока Бог хранит ее велиство императрицу русскую, еще можно выйти из затруднения; но когда, Боже сохрани, что случится, не буду ли я вполне несчастлив?»
Теперь эти мысли были как нельзя более актуальными. Только что фаворит в точности повторил действия Меншикова и Долгоруковых — и потерпел неудачу. Устранить новых претендентов на власть не удалось; Бирон вынужден был уступить и отказался от попытки резко изменить расклад сил при дворе в свою пользу. Перед нами своеобразная закономерность борьбы за власть, буквально заставлявшей фаворита вступать в рискованную игру. Императрица старела, и герцогу необходимы были гарантии его положения и при новом царствовании, поскольку все, чего он добился при дворе, могло в одночасье рухнуть. Угроза отбыть в Курляндию могла действовать только на Анну — в самой Курляндии не имевший опоры в Петербурге герцог вызывал бы гораздо менее уважения у вольных баронов.
Поэтому он с такой силой обрушился на Волынского, имевшего шансы стать первым министром нового правления. Но устранение наиболее активного вельможи означало лишь начало нового витка борьбы за власть при пошатнувшемся здоровье императрицы (у нее усилилась подагра и началось кровохарканье). Здесь у Бирона появилось некоторое поле для маневра, и сам он отметил в памятной записке: «Возник вопрос о том, какое звание принадлежит новорожденному и следует ли на эктениях за именем императрицы произносить его имя с титулом великого князя? Потребовали мнения Остермана. Согласясь на первое, Остерман отверг последнее».
Это означало, что долгожданный наследник официально таковым не был объявлен. Едва ли это была интрига против молодой четы — Остерман ее поддерживал; но дети в то время часто умирали в младенчестве, и надо было подождать. Однако будущий император Иван Антонович должен был еще вырасти; иначе в случае смерти Анны Иоанновны неизбежно вставал вопрос о регентстве — это был шанс для Бирона. Но для этого следовало приложить максимум усилий — иметь хотя бы одного из супругов-родителей на своей стороне и суметь договориться с Остерманом.
Однако и это у фаворита не получилось. В сентябре 1740 года саксонский посол Пецольд доложил, что «герцог снова до такой степени разошелся с графом Остерманом, что я не умею изобразить этого»; через несколько дней он рассказал, как Бирон выразил Остерману свое неудовольствие по поводу затягивания переговоров с Англией о союзе. Вице-канцлер ответил подробным докладом — и нетерпеливый Бирон взорвался: «Граф Остерман воображает, что кроме него все глупы и ничего не видят у себя под носом. <…> Пусть лучше докажет делами, что у него есть совесть и религия». На подобные взрывы опытный Остерман отвечал обыкновенно (как выражался Бирон) «одними всхлипываниями и слезными заверениями своей невинности».
Заносчивость и «запальчивость» — качества, в данной ситуации для фаворита неуместные — проявлялись все более отчетливо. К концу царствования Анны Бирон уже не был похож на скромного и приятного во всех отношениях придворного, каким его знал в 1730 году герцог де Лириа. Герцогский титул дал возможность императрице поставить фаворита наравне с собой на официальных торжествах. Как суверенный иностранный государь, он мог сидеть рядом с ней. Его обслуживал многочисленный штат, в котором были собственные гофмаршал и гофмейстер, фрейлины, камер-юнкеры, пажи, гайдуки и лакеи; при дворе герцога состояли лейб-кучер саксонец Ацарис, выписанный из-за границы садовник Михель Анджело Масса и «французская мадама» Бэр. Для проживания герцогской обслуги пришлось арендовать целый дом у адмирала Головина.
Теперь он стал «очень тщеславен, крайне вспыльчив и, когда выходит из себя, несдержан в выражениях. Будучи к кому-то расположен, он чрезвычайно щедр на проявления своей благосклонности и на похвалы, однако непостоянен; скоро без всякой причины он меняется и часто питает к тому же самому человеку столь же сильную неприязнь, как прежде любил. В подобных случаях он этого не может скрыть, но выказывает самым оскорбительным образом» — таким его увидела леди Рондо в 1737 году. Почти теми же красками его рисует и Манштейн: «Характер Бирона был не из лучших: высокомерный, честолюбивый до крайности, грубый и даже нахальный, корыстный, во вражде непримиримый и каратель жестокий. Он очень старался приобрести талант притворства, но никогда не мог дойти до той степени совершенства, в какой им обладал граф Остерман, мастер этого дела».
Порчу характера фаворита заметил даже на редкость терпимый и благолепно возглавлявший правительство с 34 года кабинет-министр Черкасский: «Нрав переменился и безмерно стал запальчив, и не любит, кто с кем Дружно живет; ныне опасно жить, что безмерно на всех напрасная суспиция, а ту суспицию внушил паче всех граф Остерман, его вымысел в том состоит, чтоб на всех подозрение привесть, а самому только быть в кредите». Если доставалось самому канцлеру, то мелким придворным было неизмеримо хуже. Предание связывает последнюю шутку Ивана Балакирева с последствиями какой-то его выходки в адрес фаворита. Герцог приказал шута вразумить; после экзекуции Балакирев с трудом добрался из дворца домой, улегся в заранее заготовленный гроб и из него уже не поднялся.[249]
Бирон уже всерьез капризничал, жалуясь Кейзерлингу: «Раньше всегда давали герцогам титул „светлость“, я же получил только „высокородие“». Появились новые придворные «обычаи» — например, официальное празднование именин и дня рождения фаворита (12 ноября) и его жены.[250] В апреле 1740 года, как раз во время следствия над Волынским, художник И. Я. Вишняков пишет парадные портреты Бирона и его жены, впоследствии утраченные. Ставшая первой дамой двора Бенигна подражала мужу: «Его герцогиня надменна и угрюма, с неприятным обликом и манерами, что делает невозможным уважение, которое она хотела бы приобрести таким способом, то есть уважение искреннее, а не показное. Сказать по правде, хотя меня и называют ее фавориткой и она благосклонна ко мне более, чем к другим, в сердце моем нет чувства, которое называют уважением; ибо соблюдение этикета соответственно ее положению я бы не назвала уважением, хотя это и именуют так. И сама она заблуждается на сей счет, поскольку, внезапно так сильно возвысившись, она вышла из своего круга и полагает, будто надменностью можно вызвать уважение». Написавшая эти строки леди Рондо все-таки оценивала петербургский двор со стороны, будучи обладавшей известной независимостью иностранкой и членом дипломатического корпуса. Но можно себе представить, как отзывались о «Биронше» оттесненные ею отечественные аристократки.
Старший сын и наследник Бирона Петр в 14 лет был пожалован в чин лейб-гвардии подполковника, получил орден Белого орла, а в 1740 году — ордена Святого Андрея и Святого Александра Невского. Те же ордена получил Карл Эрнст, уже с четырехлетнего возраста «служивший» капитаном Преображенского полка. К заносчивым и капризным принцам в дни их рождения выстраивались очереди из желавших поздравить вельмож и членов дипломатического корпуса. Оба брата герцога, Густав и Карл, стали «полными» генералами. Старший не ладил с Минихом и выпросил было отставку; но Эрнст Иоганн такого допустить не мог и убедил брата вернуться на службу — в 1740 году Карл Бирон был назначен московским генерал-губернатором.
Густав Бирон в феврале 1740 года получил в награду золотую шпагу с бриллиантами, стал генерал-аншефом, а в марте — «командующим над полками» в столице. Он верил в удачу брата-фаворита и вел себя соответственно: мог проявить непочтение к Тайной канцелярии, требуя, чтобы она сносилась с гвардейскими полками не «указами», а «промемориями», как это делала Военная коллегия, ведь, по мнению Густава, в Военной коллегии «заседают генерал-фельдмаршалы, а не простые генералы, как господин Ушаков». Бирон-младший высмотрел невесту — фрейлину Якобину Менгден, стал именоваться бароном, выпросил себе взятый в казну загородный двор бывшего гофинтенданта Кармедо на на Фонтанке и отхватил под него значительный кусок владений Троице-Сергиева монастыря. Комиссия о петербургском строении, несмотря на протест монастырского стряпчего, признала захват законным «для лучшего регулярства» владения брата фаворита. Правда, в государственные дела Густав по-прежнему не вмешивался: пока столичное общество обсуждало «дело» Волынского, он «мунстровал» свой Измайловский полк, распоряжался постройкой для него слободы и был очень доволен тем, что для этого ему удалось оттягать у подведомственной Волынскому Конюшенной канцелярии заготовленные ею бревна.
Сам герцог на такие мелочи не разменивался — он ускоренными темпами возводил два дворца в Курляндии; только в Митаве работала тысяча строителей, на пропитание которых шла продукция трех герцогских имений. Из Тулы с заводов Романа Баташова шли обозы с литыми украшениями. На кораблях везли из Германии свинец для крыши. Оба дворца еще не были закончены, но его светлости уже пришла в голову идея построить еще одну загородную резиденцию — и это задание он опять поручил Растрелли.
Бирон уже выбрал место — и неудачно. Архитектор почтительно пытался его отговорить. «Я имею честь сообщить вам, что расположение Zipelhof, на мой взгляд, совершенно не подходит для строительства дома, так как я не нашел там ни одного приятного вида, могущего удовлетворить взгляд. Это большой недостаток для загородного дома, к тому же в этом месте очень мало воды, и было бы обидно, если бы ваше сиятельство понесли расходы из-за постройки дома в местности, где нельзя получить никакого удовольствия. Если бы ваша милость пожелала прислушаться к моему мнению, я посоветовал бы вам построить дом в Репо, месте, удаленном от Zipelhof всего лишь на четверть мили. Уверяю ваше сиятельство, что трудно найти более подходящее место для постройки загородного дома. Во-первых, вода здесь имеется в изобилии и совсем рядом с тем местом, которое я выбрал для строительства дома. Он находился бы в очень удобном положении, дающем возможность наслаждаться окрестностями, производящими очаровательное впечатление. Насколько хватает глаз, видны луга, с двух сторон находятся леса удивительной красоты, перед домом, кроме того, находился бы другой лес, в котором ваше сиятельство могли бы приказать сделать аллеи, что только увеличило бы красоту этого места», — писал он герцогу в августе 1740 года.[251] Кажется, аргументы подействовали — в местечке Ципельхоф строительство не началось.
В Петербурге все обстояло сложнее. Но у Бирона еще оставалось существенное преимущество — молодая мекленбургско-брауншвейгская чета была решительно неспособна к какой-либо политической интриге, а прочие его противники были разобщены и всегда готовы соперничать за монаршие милости. За годы «бироновщины» одни из влиятельных и самостоятельных фигур петровских времен умерли, другие были сломлены морально или физически, как Волынский.
Ко времени «бироновщины» российская элита уже не имела ни традиционных, освященных временем учреждений, ни корпоративной солидарности, ни даже сколько-нибудь оформленных традиционных группировок-«партий», способных выдвигать своих представителей на ответственные посты. Из 179 членов «генералитета» (лиц 1—4-го классов по Табели о рангах) в 1730 году каждый четвертый «выпал» из этого круга; почти половина (81 человек) побывала либо под судом, либо в качестве судей над своими вчерашними коллегами; почти четверть (40 человек) хорошо знала, что такое конфискация имений, поскольку либо теряла их, либо получала в награду в качестве «отписных» из казны.[252]
Ведь состоявшие под судом Волынский, Мусин-Пушкин, Соймонов еще недавно сами судили князя Дмитрия Михайловича Голицына и князей Долгоруковых; в числе судей были и переживший такой же процесс и даже смертный приговор П. П. Шафиров, и возвращенные из ссылки А. Л. Нарышкин и А. И. Румянцев. Некоторым из судей Долгорукова и Волынского (гвардии майорам Альбрехту и Апраксину, М. Г. Головкину) в недалеком будущем предстояло «падение». Подсудимые и судьи принадлежали к одному кругу, нередко находились в родстве и свойстве, еще вчера считались «приятелями» — но на следующий день усердно «топили» друг друга. Духовные же особы своим саном прикрывали и освящали очередную расправу, как многократный участник таких судилищ преосвященный Амвросий Вологодский: он подписал смертный приговор Долгоруковым, потом по очереди прославлял и хулил Бирона, Анну Леопольдовну и малолетнего императора Иоанна Антоновича.
Если герцог не смог создать свою «партию», то еще меньше на это оказались способны российские вельможи, в отличие от «немцев» Миниха и Остермана. Но они как будто не проявляли стремления занять первое место.
Спустя несколько дней после рождения «принца» вакантное место кабинет-министра было занято новой креатурой Бирона — будущим канцлером Алексеем Петровичем Бестужевым-Рюминым. Очередной взлет его извилистой карьеры был обусловлен желанием курляндского герцога найти достойного и вместе с тем послушного оппонента «душе» Кабинета — Остерману. Доверие нужно было отрабатывать, и в октябре именно Бестужев-Рюмин стал одной из наиболее активных фигур во время последней болезни Анны Иоанновны. Достигнутая путем уступок и репрессий политическая стабильность оказалась обманчивой.
Часто видя бык свои золотые роги,
Поднимает к небесам безрассудно ноги,
И не зная на небо никакой дороги,
Хочет счастья, чтоб его поверстали в боги.
В воскресенье 5 октября 1740 года за обедом императрице стало дурно. Срочно приглашенные во дворец Черкасский и Бестужев-Рюмин после краткого разговора с Бироном отправились к больному Остерману; «душа» Кабинета порекомендовал прежде всего издать распоряжение о наследнике престола. В тот же день манифест о наследнике, «великом князе Иоанне Антоновиче», был написан секретарем Кабинета Андреем Яковлевым под диктовку Остермана.[253] От обсуждения вопроса о правителе-регенте осторожнейший министр уклонился, но зато предложил образовать регентский совет. Эта идея определенно не понравилась Бирону. «Какой тут совет! — заявил он вернувшемуся от Остермана Рейнгольду Левенвольде. — Сколько голов, сколько разных мыслей будет».
Горе Бирона было искренним: по словам прусского посла Акселя Мардефельда, он безутешно рыдал и даже упал в обморок. Однако ему было жизненно необходимо в оставшееся время упрочить свое положение при дворе. При этом действовать открыто было не в его стиле, о котором саксонский дипломат отзывался: «В манере герцога было так управлять делами, которых он более всего желал, что их ему в конце концов преподносили, и казалось, что все происходит само по себе». Поэтому в записке «Об обстоятельствах, приготовивших опалу Эрнста Иоганна Бирона, герцога Курляндского», написанной уже в ссылке, бывший правитель мог, не слишком кривя душой, утверждать, что он стал регентом только после настойчивых просьб окружавших его лиц. Эти лица — прежде всего Миних и Остерман — на следствии после их ареста в 1741 году охотно уступали «честь» выдвижения Бирона друг другу. Бирон в упомянутой «Записке» на первом месте в числе «просителей» называл фельдмаршала Миниха, от которого он, герцог, неожиданно узнал: «Присутствующее у меня собрание — ревностные патриоты, которые, после многих размышлений и единственно в видах государственной пользы, нашли способнейшим к управлению Россией меня». Миних в своих мемуарах валил все на Остермана и Черкасского, сын фельдмаршала Эрнст Миних называл Черкасского и Бестужева-Рюмина; сам же Бестужев на следствии в 1740 году указывал, что именно Миних был «первый предводитель к регентству» Бирона. Современник и первый историк «эпохи дворцовых переворотов» немецкий пастор Антон Бюшинг рассказывал, как Миних пытался убедить его в том, что именно Остерман и Черкасский «сделали» Бирона регентом, в то время как ученый «за подлинно ведал, что генерал-фельдмаршал Миних в последнюю смертельную болезнь императрицы из дворца совсем не выезжал и ночи в одном покое с герцогом Курляндским проводил». От отца не отставал Миних-сын: он исправно докладывал Бирону, что говорят о нем при дворе, и герцог заслуженно «за шпиона его почитал».[254] Другим инициатором «выдвижения» Бирона выступил Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, не без основания считавший свое участие в деле утверждения регентства решающим, поскольку он разработал и обеспечил его «техническое» исполнение.
Вечером 5 октября у Бирона собрались Миних, Черкасский, Бестужев-Рюмин, А И. Ушаков, А. Б. Куракин, И. Ю. Трубецкой, Н. Ф. Головин, Р. Левенвольде, которые сочли герцога «способнейшим к управлению Россией» и наиболее «приятным народу» в качестве правителя. После такого «консилиума» появился Остерман, чуть ли не на носилках доставленный во дворец. Вице-канцлер, скорее всего, старался не отстать от большинства, но по обыкновению от любой инициативы уклонялся. Герцог скромно отказывался от власти: «Плохое состояние моего здоровья, истощение сил, наконец домашние заботы — все это в настоящее время вынуждает меня думать только об одном: как бы мне устраниться от государственных дел и провести спокойно остаток жизни. И если будет угодно промыслу пресечь дни императрицы — я сочту себя свободным от всего и надеюсь, вы дозволите мне остаться среди вас, пользоваться моим положением, ни во что не вмешиваясь, и — быть вашим другом».
Правда, после этой речи Бирон сообщил, что императрица «соизволила указать духовную и последнее свое завещание написать». Такое внезапное распоряжение едва ли соответствовало действительности, но понятливый Бестужев сел писать царскую «духовную». Герцог удалился со сцены, но оказавшийся рядом Густав Бирон неожиданно предложил, чтобы «Синод и Сенат… челобитную ее императорскому величеству подали». Идея «народного» волеизъявления на предмет назначения регента была немедленно подхвачена, Бестужев стал сочинять и эту «челобитную» вместе с вовремя подоспевшим князем Н. Ю. Трубецким и дипломатом Карлом Бреверном. Исторический документ записал секретарь Кабинета Андрей Яковлев, а канцлер А. М. Черкасский своим авторитетом его «апробовал».[255]
Единодушие при выдвижении регента едва ли было искренним. Позднейшие допросы секретаря Кабинета Андрея Яковлева сохранили слова генерал-прокурора Трубецкого, сказанные им перед смертью Анны Иоанновны: «Хотя де герцога Курляндского регентом и обирают, токмо де скоро ее императорское величество скончается, и мы де оное переделаем», — которые Остерман тут же распорядился Яковлеву записать.[256] Сам же секретарь Кабинета явно симпатизировал Анне Леопольдовне и ее мужу, сообщал им о действиях Бирона и готовившихся документах.
При таких «сторонниках» начинать борьбу за власть было рискованно; но герцог был человеком решительным — или годы власти уже приучили его к мысли, что все случится согласно его воле. Да и особого выбора у него не было. Даже вполне законное положение других должностных лиц ничего им не гарантировало в послепетровской России; «внезаконный» же статус фаворита грозил немедленным «падением» с уходом источника милостей. Утверждение регентского совета во главе с враждебно расположенной к Бирону матерью императора делало такой исход почти неминуемым. Но даже если бы опала не последовала немедленно, надо было ожидать удаления из властного круга. Пришлось бы терпеть выпады тех, кто раньше безропотно исполнял прихоти фаворита и толпился в передней унизительно просить покровительства или денег. Ему оставалось бы удалиться в «собственное» герцогство, чтобы исполнять указания из Петербурга и сносить претензии вольных баронов, сознававших, что их герцог лишился силы. Да и серьезных противников у герцога не было — каждый наперебой стремился предложить регентство, подслужиться, не отстать от других. Позднее свергнутый Бирон сказал, что из всех окружавших его вельмож «никто такой християнской совести не был, чтоб ему в том отсоветовать», — и был прав: таких среди высшей знати действительно не нашлось.
Вокруг давно уже недомогавшей императрицы закручивались интриги большой европейской политики. Умерший в мае 1740 года «прусский Калита» король Фридрих Вильгельм оставил сыну исправный государственный механизм и 76-тысячную армию, что в сочетании с амбициями молодого Фридриха II предвещало изменения в европейском «концерте». Наметилось сближение Пруссии и Франции, чьи правительства ожидали смерти австрийского императора Карла VI и готовились предъявить территориальные претензии на австрийское «наследство». Накануне крупного международного конфликта позиция России имела принципиальное значение, и на нее нужно было умело повлиять.
Первым в Петербург прибыл французский посол Иоахим Жак Тротти, маркиз де ля Шетарди, чьей задачей было ослабить австрийское влияние при русском дворе. Франция стремилась сделать Пруссию своей союзницей в будущем конфликте с Габсбургами и подталкивала Швецию к войне с Россией; о воинственных настроениях в Стокгольме русский посол М. П. Бестужев-Рюмин докладывал уже с начала 1739 года. Данные маркизу инструкции предусматривали и такое средство, как устранение «иноземного правительства» России; в этой связи ему рекомендовалось обратить внимание на недовольство старинных русских фамилий. В мае 1740 года в Петербург прибыл английский посол Эдвард Финч, получивший, в свою очередь, указания наблюдать за французским дипломатом и информировать Лондон «об интригах и партиях, которые могут возникнуть при русском дворе». За этим в Петербурге уже внимательно следили их австрийский, шведский и прусский коллеги.
Дипломаты стремились собрать максимально полную информацию о ситуации и спрогнозировать ее развитие. Их донесения показывают, что принцесса Анна опять проявила характер. По поручению жены Бирона барон Менгден уговаривал ее примкнуть к прошению о назначении Бирона регентом; но Анна отказалась, поскольку сама (по данным английского посла) рассчитывала получить власть. Открыто выразить свое несогласие она не могла, но вместо одобрения на «избрание» регента заявила явившимся к ней вельможам, «чтоб они таким образом поступали, как они в том пред Богом, пред его императорским величеством, пред государством и пред светом ответствовать могут».
Решить дело с первого захода не удалось. Утром 6 октября Анна Иоанновна подписала только манифест о наследнике престола, но в нем не содержалось никаких упоминаний о регенте, хотя было понятно, что младенец-император управлять государством не мог. Сам Бирон писал, что после аудиенции, на которой Миних и прочие умоляли ее величество объявить его регентом империи, императрица «не рассудила за благо ответствовать». Она вызвала к себе фаворита и спросила, давно ли он служит ей. «И на мой ответ, что уже двадцать два года имею счастье находиться в службе ее величества, сказала: „Намерение мое не исполнилось: я не успела наградить вас по заслугам. Но не сомневайтесь, что вам воздаст Господь. Фельдмаршал сказал мне такую вещь, что я продумала всю ночь“. Я понимал, в чем дело». Как видим, герцог не нуждался в подробных объяснениях. Однако, судя по донесениям дипломатов, положение больной несколько улучшилось — ни она сама, ни окружающие не ожидали ее кончины. Императрица то ли еще надеялась на выздоровление, то ли просто была не готова к такому повороту событий, чему, возможно, способствовал и оказавшийся поблизости Остерман.
Началось приведение подданных к присяге; в честь «благоверного государя, великого князя Иоанна» был совершен торжественный молебен в Петропавловском соборе. Но составленное Бестужевым-Рюминым «Определение» о регентстве с датой «6 октября» императрица не подписала и оставила у себя. Второй экземпляр «определения» (без даты) забрал Остерман.[257]
Потерпев неудачу, Бестужев принялся срочно создавать «общественное мнение». Кроме «челобитной» о назначении Бирона регентом от виднейших сановников во главе с Минихом и Остерманом (ее герцог предусмотрительно не доверил никому и забрал себе), Бестужев сочинил еще одну «декларацию», провозглашавшую, что «вся нация <…> регента желает», и призвал подписать ее более широкий круг придворных, включая старших офицеров гвардии «до капитан-поручиков» — после 1730 года игнорировать гвардию было бы уже неосторожно. Чтобы избежать неуместных споров, кабинет-министр установил для подписывавших очередь, «впущая в министерскую человека только по два и по три и по пять, а не всех вдруг»; для убедительности приглашенным зачитывали еще какое-то «увещание», до нас не дошедшее.
По данным саксонского посла, «декларация» собрала 197 подписей. Таким образом, помощники герцога подготовили обоснование для провозглашения его регентом, даже если бы умиравшая Анна отказалась это сделать. Бирон же мог утверждать, что почти 200 человек «добровольно обязались действовать в пользу назначения моего к регентству», о чем сам он якобы узнал только спустя сутки.
Тогда сановники заставили герцога согласиться на регентство, давая честное слово разделить с ним тягость предстоявшего бремени. Наконец, как писал Бирон в «Записке», он согласился — но тут же пожалел об этом и сам остановил Анну, готовую подписать заготовленный «письменный акт»: «Я умолял императрицу не делать этого, представляя, что отказ ее величества утвердить акт почту полным вознаграждением за все мои службы и услуги. Государыня взяла бумагу и положила ее к себе под изголовье».[258]
В небольшой «Записке» Бирон создал настоящий драматический сюжет. Однако вполне вероятно, что в те тяжелые для него дни он не только изображал из себя скромника, а действительно испугался бремени власти. Ведь пробыв десять лет у трона, герцог не мог не понимать, какую роль берет на себя. Или, возможно, только на миг оробел — но свита уже играла короля и ставила его в безвыходное положение, «сваливая» на него ответственность за прошедшее десятилетие.
Кажется, Бирон все-таки чувствовал опасность — не случайно он потребовал прибавить к «акту» статью о своем праве досрочно сложить полномочия регента в любое время. Но механизм «выборов» был уже запущен. Принцессу Анну не оставляли наедине с императрицей, а герцог Антон вообще был допущен к ней лишь однажды, 8 октября. Не всегда пускали к умиравшей Елизавету (потом это обстоятельство будет поставлено в вину Бирону). Впрочем, завеса секретности, которую стремились создать вокруг императрицы, по-видимому, без особого труда преодолевалась иностранными дипломатами. Так, Шетарди в ответ на уверения Остермана в том, что ничего серьезного не происходит и беспокоиться не о чем, не смог отказать себе в удовольствии рассказать министру, как в покоях Анны одновременно делали кровопускание Бирону и матери наследника.
К 11 октября удалось преодолеть сопротивление Анны Леопольдовны — она дала-таки согласие на регентство. Безуспешными остались робкие попытки ее мужа изменить ситуацию: Антон Ульрих то посылал своего адъютанта разведать о происходившей в Кабинете подписке, то отправлялся за советом к своему покровителю Остерману. Опытный царедворец намекнул своему протеже, что действовать можно только в том случае, если у принца есть своя «партия», а иначе разумнее присоединиться к большинству.
Но перед Бироном были и более серьезные препятствия, чем инфантильная и недружная брауншвейгско-мекленбургская пара. Начиная с 14 октября в донесениях Шетарди и других дипломатов опять появились сообщения о планах создания как будто уже отвергнутого регентского совета из 12 человек, в котором принцессе Анне должно принадлежать два голоса. Шетарди узнал о переговорах Бирона с Финчем; шведский посол доложил, что их целью являлось помещение состояния герцога в английские банки. Правда, в опубликованных депешах Финча не сообщается о подобном визите — точнее, вообще нет сведений о происходивших между 11 и 15 октября событиях. Мардефельд же передал в Берлин, что Бирона не ввели в состав регентского совета и его слуги уже начали прятать имущество.[259] Эти известия имели под собой основание. После свержения Бирона оказалось, что он успел часть своих ценностей отправить в курляндские «маетности», где их пришлось разыскивать.
Скорее всего, новая попытка создания регентского совета была ответным ходом Остермана, прекрасно понимавшего истинный смысл «единодушия» при выдвижении герцога. Но в отличие от междуцарствий 1725 и 1730 годов теперь ни у кого не возникло и мысли о контроле над верховной властью со стороны Сената или каком-либо ограничении самодержавной власти. Прошедшие со дня смерти Петра I «дворские бури» похоронили возникшую было идею правового регулирования самодержавной монархии.
Изменить ход событий не удалось. У Бирона оставался его последний ресурс, и он его использовал. В среду 15 октября герцог бросился в ноги к Анне; умиравшая императрица не смогла отказать единственному близкому ей человеку. Позднее Бирон признавал, что был заранее извещен врачами о неминуемой кончине императрицы и желал любой ценой получить ее санкцию на регентскую власть.[260] Верного Бестужева Бирон отправил уламывать Остермана. Камердинер герцога Фабиан на допросе показал, что «как ее императорское величество весьма больна была, то оной бывшей регент приказал ему, Фобияну, чтоб он шел в дом графа Остермана и там, вызвав Бестужева, сказал бы ему: „Ежели дело сделано, чтоб он наперед к нему бывшему регенту был“».
Камердинер выполнил поручение, но Бестужев сообщил, что «дело» еще не сделано — однако в тот же день или (по имевшейся в руках следователей в 1741 году собственноручной записке Бестужева) на следующее утро «определение» о регентстве было подписано при участии и в присутствии вездесущего Остермана. Объявленный после смерти Анны документ датирован 6 октября. Это явно не соответствовало действительности и дало основание заподозрить фальсификацию, о чем сразу же заговорили иностранные дипломаты и противники Бирона. Но сам он был доволен и, выйдя к окружающим, поблагодарил их: «Вы, господа, поступили как римляне».
Прямого подлога, очевидно, все же не было, хотя подлинного рукописного текста распоряжения о регентстве у нас нет. Но вокруг умиравшей императрицы была сплетена столь густая сеть интриг, что даже если бы она отказалась исполнить волю фаворита или физически уже не смогла подписать документ, это едва ли изменило бы ход событий. В дело пошли бы заготовленные Бестужевым выражения «общественного мнения», и едва ли Бирон согласился бы упустить свой шанс. Во всяком случае, «безмятежный переход престола» (который мог удивлять английского и других послов) скрывал за кулисами очередную «переворотную» ситуацию. Вновь власть демонстрировала неустойчивость и зависимость от сиюминутного расклада сил — даже в условиях относительно «спокойной» передачи полномочий и при заранее определенном наследнике.
Для сравнения уместно вспомнить ситуацию в соседней империи. Австрийский монарх Карл VI умер почти одновременно с Анной. Его кончина вызвала новый европейский конфликт и войну за «австрийское наследство», но внутриполитических потрясений не было: власть перешла к дочери Карла Марии Терезии, чьи права были утверждены специальным документом — Прагматической санкцией, принятой сословными учреждениями всех частей империи. Претензии на трон (от имени своей жены — дочери старшего брата Карла VI, императора Иосифа I) выдвинул только курфюрст соседней Баварии Карл Альбрехт, и то в расчете на прямую поддержку Франции.
17 октября 1740 года Анна Иоанновна скончалась между 21 и 22 часами в полном сознании и даже успела одобрить своего избранника: «Небось!» Вновь в нужный момент (великое искусство) показал себя генерал-прокурор Н. Ю. Трубецкой. Сохранился автограф его распоряжений Сенату: задержать почту, учредить заставы на выезде из столицы; вызвать гвардейские полки к восьми утра к «летнему дому», где умерла императрица. Туда же надлежало явиться часом позже сенаторам, синодским членам и особам первых шести рангов. Не забыл генерал-прокурор и о новом титуле «регента» для Бирона.[261]
Так же быстро действовал Остерман. В своем «мнении» Сенату он предлагал немедленно отправить «циркулярные рескрипты» к русским послам за границей и закрыть все дороги, чтобы опередить известия дипломатов из Петербурга. Самого же Бирона он просил подписать рескрипты, отправляемые в Турцию и Швецию, и направить личные письма султану и визирю, подчеркнув в них «твердость и непоколебимость» внешней политики империи.[262]
Подробную и, по-видимому, точную картину происходивших в этот момент событий оставил сын фельдмаршала Миниха: «Как скоро императрица скончалась, то, по обыкновению, открыли двери у той комнаты, где она лежала, и все, сколько ни находилось при дворе, в оную впущены. Тут виден и слышен был токмо вопль и стенание. Принцесса Анна сидела в углу и обливалась слезами. Герцог Курляндский громко рыдал и метался по горнице без памяти. Но спустя минут пять, собравшись с силами, приказал он внесть декларацию касательно его регентства и прочитать пред всеми вслух. Почему когда генерал-прокурор князь Трубецкой с означенною декларациею подступил к ближайшей на столе стоявшей свече и все присутствующие за ним туда обратились, то герцог, увидя, что принц Брауншвейгский за стулом своей супруги стоял, там и остался, спросил его неукоснительно: не желает ли и он послушать последней воли императрицы? Принц, ни слова не вещав, пошел, где куча бояр стояла, и с спокойным духом слушал собственный свой, или паче супруги своей, приговор. После сего герцог прошел в свои покои, а принцесса купно с принцем опочивали в сию ночь у колыбели молодого императора». В этой зарисовке отразились и растерянность неискушенных в придворных интригах родителей императора, и сочетание «беспамятной скорби» с зорким контролем за действиями присутствующих со стороны Бирона. Кстати, сам он позднее писал, что был безутешен и весь день 18 октября даже не выходил из своих покоев…
Очередной тур борьбы за власть герцог выиграл. Согласно извлеченному из ларца с драгоценностями документу, до достижения императором 17 лет императрица назначала «регентом государя Эрнста Иоанна владеющего светлейшего герцога Курляндского, Лифляндского и Семигальского, которому во время бытия его регентом даем полную мочь и власть управлять на вышеозначенном основании все государственные дела, как внутренние, так и иностранные, и сверх того в какие бы с коею иностранною державою в пользу империи нашей договоры и обязательства вступил и заключил, и оные имеют быть в своей силе как бы от самого всероссийского самодержавного императора было учинено, так что по нас наследник должен оное свято и ненарушимо содержать».
Отец и мать императора в качестве лиц, обладающих властными полномочиями, в «Уставе» не фигурировали. Им отводилась почетная роль производителей «законных из того же супружества рожденных принцев», которые могли бы занять престол в случае смерти императора; не случайно Анна Леопольдовна возмутилась: «Меня держат только для родов!»
На потомство женского пола эти права не распространялись. Кроме того, если вдруг «вышеупомянутые наследники как великий князь Иоанн, так и братья его преставятся, не оставя после себя законнорожденных наследников, или предвидится иногда о ненадежном наследстве, тогда должен он регент для предостережения постоянного благополучия Российской империи, заблаговременно с кабинет-министрами и Сенатом и генералами фелтмаршалами и прочим генералитетом о установлении наследства крайнейшее попечение иметь, и по общему с ними согласию в Российскую империю сукцессора изобрать и утвердить».
Неопределенная формулировка («или предвидится иногда о ненадежном наследстве») давала регенту полномочия начать еще при жизни Ивана III или его братьев процедуру выборов «сукцессора», в том числе и не связанного с брауншвейгской фамилией. При этом регент обладал правом «вольно <…> о всяких награждениях и о всех прочих государственных делах и управлениях такие учреждения учинить, как он по его рассмотрению запотребно в пользу Российской империи изобретет», что давало ему достаточно широкие возможности в отношении Сената и генералитета.
«Устав» предусматривал возможность отказа регента от правления, если «такое регентское правление его любви герцогу Курляндскому натуральным образом не инако как тягостно и трудно быть может». В таком случае он устанавливал, «с согласия» Кабинета и Сената, новое правительство и мог отбыть в принадлежавшую ему Курляндию.[263]
Вслед за поздравлениями и присягой Бирон принял поднесенный ему титул «его высочество регент Российской империи Иоганн герцог Курляндский, Лифляндский и Семигальский». Итак, главное сражение было выиграно. В результате четко разработанной и осуществленной комбинации герцог получил практически неограниченную власть и «отодвинул» соперников в лице Анны Леопольдовны и ее мужа. Но проблема состояла в том, что теперь судьба трона уже зависела не только от воли самодержца и группы вельмож. Кажется, герцог все же чувствовал некоторое беспокойство, но оно скоро прошло: годы у трона убедили фаворита в своей «силе», и эта уверенность его не подвела. Оставалось спокойно править.
Но кое-что оказалось «за кадром» приведенного выше рассказа очевидца о торжестве нового властителя империи. «Старших капитанов» гвардейских полков во дворец потребовали уже 16 октября — то ли для увеличения количества подписей под бестужевской «декларацией», то ли для большей уверенности в их поведении. Если это верно, то можно себе представить, каким количеством «доброжелателей» был окружен герцог. Некоторые выражали свое мнение более открыто. Маркиз де Шетарди отметил явное недовольство сторонников отстраненных от власти родителей императора, шведский посол Нолькен сообщил о нежелании офицеров гвардии подписывать «декларацию» о назначении Бирона и даже якобы имевшем место отказе новгородского архиепископа от присяги.
Переход власти произошел спокойно. Приказы по гвардейским полкам назначили сбор у дворца на утро 18 октября; очевидно, до того момента присутствия солдат, помимо обычных караулов, не требовалось. В столице полицейские чины развешивали в людных местах — на рынках, у церквей, у почтового двора — свежеотпечатанные манифесты о начале нового царствования и «чрез барабан» объявляли обывателям о принесении присяги. Синод распорядился о новой форме «возношения» первых лиц в государстве, среди которых занял теперь свое место (правда, последнее, после «государыни цесаревны» Елизаветы) «его высочество регент Российской империи».
Последовали первые манифесты нового царствования. Один из них предписывал всем должностным лицам «во управлении всяких государственных дел поступать по регламентам и уставам и прочим определениям и учреждениям от благоверного и вечно достойные памяти государя императора Петра Великого <…> с чистой совестью, сердцем и радением».[264] Манифест обещал всем «равный и правый» суд, таким образом новый правитель не только объявлял себя преемником дел Петра, но стремился — или, по крайней мере, декларировал намерение — утвердить приоритет закона в сознании российских чиновников. Другое дело, что в самый разгар «эпохи дворцовых переворотов» это похвальное намерение едва ли было выполнимо.
Прочие «милостивые» указы сулили податным сословиям сбавку в уплате подушной подати на 17 копеек за текущий год, преступникам (кроме осужденных по «первым двум пунктам») — амнистию. Заступавшим на посты часовым во всех полках было разрешено носить шубы, дезертирам предоставлена отсрочка для добровольной явки, нерусское население Поволжья (татары, чуваши и мордва) избавлено от уплаты накопившихся недоимок. Один из именных указов Бирона утвердил (как делали все Романовы до и после 1740 года) жалованную грамоту с освобождением от налогов и рекрутчины потомков спасителя отечества в Смуту начала XVII столетия Козьмы Минина.[265]
Верный слуга Бестужев-Рюмин получил в награду 50 тысяч рублей. Бессильному сопернику Антону Ульриху был пожалован титул «высочества». Брауншвейгской чете назначалась ежегодная сумма в 200 тысяч рублей, а ничем не проявившей себя в октябрьские дни цесаревне Елизавете — 50 тысяч. Благодарные подчиненные хотели поднести регенту содержание в размере 600 тысяч рублей, но он благоразумно отказался. Правитель считал необходимой экономию средств подданных: со ссылкой на петровский указ о роскоши 1717 года он предписал «отныне вновь богатых с золотом и серебром платьев, такожде и других шелковых парчей или штофов дороже 4 рублев аршин никому себе не делать» и донашивать их до 1744 года, за приятным исключением «императорской фамилии и его высочества герцога регента».[266] Жена герцога как раз в это время заказала себе унизанное жемчугом платье; гардероб ее оценивался придворными знатоками в полмиллиона, а бриллианты — в два миллиона рублей.
Другие распоряжения Бирона огласке не предавались, однако дипломаты стали сообщать своим дворам о начавшихся в столице арестах. По доносам были арестованы поручики Преображенского полка Петр Ханыков и Михаил Аргамаков и сержант Иван Алфимов, решительно выступившие против новоиспеченного регентства, а вслед за ними — Другие офицеры и чиновники.
Ханыков прямо во дворце во время присяги пожаловался Алфимову: «Что де мы зделали, что государева отца и мать оставили: они, де, надеясь на нас, плачютца, а отдали де все государство какому человеку регенту, что де он за человек?» Поручик переживал, что солдаты «бранят нас, офицеров, тако ж и ундер офицеров, для чего того не зачинают», — и решил было сам «зачать»: «На Санкт-питербурхском острову учинили бы барабанным боем и гранодерскую б тревогу, свою роту привел к тому, чтоб вся та рота пошла с ним, Хоныковым, а к тому б де пристали и другие солдаты, и мы б де регента и сообщников ево Остермана, Бестужева, князь Никиту Трубецкова убрали».
Подобные сомнения — «не прискорбно ли будет» объявленное регентство принцессе Анне и ее мужу — приходили в голову и другим офицерам. Капитаны Семеновского полка Василий Чичерин и Никита Соковнин хоть и присягнули регенту, но даже «плакали о общей государственной печали». Не вполне трезвый Преображенский поручик Михаил Аргамаков тоже прослезился: «До чево мы дожили и какая наша жизнь? Лутче бы сам заколол себя, что мы допускаем».[267]
Гвардеец Ханыков и его друзья явно сочувствовали брауншвейгскому семейству. А отставной капитан Петр Калачев полагал иначе: «Пропала де наша Россия, чего ради государыня цесаревна российский престол не приняла». Капитан рассудил, что Елизавета есть «по линии» законная наследница, но при этом не отрицал и прав Анны Леопольдовны: последняя могла вступить в правление после Елизаветы, «а при ее императорском высочестве быть и государю императору Иоанну Антоновичу».[268]
Прошедшие дворцовые перевороты и вмешательство гвардейцев в «политику» сделали свое дело. Петр Великий должен был перевернуться в гробу: спустя 15 лет после его смерти в его «регулярной» империи уже не тайные советники и фельдмаршалы (как в 1725 и 1730 годах), а поручики и капитаны, хоть и со слезами, но всерьез полагали, что от них зависит, кому «отдать государство» и как «убрать» его первых лиц. Даже солдаты теперь выражали недовольство по поводу завещания царицы.
Ханыков и другие гвардейцы полагали, что регент собирался «немцев набрать и нас из полку вытеснить». После ареста Бирона попытки преобразовать гвардию («выключить» из нее дворян и заменить их «простыми людьми») были поставлены ему в вину — и, кажется, не совсем безосновательно. Бирон признался, что был «не надежен» на гвардию и особенно «боялся Преображенских», поскольку их полковым командиром являлся решительный и предприимчивый Миних. Герцог, видимо, уже интуитивно чувствовал, что прежде безотказный гвардейский механизм выходит из-под контроля, но ничего не предпринял — или не успел. Во всяком случае, полковые бумаги не содержат информации о каких-либо изменениях в комплектовании полков. Однако даже слухи о таких намерениях вызвали ропот; Миниху пришлось успокаивать гвардейцев объяснением, что новые части вызваны в столицу только для облегчения тягот их службы.[269]
И все же решиться на активные действия самим капитанам и поручикам было психологически нелегко — для нарушения присяги гвардейцы нуждались в авторитетных и чиновных лидерах. Но «большие люди» к концу аннинского царствования свои амбиции и «кураж» утратили. 18 октября перед присягой адъютант Семеновского полка Иван Путятин явился к своему полковому командиру принцу Антону, призывал его действовать и даже заявил (ложно, чтобы подбодрить юного подполковника), что некоторые сенаторы «ево сторону держат». От имени офицеров адъютант просил принца, чтобы он «малой знак дать им изволил, то бы де и сами те полки к присяге не пошли». Но Антон Ульрих не был способен ни к закулисной интриге, ни к смелому предприятию для устранения соперника и сдался: «Мне де нечева делать, для того, что на то ее императорского величества воля».
Другие вельможи оказались еще трусливее. Отставной подполковник и член Ревизион-коллегии Любим Пустошкин 22 октября обратился к генерал-прокурору Никите Трубецкому, находившемуся не у дел М. Г. Головкину и главе Кабинета князю А. М. Черкасскому. Первый даже не принял визитера, сославшись, «что у него рвота и понос»; второй уклонился от опасного предприятия: «Что вы смыслите, то и делайте. Однако ж ты меня не видал, а я от тебя сего не слыхал; а я от всех дел отрешен и еду в чужие край». А канцлер Черкасский сразу же кинулся во дворец и «сдал» своего посетителя Бестужеву и Ушакову, которые лично явились арестовывать Пустошкина. В результате осмелившиеся проявить свое недовольство новой формой правления угодили в Тайную канцелярию.
В застенок попали не только гвардейцы, но и штатские лица, в числе коих был секретарь Кабинета Андрей Яковлев. Выяснилось, что этот чиновник не только ознакомил брауншвейгскую семью с копиями секретных документов и утверждал их в мысли о подложности «Устава» о регентстве. Он лично пытался «зондировать» общественное мнение на предмет переворота, и, «надевая худой кафтан, хаживал он собою по ночам по прешпективной и по другим улицам, то слышал он, что в народе говорят о том с неудовольствием, а желают, чтоб государственное правительство было в руках у родителей его императорского величества».
В следственном деле перечислено 26 фамилий офицеров и чиновников, против некоторых сделаны отметки: «Пытан. Было 16 ударов». Для надзора же за самим главой розыскного ведомства (в застенок попал и собственный адъютант Ушакова И. Власьев) герцог распорядился дела «о непристойном и злодейственном рассуждении и толковании о нынешнем государственном правлении <…> исследовать и разыскивать обще с ним, генералом, генерал-прокурору и кавалеру князю Трубецкому».
23 октября Бирон в резкой форме потребовал объяснений у самого брауншвейгского принца: по показаниям арестованных, Антон Ульрих якобы хотел при смене караула стать во главе солдат и «арестовать всех министров». Сомневался отец императора и в подлинности завещания. Однако призванный вечером того же дня в собрание чинов первых четырех классов, он признался, что «замышлял восстание». Бирон в «Записке» не отказал себе в удовольствии выставить в карикатурном виде поведение соперника, якобы даже заявившего ему, что «кровопролитие должно произойти во всяком случае»; тем комичнее выглядела беспомощность и робость «заговорщика».
После суровых увещеваний Ушакова принц расплакался и «добровольно» согласился оставить все посты — подполковника Семеновского полка и полковника Брауншвейгского кирасирского полка. Просьба об отставке была составлена под диктовку Миниха. Сам же регент потребовал у собравшихся публичного подтверждения подлинности «Устава» о регентстве и пригрозил отставкой в случае признания собранием кандидатуры герцога Антона более предпочтительной в качестве правителя. Естественно, полномочия регента были признаны законными, и он — по просьбам присутствовавших — согласился остаться на своем посту.
Бирон не ограничился формальным подтверждением своих прав. 25 октября Шетарди сообщил в Париж, что «гвардия не пользуется доверием» и для охраны порядка в Петербург введены два армейских батальона и 200 драгун. Эти сведения не вполне понятны: в столице и ее окрестностях осенью 1740 года и так были расквартированы четыре полка (Невский, Копорский, Санкт-Петербургский и Ямбургский), а в приказах по гарнизонной канцелярии нет распоряжений о вводе в город дополнительных частей. Возможно, речь шла об усилении патрулей на улицах.
Однако выявленная оппозиция регенту не вышла за рамки разговоров, а принц Антон не был опасным противником. Да и следствие по делу арестованных офицеров не обнаружило настоящего заговора, и многие из обвиняемых отделались сравнительно легко. К 31 октября допросы были прекращены; некоторых подследственных (ротмистра А. Мурзина, капитан-поручика А. Колударова) просто выпустили, других (адъютантов А. Вельяминова и И. Власьева) освободили с надлежащим «репримандом». Графа М. Г. Головкина, к которому обращались арестованные офицеры, вообще избавили от допросов.[270]
Выяснилось, что среди недовольных регентством были и сторонники Елизаветы. Но поскольку принцесса вела себя примерно, то эти дела также закончились вполне безобидно: сожалевшего, что дочь Петра I от наследства «оставлена», капрала А. Хлопова отпустили без наказания, а отказавшегося присягать новой власти счетчика Максима Толстого сослали на службу в Оренбург, тогда как при Анне Иоанновне за подобное могли даже казнить. Не подтвердился донос Преображенского сержанта Д. Барановского, что якобы во дворце Елизаветы «состоялся указ под смертною казнью, чтоб нихто дому ее высочества всякого звания люди к состоявшимся первой и второй присягам не ходили», и оттуда были посланы «в Цесарию два курьера». Следствие выяснило, что такие слухи распространялись в среде мелкой придворной челяди; в итоге розыска «важности не показалось, явились токмо непристойные враки».[271]
Бирон в «Записке» вспоминал, что Миних докладывал ему о сношениях служащих двора цесаревны с французским послом и советовал упрятать ее в монастырь. В достоверности этого свидетельства герцога о своем заклятом «друге» можно бы усомниться; но к Елизавете в период своего регентства Бирон относился вполне доброжелательно и даже заплатил ее долги. Через несколько месяцев сама цесаревна рассказала Шетарди, что получила от регента 20 тысяч рублей сверх назначенного ей содержания. Не исключено, правда, что «милости» Бирона к дочери Петра I объяснялись не только ее лояльностью, но и планами самого регента. Шетарди стало известно, что герцог предлагал ей через духовника выйти замуж за своего сына Петра; дочь Гедвигу он планировал выдать за племянника Елизаветы, будущего Петра III, и даже получил от его отца Карла Фридриха согласие.
Сам же Бирон уже из ссылки напоминал императрице Елизавете Петровне, как после ареста его допрашивали о ночных беседах с цесаревной и якобы имевших место планах возведения на престол ее племянника, каковые инсинуации он, естественно, с негодованием отвергал: «Лучше все претерпеть, нежели душу свою вечно погубить»,[272] — что, можно предполагать, способствовало смягчению условий его ссылки. Зато по отношению к родителям императора регент не стеснялся. Герцог грозил Анне, что отошлет ее с мужем в Германию, а из Голштинии выпишет представителя другой линии династии. Он подтвердил это на следствии, хотя и оправдывался тем, что не допустил высылки Анны в «Мекленбургию», а о голштинском принце говорил исключительно из «осторожности». Что касается Антона Ульриха, то Бирон арестовал его адъютантов и выслал за границу камер-юнкера Шелиана. Впрочем, после объяснений 23 октября муж правительницы о какой-либо фронде уже не помышлял. На некоторое время он был посажен под домашний арест, но затем, по донесениям прусского и шведского послов, примирился с регентом. Бирон же сделал широкий жест — оплатил долги Антона Ульриха «обер-комиссару» Липману и купцу Ферману в размере 39 218 рублей.[273]
Некоторые меры предосторожности все же были им приняты. На следствии Бирон признал, что интересовался «общественным мнением» и приказал Бестужеву выяснить, «тихо ли в народе, и он сказывал, что все благополучно и тихо; да однажды приказывал о том проведать генерал маеору Албрехту, токмо он мне никаких ведомостей не сообщал». Регент «укрепил» Тайную канцелярию генерал-прокурором, и подпись Н. Ю. Трубецкого с 23 октября появлялась на ее документах. 26 октября указ за подписями членов Кабинета предписал московскому главнокомандующему С. А. Салтыкову «искусным образом осведомиться <…>, что в Москве между народом и прочими людьми о таком нынешнем определении (об указе о регентстве. —
29 октября Бирон назначил «главным по полиции» старого знакомого — князя Якова Шаховского; чиновника на этот раз ожидали чин действительного статского советника, чашка кофе на приеме у герцога и обещание поддержки: «Его высочество, встав с кресел и в знак своей ко мне милостивой доверенности дая мне свою руку, а другою указывая на двор, говорил, что он всегда в оную камеру без докладу входить и персонально с ним изъясняться позволяет. „Вы не бойтесь никого, — говорил он, — только поступайте честно и говорите со мною без всякой манности о всем справедливо; я вас не выдам и буду стараться ваши достоинства и заслуги к государству награждать, и в том будьте уверены“».
Новыми сенаторами стали родственник Остермана В. И. Стрешнев и И. И. Бахметев, сразу же назначенный обер-прокурором. Произошло еще несколько перестановок: А. Баскаков встал во главе Ревизион-коллегии, бригадир Я. Кропоткин — Судного приказа; в Юстиц— и Камер-коллегии были назначены новые вице-президенты — М. Раевский и Г. Кисловский. На уровне провинциальной администрации новый правитель успел только сменить архангельского губернатора А. Оболенского (его отправили в Смоленск) на П. Пушкина, а вице-губернатором в Уфе сделать бригадира П. Аксакова.
Герцог занимал свою должность слишком недолго, чтобы делать выводы о целенаправленном характере таких назначений. Однако к началу ноября он как будто почувствовал себя увереннее и стал больше внимания уделять текущим делам. В своих апартаментах Бирон устраивал совещания с сенаторами; 6 ноября вместе с Черкасским и Бестужевым-Рюминым он явился в Сенат, где «изволил слушать доклады» и накладывал на них резолюции по-русски: «Иоганн регент и герцог». Побывал он и в Адмиралтействе на закладке нового корабля. Бирон регулярно посещал заседания Кабинета (I, 3 и 5 ноября), происходившие в доме больного — по причине действительных приступов подагры — или же предчувствовавшего очередные потрясения Остермана. Герцог, видимо, считал, что милостей отпущено достаточно, и распорядился поднять (на 10 копеек за ведро) цену на водку в столице ради быстрейшего строительства «каменных кабаков». Похоже, он и вправду был уверен в своем положении — за ценами на «стратегические» товары в новой столице власти всегда следили пристально и повышать их не Дозволяли.
«Записная книга именных указов» 1740 года свидетельствует, что регент «изволил отказать» по многим поданным челобитным. Он не стал платить долги жены и дочери грузинского царя-эмигранта Вахтанга VI, не позволил выдать жалованье унтер-шталмейстеру Адаму Урлиху, запретил возвращать брата канцеляриста Антипа Нагибина из оренбургской ссылки. Бывший гвардеец полковник Петр Мелыунов и чиновник Иван Неелов не дождались нового ранга, полковник Василий Сабуров — отставки, а бедный священник из захудалого прихода села Нудокши Рязанской епархии — материальной помощи на строительство новой церкви.
2 ноября герцог потребовал подать ему сведения о численности полевой армии и гарнизонов. На следующий день он по докладу генерал-прокурора определил к местам сразу 35 прокуроров. 7 ноября вышел последний указ Бирона, назначивший очередной рекрутский набор в 30 тысяч человек.[275]
Регент утверждал, что любовь подданных к нему такова, что он «спокойно может ложиться спать среди бурлаков».[276] Знал ли Бирон, кто такие бурлаки, неизвестно; но его уверенность в прочности своего положения разделялась приближенным к правителю английским послом. «Все здешние офицеры и полки гвардии за него, а также большая часть армии. Губернаторы большинства провинций его креатуры и вполне ему преданы», — докладывал Финч в Лондон в ноябре 1740 года. Трех гвардейских майоров (И. Гампфа, П. Черкасского и Н. Стрешнева) Бирон произвел в генерал-майоры. Вот только подполковники и майоры теперь не могли, как прежде, полагаться на безусловное повиновение гвардейцев.
Еще меньше у нас данных о внешнеполитическом курсе регента. Естественно, в европейские столицы немедленно полетели указания послам объявить о кончине Анны Иоанновны, начале нового правления и сохранении прежних добрососедских отношений. Бирон лично подписывал рескрипты послам, предписывавшие им обеспечить публикации в иностранных газетах «милостивых» манифестов нового царствования, опровергать «противные слухи» и информировать заграничных коллег о том, что новый порядок правления «с радостью принят» в самой России. В одном из таких рескриптов Бирон ставил Кейзерлингу задачу изловить автора «известной безчестной книги, именуемой „Московские письма“», — итальянского ученого и публициста Франческо Локателли.
Единственной новацией оказался обмен «декларациями» (российская была утверждена покойной императрицей еще в начале 1740 года, но отослана только в ноябре) с саксонским курфюрстом Августом III. Этот документ с обязательством России «негоциациями и сильно» поддержать «права саксонского дома о аустрийском наследстве» был направлен против старого союзника — Австрии. Являлся ли этот шаг «местью» за позорный мир «цесарцев» с турками, лишивший Россию результатов ее побед, или был частью более глубокой смены курса, сказать сейчас трудно. Во всяком случае, на следствии Бирон не отрицал своего участия в этом деле, но объяснял его исключительно старанием «при намеренном иногда проходе российского войска чрез Польшу, оный двор тем удобрить и к себе приласкивать». Тем не менее правительство принцессы Анны официально отреклось от «декларации», поскольку она была сделана герцогом «без приглашения нашего министерства».[277]
В отличие от Финча, не столь близкие к регенту дипломаты при петербургском дворе оценивали положение Бирона более критично; прусский посол прямо предсказал, что герцога низвергнут те же, кто привел его к власти. Русский посол в Париже Антиох Кантемир отправил Бирону с оказией поздравления, но просил, чтобы адресат его письма передал их герцогу только в случае, «если духовная покойной государыни останется во всей своей силе, иначе же немедленно сжечь его», — и оказался прав: письмо добралось в Россию уже после свержения регента. Французский министр Амело предупреждал своего посла в России, что главную опасность для Бирона представляет его правая рука — Миних. Но прогноз Амело опоздал: фельдмаршал успешно осуществил свое намерение.
Крайне честолюбивый Миних рассчитывал на одно из первых мест в государстве; но ни новых постов, ни ожидавшегося звания генералиссимуса он от регента не получил. Шведский дипломат отметил, что после ссоры Бирона с Минихом по поводу оказания последнему почестей со стороны гвардейских караулов фельдмаршал стал появляться при дворе Елизаветы. Если допустить, что эти контакты были не случайны, то не исключено, что фельдмаршал считал возможным использовать имя цесаревны в предстоявшей акции. Но он все же предпочел выступить от имени матери императора.
Постаравшиеся узнать подробности нового переворота дипломаты установили, что 7-го или утром 8 ноября 1740 года Миних беседовал с Анной Леопольдовной и после жалоб принцессы на регента обещал ей свою помощь. Сам Миних утверждал в мемуарах, что Анна поручила ему арестовать герцога. Сын Миниха и его адъютант Манштейн указывали, что фельдмаршал взял на себя инициативу и сам предложил арестовать регента. Накануне акции Миних присутствовал на обеде у Бирона, который был в подавленном настроении и даже зачем-то спросил фельдмаршала (по данным Финча, это сделал присутствовавший вместе с принцем Антоном обер-гофмаршал Левенвольде): «Не предпринимал ли он во время походов каких-нибудь важных дел ночью?» — на что Миних, не смутившись, ответил: «Не помню, чтобы случалось предпринимать что-нибудь необыкновенное ночью, но мое правило было пользоваться всеми обстоятельствами, когда они окажутся благоприятными».[278]
После обеда между 22 и 23 часами Миних, вернувшись к себе, начал действовать. Вдвоем с адъютантом он отправился в Зимний дворец и вошел прямо в покои принцессы. Анна Леопольдовна вышла к посетителям, но ехать вместе с фельдмаршалом отказалась. Поскольку санкция со стороны матери императора была необходима, то Манштейн привел в комнаты принцессы караульных офицеров. Анна допустила их к руке, поручила исполнять все распоряжения Миниха в отношении регента и объявила, что «их верность без награждения оставлена не будет». После этого напутствия фельдмаршал с 30 солдатами (по Миниху-младшему) или с 80 (по мемуарам Манштейна) отправился прямо к Летнему дворцу — резиденции Бирона.
Первое профессиональное описание последовавшего дворцового переворота сделал один из главных участников события — Манштейн. Именно ему Миних приказал стать во главе отряда преображенцев, «войти во дворец, арестовать герцога и, в случае малейшего сопротивления с его стороны, убить его без пощады. Манштейн вошел и во избежание слишком большого шума велел отряду следовать за собою издали; все часовые пропустили его без малейшего сопротивления, так как все солдаты, зная его, полагали, что он мог быть послан к герцогу по какому-нибудь важному делу… Чтобы избежать шума и не возбудить никакого подозрения, он не хотел также ни у кого спросить дорогу, хотя встретил нескольких слуг, дежуривших в прихожих; после минутного колебания он решил идти дальше по комнатам, в надежде, что найдет, наконец, то, чего ищет. Действительно, пройдя еще две комнаты, он очутился перед дверью, запертою на ключ; к счастью для него, она была двустворчатая и слуги забыли задвинуть верхние и нижние задвижки; таким образом он мог открыть ее без особенного труда. Там он нашел большую кровать, на которой глубоким сном спали герцог и его супруга, не проснувшиеся даже при шуме растворившейся двери.
Манштейн, подойдя к кровати, отдернул занавесы и сказал, что имеет дело до регента; тогда оба внезапно проснулись и начали кричать изо всей мочи, не сомневаясь, что он явился к ним с недобрым известием. Манштейн очутился с той стороны, где лежала герцогиня, поэтому регент соскочил с кровати, очевидно, с намерением спрятаться под нею; но тот поспешно обежал кровать и бросился на него, сжав его как можно крепче обеими руками до тех пор, пока не явились гвардейцы. Герцог, став, наконец, на ноги и желая освободиться от этих людей, сыпал удары кулаком вправо и влево; солдаты отвечали ему сильными ударами прикладом, снова повалили его на землю, вложили в рот платок, связали ему руки шарфом одного офицера и снесли его голого до гауптвахты, где его накрыли солдатскою шинелью и положили в ожидавшую его тут карету фельдмаршала. Рядом с ним посадили офицера и повезли его в Зимний дворец».
Затем Манштейн арестовал младшего брата регента, подполковника Измайловского полка Густава Бирона. Схвачен был и другой приближенный к Бирону человек — Бестужев-Рюмин. Главные события бескровного переворота произошли между тремя и четырьмя часами ночи. Расчет Миниха оказался верен: на караулах в Зимнем и Летнем дворцах стояли солдаты и офицеры его Преображенского полка, и далее откладывать акцию было нельзя, так как с 9 ноября на караулы должны были заступить солдаты других полков. Солдаты и офицеры «новых» гвардейских полков в эту ночь во дворцах не дежурили.
Операция прошла успешно, хотя и с некоторым риском. Хорошо знавший своего шефа Манштейн отметил, что «гораздо легче было бы арестовать герцога среди бела дня, так как он часто посещал принцессу Анну в сопровождении только одного лица <…>. Но фельдмаршал, любивший, чтобы все его предприятия совершались с некоторым блеском, избрал самые затруднительные средства». Расчеты регента — если они имелись — на «нейтрализацию» гвардии силами армейских частей не оправдались. И в 1740 году, и позднее полки гарнизона не пытались вмешаться в происходившие вокруг дворца события. Это можно объяснить тем, что расквартированные в столице части были мало боеспособными. Их офицеры и солдаты ежедневно командировались на различные работы: шить мундиры и сапоги; «бить сваи» на строительстве; исполнять различные поручения в «главной артиллерии», на пороховых заводах, в провиантской и фортификационной канцеляриях и т. д., вплоть до уборки петербургских улиц. Армейцы узнали о совершившемся перевороте только на следующий день 9 ноября, когда Миних велел объявить о произошедших событиях собравшимся утром «при своих квартирах» полкам.
К пяти часам утра все было кончено; Преображенский полк получил указание собраться у «зимнего дома», куда уже съезжались чиновники, и среди них — как всегда в подобных случаях — выздоровевший Остерман. Были посланы курьеры с распоряжениями об аресте верных Бирону людей: его старшего брата Карла Бирона — московского коменданта и свояка — лифляндского вице-губернатора генерала Бисмарка. Высшие чины империи так же, как недавно чествовали Бирона, теперь «утрудили» принцессу просьбой принять правление с титулом «великой княгини Российской». Вслед за поздравлениями последовало принесение присяги новой правительнице — уже третьей за месяц.
К вечеру того же дня после совещания правительницы с Минихом и Остерманом Бестужева-Рюмина послали в Ивангород, а Бирон с семьей был отправлен из Зимнего дворца сначала в Александро-Невскую лавру, а наутро 9 ноября перевезен в Шлиссельбургскую крепость. Памятником внезапно оборвавшегося регентства осталась незаконченная гравюра художника Ивана Соколова, где правитель горделиво позировал в парадных доспехах и с короной родной Курляндии.[279]
Новыми властителями стали «государыня правительница великая княгиня Анна всея России и супруг ее благородный государь Антон герцог Брауншвейг-Люнебургский». Был опубликован манифест от лица младенца-императора, не вошедший в Полное собрание законов, из которого следовало, что бывший регент «дерзнул не токмо многие противные государственным правам поступки чинить, но и к любезнейшим нашим родителям великое непочитание и презрение публично оказывать и притом с употреблением непристойных угроз, и такие дальновидные и опасные намерения объявить дерзнул, которыми не только любезнейшие родители наши, но и мы сами, и покой и благополучие империи нашей в опасное состояние приведены быть могли бы. И потому принуждены себя нашли по усердному желанию и прошению всех наших верных подданных духовного и мирского чина оного герцога от регентства отрешить и по тому же прошению всех наших верных подданных оное правительство поручить нашей государыне-матери».[280]
Таким образом, первый в отечественной истории «классический» дворцовый переворот, совершенный группой солдат и офицеров под командой предприимчивого генерала, получил официальное обоснование. Из него следовало, что законная власть может быть свергнута силой без сколько-нибудь серьезных доказательств ее вины. Поводом для таких действий являлось еще только предполагаемое нарушение «благополучия» империи и состоявшееся «прошение всех наших верных подданных». Последняя, весьма расплывчатая, формула фактически снижала сакральный характер царской власти и ставила ее в зависимость от тех сил, которые выступали в качестве выразителей общественного мнения. Не случайно такое объяснение стало в дальнейшем непременным условием публичного оправдания каждой последующей «революции».
Однако что могли означать «опасные намерения» свергнутого регента? Выше уже говорилось об угрозах герцога выслать родителей императора за границу и планах Иоанна Антоновича «с престола свергнуть, а его королевское величество, принца Голштинского, на оный возвесть». Но никаких действий в этом направлении Бирон не предпринимал. Скорее всего, подобные угрозы являлись лишь мерой «воспитательного» характера в отношении родителей царя. К тому же Антон Ульрих отказался от борьбы и примирился со своим положением настолько, что ни Миних, ни Анна даже не сочли нужным посвятить его в свои планы: о свержении Бирона принц узнал едва ли не последним.
Сомнительной представляется и содержащаяся в сочинении Манштейна версия о «превентивном» характере переворота, поскольку Бирон уже якобы собрался нанести удар первым и арестовать Миниха, Остермана, Головкина; она явно появилась позднее, уже для оправдания переворота. Ни отец, ни сын Минихи не сочли возможным указать на подобное обстоятельство в качестве причины ареста регента.
В случае же осуществления «голштинского варианта» будущее старшей линии династии и самого Ивана III действительно представляется сомнительным, хотя здесь далеко не все зависело от Бирона. Подобные планы были еще более опасными для их инициатора. Чтобы устранить законного императора, нужно было обладать поддержкой сплоченной и влиятельной группы в правящем кругу. Бирон и так резко вырвался из своей среды, такого успеха не прощавшей. Те, кто смиренно сгибался перед очередным фаворитом, не воспринимали в качестве владыки не только выскочку Меншикова, но даже Рюриковичей Долгоруковых. Вокруг такой фигуры образовывался вакуум устойчивых патрональных, служебных и личных отношений, несмотря на внешнее преклонение. Бирон же, умело осуществивший операцию по возведению себя в регенты, как будто этого не понял и успокоился: трусливых вельмож он не опасался, а исходившую от гвардии угрозу должным образом не оценил.
Поэтому дворцовый переворот и прошел так легко, тем более что Миних воспользовался уже явно обнаружившейся готовностью гвардейцев убрать непопулярную фигуру. Но пройдет совсем немного времени — и гвардия уже не будет искать себе авторитетного генерала в качестве вождя.
Современному исследователю было бы интересно ощутить атмосферу той эпохи, в которой созревали и осуществлялись заговоры, узнать, какими в действительности были политические симпатии не только узкого круга придворных, а в среде офицеров, чиновников да и просто городских обывателей; но пока такой картины у нас нет. Большинство подданных, рассеянных на огромном пространстве империи, плохо представляли себе ход событий в столице.
Впрочем, многие слышали о смерти государыни. К примеру, в октябре 1740 года крепостные князя Мышецкого в избе обсуждали текущие политические новости — кому быть царем после «земного бога Анны Иоанновны». Когда прозвучало имя Елизаветы, то хозяин, Филат Наумов, лежа на печи, «отвел» ее кандидатуру: недостойна, поскольку «слыхал он, что она выблядок».[281] Кратковременное регентство Бирона не оставило даже таких специфических источников отражения общественного мнения, как дела Тайной канцелярии. Правда, в мае 1741 года крепостной Евтифей Тимофеев все-таки попал в розыск из подмосковной деревни за передачу слухов о политических новостях: «У нас слышно, что есть указы о том: герцога в ссылку сослали, а государя в стену заклали», — но при этом решительно не мог пояснить, о каком герцоге идет речь.
«Шляхетство» лучше представляло себе столичные события. Дело 1745 года по доносу на капитана Измайловского полка Г. Палембаха показывает, что в новых полках гвардии у регента были сторонники. Но вот среди каких событий упоминается свержение Бирона в редком для первой половины столетия документе — дневнике отставного семеновского поручика А. Благого: «Воскресение морозец. Регента Бирона збросили. Крестьяня женились Ивонин внук. В 741 году в 34 побор Василей Марков в рекруты взят». Столь же бесстрастно фиксирует дворцовый переворот «записная книга» столичного жителя — подштурмана И. М. Грязнова: «Ноября 8 вышеобъявленной регент Бирон в ночи взят под караул фелтмаршелом Минихом и сослан в ссылку».[282] Свидетель многих «революций» князь Никита Трубецкой в кратком повествовании о своей жизни не упоминал о падении Бирона даже тогда, когда сообщал о собственной «командировке» для описания имущества свергнутого регента.
Современники «дворских бурь» оставляли о них скупые, бесстрастные свидетельства, будто воспринимали их как далекие от их повседневных дел события. Или авторы даже наедине с собой не считали возможным дать более эмоциональную оценку? Отзывам же иностранных дипломатов следует доверять с осторожностью: они в значительной степени зависели от политической ориентации послов и складывавшихся у них в российской столице отношений, не говоря уже о кругозоре самих информаторов (например, в донесениях Шетарди под «народом» очень часто подразумевался придворный круг).
Среди сочувствовавших регенту был английский посол Финч: он рекомендовал своему правительству как можно скорее признать титул нового правителя и не раз указывал на его «доброе отношение» к интересам Англии. Посол считал нужным отметить, что он всячески искал расположения Бирона и пользовался им. Успехи Финча вызывали неодобрение дипломатического корпуса: его французский, шведский и прусский собратья не удостоились внимания регента, а австрийского резидента он даже отказался принять.
В свете этих обстоятельств английский посол видел вокруг «общее успокоение» при объявлении регентства и лишь мельком упоминал про начавшиеся аресты. Финч был уверен, что новая власть установилась прочно и противиться ей никто не решится, тем более что герцога «вообще любят, так как он оказывал добро множеству лиц, зло же от него видели очень немногие». Но правление любимого подданными регента завершилось всего через три недели, и британский дипломат невозмутимо докладывал: «Переворот произошел со спокойствием, которому возможно приравнять разве общую радость, им вызванную». В дальнейшем судьба опального уже его не интересовала — возможно, потому, что падение герцога никак не отразилось на процессе подготовки и заключения союзного договора с Россией в апреле 1741 года.
Зато не симпатизировавшие новому правителю дипломаты сразу стали прогнозировать беспорядки, их донесения сообщали о «брожении среди народа» и репрессиях против недовольных. В сообщениях послов Франции, Швеции и Пруссии осенью 1740 года критическая информация в адрес регента явно преобладает по сравнению с оптимистическими реляциями Финча; но насколько она, в свою очередь, отражает действительные настроения столичного общества той поры?
Предсказанный переворот произошел — но, по-видимому, явился достаточно неожиданным: Шетарди, например, приписал его успех прежде всего руководству Остермана. При описании события дипломатов интересовали главным образом «технология» и действия ключевых фигур заговора, а не реакция окружающих. Однако Шетарди счел нужным отметить поведение гвардии: «Как в тот момент, когда герцог Курляндский был провозглашен регентом, они выразили своим молчанием и сдержанностью чувство уныния и скорбного удивления, так теперь они изъявили свою радость и удовольствие несмолкаемым криком и непрерывным подбрасыванием шапок на воздух».
Из отечественных источников, пожалуй, только мемуары князя Я. П. Шаховского передают нам картину «смятения» чиновной публики сразу после переворота, удачно дополняющую деловой рассказ Манштейна. Возможно, впечатления Шаховского были ярче, чем у других очевидцев: при поддержке Бирона он стал действительным статским советником, «главным по полиции» — и несколько дней спустя был поражен неожиданным известием о свержении герцога. Поспешив во дворец, он застал там столпотворение и неразбериху: «Как начала, так и окончания, кто был в таком великом и редком деле начинателем и кто производитель и исполнитель, не зная, не мог себе в мысль вообразить, куда мне далее идти и как и к кому пристать. Чего ради следовал за другими, спешно меня обегающими. Но большею частью гвардии офицеры с унтер-офицерами и солдатами, толпами смешиваясь, смело в веселых видах и не уступая никому места ходили, почему я вообразить мог, что сии-то были производители оного дела. Один из моих знакомых, гвардии офицер, с радостным восторгом ухватил меня за руку и начал поздравлять с новою нашею правительницею и, приметя, что я сие приемлю как человек, ничего того не знающий, кратко мне об оном происшествии рассказывал и проговорил, чтоб я, нимало не останавливаясь, протеснился в церковь, там-де принцесса, и все знатные господа учинили ей уже в верности присягу, и видите ль, что все прочие то же исполнить туда спешат. Сие его обстоятельное уведомление, во-первых, поразило мысль мою, и я сам себе сказал: „Вот теперь регентова ко мне отменно пред прочими милостивая склонность сделает мне, похоже, как и после Волынского, толчок; но чтоб только не худшим окончилось. Всевидящий, защити меня!“ В том размышлении дошел я близ дверей церковных; тут уже от тесноты продраться в церковь скоро не мог и увидел многих моих знакомых, в разных масках являющихся. Одни носят листы бумаги и кричат: „Изволите, истинные дети отечества, в верности нашей всемилостивейшей правительнице подписываться и идти в церковь в том евангелие и крест целовать“, другие, протеснясь к тем по два и по три человека, каждый только спешит, жадно спрашивая один другого, как и что писать, и, вырывая один у другого чернильницу и перья, подписывались и теснились войти в церковь присягать и поклониться стоящей там правительнице в окружности знатных и доверенных господ».
Шаховской вслед за прочими поспешил заверить новую власть в своей преданности. Но он оказался прав в своих опасениях: «Некоторые из тех господ, кои в том деле послужить усчастливились, весьма презорные взгляды мне оказали, а другие с язвительными усмешками спрашивали, каков я в своем здоровье и все ль благополучен. Некоторые ж из наших площадных звонарей неподалеку за спиною моею рассказывали о моем у регента случае и что я был его любимец. С такими-то глазам и ушам моим поражениями, не имея ни от правительницы, ниже от ее министров, уже во многие вновь доверенности вступивших, никаких приветствий, ниже по моей должности каких повелений, с прискорбными воображениями почти весь день таскавшись во дворце между людьми, поехал в дом свой в смятении моего духа».[283]
С легкой руки С. М. Соловьева историки видели причину таких выступлений в патриотическом возмущении хозяйничаньем иноземца: «Какими глазами православный русский мог теперь смотреть на торжествующего раскольника! Россия была подарена безнравственному и бездарному иноземцу как цена позорной связи! Этого переносить было нельзя». Однако в картине, врезавшейся в память Шаховского патриотического подъема от свержения «немца» не заметно. В его рассказе бросаются в глаза прежде всего лихорадочная суета больших и малых чинов, их желание поскорей «отметиться», заявить о своей готовности служить новым правителям. Нет ни радости от перемены, ни огорчения за чью-то судьбу — скорее преобладают страх и беззащитность перед более удачливыми «господами», которые в одну минуту могут выставить других из круга избранных.
Сообщения дипломатов и рассказ Шаховского передают и другую характерную черту события: уверенное поведение солдат и офицеров гвардейских полков на фоне всеобщей растерянности. Но и в этой среде «антинемецких» настроении не видно: допросы арестованных при Бироне показывают, что его национальность и нравственность мало интересовали гвардейцев. Офицеры да и рядовые солдаты искренне желали передать власть «государевым отцу и матери» — таким же иноземцам, как сам регент, только, пожалуй, еще менее способным управлять страной.
Патриотические чувства сторонников Елизаветы были вызваны не столько неприятием иностранцев, сколько собственными интересами. К примеру, упомянутый капитан Калачев не получил никакого удовлетворения на жалобу «о своей обиде, что полковник де Григорий Иванович Орлов (отец гораздо более знаменитых впоследствии братьев Орловых. —
«Иноземство» поверженного правителя не ставилось ему в вину в официальных сообщениях о перевороте, и Ломоносов в оде на день рождения императора Иоанна Антоновича осуждал бывшего правителя только за непомерное честолюбие:
Проклята гордость, злоба, дерзость
В чюдовище одно срослись;
Высоко имя скрыла мерзость,
Слепой талант пустил взнестись!
Велит себя в неволю славить,
Престол себе над звезды ставить.
Превысить хочет вышню власть.[284]
Сохранившиеся свидетельства современников как будто не дают нам оснований однозначно говорить о широком недовольстве правлением Бирона даже в столичной среде. Язвительные стихи неведомого автора на свержение правителя изображают его в облике зарвавшейся «скотины», но не касаются его происхождения:
Пробу видим мы теперь над регентом строгим, Видим оного быком, но уже безрогим. Бывший златорогий преж, тот стал ныне голой, А бодливой наш регент ныне бык камолой.
Пожалуй, можно даже сказать, что сравнение с гордым быком не слишком обидно для регента. Да и едва ли он на деле был худшим правителем, чем многие из окружения Анны Иоанновны. Центром оппозиции явилась именно гвардия — ее «старые» полки, права и привилегии которых были затронуты образованием новых и особо покровительствуемых властью частей. К 1740 году гвардия уже начала осознавать себя правящей силой, какой она на самом деле являлась в качестве «школы кадров» петровской и послепетровской армии и администрации. За прошедшее время она постепенно превратилась из универсального политического инструмента в институт, который уже мог заявить о своих правах и интересах.
Правда, гвардейцы образца 1740 года не пытались составлять политические «прожекты» и едва ли о таковых помышляли. Зато как только на время ослаб довольно жесткий контроль над полками, гвардейские солдаты стали жаловаться на бездействие офицерам; капитаны и поручики, в свою очередь, почти открыто искали себе предводителя, чтобы силой «исправить» завещание скончавшейся императрицы.
Но российские «верхи» к концу царствования Анны являли собой неприглядный образец взаимных склок. Чего стоили глава Кабинета князь Черкасский, трусливо донесший на доверившихся ему офицеров, или боевой генерал и отец императора герцог Антон, отказавшийся от встречи с офицерами своего полка, а затем — и от своего мундира. На этом фоне честолюбивый и решительный фельдмаршал Миних уже казался настоящим вождем.
Как только лидер объявился, произошел дворцовый переворот в сугубо гвардейском исполнении. В 1727 году император Петр II сместил Меншикова, своего нареченного тестя — но всего лишь подданного. В 1730 году императрица Анна вернула себе по просьбе подданных самодержавную власть, утраченную в ходе государственного переворота. В 1740 году глава армии сверг законного регента Бирона уже без какой-либо формальной санкции верховной власти: благословение матери императора оставалось просьбой частного лица, не подкрепленной ни официальным документом, ни присягой. Но власть была возвращена более «законным», с точки зрения гвардии, ее носителям — родителям императора.
Однако легкость, с какой был совершен переворот, имела и оборотную сторону — нарушение только что принесенной присяги дало нарушителям славу и материальные выгоды. Гвардейские солдаты или сержанты, перед которыми заискивал фельдмаршал, уверяя: «Кого хотите государем, тот и быть может», — должны были чувствовать себя хозяевами положения.
За кулисами официальных торжеств начался дележ имущества поверженного противника. Семейство герцога на собственной шкуре испытало унизительную процедуру конфискации ценностей. «И после того за час он у нас в карманах обыскивал, и взял у меньшего моего сына кошелек с червонцами, а у дочери моей взял он ключи ее, а у меня взял он печать мою, а у мужа моего взял он червонцы, которые у него еще в кармане были, а не ведаю, сколько; на столе моем нашел он кошелек тканой, которой я в Питербурге к себе положила, и в оном были три золотые медали, которые нам всемилостивейше были пожалованы во время мирного торжества, золотая табакерка, золотые мои репетирные часы с камушками, которые он себе взял, серебряной мой уборной столик он тако ж взял себе», — описывала Бенигна Бирон хозяйничанье гвардейцев в ее дворцовых покоях.
11 ноября Кабинет послал указ лифляндскому генерал-губернатору П. П. Ласси о необходимости охраны имений Бирона: у регента оказалось 120 «амптов и мыз» с ежегодным доходом в 78 720 талеров.[285] В тот же день вчерашний подозреваемый в оппозиции Бирону капитан В. Чичерин и асессор Тайной канцелярии Хрущов получили указание составить опись конфискованного имущества Бирона, а на следующий день сам Манштейн изъял его бумаги.
«Дело» герцога включает огромный список конфискованного имущества. Из «бывшего дома бывшего Бирона» вывозились огромная французская дубовая кровать герцога и прочая мебель — столы, кресла, зеркала. В горе посуды особо выделялся отдельно хранившийся золотой сервиз и несколько серебряных, одним из которых семейство опального продолжало пользоваться в Шлиссельбурге. Герцог был явно неравнодушен к фарфору и другим китайским редкостям — среди них имелись «53 штуки медных больших и малых китайских фигур». Его покои украшала живопись, которую в ту пору еще не научились ценить: «присяжные ценовщики объявили, что оной цены показать не могут для того, что такими вещами не торгуют и художества живописного не знают».
В баулы, чемоданы и сундуки укладывали гардероб, в том числе ценнейшие меха горностая и соболя («пупчатые» и «из шеек собольих»), парадные, обычные и маскарадные костюмы, камзолы, шляпы, перчатки. Будучи законодателем мод, герцог хранил запас разнообразных дорогих тканей («штуки» камки, бархата, штофа, атласа, тафты), лент и десятки аршин драгоценного позумента. Фаворит тщательно заботился о внешности — среди его вещей почетное место занимали многочисленные туалетные принадлежности: изысканные столики, наборы ножниц, щеточек, гребенок, зеркал; герцогские зубочистки были из чистого золота.
Сразу же после ареста Бирона все строительные работы в Курляндии были прекращены, рабочие и мастеровые отозваны в Петербург. Туда же прибывали барки с добром из герцогских владений: вывозилась обстановка недостроенных дворцов в Митаве и Рундале — мебель, паркетные полы, посуда, запасы рейнских, португальских и венгерских вин. Из имений герцога доставляли голландских коров и более двух сотен лошадей с Вирцавского и других заводов. Вместе с художественными ценностями привезли прибывшего по приглашению Бирона венецианского художника «грека Николая Папафила».[286]
По сравнению с имуществом герцога конфискованные «пожитки» его братьев кажутся весьма скромными — они представляли собой типичный набор холостяков-военных: винный погреб с бутылками венгерского и бургундского, разнообразное огнестрельное и холодное оружие, седла и прочая конская упряжь, мундиры, курительные трубки, походные принадлежности. Густав тянулся вслед за братом-фаворитом — в его гардеробе было много дорогой одежды, а на конюшне стояли 44 лошади, верблюд. Бравый гвардеец хранил православные иконы в память умершей любимой жены, а у грубого вояки Карла среди амуниции имелось «кольцо золотое с волосами» — надо полагать, свидетельство юношеского романтического увлечения.
Конфискованные «бироновские пожитки» прибывали в Петербург из его имений и дворцов вплоть до 1762 года. Они интенсивно раздавались; императрица Елизавета, к примеру, отобрала для себя и своих придворных несколько сундуков с наиболее красивыми вещами — всего на 7598 рублей, два комода, две дюжины стульев, два стола. В свои московские дворцы она отправила 48 зеркал, семь комодов, люстры, подсвечники-бра и прочую мебель. Бывшие вещи герцога (шелковые обои, часы и фарфор) украшали обстановку Коллегии иностранных дел и посольских резиденций. Восточные ткани и собольи меха Бирона преподнесли в качестве подарка невесте наследника престола — будущей Екатерине II. Но даже спустя двадцать лет конфискованное добро еще имелось в столь значительном количестве, что им интересовались придворные, а самому вернувшемуся из ссылки хозяину было что возвращать.
Сразу же объявились просители «разных чинов» с имущественными претензиями к вчерашнему всесильному временщику. Василий Тредиаковский жаловался на невыдачу ему возмещения за публичные оскорбления со стороны казненного Волынского. «Изнурившемуся на лечение» придворному поэту пожаловали за побои 720 рублей — сумму, Вдвое превосходившую его годовое жалованье. Иск к Бирону предъявили Академия наук за взятые им бесплатно книги (на 89 рублей) и отдельно профессор Крафт, который «поданным своим доношением представлял, что он трех бывшего герцога Курляндского детей несколько лет математике учил, и за сей труд свой от бывшего герцога на всякой год по сту рублев получал, а за прошлый 1740 год ничего ему не выдано».
Курляндец, как и полагалось настоящему вельможе, расплачиваться не спешил: сохранились списки его долгов мяснику, свечнику, башмачнику, парикмахеру, портному, часовщику, столярам, придворному гайдуку, какому-то «турке» Исмаилу Исакову — всего на 13 289 рублей, включая 1099 рублей долга собственному камердинеру Фабиану и 13 рублей 19 копеек — крестьянину Агафону Добрынину за петрушку и лук. На широкую ногу жил и брат фаворита Густав — только «по крепостям и векселям» на нем имелось 7588 рублей, да еще пяти кредиторам он был должен 8644 рубля, не считая тех претензий, на которые «явного свидетельства никаково не имеетца». В то же время герцог располагал наличностью почти в 100 тысяч червонных, которые были отправлены в Монетную канцелярию.[287]
Правительница Анна Леопольдовна заинтересовалась только драгоценностями семьи Бирона. По свидетельству придворного ювелира, она срочно заказала их переделку. Любимой подруге Юлиане Менгден новая правительница пожаловала четыре кафтана Бирона да три кафтана его сына Петра, из позументов которых бережливая фрейлина «выжигала» серебро.
Герцог Антон оказался скромнее — или не так любил лошадей, как Бирон: он отказался от конюшни регента, переданной поэтому для продажи всем желающим. «По именному его императорского величества указу определено бывшего герцога Курляндского и Густава Бирона остающихся за разбором излишних и к заводам годных лошадей велено с публичного торгу продать, а продажа оным начнется сего декабря с 29 числа, и в субботу с десятого пополуночи до второго часа пополудни; и ежели кто из оных лошадей купить себе пожелает, те бы по означенным дням и в объявленные часы являлись на конюшенном его императорского величества дворе», — оповещало об этой распродаже газетное объявление. Внесенные в конфискационную опись звучные имена герцогских кобылиц — Нерона, Нептуна, Лилия, Эперна, Сперанция, Аморета — как будто подтверждают расхожее мнение, что к лошадям Бирон относился с большим расположением, чем к людям.
Фельдмаршал Миних никогда застенчивостью не отличался: за «отечеству ревностные и знатные службы» он получил 100 тысяч рублей, дом арестованного Бисмарка (дом Густава Бирона был отдан Миниху-младшему) и серебряный сервиз герцога весом в 36 килограммов. Позднее фельдмаршал «принял» владения Бирона в Силезии.
Необходимо было подумать также о закреплении победы. Милостей ожидали не только сановники, но и более широкий круг лиц, в том числе непосредственные исполнители переворота и остальная гвардия, которую к тому же надо было подчинить контролю новой власти. 10 ноября 1740 года младенец Иоанн Ш «принял» звание полковника всех четырех гвардейских полков. Антон Ульрих был объявлен генералиссимусом — не без оскорбительной выходки Миниха, не постеснявшегося заявить в указе, что он «отрекается» в пользу принца от принадлежащего ему по праву звания.
Антон Ульрих стал подполковником Конной гвардии вместо Петра Бирона, сохранив по просьбе офицеров шефство над «своим» Семеновским полком. Подполковником семеновцев остался бессменный А. И. Ушаков, а повседневное командование Конной гвардией осуществляли назначенный «младшим подполковником» Ю. Ливен и премьер-майор П. Черкасский. Измайловский полк также получил нового командира: вместо Густава Бирона им стал генерал русской службы принц Людвиг Гессен-Гомбургский.
12—13 ноября получили награды все, кто своими «ревностными поступками» обеспечил успех ночного похода на Летний дворец. Офицеры отряда Миниха — капитан И. Орлов, капитан-поручик А. Татищев, поручики И. Чирков (эти двое командовали караулами соответственно в Летнем и Зимнем дворцах), П. Юшков и А. Лазарев, подпоручик Е. Озеров, прапорщики Т. Трусов, Г. Мячков, П. Воейков и М. Обрютин — получили следующие чины и щедрые денежные награды; унтер-офицеры и сержанты А. Толмачев, А. Яблонский, Г. Дубенский, И. Ханыков, Я. Шамшев — обер-офицерские звания; рядовые стали унтерами и сержантами. Кроме того, 52 гренадерам вручили по шесть рублей наградных, а 177 мушкетерам — по пять рублей, что составляло, по штату 1731 года, треть годового солдатского жалованья.[288]
Большое число награжденных «за взятие Бирона» объясняется тем, что фельдмаршал решил оплатить нарушение присяги всем — и арестовывавшим регента, и бездействовавшим в эту ночь караульным. Количество желавших попасть в наградные списки явно превысило численность реального караула в памятную ноябрьскую ночь; приказ по полку от 18 ноября требовал от офицеров, «чтоб оные ведомости были поданы справедливые» и включали только тех, кто действительно был на посту.
Побывавшие же «в катских руках» офицеры А. Яковлев, П. Ханыков, М. Аргамаков, И. Путятин, И. Алфимов и другие именным указом были реабилитированы. Офицеры прошли специальную церемонию «возвращения чести»: 10 декабря бывшие подследственные в штатском платье были выведены перед своими полками и трижды покрыты знаменем; после чего облачились в новые мундиры, получили шпаги и заняли свое место в строю. Несколько дней спустя особый манифест объявил, что помянутые офицеры и чиновники «неповинно страдали и кровь свою проливали» и отныне любое «порицание» их чести карается штрафом в размере жалованья обидчика.
Некоторым из реабилитированных открылась возможность быстрой карьеры: Петр Грамотин стал директором канцелярии Антона Ульриха в ранге подполковника, а Андрей Вельяминов-Зернов — генеральс-адъютантом принца. Андрей Яковлев получил генеральский чин действительного статского советника, бравый Манштейн стал полковником расквартированного в столице Астраханского полка, капитаны В. Чичерин и Н. Соковнин пожалованы в секунд-майоры гвардии. Награждения новыми чинами не обошли даже второстепенных участников событий. В числе прочих счастливцев оказался и знаменитый впоследствии барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен. Бывший паж герцога Брауншвейгского теперь благодарил Антона Ульриха за производство в поручики состоявшего под командой принца Кирасирского полка.
23 и 24 ноября Бирону было предъявлено 26 допросных пунктов. Главное обвинение «бывшему герцогу» звучало достаточно риторически: «Почему власть у его императорского величества вами была отнята и вы сами себя обладателем России учинили?» На него же была возложена ответственность за болезнь Анны Иоанновны, которую он «побуждал и склонял к чрезвычайно великим, особливо оной каменной болезни весьма противным движениям, к верховой езде на манеже и другим выездам и трудным забавам».
Обвинители вспомнили, как Бирон «в самом присутствии ее величества не токмо на придворных, но и на других, и на самых тех, которые в знатнейших рангах здесь в государстве находятся, без всякого рассуждения о своем и об их состоянии крикивал и так продерзостно бранивался, что все присутствующие с ужасом того усматривали». Оказалось, что правитель империи «никакого закона не имел и не содержал ибо он никогда, а особливо и в воскресные дни, в церковь Божию не хаживал». Герцог предстал инициатором оскорбительных для чести императорского двора представлений когда «под образом шуток и балагурства такие мерзкие и Богу противные дела затеял <…> не токмо над бедными от рождения, или каким случаем дальнего ума и рассуждения лишенными, но и над другими людьми, между которыми и честной породы находились; о частых между оными заведенных до крови драках и о других оным учиненных мучительствах и бесстыдных мужеска и женска полу обнажениях и иных скаредных между ними его вымыслом произведенных пакостях уже и то чинить их заставливал и принуждал, что натуре противно и объявлять стыдно и непристойно»
Другой набор преступлений был связан с брауншвеигской фамилией, которую регент позволял себе открыто третировать «с великим сердцем, криком и злостью» — и тем нажил себе врагов. Теперь ему припомнили, какие «уничтожительные и безответные его поступки были к императорской фамилии и особливо к ее высочеству, правительнице Анне и к его высочеству герцогу Брауншвеиг-Люнебургскому о том оного собственная его совесть обличит, и все с крайним сожалением и ужасом видеть и смотреть принуждены были». Бирону вменили в вину, что он «безбожно старался разными непристойными клеветами и зловымышленными внушениями ее высочество как прежде, так и после совершения брака оной, у ее императорского величества в подозрение привесть и милость и любовь от оной отвратить» Не было забыто презрительное отношение регента к принцу Антону: «Весьма уничтожал и, несмотря на высокое его рождение, хуже всякого партикулярного человека всегда принимал». Герцог должен был ответить на следствии, какими «бессовестными внушениями» он действовал на умиравшую Анну, «дабы оную ко вручению ему регентства склонить».
В общем, обвинение показало, что в последние годы царствования Анны Иоанновны Бирон стал позволять себе откровенное хамство не только по отношению к нижестоящим но и в адрес особ «знатнейших рангов». Многолетнее пребывание на вершине власти постепенно убедило герцога в собственной исключительности — и он вышел за рамки четко им осознаваемых в начале карьеры правил поведения Фаворита «службы ее величества». Сказался и резкий, вспыльчивый характер Бирона — искусство хладнокровных придворных интриг и комбинаций давалось ему с трудом и всегда требовало квалифицированных помощников.
Обвинения же в служебных злоупотреблениях выглядели, напротив, весьма неконкретно: «Во все государственные дела он вступал, и хотя прямое состояние оных ведать было и невозможно, однако ж часто и в самых важнейших делах без всякого, с которыми (людьми) надлежало, о том совету по своей воле и страстям отправлял, и какие от того в делах многие непорядки и государственным интересам предосуждения приключались, о том он сам довольно ведает и признать должен».
Едва ли не самым главным среди них стала «приватизация» «торгов и заводов не токмо к явному казенному убытку, но и с превеликою обидою и разорением здешних российских подданных, которые, надеясь на публикованные от его императорского величества, блаженнейшей памяти Петра Великого манифесты, многие тысячи собственного своего капитала в те заводы положили, его старательством чужим отданы». Правда, непонятно, кто и сколько успел вложить в те казенные предприятия, которые затем были отданы «чужим» и сколько было пострадавших — ведь ни массовой раздачи заводов (за исключением приватизации Шембергом гороблагодатских предприятий), ни наплыва иностранных предпринимателей не произошло.
Похоже, организаторов следствия интересовали не предполагаемые убытки российской экономики, а конкретное благосостояние обвиняемого. Здесь вопросы более точны и конкретны: «Что ему от ее величества прямо пожаловано деньгами, алмазами и другими вещами? Что он сам взял казенного и от партикулярных, и в которое время? Что ему от других чужестранных государей подарено и пожаловано, и в которое время? Сколько денег и другого богатства и пожитков он вне государства отправил, куды и где ныне находится?» Особым указом все, имевшие на хранении деньги или имущество регента, должны были немедленно о них объявить под угрозой наказания.
Бирон в первое время заключения пал духом, но скоро оправился. На поставленные вопросы он отвечал уверенно и своей вины не признавал. «Бывший герцог» опровергал обвинения в преступно небрежном отношении к здоровью Анны Иоанновны и подробно рассказывал, как ему приходилось отговаривать ее от верховой езды или «ее величеству докучать, чтобы она клистир себе ставить допустила, к чему ее склонить едва было возможно».
По поводу допущенных грубостей Бирон на следствии не спорил, но заявил, что такого «не помнит». Но все, что могло быть истолковано как оскорбление членов царствующего дома или попытка отнять у них власть, он решительно отрицал' «Никаких его уничтожительных и безответных поступков к высочайшей императорской фамилии, а особливо к ее императорскому высочеству правительнице, государыне великой княгине всея России и к его высочеству герцогу брауншвейг-люнебургскому не бывало <…>, также и его высочества поступков при ее императорском величестве ни публично при чужестранных министрах, ниже приватно не хуливал <…>, ее высочеству в своих покоях именно сам представлял, что не соизволит ли ее высочество лучше сама в правительство вступить, или оное супругу своему его высочеству герцогу брауншвейг-люнебургскому поручить, на что ее императорское высочество ответствовать изволила, что она, кроме здоровья его императорского величества ныне счастливо владеющего государя императора и общей в государстве тишины, ничего не желает <…>, когда его высочество к низложению тех чинов первое намерение восприял, и в то время он его всячески отговаривал, представляя, что те чины ему позволены <…>, угрозов высоким родителям его императорского величества как приватно, так и публично никаких от него не бывало».
Столь же упорно он объяснял следователям во главе с генералом Г. П. Чернышевым, что избрание в регенты состоялось усилиями советников Анны, а он лишь в конце концов дал свое согласие. Свергнутый временщик отказался объявить своих «шпионов» и заявил, что не только не имел их но и вообще впервые узнал о наличии такого явления при дворе от Миниха. Бирон настаивал на том, что напрасно никого не арестовывал и «до казенного ни в чем не касался», рассказав об источниках своих доходов, о которых мы говорили выше. В ответ на обвинение в «обидах» и «разорениях» он попросил представить обиженных его «несытством» Свои переговоры, а иногда и конфликты с иностранными послами Бирон уверенно объяснял заботой «о российской славе».[289]
«Отрекательные ответы» арестанта рассердили новых правителей. В январе 1741 года следователям повелели предъявить ему показания Бестужева-Рюмина, чтобы «бывший регент, будучи как в глаза изобличаем, мог о всем справедливо и незакрывательно показать и себя винна пред нами пред высочайшими нашими родители и государством признать без дальнего еще следствия». Одновременно «генералитетская комиссия» получила указание готовить манифест о «тяжких преступлениях» герцога, в которых тот еще не успел сознаться.
Следователи жаловались, что своего подопечного в Шлиссельбурге «сколько возможно увещевали, однако ж он, Вирой, почти во всем, кроме того, что хотел с высоким вашего императорского величества родителем, его императорским высочеством, поединком развестись, запирался». Тогда арестанту объяснили, что его «бранные слова» в адрес Анны Леопольдовны и ее мужа «довольно засвидетельствованы», и потребовали от него «все то дело прямо объявить»; иначе его будут содержать «яко злодея». Под обвинением в оскорблении величества «он, Бирон, пришел в великое мнение и скоро потом неотступно со слезами просил, дабы высочайшею вашего императорского величества милостию обнадежен был, то он, опамятовався, чрез несколько дней чистую повинную принесет, не закрывая ничего, а при том и некоторые свои намерения, о чем вашему величеству обстоятельно донесет <…>, а ежели де что он и забудет, а после ему, Бирону, припамятовано будет и о том сущую правду покажет без утайки и того б ради дать ему бумаги и чернил, то он ныне напишет к высоким вашего величества родителям повинную в генеральных терминах, а потом и о всех обстоятельствах».
Обнадеженный «высочайшим милосердием», Бирон 5 и 6 марта 1741 года подал новые собственноручные признания, но никаких важных «обстоятельств» они не содержали. Бирон согласился, что «ближних их императорских высочеств служителей без докладу забрать велел», обещал призвать «голстинскаго принца», а дочь свою собирался выдать за принца дармштадтского или герцога саксен-мейнингенского. Он вспомнил, что называл Анну Леопольдовну «каприжесной и упрямой» и рассказывал о том, что она однажды «осердилась и бранила „русским канальею“» нерасторопного камергера Федора Апраксина. Наконец арестант признал, что был недоволен тем, что принцесса «кушает одна с фрейлиною фон Менгденовою, а пристойнее б было с супругом своим, и оная де фрейлина у ее императорского высочества в великой милости состоит».
Но в то же время Бирон категорически отказывался признаться в своем стремлении получить регентство: «Брату своему, ниже Бестужеву, челобитья и декларации готовить я не приказывал; ежели же он то учинил, то должно ему показать, кто его на то привел», — и настаивал, что никаких «дальних видов» не имел и собирался быть регентом только до тех пор, «пока со шведским королем в его курляндских претензиях разделается».
Он выдержал и свидание с Бестужевым-Рюминым. На предшествовавших допросах тот рассказал, что подготовку документов о регентстве Бирон «велел секретно держать, дабы их императорские высочества не ведали», тогда как сам герцог настаивал, что «он от их императорских высочеств никаких своих дел и намерения не таил и другим таить не велел». Однако уличения преступника во лжи не получилось. На очной ставке Бестужев отказался от своих прежних показаний: «Признался и сказал, что ему он, бывший герцог, о том от их высочеств таить не заказывал и секретно содержать не велел, а прежде показал на него, избавляя от того дела себя и в том его императорскому величеству приносит свою вину».
Опытный и волевой интриган и карьерист Алексей Петрович Бестужев отнюдь не был сентиментальным человеком, но, видимо, в этот момент столкнулся с полностью собой владевшим и убежденным в своей правоте Бироном — и, не выдержав, взял свои слова обратно, хотя мог бы их подтвердить. Возможно, он уже понял к тому времени, что новые правители герцога добивать не будут — следовательно, не было смысла его «топить», ведь никто не знал, когда и при каких обстоятельствах им пришлось бы еще встретиться. Сам Бирон позднее вспоминал об этой своей маленькой победе — покаянных словах Бестужева на очной ставке: «Я согрешил, обвиняя герцога. Все, что мною говорено, — ложь. Жестокость обращения и страх угрозы вынудили меня к ложному обвинению герцога».
Но все это уже не имело значения — приговор был предрешен. Еще 30 декабря на заседании Кабинета Бирона лишили имени (арестанта отныне было велено называть Бирингом, хотя в самом следственном деле именовали Биреном) и постановили сослать в Сибирь. В январе 1741 года специальная команда подпоручика Жана Скотта отправилась строить в Пельше дом для ссыльного; в деле Бирона сохранился даже его чертеж, заботливо сделанный бывшим военным инженером Минихом. Простоватый герцог Антон пояснял, что Бирон не такой уж страшный преступник, но простить его никак нельзя — это будет означать «порицание правительницы»; к тому же Бирон все равно уже лишен герцогства, а имущество его конфисковано.
Тем не менее за два месяца следователи успели собрать Достаточно «обличительных» фактов — прежде всего заявлении темпераментного герцога в отношении своих противников. Бирон признал высказанные им угрозы в адрес гвардии, обещание вызвать из Голштинии маленького внука Петра I, брань в адрес принца Антона; не смог он также опровергнуть тот факт, что дата на «Завещании» Анны поставлена задним числом. Поскольку герцога обвиняли по статьям второй главы Соборного уложения 1649 года (умысел на «государское здоровье» и попытка «Московским государством завладеть») и петровского «Военного артикула», то ему была многократно обеспечена смертная казнь. Любые оправдания ничего не могли изменить; правительница еще в январе прямо «понуждала» к «скорейшему окончанию дела» судей, в числе которых находились подвергавшиеся аресту по распоряжению Бирона майор гвардии Н. Соковнин и секретарь А. Яковлев.
В материалах следствия есть пробелы (вопросы к герцогу и ответы на них приведены не полностью), в «экстракте» упомянуты разные даты подписания «Завещания» — 16 и 17 октября 1740 года. Судьи не смогли привести ни примеров «великих убытков» казны, ни свидетельств жертв «наглых» обид фаворита; не выясняли про тех, кто не желал «согласовать» с герцогом по поводу вручения ему регентства. Следствие не стало углубляться в дело даже тогда, когда Бестужев-Рюмин на очной ставке отказался от части своих показаний. Зато следователи сумели собрать «компромат» на Миниха, чему в немалой степени способствовал сам Бирон; он писал, что фельдмаршал «себя к Франции склонным показывал <…> имеет великую амбицию и притом десперат и весьма интересоват».
Следственную комиссию по делу Бирона преобразовали в суд, и 8 апреля 1741 года он вынес приговор о четвертовании «бывшего герцога» и конфискации всего его имущества. Как и ожидалось, казнь была заменена помилованием и «вечным заключением» в Пелыме, где уже в марте был отстроен ожидавший Бирона дом. 14 апреля опубликован манифест, где бывший регент сравнивался с Борисом Годуновым, а его утверждение у власти объяснялось тем, что «премудрый и непостижимый Бог, по неиспытанным судьбам своим, за грехи человеческие восхотел было всю российскую нацию паки наказать таким же крайним разорением (как и чрез вышеупомянутого Годунова), бывшим при дворе ее императорского величества блаженные и вечно достойные памяти, оной вселюбезнейшей нашей государыни бабки, обер-камергером Бироном».
Вызвавшие высший гнев грехи всей нации никак не разъяснялись. Но все же при такой постановке вопроса получалось, что власти земные судят орудие божественного промысла, а заодно приравнивают не слишком знатного вельможу хоть и к недостойному, но все же коронованному государю. Видимо, поэтому авторы манифеста постарались изобразить герцога злодеем и узурпатором: «Забыв Бога и свою присягу и толь многие и великие от оной вселюбезнейшей нашей государыни бабки являемые к нему и его фамилии щедроты и милостивые благодеяния, и при том всем и свою природу и с начала своего вступления в росийскую службу многих знатных духовных и светских чинов, которых противными себе быть рассудил чрез свои неправедные и весьма ложные вымышленные клеветы, некоторых не весьма за важные вины, а иных и безвинно кровь пролил, а других в отдаленных местах в заточениях гладом и жаждою и несносными человеческому естеству утеснениями даже до смерти умучил, и домы и фамилии их до основания разорил». А самое главное — он решил захватить престол, «у нас дарованную нам от всемогущего Бога императорскую самодержавную власть вовсе отнять, и наших вселюбезнейших государей родителей, их императорские высочества, от правления исключить и все то себе единому присвоить».
Признавая действительно имевшее место желание «домогаться правления», манифест умалчивал об угрозе возвести на престол голштинского принца (упоминание дополнительных претендентов было нежелательным), зато приписывал Бирону не существовавшие на деле или не подтвердившиеся на следствии «вины»: будто бы он «вредительными советами» намеренно довел Анну Иоанновну до смерти, украл «несказанное число» казенных денег, «наступал на наш императорского величества незлобивый дом».[290]
Правительница как будто стеснялась нагромождения действительных и вымышленных преступлений и приказала, «дабы оный Бирен и никто из его фамилии отнюдь ни чрез кого о том манифесте были неизвестны», в то время как его «вины» торжественно объявляли под барабанный бой на улицах. Зато она повелела издать «объявление» о персонах, способствовавших утверждению Бирона регентом: Минихе, Черкасском, Трубецком, Ушакове, Куракине, Головине, Левенвольде, Бреверне, Менгдене. В этом документе правительница от имени своего сына публично и, кажется, от души, «приложила» всю российскую верхушку, которая «учинясь в начале нам, а потом и всему отечеству первым явным предателем, присовокупились к бывшему герцогу Курляндскому, Бирону <…>, предая ему, Бирону, вначале нас природного и истинного своего государя, и высоких наших родителей, тако ж и самих себя, в собственную его волю». Перечень их прегрешений завершался объявлением о прощении.[291] Даже преданный герцогу Бестужев отделался сравнительно легко — отправкой в ссылку в собственные вологодские деревни, а конфискованные было «пожитки» (включая большие стенные зеркала Мусина-Пушкина) повелели вернуть жене и детям опального министра.
Неисполнение обязанностей и поддержка преступника Бирона могли любого из перечисленных вельмож превратить в подсудимого; но, с другой стороны, никакого существенного обновления в правящем кругу не последовало, что могло только укрепить уверенность его представителей в безнаказанности своих действий или бездействия.
О своей судьбе «бывший регент» узнал только в начале июня, когда генерал-лейтенант Хрущов объявил решение суда, еще раз призвал его «очистить совесть» и признаться в преступлениях против «высокой чести» брауншвейгской фамилии и «целости нашей Российской империи». Дополнительных признаний не последовало, и после оглашения приговора окончивший свою миссию носитель божественной кары отправился вместе с семейством в Сибирь под конвоем 84 гвардейских солдат и офицеров.
В курляндском деле справедливость требовала возвратить детям Бирона то, что принадлежит им по Божеским и по естественным законам; если же хотели действовать корыстно, следовало (что было бы несправедливо, сознаюсь) оставить Курляндию по-прежнему без герцога и, освободив ее от власти Польши, присоединить к России.
«Приняв тех арестантов, вести их, не заезжая в Москву, прямо до Казани, начав тракт свой от Шлютельбурха на Ладогу водою, от Ладоги доУстюжны Железопольской сухим путем, от Устюжны водяным путем до Казани и оттуда далее Камою рекою <…> а вам, капитану поручику Викентьеву и поручику Дурново, ехать с теми арестантами сибирской губернии к городу Пелыму. И будучи в дороге, никого ко оным арестантам ни под каким видом не допускать, бумаги и чернил им не давать, и по прибытии в тот город ввесть их в построенные тамо для их нарочно покои, которые огорожены острогом, и содержать их под крепким и осторожным караулом неисходно» — такую инструкцию получили из Кабинета офицеры-гвардейцы, которым предстояло доставить еще недавно всесильного, а теперь «бывшего Бирона» в сибирскую ссылку.
9 июля 1741 года сопровождающие прибыли в Шлиссельбург, «приняли» своих подопечных и стали собирать их в дорогу. У Бирона отобрали серебряный сервиз, заменив его оловянным, а также прочие драгоценные вещи: портрет Анны Иоанновны в серебряной оправе, двое золотых часов и золотую табакерку; зато оставили 173 рубля наличных денег. 14 июня арестанты под конвоем 84 гвардейцев отправились в путь. С семейством Бирона ехали его служитель Александр Кубанец, турчанка Катерина и «арапка» Софья (все — «люторского закона»; видимо, строгий герцог следил за нравственным здоровьем своей прислуги), пастор Иоганн Герман Фриц, два повара — Афанасий Палкин и Прохор Красоткин, «хлебник» Иван Федоров, еще один слуга Илья Степанов и лекарь Вихлер.
Пастор и придворные повара считались как бы командированными с сохранением своих «окладов», а лекаря самого было приказано «содержать под крепким караулом при оном Бироне и какой он и для чего туда послан, о том Бирону и ето фамилии, как вам (Викентьеву. —
21 июня арестанты добрались до Тихвина, 3 июля прибыли в Устюжну Железопольскую, откуда их повезли на двух специально заготовленных барках. За бортом следовавших по Волге судов оставались старинные русские города — Ярославль, Кострома, Нижний Новгород; Бирон в первый раз мог увидеть страну и людей, которыми он еще недавно управлял. Едва ли это его сильно занимало; но, возможно, знатному ссыльному удалось воочию увидеть тех самых бурлаков, в преданности которых он был совершенно уверен. Из Казани барки отбыли 10 августа; далее капитан-поручику Викентьеву и его подопечным предстояло плыть вверх по Каме до Соликамска, откуда начался санный путь за Уральские горы. Тяжелое путешествие завершилось только в ноябре, когда «поезд» со ссыльными прибыл в затерянный в тайге городишко Пелым, где их уже ожидала свежеотстроенная тюрьма.
«Подельникам» Бирона поначалу повезло больше. Бестужев-Рюмин каким-то образом избежал отправки в «страну соболей» и был выслан в свои вологодские деревни. Братьев Бирона еще в ноябре 1740 года отвезли в Нижний Новгород, где им надлежало ждать дальнейших указаний. «Бывшим генералам» полагалось уже только по рублю на день, но они также взяли с собой слуг, в числе которых у Карла оказались лютеранин-турок Фридрих Густав из очаковских пленных и несколько «волохов»-молдаван; старый охотник захватил с собой целый десяток борзых. А у Бисмарка вышел конфликт с его вольнонаемными служителями: в отличие от «командированных» и русских крепостных, они ехать далее Москвы «не похотели». Простоватый Густав Бирон, ошеломленный случившимся переворотом, навсегда оторвавшим его от любимых полковых «экзерциций», получил еще один удар от только что обрученной невесты: помолвка была расторгнута, так как фрейлина Якобина Менгден не пожелала покидать двор ради опального. Но родственники Бирона почти год прожили в относительном комфорте, хотя их пребывание и стало головной болью для нижегородских властей: ссыльных и их слуг необходимо было обеспечить соответствующим жильем, дровами, свечами — а средства правительство выделить, как это нередко случалось, забыло.[293]
Наконец 18 ноября 1741 года последовало указание отправить ссыльных в Сибирь. Бисмарку выпал Березов, Карлу Бирону — Колыма, а Густаву — острожек Ярманг, которого, как оказалось, на имевшейся у губернских властей карте «не означено, и таких людей, кто б то место знал, в Тобольску не имеется». Но пока в Тобольске разбирались с географией Сибири, в столице произошел новый дворцовый переворот.
Занявшая место Бирона «регентина» Анна Леопольдовна была дамой образованной, «одаренной умом и здравым рассудком» (по мнению английского посла Эдварда Финча), но не обладала ни компетентностью, ни жестким волевым напором. Она не сумела отказаться он привычного светского образа жизни и посвятить себя труду управления, научиться искусству привлекать и направлять своих сподвижников — и предоставила все это другим, оставив за собой кажущуюся легкость утверждения принятого ими решения.
Отодвинув бесцветного мужа, правительница приблизила к себе саксонского посла Морица Динара, в свое время как раз поэтому отосланного от русского двора. В проявлении чувств правительница не стеснялась. «Она часто имела свидания в третьем дворцовом саду со своим фаворитом графом Линаром, куда отправлялась всегда в сопровождении фрейлины Юлии <…> и когда принц Брауншвейгский хотел войти в этот же сад, он находил ворота запертыми, а часовые имели приказ никого туда не пускать», — смаковал Миних-старший в записках придворные сплетни. Письма принцессы содержат ее красноречивые признания в адрес галантного красавца, вроде: «Целую вас и остаюсь вся ваша». Анна помолвила Динара со своей наперсницей-фрейлиной и произвела в кавалеры высшего российского ордена Андрея Первозванного; граф, в свою очередь, настолько освоился в новой ситуации, что позволял себе публично заявлять правительнице Российской империи: «Вы сделали глупость».
Перспектива появления нового Бирона обострила разногласия в «правительстве» Анны, которое и без того не отличалось солидарностью. В марте 1741 года ставший первым министром Миних настолько восстановил против себя весь правящий круг, что вынужден был подать в отставку. Для правления Анны характерно, что ненавидимого многими за властолюбие и бесцеремонность фельдмаршала «ушли» вполне по-европейски — с пенсией, сохранением движимого и недвижимого имущества (небывалый случай в послепетровской России).
Отец императора и новый генералиссимус принц Антон Ульрих не одобрял фавора Динара, в чем его поддерживал Остерман. В ответ правительница откровенно игнорировала права своего супруга и нашла себе союзника в лице нового кабинет-министра Михаила Гавриловича Головкина. Долго находившийся не у дел граф стремился наверстать упущенное и занять оставленное Минихом место. Именно Головкина современники связывали с проектами передачи короны самой правительнице, которые советники Анны не рискнули — или не собирались — довести до конца. Но граф не обладал решительностью Миниха, по компетентности не мог соперничать с Остерманом и к тому же был весьма неуживчив. «Все идут врозь», — докладывал в Париж маркиз Шетарди о ситуации в правительстве России; такими же были отзывы его английского коллеги и соперника Финча.
Раздачи чинов и должностей не создали для Анны надежную опору — новые правители не умели выбирать и удерживать сторонников. Сами назначения часто были непродуманными. Принятые решения не исполнялись; так, за год не была завершена практически готовая «судная» книга нового уложения. Порой распоряжения власти были противоречивыми: не успела Анна отменить намеченный Бироном рекрутский сбор, как вышел указ о призыве 20 тысяч человек, а в январе и сентябре 1741 года последовали два новых набора. В нарушение положения о подушной подати сверх нее с инородцев и черносошных крестьян стали собирать провиант для армии. Подготовленное назначение новых прокуроров было отменено по проискам Остермана, полагавшего, что «от прокуроров в делах остановка». «Милостивые» указы сменялись распоряжениями о недопущении в столицу нищих или отправкой под кнут челобитчиков, осмелившихся жаловаться на своего помещика.
Правительница явно стремилась добиться расположения гвардии. Офицеров регулярно приглашали на куртаги. Дворцовой конторе предписывалось непременно обеспечить участников парадов водкой и пивом, а при нехватке пива «неотменно взять где возможно за деньги, токмо при том смотреть, дабы то пиво было доброе и не кислое и чтоб нарекания на оное никакого быть не могло». При Анне гвардейцам стали выдавать по 10 рублей за несение ночных караулов во дворце. В апреле 1741 года правительница распорядилась платить работавшим на постройке казарм гвардейским солдатам по четыре копейки в день. В апреле 1741 года принц Антон распорядился сварить для солдат специального пива на осиновой коре, сосновых шишках и можжевельнике для профилактики от цинги.
Однако книги приказов по полкам за 1741 год показывают, что дисциплина в «старой» гвардии была явно не на высоте. Солдаты являлись на службу «в немалой нечистоте», «безвестно отлучались» с караулов, играли в карты и устраивали дебоши «на кабаках» и в «бляцких домах». Они «бесстрашно чинили обиды» обывателям, устраивали на улицах драки и пальбу, «являлись в кражах» на городских рынках и у своих же товарищей, многократно «впадали» во «французскую болезнь» и не желали от таковой «воздерживаться». Обычной «продерзостью» стало пьянство, так что приходилось издавать специальные приказы, «чтоб не было пьяных в строю».
Это были рядовые провинности, которые по несколько раз в месяц отмечались в полковых приказах. Но более серьезные проступки показывают, что гвардейцы образца 1741 года чувствовали себя во дворце и в столице хозяевами положения. Семеновский гренадер Иван Коркин был задержан на рынке с краденой посудой из дома самого «великого канцлера» А. М. Черкасского; Преображенский солдат Иван Дыгин нанес оскорбление камер-юнкеру правительницы и офицеру Конной гвардии Лилиенфельду. Разгулявшиеся семеновцы Петр и Степан Станищевы «порубили» караульных на улице, а заодно и вмешавшихся в драку прохожих. Преображенец Артемий Фадеев «в пребезмерном пьянстве» потащил на улицу столовое серебро и кастрюли из царского дворца, а его сослуживец гренадер Гавриил Наумов вломился в дом французского посла, чтобы занять у иноземцев денег. Регулярное чтение солдатам «Воинского артикула» и обычные наказания в виде батогов явно не помогали, как и внушения офицерам иметь «смотрение» за вверенными им подразделениями.[294]
Муштровать гвардию принялся принц Антон: он восстановил особые гренадерские роты, которые должны были стать примером всем полкам; сам отбирал солдат и офицеров в новую роту преображенцев, подвергая служивых интенсивным «экзерцициям» и наказаниям.
Анна и ее окружение как будто не замечали проблем. При дворе один за другим следовали балы и празднества. Сверкали фейерверки, проходили парадом полки, повара готовили особенные блюда (например, «квашенину от трех скотин»), для увеселения гостей демонстрировались «персидские танцы», правительница блистала в особом «грузинском» костюме на собольем меху. Бессилие и деградация правительства Анны летом-осенью 1741 года привели к быстрому падению престижа «брауншвейгского семейства» в глазах и «низов» (прежде всего гвардейских солдат), и «верхов» — высших чиновников и офицеров.[295]
Результатом стал лихой переворот, когда солдаты всего одной роты Преображенского полка во главе с унтер-офицерами ворвались во дворец и арестовали ничего не подозревавших императора и его родителей. Добрая правительница не смогла удержаться на престоле, который с успехом занимали столь же неспособные, а то и куда менее симпатичные особы. Несомненно, определенную роль сыграло патриотическое чувство против «засилия» немцев, хотя, кажется, степень его распространения преувеличена, следуя историографической традиции XIX века. На деле нам неизвестно, так ли уж сильна была неприязнь к правлению Иоанна III и его матери у чиновников, офицеров, купцов и прочих обывателей; устойчивые симпатии к Елизавете, очевидно, проявлялись лишь в «старой» гвардии. Немногие упоминания современников о новом перевороте также бесстрастны. «Ноября 25 соизволила всероссийской престол принять государыня императрица, а прежнея правительница с мужем и сыном своим отлучены и свезены с честию в незнаемое место», — записал в дневнике лейтенант флота Иван Грязново.
Неспособность Анны создать свою «команду» и управлять ею означала в итоге такую изоляцию правящей группы, которая привела к парадоксальному успеху «солдатского» заговора Елизаветы; в отличие от других дворцовых переворотов, в 1741 году победившая сторона не имела «партии» среди вельмож. Длительное царствование Елизаветы объясняется отнюдь не только его «национальным» характером; при всем несходстве со своим великим отцом новая императрица умела держать под контролем и использовать в своих интересах борьбу придворных группировок.
Анна Леопольдовна вполне могла бы справиться с ролью английской королевы; но роль правительницы в условиях России оказалась ей не по плечу так же, как и куда более сильному, властному и решительному Бирону. В отличие от принцессы, герцог блестяще организовал кампанию по вручению ему верховной власти; накопленный опыт и знание придворных «обстоятельств» сильно ему в этом помогли, как и безусловное доверие умиравшей императрицы. Но как правитель Бирон оказался уязвимым и после трех недель регентства позволил себя «уйти» столь же легко, как Елизавета устранила потом недружную брауншвейгскую семью.
За прикосновение к власти принцесса Анна дорого заплатила. Вопреки обещаниям Елизаветы, семейство не отпустили за границу — его ждало заключение сначала в Риге, затем в Динамюнде (нынешний латвийский Даугавпилс), наконец, в Холмогорах, где Анна Леопольдовна умерла после родов в 1746 году. Гордая принцесса сумела выдержать характер — не обращалась к императрице с унизительными просьбами о свободе и на запоздалые упреки мужа в беспечности отвечала: она довольна тем, что при перевороте «отвращено всякое кровопролитие».
Ее министров ожидали следствие и столь же предрешенный, как и в отношении Бирона, суд: Миних был приговорен к четвертованию; Остерман, Головкин, Левенвольде, Менгден, Темирязев — к «обычной» смертной казни — отсечению головы. 18 января 1742 года на эшафоте осужденные выслушали манифест о своих «винах». В момент, когда Остерман уже положил голову на плаху, все получили высочайшее помилование и отправились в сибирскую ссылку.
Для нашего героя «восшествие» на престол Елизаветы означало поворот в судьбе. Сначала новая императрица повелела «высочайшею нашею императорскою милостию обнадежить» герцога и его родню — соизволила «поведенный над ними арест облегчить таким образом: когда они похотят из того места, где их содержать велено неисходно, куда выйти, однако ж, чтоб не далее кругом оных мест двадцати верст, то их за пристойным честным присмотром отпускать, и в прочем, что до удовольствия их принадлежит, в том их снабдевать, дабы они ни в чем нужды не имели».[296]
Однако побывать в экзотических восточносибирских краях Карлу и Густаву Биронам так и не довелось — далее Тобольска они не уехали, в отличие от «бывшего герцога», попавшего в затерянный в тайге поселок в 700 километрах °т Тобольска с полуразвалившейся крепостью и четырьмя Десятками домов обывателей. Бирона поместили в «остроге высоком с крепкими палисадами» вместе с не отличавшейся воспитанностью и едва ли довольной «командировкой» охраной, которой приходилось терпеть нужду и тяготы ссылки вместе с поднадзорными. Жизнь ссыльных сопровождали лязг оружия, топот и разговоры солдат, сырость, дым из плохо сложенных печей, теснота (дом-крепость был обнесен тыном так, что между внешней изгородью и стеной оставалась всего сажень). Слабым утешением служило то, что семейство Бирона было не первым, отбывавшим здесь ссылку — за 140 лет до них в этом месте томились братья Иван и Василий Романовы, чей племянник Михаил Федорович в 1613 году взошел на российский престол.
Поначалу Бирон крепился. По воспоминаниям стариков, записанным декабристом А. Ф. Бриггеном, герцог ездил на охоту на собственных лошадях, по улицам ходил «в бархатном зеленом полукафтанье, подбитом и опушенном соболями», и «держался весьма гордо, так что местный воевода, встречаясь с ним на улице, разговаривал, сняв шапку, а в доме его не решался сесть без приглашения». Но архитектурных дарований Миниха, спроектировавшего острог, Бирон не оценил и, как рассказывали пелымские старожилы в 30-е годы XIX века, дважды пытался от огорчения поджечь свою тюрьму.[297]
Не исключено, что так оно и было, ведь в конце 1741 года в доме Бирона действительно случился пожар. Но на счастье герцога и его семейства, пелымская ссылка оказалась кратковременной. 17 января 1742 года последовала новая милость императрицы: ее именной указ повелевал «сосланных в Сибирь в ссылку бывшего герцога курляндского Бирона и братьев его Карла и Густава Биронов же, и бывшего ж генерала Бисмарка из той ссылки и с женами их и с детьми освободить и, из службы нашей уволя; дать им абшиды». Кроме того, Эрнсту Бирону возвращали его силезское имение, только что конфискованное у Миниха. В Сибири, однако, про эту милость узнали раньше; сам герцог писал в «Записке», что уже «20 декабря пришло наше освобождение. Курьер привез нам сию радостную весть, что наш арест прекратится и что мы во всем удовлетворены будем».
27 февраля 1742 года те же гвардейцы Викентьев и Дурново снова повезли Бирона и его семью — теперь обратно. В Казани произошла неожиданная встреча: возвращавшийся из-за Урала Бирон увидел Миниха, которого конвоировали в тот самый Пелым, который не так давно фельдмаршал избрал местом ссылки для герцога. Вельможи узнали друг друга, молча раскланялись и разъехались — им было суждено вновь увидеться через двадцать лет в Петербурге при дворе Петра III.
Едва ли, конечно, герцог мечтал о возвращении к власти, но, скорее всего, надеялся на «реабилитацию» и возвращение в родную Курляндию. Однако этим планам пока не суждено было осуществиться. Уже 15 марта последовало распоряжение, чтобы Бирон и Бисмарк с их фамилиями доставлены были в Ярославль. Под Владимиром «поезд», следовавший в Москву, был остановлен прибывшим курьером; повинуясь инструкции, охрана привезла Биронов в Ярославль, в котором отныне должно было проживать опальное семейство. Царский указ велел возвратить «пожитки» братьям Бирона, но ничего не говорил о судьбе конфискованного имущества герцога. Так в марте 1742 года началась долгая ярославская ссылка бывшего правителя.
От тягот пути и нового удара Бирон слег. Тяжелая болезнь, как ни странно, ему помогла — Елизавета, видимо, забеспокоилась, что смерть герцога может стать пятном на ее репутации. В Ярославль срочно прибыл ее личный врач и ближайший советник Арман Лесток.
Неизвестно, насколько благотворно подействовало лечение (Лесток был не слишком искусным доктором да и практиковал больше по гинекологической части), но посланец императрицы постарался смягчить режим ссылки. Бирону выдали «материальную помощь» в размере пяти тысяч рублей; на его содержание было приказано выдавать по 15 рублей в день из местных таможенных доходов; ярославскому воеводе даны инструкции ссыльных «довольствовать без оскудения, против того, как они прежде довольствованы были, из тамошних доходов». Из Петербурга прибыли принадлежавшие Бирону библиотека, мебель, посуда, охотничьи собаки, ружья и несколько лошадей. Елизавета даже отправила в Ярославль два сундука с нарядами герцога. Осталось в силе разрешение отъезжать от города на 20 верст для прогулок и охоты. Кроме того, Бирону позволили вести переписку. Его постоянным адресатом стал митавский купец и поставщик двора Даниил Ферман; через него семейство Биронов заказывало вещи, которые нельзя было купить в Ярославле, — например, ткани, нитки и моднейшие образцы рукоделия для герцогини. Бирон даже имел право принимать гостей — в 1744 году его посетил курляндский дворянин Эрнст Клопман, доставивший братьям Бирона и Бисмарку весть об их полном прощении (с торжественным возвращением шпаг) и разрешении служить или отбыть в Курляндию.
Бирон не мог не оценить императорского милосердия — в послании к Елизавете в августе 1742 года он благодарил ее, высказывая уверенность, что Бог «благословит ваше предприятие», и надеялся, что «ваше императорское величество и впредь не оставите нас и не допустите, чтобы враги мои восторжествовали надо мною. Мы несчастливые, по милости вашего императорского величества, все здесь в сборе, вздыхаем и молим о милосердии вашего императорского величества».
Однако дальнейшего снисхождения не последовало, и в марте 1743 года Бирон уже прямо просил: «Всемилостивейшая государыня! Укажите меня из сего печального места вывезти, где я уже год нахожусь; повелите мне пред собою предстать и исследуйте мое сердце, и тогда уверен я буду, что ваше императорское величество не откажет мне своего милосердия». Кажется, герцог всерьез рассчитывал на полное прощение: он полагал, что продолжение ссылки есть дело его «врагов»; заверял, что «никого в нещастие не ввергнул, но, может быть, многие есть в живых, коих я свободил от оного». Бирон напоминал Елизавете: «ни свирепые угрозы, ни великие обещания властей» не смогли вырвать у него на следствии признаний, хоть в чем-то очернявших будущую императрицу. В другом письме герцог убеждал Бестужева, что ни в чем не виноват и «готов во всем, с самого того первого часа, как я в Россию приехал, не токмо о важных делах, но и что каждой партикулярной на меня доносить имеет, ответ дать».
В дополнение к посланию Бирон сочинил и отправил еще одно пространное сочинение (так называемую «Записку»), в котором рассказывал о своей роли при дворе и прежде всего — о том, как Анна Иоанновна распоряжалась насчет престолонаследия, ведь главным преступлением министров Анны Леопольдовны объявлялось недопущение к трону законной наследницы Петра I Елизаветы.
Этот интересный документ Бирон составил в двух редакциях. Одна из них предназначалась только для императрицы — именно в ней герцог подчеркивал, что всегда с уважением относился к дочери Петра, никогда не пытался вредить ее интересам и даже защищал ее от нападок Миниха. Другую Бирон предназначил для более широкого круга читателей, прежде всего европейских: здесь он подробно рассказывал об обстоятельствах последних дней царствования Анны Иоанновны и о том, как его «уговаривали» стать регентом — этот вариант «Записки» был опубликован в Дании (в 1747 году) и Франции (в 1757 году), а затем в 1775 году немецким историком А. Ф. Бюшингом.[298]
Одновременно Бирон обращался к своему бывшему протеже Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину, переживавшему свой звездный час, — недавний опальный министр стал вице-канцлером и сменил Остермана на посту руководителя внешней политики империи. Герцог как опытный придворный не напоминал Бестужеву о прошлом, но униженно просил: «Не оставляйте меня, ваше сиятельство, иначе принужден буду я ввергнуться в отчаяние и искать в могиле преждевременного спокойствия». Другому адресату — дипломату Карлу Бреверну — Бирон писал уже не об отчаянии, а о возможном варианте облегчения жизни его семейства — переводе его из Ярославля на западную границу в Нарву и об освобождении старшего брата Карла.[299]
Бирон рассчитывал не только на милосердие Елизаветы и Бестужева. Из писем и бесед с гостями из Курляндии он знал, что для многих подданных по-прежнему оставался законным герцогом, тем более что Август III титула его не лишал. Правда, в 1741 году на трон Курляндии вновь заявил претензии Мориц Саксонский, а правительница Анна Леопольдовна предполагала передать его брату мужа — брауншвейгскому принцу Людвигу Эрнсту. Но все эти планы так и остались неосуществленными из-за устранившего брауншвейгскую династию нового дворцового переворота. Бирон, лишившись звания регента и всех чинов на русской службе, формально сохранил герцогский титул.
Несколько раз вплоть до 1754 года сторонники Бирона пытались через ландтаг поставить перед монархами России и Речи Посполитой вопрос о возвращении «нашего любимого отца-герцога». В сейме раздавались «крики о курляндском деле» — шляхта требовала, чтобы герцог как польский подданный был судим в Польше. Сюзерен Бирона, польский король, неоднократно ходатайствовал о его освобождении перед Елизаветой; о том же подавал записки польский посланник граф Огинский. Бестужев сообщил императрице в октябре 1746 года, что сенаторы постоянно говорят королю о Курляндии и просят его вступиться хотя бы за детей герцога. Только соединенными усилиями российских дипломатов и саксонских министров дело не дошло до международного скандала.
Герцог ошибся — возвращать его никто не собирался. Дело, конечно, состояло не в особой подозрительности императрицы и не в угрызениях совести Бестужева по поводу его показаний на следствии. У Елизаветы не было причин мстить Бирону, а вице-канцлер (с 1744 года — канцлер) чувствительностью никогда не отличался. В 1749 году он — не из сострадания, а по вполне прагматическим соображениям — даже предлагал Елизавете освободить Бирона, восстановить его на курляндском престоле, а его сыновей принять на русскую службу и сделать их гарантами беспрекословной покорности отца. Однако императрица решительно отказалась освобождать герцога.
Для Елизаветы и ее окружения Бирон был не просто «павшим» вельможей — вместе с другими опальными «немцами» в официальной идеологии нового царствования он стал символом прошлой эпохи, которую следовало навсегда «похоронить». Ведь «счастливо владеющая» императрица хоть и была дочерью Петра Великого, но взошла на трон в результате солдатского мятежа и свергла пусть младенца, но все же законного (согласно петровскому же «Уставу о наследии престола» 1722 года) государя. Узурпация требовала несомненных и очевидных оправданий — а какой аргумент мог служить этой цели лучше, чем необходимость освобождения страждущего отечества из рук коварных «немцев»?
«Восшествие» на престол Елизаветы породило целую кампанию по оправданию нелегитимного захвата власти. Манифест от 28 ноября 1741 года объяснил переворот не только «прошением» подданных, но и ссылкой на завещание Екатерины I, передававшее право на корону только потомству Петра 1 — его внуку и дочерям Анне и Елизавете. Поэтому царствование Анны Иоанновны признавалось незаконным, правление ее внучатого племянника — тем более, поскольку «принц Иоанн» и его родственники «ни малейшей претензии и права к наследию всероссийского престола ни по чему не имеют».
Власти и раньше уничтожали отдельные документы (как в 1727 году манифест по делу царевича Алексея); теперь же правительство Елизаветы решило устранить
Правительство не ограничилось умолчанием. Церковные проповеди с помощью евангельских образов и риторических оборотов убеждали паству в законности власти Елизаветы как преемницы дел отца и защитницы веры от иноземцев. Появились публицистические произведения: «Краткая реляция», «Историческое описание о восшествии на престол Елисаветы Петровны» или «Разговоры между двух российских солдат, случившихся на галерном флоте в кампании 1743 года», — в которых захват власти не только не скрывался, но представлялся как героическое деяние. Усердие сочинителей изображало свержение императора как «благополучнейшую викторию» над «внутренним неприятелем», порой в совершенно кощунственном виде: толпа заговорщиков-гвардейцев представала как «блаженная и Богом избранная и союзом любви связуемая компания, светом разума просвещенная». В «Похвальном слове» на день восшествия Елизаветы на престол Ломоносов представлял слушателям: «Чудное и прекрасное видение в уме моем изображается <…>, что предходит с крестом девица, последуют вооруженные воины. Она отеческим духом и верою к Богу воспаляется, они ревностию к ней пылают».[300] В ряду противостоявших дочери Петра «эмиссариев диавольских» немецкого происхождения почетное место занял «свиния в вертограде», он же «лукавый раб Ернст Иоган», возведший на трон младенца и «тайными злоухищрениями» препятствовавший воцарению Елизаветы.
За рубежом стали появляться в продаже биографии Миниха, Остермана и Бирона, и А. П. Бестужев-Рюмин в 1743 году предписал русским послам добиваться запрещения торговли подобными изданиями и «уведать» имена их авторов. Попавшие в Россию экземпляры «пашквилей» должны были быть конфискованы и сожжены.[301]
Посол в Голландии А. Г. Головкин предложил бороться с «грубыми лживостями» более цивилизованно — путем денежных «дач» и «пенсионов» представителям свободной западной прессы и справился о расценках за подобные услуги у «главнейших газетчиков». Цена оказалась сходной, и русское правительство стало ежегодно выделять по 500 червонных для голландской прессы, где вместо грубостей о «parvenue au trone» стали появляться сочинения о благополучии в России «под славным государствованием Елизаветы Первой».[302]
Правда, пропагандистская активность вызывала и неудобство: сама власть с высоты престола и церковных амвонов внушала подданным, что выступление против ее верховных носителей может быть почетным и богоугодным делом. К тому же «антинемецкая» направленность проправительственных сочинений способствовала начавшимся в столице выступлениям против офицеров-иностранцев, которым солдаты кричали: «Указ есть, чтоб всех иноземцев перебить!».[303] Подобные инциденты получили резонанс за границей: русскому послу в Англии по этому поводу выражали озабоченность члены кабинета, и сам король осведомлялся о якобы имевшем место народном волнении в Москве.[304]
Официальным курсом нового царствования стало возвращение к заветам Петра I. На деле же «петровская» риторика часто оборачивалась продолжением официально осуждаемой практики «незаконного правления».
Вслед за Анной Иоанновной Елизавета еще больше повысила значение придворных чинов: камер-юнкер приравнивался уже к армейскому бригадиру; новые фельдмаршалы, вроде фаворита А. Г. Разумовского или С. Ф. Апраксина, едва ли могли соперничать даже с Минихом. В сфере социальной политики правительство продолжило курс на укрепление «регулярного» государства. Указ от 2 июля 1742 года, упоминавший, что беглые помещичьи люди «немалым собранием» подали прошение императрице о разрешении им записываться в армию, категорически запретил такой уход; самих жалобщиков отправили в ссылку на сибирские заводы. В мае того же года разрешенная ранее подача императрице челобитных была категорически воспрещена. При принесении присяги Елизавете крепостные были фактически исключены из числа подданных — за них присягали их владельцы.
Первоначальные послабления сменились в 1742 году распоряжениями о взыскании недоимок. Подушная подать в 1745 году была увеличена на 10 копеек для крепостных и 15 копеек для государственных крестьян. Новая ревизия делала невозможным само существование «вольных разночинцев» — их всех надлежало записать в подушный оклад, армию, на фабрики. Вопреки распространенному мнению, Елизавета не отменяла смертную казнь; можно говорить только о приостановлении исполнения смертных приговоров.
Официально демонстрировавшаяся приверженность православию имела и оборотную сторону — ограничение веротерпимости. Указы 1741–1742 годов предписывали обратить все строившиеся лютеранские кирки в православные храмы и запрещали армянское богослужение. Дважды — в 1742 и 1744 годах — объявлялось о высылке из империи всех евреев, за исключением принявших крещение. В 1742 году Сенат повелел прекратить разрешенную ранее запись в раскол; возобновилась практика взимания денег с «бородачей» и ношения шутовских кафтанов с красным воротником-козырем для «раскольников» (именоваться «староверами» им было запрещено). В ответ на репрессии в стране вновь начались самосожжения.[305]
Усилился контроль за повседневной жизнью подданных, которым занимались образованные в 1744 году при епархиальных архиереях духовные консистории. Указы Синода начала 40-х годов запрещали устраивать кабаки близ церквей и монастырей, в храмах предписывали никоим образом не вести бесед о «светских делах» и даже на торжественных молебнах не выражать громко свои верноподданнические чувства. Распоряжения светской власти определяли поведение на улице: чтобы «на лошадях скоро ездить и браниться не дерзали». В 1743 году власти попытались ввести цензуру для книг с «богословскими терминами» — в Синоде, для остальных — в Сенате. Появились указы о запрещении «писать и печатать как о множестве миров, так и о всем другом, вере святой противном и с честными нравами несогласном».[306]
Новая власть перенимала из петровского «наследства» не динамику и новаторство, а крепостничество и стремление к всеобщей регламентации. В этом смысле переворот 1741 года консервировал официально канонизированное «наследство» прикрываясь патриотической риторикой.
При этом стоит отметить, что осужденные «внутренние сопостаты» Остерман и Головкин не брали «подарков» от иностранцев, а вот Елизавета и ее окружение в 1741 году пошли на контакты с враждебными России послами Франции и Швеции, содержание которых, будь оно открыто, вполне могло послужить основанием для сурового приговора. После переворота Шетарди на некоторое время стал важной фигурой при дворе Елизаветы.
Именно во время правления «дщери Петровой» характерной чертой российской политической жизни примерно до конца 40-х годов стало соперничество придворных «партии» во главе с иностранными дипломатами и выплата послами «пенсий» своим российским «друзьям».[307] Шетарди и Мардефельд не жалели сил и средств, чтобы знать, что «в сердце Царицыном делается». Для этой цели предназначались «пенсионы» придворным дамам, лейб-медику А. Лестоку и вице-канцлеру М. И. Воронцову, «проходившим» по донесениям Дипломатов как «смелой приятель» и «важной приятель». Лестока прусский посол в Петербурге называл «настолько ревностным слугой вашего величества, будто он находится на вашей службе».[308] Король Пруссии выделил Воронцову «подарок» в 50 тысяч рублей, ежегодный «пенсион» и даже лично инструктировал его в Берлине осенью 1745 года лишь бы свалить своего противника Бестужева-Рюмина, в свою очередь, бравшего деньги у английских дипломатов.
Никуда не делись при Елизавете и «служилые» иноземцы. В 1742 году подали в отставку три генерал-майора (Г. фон Вейсбах, А. фон Тетау, X. Вилдеман), двое из которых были связаны родством и службой с Минихом;[309] позднее покинули Россию генералы В. Левендаль, Д. Кейт и бывший адъютант Миниха X. Г. фон Манштейн.
«Список генералитета и штаб-офицеров» 1748 года показывает, что на российской службе «немцами» являлись два из пяти генерал-аншефов, четыре из девяти генерал-лейтенантов, И из 31 генерал-майора; в среднем звене — 12 из 24 драгунских и 20 из 25 пехотных полковников. Именно при Елизавете генерал-аншефами стали Иоганн фон Люберас и родственник Бирона Лудольф фон Бисмарк; генерал-лейтенантами — Ю. Ливен, В. Фермор, П. Голштейн-Бек, А. де Бриньи, А. Девиц.[310] Остались на службе и другие немцы: брат фельдмаршала X. В. Миних, принц Л. Гессен-Гомбургский, дипломаты И. А. Корф и Г. К. Кейзерлинг.
В новом политическом раскладе Бирон стал лишним — фавориту не к добру выходить из тени. Его образ аккумулировал в себе все отрицательные стороны прошедшего царствования, которые массовое сознание людей той эпохи не могло «приписать» самой государыне — фигура монарха обладала в их глазах своеобразной «презумпцией невиновности». К тому же Бирон не был частным лицом, а отпустить на волю официально проклинаемого владетельного герцога было невозможно. Поэтому никакой «реабилитации» и даже тихого освобождения состояться не могло. Осенью 1742 года Сенат специально обсуждал вопрос о содержании бывшего регента и счел необходимым в Ярославле «быть воеводе надежному»; сенаторы обсудили ряд кандидатур и сошлись на том, что предпочтительнее продлить полномочия действовавшего воеводы, действительного статского советника Михаила Бобрищева-Пушкина — того самого, на которого жаловался Бирон в безответных посланиях к императрице.
Потянулись долгие дни ссылки. Ярославль, конечно, был не похож на затерянный в тайге Пелым, который, кстати, и в наши дни остается местом поселения для отбывших свои сроки заключенных. Жить в богатом волжском городе было намного легче, чем в таежном поселке: Бирону и его семье был предоставлен купленный для них магистратом большой двор купца Макушкина, где дом и «палаты для делания кож» были перестроены и отремонтированы. В квартире появилась привычная обстановка, породистые лошади тешили сердце, а редкие гости скрашивали одиночество опального герцога.
Но ссылка оставалась ссылкой. Мозолила глаза охрана — 25 солдат во главе с поручиком Конной гвардии Николаем Давыдовым. Со сменившим его Степаном Дурново отношения не ладились, и больной герцог в 1753 году горько пожаловался на поручика: «Чрез восемь лет принуждены мы были от сего человека столько сокрушений претерпевать, что мало дней таких проходило, в которые бы глаза наши от слез осыхали. Во-первых, без всякой причины кричит на нас и выговаривает самыми жестокими и грубыми словами. Потом не можем слова против своих немногих служителей сказать — тотчас вступаетца он в то и защищает их».
Скорее всего, вина Дурново состояла в том, что он не позволял герцогу проявлять свой нрав и сурово поступать с несчастными «служителями». Офицер якобы выдал замуж его «арапку» за пастора на «посмеяние всему городу». Бирон был недоволен тем, что гвардеец не выпускал его детей на двор и заставлял герцогского повара готовить для себя. Дурново, отрицавший все обвинения, в итоге после непродолжительного и формального следствия отбыл с повышением в армию.
Подкараульное житье было несладким, тем более что служивые часто находились навеселе и от скуки приходили «в худое состояние», что обнаружил прибывший на смену новый начальник караула капитан-поручик Степан Булгаков. Бирон имел право свободно передвигаться по городу и его окрестностям, но и за воротами дома-тюрьмы его мало что радовало.
Раскинувшийся на волжских берегах Ярославль мало напоминал родные города Курляндии. В XVIII веке он утратил свою роль третьего по величине города страны. Взору Бирона представали полуразрушенные деревянные стены и башни, покосившиеся деревянные дома, кучи помоев с «безмерным смрадом». По улицам просили милостыню заключенные в цепях и «чинила продерзости» скотина, отлично себя чувствовавшая «во рвах и грязях», становившихся порой непроходимыми. Достопримечательностью города являлась огромная лужа — «Фроловское болото» перед одноименным мостом, в которой даже тонули загулявшие обыватели.
Горожане тоже не очень походили на почтенных бюргеров. По второй ревизии 1744–1745 годов в Ярославле насчитывалось 5819 купцов; но власти признавали, что из принудительно записанных в «купечество» лишь немногие «имеют средственное богатство, а большая часть претерпевает скудость». Кроме «регулярных» жителей, имелось еще «фабричных и других разночинцев 2569 душ мужеского пола», из числа подневольных работных людей, нередко вместе с «беспаспортными» бродягами и другими обитателями портового города промышлявших воровством и разбоем.
В 1756 году Сенат указал ярославскому магистрату, что число «воровских партий» на Волге увеличилось; разбойники «грабят и разбивают суда, и до смерти людей бьют, и не токмо партикулярных людей, но и казенные деньги отбираются, и с пушками, и с прочим не малым огненным оружием ездят». Магистрат призвал, чтоб «ярославские обыватели, ежели где таковых воровских людей партий уведают, то всячески бы накрепко ловили, а буде изловить невозможно, то б о таковых злодейских партиях объявляли в командах, где надлежит, в самой крайней скорости». Однако пока законопослушные обыватели по очереди несли ночную стражу от «лихих людей», их же соседи сами «чинили воровства» и «ходили на разбой с товарищами».
Власти присылали воинские команды; но защитники отечества на постое вели себя не лучше неприятеля и поступали с горожанами «весьма озорнически, нанося смертельные побои». Тогда в магистратских книгах появлялись записи: «Солдат имевшуюся при кабаке на качели незнаемую женку ударил по роже, от которого удара оная женка пала замертво». Недовольных обывателей вояки осаждали в их собственных домах так, что «ярославское купечество от страха и угрозов не токмо промыслов производить, но и из домов своих отлучаться не дерзает». Доставалось не только рядовым жителям, но и отцам города. Бравый подпоручик при межевых делах Александр Языков избил одного купца «безчеловечно, да, не удовольствуясь тем, явившись в магистрат, в подьяческой палате еще несколько зашиб». Разошедшегося воина пытались успокоить городские ратманы, которым Языков «с крайним задором говорил, <…> да и он, ратман, мужик, и что он мог и его, ратмана, прибить, а напоследок сказал, что он, подпоручик, на оное присутствие плюет».
Провинциальная жизнь текла в ином измерении, нежели в столице. Ярославское «начальство» еще в 1756 году безуспешно требовало от жителей, чтобы всякого чина люди (кроме церковного причта и крестьян) неуказного платья и бород «отнюдь не носили, под опасением положенных за то штрафов». Самыми распространенными общественными заведениями были кабаки, открывавшиеся нередко рядом с церквами, и во время богослужения их посетители пели разгульные песни и дрались. «Знаменито» гуляли мастеровые, приказные, купцы, а то и сами священнослужители: буйный поп Козмодемьянской церкви вместе с дьяконом как-то избили даже лейб-гвардейца из охраны Бирона. Более изысканные развлечения прививались с трудом; когда купец Дмитрий Соколов надумал продать свою библиотеку, где были и немецкие книги, желающих приобрести их не нашлось. Только в 1749 году в Ярославль была переведена из Ростова духовная семинария, а будущий основатель русского театра купеческий сын Федор Волков служил при «купоросных заводах» своей матери, пока в 1752 году не был взят по именному указу Елизаветы ко двору «для представления комедий».[311]
Гордый герцог не мог найти достойного общества. Кажется, исключение он сделал лишь для владельца Большой Ярославской мануфактуры, богатейшего заводчика Ивана Затрапезного: Бенигна и Петр Бироны в 1743–1746 годах стали крестными двух внуков и двух внучек «фабрикана», что, впрочем, вызвало недовольство властей духовных. Ростовский митрополит Арсений Мацеевич был возмущен действиями нечестивых «немцев». Поскольку с Бироном владыка ничего сделать не мог, то отыгрался на детях и проводившем обряд священнике: младенцев велено было перекрестить, а поп Никита был лишен сана и отправлен в монастырь на покаяние и только после усиленного заступничества знатных прихожан прощен. Для предотвращения впредь подобных инцидентов митрополит издал указ о недопущении «иноверцев» быть восприемниками при крещении православных младенцев.[312] Безусловно, только знатность герцога и влияние купца-миллионера обеспечили благоприятный исход дела; обычно суровый митрополит не стеснялся подвергать ярославцев «духовному исправлению» в виде порки или сидения в архиерейской тюрьме за непосещение церкви или уклонение в раскол.
Помимо архиерея Эрнсту Иоганну приходилось иметь дело с новым воеводой — грубым служакой Иваном Шубиным, который сажал «на цепь» пьянствовавших приказных своей канцелярии, устроил настоящую охоту за старообрядцами-«бородачами» и нещадно штрафовал их.
Вторым после воеводы лицом был полицеймейстер Кашинцев, обращавшийся с горожанами круче, чем гоголевский Городничий. Он брал подношения не только собаками, но колясками и лошадьми, а порой не брезговал насильно уводить их с хозяйского двора. Почтенного купца Василия Крепышова поручик как-то «усильно» взял с собою в гости в Коровницкую слободу, где его напоили до безобразия и заставили петь, плясать и бороться, то есть играть роль шута; после чего бедный Крепышов «в совершенную память придти и точного о своих обидах обстоятельства показать никак не может».
Среди знакомцев Бирона был еще пожилой немец-лекарь Гове, который пользовал герцога, но перед серьезными болезнями был бессилен.
Тяжелый, властный и вспыльчивый характер Бирона постоянно приводил его к конфликтам с окружающими, от которых его семья зависела. Испытание властью навсегда лишило его бывшего обаяния и способности находить общий язык с людьми иного круга. Его товарищи по несчастью, как правило, вели себя иначе.
Выручивший Бирона Лесток сам попал в 1748 году в ссылку в Великий Устюг и жил там бедно, но весело: подружился со своей охраной, которая сама водила к узнику гостей. Компания лихо играла в карты, и Лесток выигрывал себе на жизнь. Ссыльный Миних прожил в заброшенном Пельгме двадцать лет, но не унывал. Он много читал и писал, подавал императрице и ее окружению свои послания и проекты; работал в маленьком саду, где высадил деревья, травы и цветы. Фельдмаршал даже завел коров, а на сенокос устраивал «помочи»: приглашал несколько десятков мужиков и баб и щедро за работу угощал. Он обучал местных ребятишек грамоте, а его жена помогала женщинам и давала крестьянским девушкам приданое из своих средств. В 1762 году пелымцы со слезами проводили его в Петербург, как «отца родного», а Миних на радостях раздал все имущество местным крестьянам.
Хотя герцог жил в таких условиях, о которых большинство знатных ссыльных могли только мечтать, он искренне считал: «Чем нынешняя моя жизнь лутче самой смерти?» — и все более срывал свое недовольство на окружающих. Свояк и братья покинули Бирона. Карл уехал в свое имение, а Густав готовился продолжить службу, но оба внезапно умерли в 1746 году. Бисмарк, как и многие другие немцы аннинского «призыва», опять вступил в строй и стал командующим стоявшей на Украине армии.
Приятелем герцога стал полковник расквартированной в Ярославле «для ловли воров и разбойников» команды Ливен, с которым Бирон и его сыновья ездили на охоту и развлекались в духе вольных баронов. Весной 1746 года Сенат рассматривал дело по жалобе ярославского купца Ивана Анисимова, публично выражавшего недовольство поведением Бирона, который имел с полковником «частую компанию и забавляютца де со псовою охотою, отъезжая от Ярославля по нескольки верст; а з большим де того Бирона сыном ездит в городе Ярославле в разные домы, и оной большой Бирона сын незнамо по какой злобе травил его, Анисимова, своими собаками».
Жалобы дошли до ушей полковника, и в декабре 1745 года его солдаты схватили купца и посадили его в тюрьму на цепь. В новогоднюю ночь сам Ливен избил жалобщика «батожьем» и наутро освободил. От оказанного «вразумления» — или в результате содержания в холодном заточении на цепи — Анисимов заболел и в феврале 1746 года умер, но перед кончиной успел пожаловаться на произвол в «главное место», не доверяя воеводской канцелярии. Дело дошло до Кабинета императрицы, и началось следствие. Однако опытный полковник быстро передал все дела своей команды в соседнюю костромскую воеводскую канцелярию и заявил, что документов по делу о купце у него нет и сам он ярославским властям неподсуден. Дело, кажется, так ничем и не закончилось — возможно, к счастью для ярославской администрации, ведь в соседней Кинешме подчиненный Ливена капитан Федор Романовский сгоряча убил местного воеводу коллежского асессора Бориса Пасынкова.[313]
Лакей Бирона в драке убил одного из поваров, а другой повар Придворной конторы Василий Медведев сбежал «безвестно», так что пришлось выписывать из Петербурга новых «кухмистеров». В 1749 году, не выдержав тирании отца, из дома Бирона бежала дочь герцога Гедвига Елизавета. Рассерженный отец нажаловался Бестужеву на своевольную дочь и на жену воеводы Бобрищева-Пушкина, по чьему наущению действовала беглянка: «2-го числа сего месяца дочь моя распоряжением воеводши Пушкиной из дома моего в пять часов поутру тайно увезена и скрыта. Сначала и в первом страхе мы опасались, что иногда она провесть себя допустила с непостоянною дочерью помянутой воеводши уйти, ибо сия последняя от своих родителей уже и в Туле пред несколькими годами бегала, да и не стыдится за честь себе то поставлять».
Бирон пытался представить этот случай «за злонамеренную интригу от воеводши, единственно для того, чтоб меня и мою фамилию крушить, мучить и досаждать». Однако его обеспокоили заявления Пушкиной об отправке Гедвиги ко двору по «высочайшему указу»: якобы «она принуждена была дочь мою у меня увесть, понеже я инако ее до смерти убил бы».
Опытный придворный, герцог тут же попытался даже из этого скандала извлечь выгоду — использовать императорское внимание к ссыльному семейству для облегчения его участи. Он с негодованием отверг подозрения в грубости по отношению к Гедвиге и в то же время просил об устройстве ее судьбы: «Дай Боже, чтоб ее императорское величество мою дочь, ежели я ее толь великого счастия достойною почитать смею, только из рук воеводши к себе взять соизволила, дабы она еще вящших худых качеств от такой коварной женщины не получила, как она уже то, к сожалению, имеет». Пользуясь случаем, Бирон замолвил императрице слово за других членов своей семьи: «Не был ли я весьма счастлив, когда б ее императорское величество и обоих моих бедных сыновей у меня во всевысочайшую свою службу взять и определить изволила, каким бы то образом ни было, близко ли или далеко, только чтоб я с повседневными еще воздыханиями на то бедство смотреть принужден не был, что они здесь оба без дальнего приличного наставления и воспитания праздно живут». Он все еще надеялся на высочайшую милость, хотя теперь уже признавал, что в былые годы многим «партикулярным персонам какую-либо противность учинил».[314]
Герцог надеялся напрасно. «Увоз» его дочери был хорошо спланированной операцией с участием самой императрицы. Растроганная жалобами Гедвиги воеводша написала письмо лучшей подруге Елизаветы Мавре Шуваловой. Во время путешествия императрицы в Троице-Сергиеву лавру специально командированный капитан гвардии Михаил Козьмин с ведома охраны герцога доставил Пушкину и Гедвигу в монастырь, где дочь Бирона пала на колени перед царицей, залилась слезами и просила о покровительстве и разрешении принять православную веру.[315] Нужный эффект был достигнут: в стенах святой обители дочь поверженного «лукавого раба» — иноземца склонялась перед истинной верой и законной государыней.
Елизавета велела присмотреть за герцогом, чтобы он «какого зла себе не учинил». Но судьба его дочери была решена. Через три недели Гедвига приняла в Москве православие, и ее крестной матерью стала сама императрица. Впрочем, герцог не слишком отчаивался; как только он узнал о том, что его дочь имеет шанс занять место при дворе, то обратился к ней с отеческим наставлением.
Теперь он уже не напоминал о дурных качествах «любезной его сердцу» Гедвиги, а старался внушить ей мысль о необходимости использовать свое положение для освобождения семьи: «Кто больше тебя может иметь случай ходатайствовать за твоих родителей? И кто милостивее ее императорского величества? Императрица еще никогда никого не оставляла коснеть в несчастии и помимо закона помиловала же стольких людей, а в числе их даже тех, которые провинились против нее. Бросься смело и смиренно к ее ногам, проси и умоляй о помиловании твоих родителей и братьев: она непременно сжалится и возвратит нам свободу. Годовщина счастливого дня коронации ее императорского величества приближается, все государство Российское и все, живущие под ее покровительством и скипетром, уже радуются сему, как и мы, бедные, огорченные. Но подумай, любезная дочь, если б Богу угодно было, чтоб этот день положил конец нашему несчастью, какой бы радостью возрадовались мы, уже столько униженные и несчастные, согбенные под бременем нашего креста. Соберись с духом, любезная дочь, проси за нас и не оставь нас тогда, когда все прочие нас оставляют».[316]
Надежды, однако, не оправдались — Гедвига (в православном крещении Екатерина Ивановна) в это время всеми силами пыталась закрепиться при дворе. Маленькая и некрасивая девушка сумела войти в доверие к Мавре Шуваловой и благодаря ей была сделана надзирательницей над фрейлинами; злые языки говорили, что она брала с них плату за непозволительные отлучки в ночное время. Она смогла понравиться гофмейстеру наследника, камергеру Чоглокову, а затем вошла в круг близких друзей самого великого князя Петра Федоровича, которого когда-то отец прочил ей в мужья. Он выказывал девушке «решительное пристрастие», посылал ей лакомства со своего стола и даже советовался с ней по поводу перемены формы голштинских солдат, что означало у Петра высшую форму доверия, но вызывало неудовольствие его жены, которая в записках называла курляндскую принцессу «горбуньей» и «маленьким уродом», хотя и отмечала ее «ум и необычайную способность к интриге».[317]
Дочь Бирона показала отцовский характер и хватку. Она выдержала поединок с будущей императрицей и успешно избежала брака с пожилым и глупым камергером Петром Салтыковым, хотя его сватала ей сама Елизавета. В конце концов принцесса сама нашла достойного жениха — красавца-поручика Преображенского полка барона Александра Ивановича Черкасова, за которого и вышла наконец замуж в 1759 году. Государыня дала в приданое за крестницей 20 тысяч рублей и полную обстановку дома новобрачных, хотя ожидания жениха на придворную карьеру не оправдались.
Среди придворных забот и интриг принцесса не пыталась «умолять о помиловании» родителей — умная и расчетливая фрейлина вполне понимала, что это бесполезно. Кажется, наконец осознал тщетность своих ожиданий и сам герцог — он по-прежнему конфликтовал с охраной, но уже не обращался с просьбами об освобождении. Все уже становился круг друзей и знакомых: вслед за братьями Бирона и Бисмарком скончался в январе 1752 года его верный слуга митавский купец Даниил Ферман. Бирон в письме его жене выразил соболезнование: «Боль и утрата слишком остры. Вы потеряли вашего любимого мужа, а я зато — верность, любовь, благодарность, постоянство, каких в такой полноте не застать мне никогда более на этом свете».
Давал знать о себе возраст. В мае 1754 года Эрнст Иоганн вновь заболел настолько серьезно, что из Петербурга срочно прибыл придворный лекарь Иоганн Пагенкампф. Бирона он выходил, но вскоре после этого заболел принц Петр. Обеспокоенный отец написал отбывшему врачу: «Самой тот день перед вечером после вашева отьезду появилась у него паки жестокая тоска, которая несколько дней без престания продолжалась; от тово употреблялись оставленные пилюли; токмо тоска не унялась; только по нескольких переменностей оной тоски имелось, после того ставили пиявки, и например с один фунт выпустили крови, в первой день после того однако ж и на другой явилось легче».
Для молодых принцев заточение оказывалось еще более мучительным, и они продолжали обращаться к Бестужеву: Петр Бирон сначала просил об определении в службу, затем — уже только о возвращении ему шпаги, назначении пенсии и разрешении жить в Москве. Карл даже пытался бежать из Ярославля, но неудачно; теперь он взывал к жалости: «Ваше сиятельство, предстаете себе двух безщастных персон, кои с самых молодых лет своих, а имянно с 19-ти лет лишенными находясь своей вольности и книг в крайней скуке и печали живут, будучи удалены от приятности человеческой жизни».
Но воззвания к милосердию оставались без ответа, как и представления Августа III. Более того, начавшаяся Семилетняя война подтолкнула императрицу к решению затянувшегося вопроса о курляндском троне; министры Елизаветы полагали после победного конца войны уступить Речи Посполитой занятую русскими войсками Восточную Пруссию, а «во взаимство» получить как бы «ничейную» (хотя и независимую) Курляндию. К тому же в очередную опалу попал Бестужев, слишком рано «переориентировавшийся» на молодой двор в ожидании смерти Елизаветы. Императрица твердо решила бороться до победного конца с Фридрихом II Прусским, а для этого в Курляндии — тыловой базе русских войск — должен был сидеть реальный и строго лояльный к России герцог.
Союзник России в этой войне Август III предложил кандидатуру своего сына Карла Кристиана Йозефа и в 1758 году лишил Бирона герцогского титула. Курляндское дворянство на летнем ландтаге договорилось в последний раз просить императрицу о возвращении Бирона и в случае окончательного отказа согласиться на кандидатуру саксонского принца. После того как новый российский посол в Курляндии надворный советник Иван Симолин объявит, что кандидатура Карла угодна императрице, курляндская делегация в Петербурге благоразумно не стала поднимать вопрос о «реституции» прежнего государя, и в ноябре Карл был избран ландтагом. Он тут же прибыл в Петербург и постарался понравиться при дворе — несмотря на все усилия Гедвиги-Екатерины, успешно настраивавшей против него наследника, который даже отказался встретиться с Карлом, показавшим себя в рядах русской армии трусом. Однако императрица к осени 1758 года после некоторых колебаний согласилась с его кандидатурой.
16 ноября 1758 года Август III подписал сыну диплом об инвеституре, и в феврале следующего года принц Карл явился к своим подданным в Елгаву. Вообще-то он, будучи католиком, не имел права занимать герцогский трон: по законам Курляндии герцог должен быть непременно аугсбургского исповедания. Рыцарство избрало его только под давлением России и вследствие обещаний, что в случае избрания Карла с герцогских имений, арендаторами которых являлись дворяне, будут сложены все прежние начеты.
Тем не менее договорными статьями курляндцы обязывали герцога-католика не строить костелов, не дозволять католическому духовенству публичных цроцессий, иметь советников только из потомственных курляндских («имматрикулированных») дворян и, наконец, воспитать наследника в аугсбургском исповедании. Он не мог распоряжаться герцогскими имениями или отдавать их в аренду, а также покупать в Курляндии земли. Условия договора были невыгодны Карлу, и он не соглашался подписывать его в таком виде. Многие курляндцы отказались присягать ему. Среди баронов произошел раскол на «карлистов», перешедших на сторону саксонца, и «эрнестинцев», оставшихся верными ссыльному Бирону. К тому же передача власти совершилась помимо сейма, да и литовский канцлер М. Чарторыйский отказался приложить к диплому печати: многих магнатов беспокоила прежде всего возможность хоть малейшего усиления королевской власти. Таким образом, оставались юридические основания для признания выборов незаконными, чем впоследствии воспользовалась Екатерина II.
Однако в то время реального сопротивления не ожидалось — победоносная русская армия квартировала в Польше. К тому же Карл безропотно подписал договор с Россией, по которому он получал большинство герцогских имений (за исключением нескольких, доходы с которых шли на погашение долгов Бирона), но взамен обязывался предоставлять гавани русским судам, свободно пропускать через свою территорию русские войска, обеспечивать их провиантом и фуражом и не допускать экспорта зерна, пока не будут заполнены российские военные «магазины» — склады.[318]
Реакции самого Бирона на курляндские события мы не знаем — но он безусловно считал себя законным герцогом и именно этим титулом подписывал все свои письма. Да и императрица Елизавета на ходатайства Курляндии и Польши о возвращении Бирона из ссылки «формально объявить повелела, что для важных государственных причин герцога Бирона и его фамилию никогда из России выпустить не можно». Отказываясь вернуть ссыльного, она в то же время признавала его титул и права на герцогство.
Обращаться к Елизавете Бирон не стал, но с подачи отца это сделали его дети. Карл и Петр Бироны еще до официального утверждения нового герцога написали вице-канцлеру М. И. Воронцову протест против избрания Карла: «Как может учиниться такое странное происшествие против правосудия и благодарности сего достойнаго короля и против славы и истинных интересов Российской империи? <…> Какую импрессию получит Европа, видя безвинную и бещастную фамилию вовсе оставленную, в пользу молодого чужестранного принца. А понеже он из такого дому, которой знатностью и силою гораздо нас превосходит, то оное с интересами России тем меньше сходственно быть должно. С нашим домом совсем иное обстоятельство, ибо оной ничего не имеет и никому иному не предан, кроме России, которой служил он завсегда с усердием».
«Курляндские принцы» не ошибались насчет реального политического значения своего «дома», но их попытка напомнить правителям империи о ее истинных интересах была признана недопустимой. Бирону было указано, чтобы «он и дети его, не злоупотребляя высочайшими милостями, воздерживались от всякой заграничной и в особенности с Курляндиею переписки, под опасением лишения тех, которыми они доныне пользуются». Соответствующее внушение сделали и принцам, которые вынуждены были обещать новому канцлеру М. И. Воронцову отказаться впредь «чинить ее императорскому величеству домогательства» по поводу герцогства. Насчет «импрессии Европы» в Петербурге и подавно не беспокоились — в разгар большой войны великим державам было не до Курляндии.
В довершение неприятностей 11 мая 1760 года «по воле Божеской» в Ярославле случился большой пожар. Весь квартал, где находилось жилище герцога, был охвачен пламенем. Пожар тушила охрана; на помощь прибыли сам воевода Шубин и магистратские члены «со множеством народа и с немалым числом заливных труб»; однако все усилия оказались тщетными — «никоими мерами того двора от сгорения отнять не могли». Сам Бирон на следующий день написал Воронцову: «Сгорело все, что нам в нынешнем нещастливом состоянии некоторою спокойностью служить имело. Герцогиня конечно лишилась бы жизни своей, естли б госпожа воеводша, женщина твердая и разумная, не вытащила ее из самого огня; да и я по сие время живу в доме господина воеводы со всеми моими домашними. Не сумневаюсь я, чтоб ваше сиятельство, будучи тронуты сим случаем, представлениями вашими не старались склонить ее императорское величество к облегчению и окончанию нещастия и печального состояния нашего, ибо мы ныне лишились всего».[319]
«Представлений» не последовало — в Петербурге не собирались менять «состояние» бывшего герцога, но решили обеспечить ему максимально комфортные условия за счет самих горожан. Магистрат отвел для Бирона один из лучших домов города, принадлежавший купцу Егору Викулину. Находившийся под следствием купец отказался отдать свое опечатанное владение; тогда магистрат решил «снять печати и идти к тому дому всем присутствующим и нескольким из первостатейнаго купечества». С помощью кулаков и ружейных прикладов городские власти осилили «противное упрямство» Викулина. Но сам Бирон был новой квартирой недоволен и требовал построить для него дом на том самом месте, где он жил до пожара.
Купечество умоляло Сенат «избавить ярославцов от постройки для бывшего герцога Бирона с фамилиею его нового дома из городского кошту». Отцы города уверяли, что дом Викулина «пространный: каменных теплых и с уборами не малых палат пять, да наверху в светлице для служителей особые избы, да палата, три погреба; для карет и колясок три сарая; конюшня с десятью стойлами; баня со светлицей». Несколько соседних домов магистрат отвел для охраны и прислуги Бирона; но капризный герцог этим «не удовольствовался». Сенат же повелел исполнить его волю.
В Ярославль прибыл из Москвы архитектор — поручик Андрей Лопатин; он составил смету строительства и потребовал от города присылки кузнецов, столяров и каменщиков. Бирон даже начал постройку на свои средства, но купечество было вынуждено собрать по сделанной магистратом раскладке две тысячи рублей. Кроме того, «спаление» палат Бирона вызвало переполох, полиция запретила топить и запечатала печи во всем городе. Массовое недовольство привело к тому, что магистрат разрешил топку печей — но не более двух раз в неделю, по понедельникам и субботам. Надо полагать, горожане долго еще поминали в сердцах опального «немца» за причиненные его присутствием тяготы.
Строительство тянулось долго, осложняясь дрязгами между приставом Булгаковым и представителем магистрата купцом Красильниковым — каждый считал себя вправе распоряжаться работами и особенно выделенными деньгами; между капитаном и магистратом началась ожесточенная переписка по этому поводу. Бирон же все это время проживал в доме Викулина, часть которого сохранилась до нашего времени.[320]
Он так и не дождался новых палат с обширным садом, садовыми павильонами и террасами на спуске к реке, как было задумано по плану. 25 декабря умерла императрица Елизавета. Старый Бирон оживился, немедленно написал Воронцову письмо с выражением «особенной радости» по поводу восшествия на престол нового монарха и надежды на милость «ко мне и к моему огорченному герцогскому дому» и помощь «свойственным для вас снисходительным заступничеством»: «Я же, с моей стороны, и мое глубоко огорченное семейство припадаем к стопам его императорского величества с мольбой о нашем помиловании и освобождении».
В своих записках Екатерина II — возможно, желая подчеркнуть «пронемецкие» симпатии свергнутого ею «урода» — утверждала, что уже в первый день царствования ее муж послал курьеров «для освобождения и возвращения в Петербург Бирона, Миниха, Лестока и Лопухиных». Во всяком случае, официальное помилование семейства Биронов состоялось только 4 марта 1762 года, когда новый генерал-прокурор Александр Глебов объявил указ Петра III об освобождении бывшего герцога и разрешении ему прибыть в Петербург; с этой вестью помчался в Ярославль зять Бирона Александр Черкасов.
Ярославская ссылка закончилась — ровно через двадцать лет. Начались сборы. Несмотря на пожар, имущества у «огорченного семейства» набралось на 118 подвод, целым обозом потянувшихся в столицу. Радовались не только Бироны; их освобождение означало окончание невольной ссылки и для их служителей, и для караульных солдат: молодые вернулись в свои полки, старых и негодных к службе отправили по монастырям. Тем же указом император освободил из пелымской ссылки Миниха. Из Москвы до Петербурга бывшим соперникам довелось ехать друг за другом с разрывом в один день и ночевать в одних и тех же домах.
Шанс вернуться из ссылки с началом нового царствования в «эпоху дворцовых переворотов» выпадал многим опальным — конечно, если они до этого момента доживали. Но немногим удавалось вернуть себе прежние посты и вновь прикоснуться к власти. Бирону повезло и здесь — хотя и не сразу.
Преемнику Бирона в Курляндии не повезло. За четыре года правления принц Карл так и не стал юридически бесспорным герцогом Курляндским. Значительная часть дворянства его не признала — на ландтаге 1761 года дело дошло до драки между его сторонниками и противниками.
С восшествием на престол Петра Ш резко изменилась и русская политика в Курляндии. Российский посланник в Митаве И. М. Симолин, поддерживавший по указаниям из Петербурга Карла, теперь получил прямо противоположные инструкции: «Объявите митавскому правительству, земству и обще всем и каждому сообщите, что мы никогда допустить не можем, чтобы принц католической веры владел герцогским титулом в противность фундаментальных земских уставов».
Екатерина II в мемуарах уверяла, что именно Гедвига Екатерина добилась возвращения Бирона и император даже «обещал дочери возвратить отцу его герцогство и простодушно верил в это до тех пор, пока не приехал принц Георг Голштинский, который со своими сторонниками заставил императора переменить свое намерение и склонил его принудить герцога и его сыновей отказаться от Курляндии». Петр Ш действовал по-своему логично: стратегически важное прибалтийское немецкое княжество должно было иметь безусловно преданного императору главу, и знатный голштинец-дядя подходил для этого более, чем ссыльный и забытый фаворит.
Вернувшийся из долгой ссылки семидесятилетний Бирон попал в затруднительное положение. Безусловно, он должен был быть благодарным освободившему его императору, тем более что Петр немедленно приказал вернуть его конфискованное имущество. С другой стороны, Бирону предстояло отречься от единственного, чего не смогли у него отнять ни Анна Леопольдовна, ни Елизавета, — от своих прав на Курляндию. В качестве утешения обоих принцев-сыновей Бирона Петр III пожаловал в генерал-майоры — высшее, с его точки зрения, звание для настоящего офицера-дворянина. Возможно, отставному обер-камергеру было тяжело находиться среди веселившихся придворных; однако секретарь французского посольства Клод Рюльер отметил, что он вернулся, «не потеряв ни прежней красоты, ни силы, ни черт лица, которые были грубы и суровы». В глазах нового поколения Бирон и другие ссыльные выглядели, по мнению юной княгини Дашковой, как «живые иллюстрации прежних времен, приобретшие особый интерес пережитыми ими превратностями судьбы».
Так смотрел на него и сам Петр III, попытавшийся посреди очередной вечеринки во дворце устроить примирение между Бироном и Минихом: «Он приказал принести три стакана, и между тем, как он держал свой, ему сказали нечто на ухо; он выслушал, выпил и тотчас побежал куда следовало. Долговременные враги остались один против другого со стаканами в руках, не говоря ни слова, устремив глаза в ту сторону, куда скрылся император, и думая, что он о них забыл, пристально смотрели друг на друга, измеряли себя глазами и, отдав обратно полные стаканы, обратились друг к другу спиною».[321] Даже если эта рассказанная Рюльером история не вполне достоверна, она все же показывает, что некогда грозный герцог теперь стал лишь объектом царских шуток.
Ему не могло помочь и обращение к императрице — в то время она «не могла сделать ничего другого, как уверить их, что правота их дела ей известна и что вовсе не от нее зависит помочь им». Петр III прямо предложил герцогу уступить свои права в пользу своего дяди Георга Людвига Голштинского, которому намеревался предоставить совместную защиту России и Пруссии.
В заключенный в июне 1762 года союзный договор с Фридрихом II по настоянию российской стороны была включена секретная статья, гласившая, что поскольку «его королевское высочество саксонский принц Карл отрекся ратификовать заключенные с чинами княжества Курляндского и Семигальского договоры, почему сих княжеств старая форма, устав, вольности и привилегии по делам светским и религии надежности не имеют, и по которому помянутого его королевского величества отрицанию его светлость курляндский герцог Эрнст Иоганн прежние свои права на означенные княжества получил; но в разсуждении оказанных его светлости и всей его фамилии великих от его императорского величества всероссийского милостей, и из признания за оные, его светлость за себя и своих потомков совершенно отрекся от всех на Курляндское и Семигальское герцогства правостей и совсем от оных отказался в пользу его высочества Голштейн-Готторпского герцога Георгия Людовика и его наследников».[322]
Выбора не было. Герцог отрекся от Курляндии 16 апреля 1762 года, что было немедленно «апробовано» императором. Правда, по уверению Екатерины И, «Бироны должны были подписать этот акт отречения» именно в день ее восшествия на престол.[323] Отставного владетеля ожидала спокойная жизнь в одном из дальних имений, о чем он когда-то не слишком искренне мечтал в письмах к Кейзерлингу. Но очередной дворцовый переворот принципиально изменил ситуацию. Отрекаться от престола пришлось уже самому Петру III, который через несколько дней (по-видимому, раньше объявленной официально даты 6 июля) был убит; поколоченный солдатами его же полка принц Георг Голштинский был с почетом выпровожен из России.
Новая императрица, убежденная, что передача Курляндии саксонскому принцу только усиливала позиции его отца — польского короля, задала риторический вопрос: «Неужели деспотический сосед выгоднее для России, чем счастливая польская анархия, которою мы распоряжаемся?»
Однако помимо государственных соображений имелась в виду и реклама собственного милосердия и рачительности. «Россия не должна была кормить эту семью на свой счет. Потому было принято решение возвратить ему Курляндию; создать „герцога“ в первые дни своего царствования тоже не было неприятно Екатерине», — признавалась императрица впоследствии.
«Создание» герцога началось уже через неделю после переворота. Посланник в Митаве Симолин получил указание «отступить от прежних инструкций и под рукою фаворизировать более партию Бирона, нежели других». Дипломат должен был моментально перестроиться, забыв, как только что «фаворизовал» сначала Карла Саксонского, а потом Георга Голштинского. Хорошо еще, что политические убеждения вольных баронов не отличались особенной твердостью, если речь не шла об их собственных правах. Для большей Убедительности императрица велела рижскому генерал-губернатору Ю. Ю. Броуну выслать в распоряжение Симолина армейский батальон с целью предотвращения возможных беспорядков.
4 августа Екатерина объявила, что «по истинному праводушию и по особливой к его светлости герцогу Эрнсту Иоганну императорской милости» она собирается «способствовать восстановлению его во владении взятых у него герцогств курляндского и семигальского». Тогда же был подготовлен проект договора («Жалованного и уступного акта») с герцогом.
Согласно этому документу, Россия возвращала Бирону «княжество» Курляндию и особо — его же секвестированные «маетности». Герцог, в свою очередь, «торжественнейше» заявил об отказе «за себя и наших ленопреемников от всех чинимых иногда на Российскую империю претензий», что означало юридическое окончание его прав регента (ведь свергнутый император Иоанн 111 в это время был еще жив). Он обязался гарантировать свободное отправление православной веры, построить в Митаве «грекороссийскую» церковь, оставить розданные русскими властями герцогские владения за их нынешними арендаторами, предоставить свободу торговли русским купцам и обеспечить беспрепятственную работу русской почты. Курляндия провозглашала «вечное неутральство»; но при этом русская армия получала право свободного прохода по территории герцогства и обеспечивалась квартирами, фуражом и продовольствием из расположенных на ее территории русских «магазинов»; флот получал доступ в курляндские порты Митаву и Либаву; наконец, воспрещался вывоз хлеба в недружественные России страны.[324]
Довольная Екатерина в письме к Кейзерлингу поспешила рассеять возможные подозрения Речи Посполитой: «Мои намерения весьма далеки от того, чтобы захватить Курляндию, и я вовсе не склонна к завоеваниям. У меня довольно народов, которые я обязана сделать счастливыми, этот маленький уголок земли не прибавит ничего к их счастью, которое я поставила себе целью. Но, взявшись за дело правое и потому славное, я буду поддерживать его со всею твердостью, какою Бог наделил меня».
Склонность к завоеваниям появится у императрицы несколько позже и спустя тридцать лет позволит «осчастливить» маленькую Курляндию. Пока же стояла более скромная задача: «водворить» на курляндском троне «нашего собственного герцога»; чуть позже Екатерина так же сделала королем Польши Станислава Понятовского. В обоих случаях логика действий одинакова: и Курляндия, и Речь Посполитая должны были находиться под влиянием России и играть роль буфера между ней и двумя германскими монархиями — Австрией и Пруссией.
Именно таким было заключение Коллегии иностранных дел, полагавшей, что «гораздо сходнее с здешними интересами иметь в толь близком с Россиею соседстве герцога ни собственною особою не весьма знатного, ниже свойством к великим дворам привязанного, но по состоянию своему зависящего наипаче от здешней стороны». Имелось, правда, небольшое осложнение в лице герцога Карла, посаженного в свое время на престол при поддержке России. Но в таком случае надлежало действовать «как бы по желанию рыцарства» и — формально — с «усмотрения» польского короля, до сведения которого следовало это волеизъявление донести.
Для начала надо было предъявить «нации» подлинного герцога. 22 августа Бирон получил прощальную аудиенцию — императрица торопилась в Москву на коронацию. Прощание было приватным и не отмечено в церемониальном камер-фурьерском журнале. В былые годы фаворит счел бы это оскорблением — теперь же приходилось терпеть, тем более что Екатерина приказала выдать ему 20 тысяч рублей в качестве компенсации за отобранный в казну драгоценный сервиз. Накануне он как раз принял прибывший из Москвы обоз с 80 пудами своего конфискованного в 1740 году имущества, которое приказал ему вернуть еще Петр III. Ехать безместному герцогу пока надлежало в Ригу — из Курляндии еще предстояло «выбить» его соперника. Туда уже понеслись курьеры с указами Екатерины губернатору Лифляндии Ю. Ю. Броуну и послу в Митаве И. М. Симолину: любыми средствами «отвратить» приезд Карла Саксонского в Россию, куда почуявший недоброе принц стремился попасть, чтобы лично объясниться с новой императрицей. В сентябре Бирон прибыл в Ригу, где его было приказано принять как «владетельного принца»; там он инструктировал своих сторонников.
Первоначально Екатерина и ее советники надеялись мирно уладить «курляндское дело», предоставив Карлу «компенсацию» за счет каких-либо германских владений, рассчитывая при этом на согласие польского короля, официально извещенного о признании прав Бирона. Но Август III, сначала как будто согласившийся с требованием Петербурга, затем обратился за поддержкой прав Карла к другим державам — Франции, Австрии, Испании.
Екатерина II назначила Симолина министром России при герцоге Эрнсте Иоганне, и дипломат доложил в Петербург об аудиенции, во время которой он «вручил ему (Бирону. —
Нужно было найти «пристойный» повод для давления на Карла; таковой, как обычно в таких случаях, не замедлил представиться. Возвращавшиеся через Курляндию войска нуждались в продовольствии, и Петербург предписал герцогу его изыскать. Карл имел неблагоразумие отказать, и на все его доходы был наложен секвестр; дворянам же было велено объявить устами Симолина, что они рискуют повторно уплатить арендные деньги, если внесут их в герцогскую казну. От баронов требовалось созвать «братскую конференцию», отказать в доверии Карлу и обратиться к России за помощью в деле восстановления законного «отца-герцога».
Однако сценарий дал сбой. Саксонский принц считал свое дело правым. У него имелись сторонники (во главе их стоял обер-гауптман Гейкинг), а дворяне не желали по команде из Петербурга участвовать в свержении герцога, которого сама же Россия навязала им несколькими годами ранее. Переговоры с Карлом затягивались, и Бирон в раздражении призывал Симолина действовать «без церемоний».[325] В свое время он лично так бы и поступил, но теперь от старого Бирона мало что зависело. Грубый захват власти в независимом государстве в мирное время был бы слишком неприличным для Екатерины, только что совершившей эту процедуру в России. «Чужестранным дворам» вежливо разъяснили, что «императрица предоставляет восстановление Эрнста Иоганна на решение курляндского рыцарства и республики польской».
30 декабря Бирон неожиданно явился в Митаву. Он распорядился созвать «братскую конференцию» и в тот же день отбыл обратно — видимо, потому, что соперник опять не испугался, а поддержка «рыцарства» хоть и имела место (герцога встречали примерно 200 дворян), но была не слишком убедительной. Повторное и уже окончательное возвращение состоялось 10 января 1763 года, когда Бирон въехал в свою столицу. «Все обыватели города купно с рыцарством отличные знаки своего удовольствия и радости при сем случае оказали», — доложил в Петербург Симолин. Посланник постарался на совесть, пригрозил митавскому магистрату солдатской «экзекуцией», если герцог не будет встречен с «оказательствами любви и совершенной преданности». Под салют русских пушек и с охраной из русского батальона Вирой избрал временной резиденцией дом покойного друга, купца Фермана.
«Выбивать» упрямого Карла предстояло Броуну и Симолину. Первому императрица поручила встретиться с саксонским принцем и убедить его «уступить времени и обстоятельствам, которые столь решительно жребий его определяют»; второму надлежало организовать дворян для обращения к России на предмет «выпровождения» неудачного герцога. Но Карл никак не хотел признавать свой «жребий» и отвечал, что без королевского указа выехать не может. А «рыцарство» не желало устраивать требуемый спектакль, несмотря на зачитанную Симолиным на собравшейся «братской конференции» ноту, в которой подчеркивалось, что Россия не признает никакого герцога, кроме Эрнста Иоганна Бирона. Однако делегаты заявили, что не подвергают сомнению права Бирона, но не могут признать его, так как в Митаве находится иной правящий герцог Карл. Окончательное решение вопроса откладывалось и переносилось в Варшаву. Симолина — уже неофициально — просили поскорее убрать Карла, после чего «рыцарство» считало возможным объявить о возвращении вакантного престола старому герцогу.
От юридических тонкостей и проволочек императрица потеряла терпение и 22 февраля приказала дать Карлу 24 часа на выезд.[326] Тут уже проявил осторожность Броун — не выволакивать же, в самом деле, особу королевских кровей из дворца, тем более на глазах у прибывших в Митаву польских сенаторов Платера и Липского. Противостояние затянулось еще почти на два месяца. Оно закончилось, когда исчезли надежды Карла на польскую помощь, а сам он был так «обставлен» русскими войсками в собственном дворце, что, как писал сам, «оставался при воздухе и воде». Созванный королем сенат оказался фактически расколот: не только сторонники прорусской группировки — «фамилии» Чарторыйских, но и многие их противники не желали обострять отношения с Россией ради интересов саксонской династии. Без санкции сенаторов Август III 15 апреля 1763 года объявил Бирона узурпатором и освободил курляндское рыцарство от данной ему присяги. Однако курляндцы были не расположены подвергать себя риску ради Карла, имея перспективу солдатского постоя и «экзекуций» — на границах маленького герцогства стояла 40-тысячная русская армия. На стороне Карла было правительство Курляндии — оберраты; но сторонники Бирона по его приказу запечатали судебную камеру и герцогскую канцелярию, чем парализовали управление. Последними передумали гвардейцы Карла — и тут же предложили свои услуги российской армии.
16 апреля герцог сдался: накануне он устроил прощальный ужин для оставшихся ему верными двух десятков сторонников и поутру со всем своим двором беспрепятственно отбыл из блокированного митавского замка в Дрезден к смертельно больному отцу. Во дворец въехал Бирон, а к лету Курляндию покинули польские комиссары — сенаторы Платер и Липский. «Курляндское дело» успешно завершилось.
Весной 1763 года, как и четвертью века ранее, Бирон принимал поздравления. Казалось, все вернулось на круги своя — но едва ли старый и опытный герцог не понимал разницы. В свое время он также занял курляндский престол с российской помощью — но тогда это была
Теперь ситуация была иной. Герцог был чужим, странным осколком прошлого при петербургском дворе, и только удача вернула его на короткое время в большую политику. Трон достался Бирону исключительно по причине несовпадения интересов Российской империи и саксонской династии, а также благодаря стремлению союзницы России Пруссии ослабить австро-саксонский союз. Не случайно Фридрих II отказался поддержать Карла и прислал поздравительное письмо Бирону.
Теперь он мог быть только чужим орудием, притом орудием второстепенным. Российская дипломатия имела в 1763 году уже более масштабную цель: поставить под свой контроль всю Речь Посполитую с помощью выборов нового короля — Станислава Понятовского. Ради этой цели русские послы в Варшаве поддерживали свою «партию» — «фамилию» Чарторыйских, а военное командование подтянуло к западным границам значительные силы — треть армии. С помощью русских войск «фамилия» разгромила своих противников, и на сейме в августе 1764 года Понятовский — единственный претендент — был избран.
При таком раскладе Бирон становился политической фигурой уже не второго, а третьего ряда. Признание его титула маскировало зависимость герцога от могущественного соседа, которому надлежало угождать: при Петре III Бирон отказался за себя и своих детей от курляндских прав, а при Екатерине II сделал вид, что никогда не отрекался, и послушно принял продиктованные ему условия. Хотя формально статус герцогства как вассального владения польской короны не изменился, подписанный Бироном «акт» превращал Курляндию в протекторат России, который «в покровительстве нашем непременно содержан будет». Попытка герцога получить гарантии со стороны Пруссии провалилась: Фридрих II, как союзник России, в поддержке вежливо отказал.
Герцог на деле становился русским губернатором. Но что Бирон мог сделать? Лишь позволить себе, как и в 1737 году, не поехать на поклон в Варшаву: там другой «сделанный» Екатериной II монарх, Станислав Август Понятовский 31 декабря 1764 года на торжественной церемонии вручил его сыну Петру Бирону курляндский лен и спустя несколько дней выдал ему герцогский диплом со всеми необходимыми печатями и атрибутами. Правда, перед этим принц-наследник испрашивал разрешения императрицы прибыть в Варшаву на коронацию Станислава Августа, чтобы участвовать в официальном утверждении сеймом своего отца на герцогском престоле. Подобное «дозволение» демонстрировало фактически двойной суверенитет над Курляндией — формальный польский и реальный российский. Отныне на все саксонские претензии российским дипломатам надлежало «коротко ответствовать, что нынешний герцог получил из России увольнение, возвратился в свои княжества как законный их герцог, в чем утвержден и от республики польской, получа от оной инвеституру, и так о сем, как о решенном деле, нечего больше и упоминать».
Перед этим отцу и сыну Биронам пришлось постараться: летом 1764 года императрица отправилась инспектировать прибалтийские владения. Герцог с супругой и сыновьями прибыл встречать государыню под Ригу, был милостиво допущен к руке и упросил посетить его владения. Несколько Дней он сопровождал Екатерину, а потом отбыл, чтобы 13 июля встретить ее уже на границе Курляндии и предоставить карету с лучшими лошадьми из своих конюшен, что Для герцога означало высшую степень уважения. В свите царицы Бирон прибыл в Митаву и во дворце, опустившись на колени, целовал руки своей благодетельнице. Во время парадного обеда Карл и Петр Бироны стояли за спиной императрицы и прислуживали ей за столом — как когда-то их отец Анне Иоанновне.
Пышный двор, музыка, пушечная пальба, парад «полка его светлости» — все это на мгновение напомнило о блеске ушедшей эпохи. Но праздник быстро завершился: Екатерина продемонстрировала поддержку своей «креатуре», вручила орден Святого Андрея Первозванного его наследнику и вечером отбыла обратно в Ригу. Впрочем, она осталась довольна и писала министру иностранных дел Н. И. Панину: «Герцог принял меня с великолепием, и медаль нарочно сделал для приему, и деньги кидал в народ. После стола я сюда обратно (в Ригу. —
Слабость старого герцога сознавали и его подданные. 22 июня 1763 года курляндский ландтаг принес присягу Бирону, однако значительная часть дворян отказалась его признать. Сражения «карлистов» и «эрнестинцев» развернулись не на полях Курляндии (кто бы им это позволил?), а в печати. Саксонский тайный советник Э. Ваттель издал сочинение, в котором обосновывал незаконность полномочий Бирона. На дипломе 1737 года была поставлена печать Августа III, а не Речи Посполитой; далее автор рассказал, как посол Симолин при помощи русских войск выставил герцога Карла из Митавы. Ваттелю возражал Кейзерлинг, оценивший опус оппонента как «набор слов, кишащий подложными обстоятельствами, грубейшей ложью и клеветническими высказываниями», поскольку сам король еще в 1736 году предлагал герцогство только Бирону и более никому.
Другой упорный «карлист», гауптман Вильгельм Гейкинг сравнивал двух герцогов и находил, что «если одного знаменует добродетель, человеколюбие, справедливость, великодушие и поступки, доказывающие то, что великий правитель и принц по происхождению наделен нежнейшим и добрейшим сердцем, полным любви, то другого, наоборот, характеризует зловредность, корыстолюбие, властолюбие, жестокость характера, похоть, гонения и подлинный ужас». Нахальный гауптман подал формальный протест против восстановления на престоле Бирона. В ответ «эрнестинец» Иоганн Герхард фон Гротгхус находил, что Гейкинга как «монстра, увидевшего свет Божий к ужасу всех истинных и верных патриотов и <…> раскрывающего черную душу автора, не следовало бы удостаивать ответом, а призвать к ответственности по всей строгости закона».[328]
Можно отдать должное наступившей свободе печати — при Анне Иоанновне едва ли кто отважился публично обнаружить у Бирона «зловредность» и прочие перечисленные качества. Но теперь ему, бывшему всемогущему регенту Российской империи, к чьему мнению прислушивались венский и лондонский дворы, когда-то дававшему в долг самому Фридриху Прусскому, приходилось терпеть эти мелкие укусы и взаимное поливание грязью.
Ссылка не сломила герцога, но он был уже стар, устал и к тому же понимал, что его власть и независимость призрачны. Обстоятельства его второго «восшествия» на престол показали, что Россия взяла курс на раскол курляндского дворянства и впервые открыто поддержала часть его для свержения неугодного герцога. Что мешало повторить этот опыт еще раз — притом неугодным мог стать он сам?
Основания для таких опасений были. Бароны были недовольны условиями герцогского договора с Россией, утвердившего постоянное пребывание российской армии, ограничение курляндского экспорта и преимущества российских купцов. Хотя протест Гейкинга был отклонен королем и даже сожжен на рыночной площади Варшавы, несколько курляндских ландтагов так и не решили вопрос о присяге «рыцарства» герцогу, так как недовольных было слишком много. В марте 1765 года депутаты ландтага отвергли попытки герцога увеличить поборы в казну, рассматривая его право собирать налоги на содержание войска вместо рыцарского ополчения как «давно забытую военную повинность» и проявление «нероновской тирании». Ландтаг отправил послов в Варшаву с протестом против действий Бирона, ущемлявших права дворянства. Не добившись успеха у короля, бароны неоднократно требовали явки своего герцога к суду: Бирона обвиняли в том, что он, опираясь на силу, незаконно захватил власть и герцогские доходы, не соблюдал «форму правления», без решения суда и ландтага назначил новых гауптманов и ландгофмейстера и передал им арендные владения прежних должностных лиц.[329] К тому же Бирон не простил «карлистов»: с одними он разрывал договоры об аренде герцогских имений, с других (уплативших арендные сборы Карлу) взимал повторную арендную плату. Все эти меры проводились под угрозой или с применением силы российскими войсками.
Хотя после смерти Августа III претензии принца Карла на курляндский престол стали беспочвенными, Бирон терял сторонников. Многие воздержались от присяги; другие (ландгофмейстер Ховен, обер-гауптманы Гейкинг и Мирбах, ряд гауптманов) перешли в открытую оппозицию. Побывавший в Курляндии князь М. Дашков в марте 1764 года полагал даже, что Бирону «без русских солдат отнюдь здесь не княжествовать: столько от курляндских дворян непочтен». В 1766 году Екатерина уже открыто пригрозила противникам герцога, что прикажет «корпусу войск своих в Курляндию вступить и расположить в маетностях противомышленников и ослушников на собственное содержание их». Но сама она уже смотрела на «собственного герцога» как на вздорного старика, не выучившегося к 70 годам «ласково и учтиво обходиться с людьми». Ему же она терпеливо указывала, что «предпочтительнее достигать намерения своею умеренностью, нежели силою».
Посла Симолина беспокоило, что герцог не отмечал «ласками» и наградами преданных дворян и в то же время не проявлял твердости в обращении с противниками, хотя порой и грозил их «разорить». Но ради чего было стараться? Некогда энергичный и властный, Бирон теперь все меньше занимался делами, передавая их старшему сыну Петру. Что же осталось от былого величия? Пожалуй, только любимые резиденции и дворцы, напоминавшие о лучших днях, силе и славе. Уже в 1763 году замершее на двадцать с лишним лет строительство было возобновлено. Многое приходилось создавать заново: паркет, деревянные панели, печи, живописные плафоны в свое время были отправлены в Петербург и теперь украшали залы Летнего, Зимнего и Аничкова дворцов. Бирон без особого труда уговорил великого Растрелли переехать в Митаву и назначил его «обер-интендантом герцогских построек». Но для самого зодчего — «обер-архитектора, генерал-майора и кавалера графа де Растрелли» — это был уже закат карьеры. Его время также закончилось, и императорский двор более не нуждался в его причудливой барочной роскоши.
Министр Симолин поручил зодчему отстроить заново обветшавшую православную церковь Симеона Богоприимца. Под руководством старого мастера восстанавливались и переделывались интерьеры дворцов в Рундале. Но даже в обустройстве своих владений герцог был уже не волен. Из Петербурга в Елгаву приехал и стал придворным архитектором Иоганн Зейдель; в 1766 году Зейделя сменил датчанин Северин Енсен, прибывший по выбору Петра Бирона. По приказу Екатерины II проект православной церкви был передан для выполнения петербургскому мастеру Антонио Ринальди; Растрелли, чтобы обеспечить будущее своей семьи, вынужден был конкурировать с ним, доказывая превосходство своего замысла. Он победил — но строительство безнадежно затянулось, и открытие храма состоялось только в 1780 году.[330]
В мае 1765 года Эрнст Иоганн со своим двором прибыл в еще не отделанный до конца Рундальский дворец и, несмотря на неудобства, строительный шум и мусор, провел там все лето — это место до самых последних дней осталось для него любимой летней резиденцией. Начались работы в Митаве и других загородных домах Бирона — Светхофе и Грюнхофе, куда герцог, как сообщала газета «Mitauische Nachrichten», приезжал с сыном на охоту и где задумал новое строительство. Впрочем, его вел уже сын, а Растрелли вынужден был на старости лет переквалифицироваться в «челнока»-коробейника и зарабатывать на жизнь оптовой закупкой картин итальянских художников для их розничной продажи в Петербурге.
Годы брали свое. А тут еще газеты оповестили, что любимец Бирона, младший сын Карл ухитрился за подделку векселей попасть в Париже в Бастилию. В декабре 1768 года Бирон серьезно заболел, и Броун доложил Екатерине II, что курляндский владетель находится «при последнем уже конце». На сей раз старому герцогу опять посчастливилось — он выздоровел, но понял, что его земной круг подходит к концу. Он написал завещание, и 3 января 1769 года его удостоверили свидетели: ландгофмейстер и оберрат О. Г. фон дер Ховен, обер-бургграф и оберрат О. Ф. фон Засс, канцлер и оберрат И. Э. фон Клопман, ландмаршал и оберрат Д. Г. фон Мед ем. 13 февраля 1769 года завещание утвердил король Польши Станислав Август.
Секретов в нем не было. Первый «настоящий» фаворит ушел также «по-европейски»: несколько месяцев спустя, 14 (25) ноября 1769 года, Эрнст Иоганн официально и окончательно передал управление Курляндией сыну Петру. Формально это было просто, потому что в 1765 году Петр получил инвеституру одновременно с отцом. Фактически он и так во второй половине 60-х годов управлял делами: подпись принца встречается почти на всех документах герцогской канцелярии и казенной палаты. В декабре 1770 года в Варшаве герцог Петр и его брат принц Карл (второй сын Бирона еще при жизни отца отрекся от своих герцогских прав) договорились о предстоящем разделе отцовского наследства.
8 декабря 1772 года под звон колоколов семейство герцога переехало в новый столичный дворец. Эрнст Иоганн еще Успел напоследок полюбоваться отделкой кабинета своей главной резиденции и 17 (28) декабря 1772 года скончался от инфаркта на 83-м году жизни. Гроб его в склепе Митавского замка впоследствии был открыт, и забальзамированное тело оказалось удивительно сохранившимся. Герцог лежал в кафтане из коричневого бархата с нашитой на груди российской Андреевской звездой. Бенигна пережила мужа на 11 лет; она одиноко жила в Рундале и в другом принадлежащем ей имении Светгоф и издала свои духовные стихи, написанные за время ссылки.
Фортуна улыбнулась герцогу в последний раз: он умер владетельным принцем, пережив многих врагов, а главное — вовремя. Вместе с ним завершили свой жизненный путь другие герои времен Анны Иоанновны и Елизаветы. В 1764 году скончался старый дипломат Г. К. Кейзерлинг, в 1766-м — бывший канцлер А. П. Бестужев-Рюмин и бывший президент Академии наук И. А. Корф; в 1767-м — фельдмаршал Б. X. Миних; бывший генерал-прокурор, фельдмаршал и подполковник гвардии Н. Ю. Трубецкой; канцлер М. И. Воронцов, бывший лейб-медик Арман Лесток; годом раньше Бирона из жизни ушел его добродушный преемник на «посту» императорского фаворита — Алексей Разумовский.
Вместе с ними сходили со сцены представители младшего поколения петровских «птенцов» и те, чья карьера протекала уже после смерти великого преобразователя. Они творили «эпоху дворцовых переворотов», становились ее героями и жертвами, создали «дух» своего времени, его «партии» и его мораль. Но теперь они уходили вместе со своей эпохой и, кажется, осознавали эту свою «особость», отличие от нового поколения. На просьбу Екатерины II рекомендовать кого-либо на свое место старик Иван Иванович Неплюев ответил: «Нет, государыня, мы, Петра Великого ученики, проведены им сквозь огонь и воду, инако воспитывались, инако мыслили и вели себя, а ныне инако воспитываются, инако ведут себя и инако мыслят; итак я не могу ни за кого, ниже за сына моего ручаться».
На смену им шли «екатерининские орлы» — ровесники, и младшие современники императрицы: ее полководцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Н. В. Репнин, М. В. Каховский), администраторы (А. А. Вяземский, А. И. Бибиков, Г. А. Потемкин, А. Р. Воронцов, Я. Е. Сивере, П. Д. Еропкин, Г. Р. Державин), дипломаты (А. А. Безбородко, Д. А. Голицын, С. Р. Воронцов) во главе целого поколения «инако воспитанных» дворян, которые тоже умели ценить лошадей и охоту, но уже могли выражать свои патриотические чувства, не напиваясь до бесчувствия во дворце и не заверяя в своей неспособности к чтению книг. Для них привычными становились чувство собственного достоинства, чести, а то и независимости, в том числе даже от высочайших милостей.
В эту плеяду Бирон не смог бы вписаться. Не сумел сделать этого и его сын, унаследовавший отцовский темперамент, но не его хватку в обращении со «счастливым случаем». Петр пытался идти в ногу со временем и иногда выказывал модную любовь к просвещению: основал в 1774 году академическую гимназию в Митаве и учредил ежегодную премию в тысячу червонцев при Боннском институте наук (Institutes Bononicus). Но он так и не смог восстановить испорченные отношения с дворянством, чьи представители постоянно жаловались на герцога и в Варшаву, и в Петербург. К тому же принц отличался буйным нравом и порой во хмелю поколачивал своих жен. Бурная личная жизнь Петра Бирона вызвала неудовольствие императрицы, чего его отец никогда не допускал.
В 1772 году Петр развелся с принцессой Каролиной Луизой Вальдекской, и Екатерина II сосватала ему княжну Евдокию Юсупову, дочь верного клиента старого Бирона. Брак оказался несчастливым; жена не стала сносить грубости мужа, развелась с ним и блистала в Петербурге на придворных балах. Бесконечные жалобы курляндцев на герцога подали идею фавориту и мужу императрицы Г. А. Потемкину получить герцогство себе, и Екатерина в 1776 году даже дала соответствующее указание послу в Речи Посполитой. Но когда стало известно, что курляндский престол может достаться очередному фавориту, дворяне заключили с герцогом Петром соглашение: «рыцарство» присягнуло в верности герцогу, а он признал все розданные в правление герцогов Кетлеров ленные имения полной собственностью их владельцев.
Натолкнувшись на сопротивление, осторожная Екатерина указала своему «Гришеньке» на неуместность подобных претензий ради сугубо личных целей: «Справедливого или ложного недовольства какого-нибудь беспокойного подданного недостаточно для удовлетворения Европы. Недовольство, которое я могу иметь в деле его (Петра Бирона. —
Петр остался герцогом и наконец обрел счастье в третьем браке с графиней Анной Шарлоттой Доротеей Медем. Екатерина обиделась: можно ли «каждую неделю признавать новую герцогиню?» Но Петр старался императрицу больше не сердить: в 1783 году он заключил торговый договор с Россией, который ограничил внешнюю торговлю Либавы в пользу Риги. Отцовское наследство он не растранжирил, а приумножил — в 1786 году купил у князя Лобковица княжество Саган (пять городов и 147 деревень), а в 1792 году у князя Пикколомини — владение Наход. Однако конфликты с подданными привели к тому, что герцог большей частью проживал за границей, и только обаяние и дипломатические способности его супруги помогали избежать открытого разрыва.
Революционные потрясения и войны конца XVIII столетия докатились и до Курляндии: горожане создали «бюргерскую унию» и стали требовать участия в управлении и права занимать государственные должности, а недалекий герцог пытался опереться на бюргеров в борьбе с дворянством к вящему неудовольствию Петербурга. Сначала российские дипломаты еще пытались помирить герцога Петра с курляндским «рыцарством». Но польское восстание 1794 года продемонстрировало слабость Курляндии, где мятежники без труда захватили Митаву и Либаву. Напуганные контрибуцией и лозунгами равенства бароны в лице своего лидера фон дер Ховена обратились к императрице с просьбой «отдаться под покровительство России» — правда, при «сохранении особых прав и привилегий герцогской фамилии, рыцарства и земства». Петр Бирон присоединился к этой декларации — но после штурма Суворовым восставшей Варшавы дворяне были готовы подчиниться воле императрицы и без предварительных условий.
Судьба Курляндии была окончательно решена в ходе начавшихся осенью 1794 года переговоров России, Пруссии и Австрии о последнем разделе Речи Посполитой. В процессе дележки российские дипломаты заявили о намерении присоединить Курляндию, что не вызвало никаких споров. Прибывший в Петербург Петр Бирон еще пытался отстаивать свои герцогские права. Но депутаты ландтага без всяких оговорок признали присоединение Курляндии к Российской империи и приняли манифест об «отречении от существовавшей поныне с Польшей связи» и «Акт благородного рыцарства и земства герцогств Курляндии и Семигалии о подвержении их ее императорскому величеству».
Рижский губернатор П. А. Пален и Ховен постарались, чтобы дворянство не только сменило сюзерена, но и добровольно отказалось от самого принципа вассальной, то есть условной зависимости, несовместимого с самодержавной властью. В результате гордые бароны признали: «Долженствовали мы натурально не только почувствовать необходимость подвергнуться вновь высшей державе, но и возыметь желание, при отречении от существовавшей доныне верховной власти, отказаться и от прежней ленной системы и происходящего от оной правления и подвергнуться сей высшей державе не посредственно, но безпосредственно».[332]
Избранные ландтагом делегаты во главе с Ховеном направились в Петербург просить герцога отказаться от власти. Долго уговаривать его не пришлось: 28 марта 1795 года Петр подписал отречение, в котором указал, что только безусловное «подвержение его отечества Российской империи может основать прочное Курляндии благополучие». За это признание, а также за свои коронные и частные владения он получил два миллиона талеров, хотя из этой суммы более миллиона пошло на уплату долгов; кроме того, ему была назначена пожизненная пенсия в 100 тысяч талеров.
15 апреля 1795 года курляндская делегация на придворных каретах прибыла в Зимний дворец. Во время торжественной аудиенции вице-канцлер положил привезенные акты на покрытый золотой парчой стол и прочел манифест о присоединении Курляндии на вечные времена к России. Депутаты преклонили колени, были допущены к руке ее величества и принесли присягу на верность новому отечеству. Назначенного генерал-губернатором Палена жители Митавы встретили с восторгом; улицы города были украшены флагами, коврами и гирляндами с вензелями императрицы; слышались звон колоколов и пальба из пушек. Императрица сохранила оклады членам бывшего верховного управления пожизненно, раздала покладистым баронам две тысячи крестьянских дворов, чины и ордена; их отпрысков принимали на службу в гвардию. В мае 1795 года герцогство стало Курляндским наместничеством (с января 1796 года — губернией) Российской империи. О «старых добрых временах» и герцогской фамилии никто не вспоминал: экс-герцог Петр тихо отбыл навсегда в свои немецкие владения. До такого унижения старый Бирон не дожил — все-таки судьба оказалась к нему милостива.
Скажем честно, герой этой книги Эрнст Иоганн Бирон — не самый симпатичный и выдающийся из персонажей отечественной истории. Сильный, гибкий, энергичный и в то же время жестокий, злопамятный — в общем, достаточно сильно испорченный доставшейся ему огромной властью. Но так уж получилось, что именно его личность и деятельность наглядно отразили свою эпоху — время культурного конфликта старого и нового, что в российских условиях осмыслялось как противостояние своего и чужого.[333]
Бирон пришел в Россию через обустроенное Петром I прибалтийское «окно» среди других «немцев». Но он смог стать одним из самых влиятельных политиков в послепетровской России именно потому, что выстроенный в ходе реформ политический механизм объективно нуждался в фигуре фаворита, чтобы освоить колоссальный объем власти, сосредоточенной в руках государей и государынь, не обладавших хоть в малой мере уникальными способностями Петра Великого.
Конечно, мелкому курляндскому дворянину сомнительного происхождения помог «его величество случай»: расторопный управляющий сумел не только войти в доверие, но и найти дорогу к сердцу московской царевны; она, в свою очередь, внезапно из захолустной вдовы превратилась в российскую императрицу. Удачей было также совпадение масштаба личности и интеллектуального уровня фаворита с «запросами» Анны Иоанновны и — шире — со «стандартами» придворного круга послепетровской эпохи.
Но уже сам Бирон с успехом освоил новую для российского двора роль и превратил малопочтенный образ ночного «временщика» в настоящий институт власти с неписаными, но четко очерченными правилами и границами. Вероятно, в какой-то степени это явление можно рассматривать как определенный шаг на пути «европеизации» России, хотя и сделанный несколько специфическим образом. После Бирона, к середине века институт фаворитизма окончательно «встроился» в систему российской монархии: «случайные люди» заняли в ней свое место, их взлеты и «отставки» стали проходить по налаженной схеме, не вызывая потрясений всей государственной машины и переворотов с казнями и ссылками.
Иван Иванович Лажечников в споре с Пушкиным был, пожалуй, все же не прав, когда писал, что Бирон «имел дерзость сесть не в свои сани». Бирон как раз вовремя и на редкость удачно вступил в свою «должность», и она, можно сказать, оказалась по мерке и для него, и для окружающих. А пресловутая «бироновщина» на деле означала не столько установление «немецкого господства», сколько создание лояльной управленческой структуры после политических «шатаний» 1730 года. Не без участия Бирона такая конструкция была сформирована, и сам он занял в ней важное и почетное место «патрона» со своей клиентелой (под которой надо понимать не только желавших получить должность или «деревню», но и государственных людей типа Маслова или Кирилова) и неофициального, но в высшей степени влиятельного дипломата.
Бирон и другие деятели той поры (Миних, Остерман, Шаховской, Трубецкой, Волынский) «достраивали» именно петровскую машину управления с неизбежными коррективами в ходе ожесточенной борьбы за власть. Победители сурово расправлялись с соперниками и оппозиционерами; но никакое выдвижение «немцев» не могло решить финансовые и управленческие проблемы, определявшиеся достигнутым уровнем централизации государства и культуры тогдашнего общества. «Бироновщина» обеспечила — на некоторое время — военно-политическую стабильность режима, но на управленческом и финансовом поприще потерпела поражение от отечественных «приказных».
Получалось то, что было возможным, и Бирону выпала «честь» стать первым настоящим фаворитом в истории российской монархии. Но первым быть всегда трудно, тем более когда усваиваются новые культурные формы, новый язык, новые правила поведения и носителем этого нового является не слишком симпатичный иноземец. Ирония истории состояла в том, что наш герой и другие «немцы» способствовали (разумеется, отнюдь не с целью бескорыстного миссионерства) усвоению обществом петровских преобразований. Но по мере утверждения и осмысления этих реформ иностранцы становились «раздражителями» формировавшегося национального сознания, что ослабляло достигнутую было политическую стабильность аннинского режима.
На этот процесс «наложилась» еще одна тенденция «эпохи дворцовых переворотов» — выдвижение гвардейских «низов», которые к началу 40-х годов почувствовали себя «делателями королей» и воплотили это понимание на практике в ходе дворцовых переворотов 1740–1741 годов. Именно гвардейские солдаты в ходе первого из них выволокли из дворца Бирона; во время второго — по собственной инициативе свергли уже не вельможу, а законного императора и его регентшу-мать. Утверждение у власти Елизаветы Петровны требовало оправдания — а что могло подойти для этого лучше, чем необходимость устранения вредных министров-«немцев»? Отношение же более широких кругов дворянства (и уж тем более прочих подданных) к Бирону и другим немцам — вопрос более сложный и едва ли имеющий однозначный ответ.
При русском дворе Бирон сумел достичь максимально возможного положения. Однако квалифицированный фаворит оказался плохим политиком: для человека, который много лет находился на вершине власти, он слишком легко ее потерял. Сказались отрицательные черты характера Бирона — самоуверенность, грубость, раздражительность, а также неспособность подобрать надежную «команду». Никакой единой «немецкой партии» при дворе не существовало, а отечественные вельможи и чиновники за годы «бироновщины» оказались разобщенными. Они не были способны организованно противодействовать герцогу, как показало «дело» Волынского и его друзей. Но это же «достижение» аннинского правления обернулось против самого Бирона: у него не оказалось настоящих сторонников; фаворит имел скорее завистливых холопов и исполнителей, из усердия старавшихся потакать временщику. Однако и сам герцог не сумел осмыслить свой принципиально новый статус, создать себе опору, увлечь свое окружение сколько-нибудь серьезной целью. И в качестве фаворита, и в качестве регента он оставался прежде всего курляндским дворянином (в отличие, например, от Остермана) и до уровня Потемкина или хотя бы Шуваловых явно недотягивал.
Следствие над герцогом показало, что в зените власти он во многом утратил необходимые качества — терпение, гибкость, умение привлекать людей и учитывать их интересы.
Но в то же время серьезных злоупотреблений Бирон не совершал и «повреждения» государственным интересам не допускал. Неосмотрительно выйдя из «тени», он стал восприниматься как «злой гений» царствования Анны Иоанновны, то есть сыграл роль «громоотвода», чем оказал еще одну услугу своей государыне и помог спасти «имидж» послепетровской монархии. «Немец» оказался идеальной фигурой для концентрации общественного недовольства, что и пришлось испытать Бирону на себе: за три недели регентства он заплатил двадцатью годами ссылки.
Елизавета Петровна лично ничего не имела против Бирона — он не был ни ее врагом, ни соперником. Императрица обеспечила для него максимально комфортные и даже уникальные для «эпохи дворцовых переворотов» условия ссылки. Но она и ее окружение создали и поддерживали миф о «немецком засилье», который удачно для нового правительства совпал с настроениями определенной части общества. Именно в елизаветинское время вопрос о национальности Рюрика вызывал совсем не академические споры. М. В. Ломоносов посчитал саму постановку вопроса о «варяжских» истоках российской государственности не только национальным оскорблением, но и политической ошибкой: «Ежели положить, что Рурик и его потомки, владевшие в России, были шведского рода, не будут ли из того выводить какого опасного следствия?»
«Опасное следствие» действительно имело место — царствование внука Петра Великого Петра III трагически завершилось во многом потому, что поколение победителей Фридриха II Прусского не могло мириться с унизительным миром, нелепым «обожанием» иноземного короля и ненужной войной за провинциальные голштинские интересы. Тот же Ломоносов торжественно закрепил этот урок «немцам», пользовавшимся на русской службе привилегиями:
Вы, которым здесь Россия
Дает уже от древних лет
Довольство вольности златые,
Какой в других державах нет,
Храня к своим соседям дружбу,
Позволила по вере службу
Беспреткновенно приносить;
На толь склонились к вам монархи
И согласились иерархи,
Чтоб древний наш закон вредить?
И вместо, чтоб вам быть меж нами
В пределах должности своей;
Считать нас вашими рабами
В противность истины вещей.
Далее произошло неизбежное: Россия «переболела» немцами. Находившиеся у власти иноземцы (например, принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, она же Екатерина II) стали естественно чувствовать себя не курляндцами или мекленбуржцами, а государственными деятелями великой империи. А природные русские дворяне уже не смущались присутствием «немцев» на всех этажах служебной лестницы. «Вейсмана не стало», — вспоминал знаменитый А. В. Суворов одного из лучших российских генералов Отто Адольфа Вейсмана фон Вейсенштейна, героически погибшего в бою с турками в 1773 году. Рядом с ним продолжали сражаться и побеждать другие боевые генералы — О. А. Игельштром, В. X. Дерфельден, X. Л. Витгенштейн, И. И. Веймарн; вице-канцлером стал сын А. И. Остермана Иван Андреевич Остерман; честь и выгоды империи отстаивали за рубежом дипломаты И. М. Симолин, О. М. Штакельберг, А. Я. Будберг, В. К. Нессельроде, К. М. Остен-Сакен.
Во второй половине XVIII века выросла интенсивность иммиграционных потоков в Россию. Общее число пришельцев достигло 100 тысяч человек; большую их часть составили немецкие колонисты, с 1760-х годов осваивавшие Нижнее Поволжье, а в 1780—1790-е годы — Новороссию. На уровне массового сознания «немец» в русской народной культуре постепенно приобрел облик рачительного и аккуратного хозяина, мастера на все руки, который в то же время скуповат, смешно искажает русские слова, учен, а не знает простых вещей. В представлениях русских о немцах появилось спокойное признание существования рядом человека иного склада, чем свой, русский, и наивное убеждение, что русский народ обладает чем-то, что выше и учености, и хитрости, и богатства.[334] Полностью обрусевший немец Денис Фонвизин не только изобразил бездарного «учителя» Вральмана в комедии «Недоросль», но и писал во время поездки в Западную Европу в 1784 году: «У нас все лучше, и мы более великий народ, чем немцы».
В новых условиях Бирон перестал восприниматься как злодей вселенского масштаба и национальный враг; он стал тем, кем и являлся в действительности — властным и хозяйственным курляндским дворянином, которому выпала удача стать мелким владетельным князем. Фаворит выдержал «эпоху несчастья», не сломался и сумел в последний раз воспользоваться благоприятным случаем. Ему повезло не дожить до грандиозного исторического катаклизма, вызванного революционными потрясениями в Европе. Начавшееся обновление имело свою трагическую сторону: в ходе революционных, а затем, Наполеоновских войн создавались и рассыпались целые государства. Исчезновение независимого герцогства прошло едва замеченным на фоне крушения Речи Посполитой; незадолго до отречения Петра Бирона «сдал» свою корону и его сюзерен, польский король Станислав Август.
В этом смысле жизнь Эрнста Иоганна Бирона можно считать состоявшейся: он принадлежал своей эпохе, сумел себя в ней выразить, познал взлет и падение и своевременно умер — как раз когда время «старого режима» истекло.
Мрачная слава настигла Бирона позднее. В учебниках истории он приобрел стойко отрицательную репутацию, которая вредила герцогу и после смерти. Государственный секретарь и известный археолог А. А. Половцев записал в дневнике: «При посещении Александром II Митавы была открыта для него гробница Бирона, и сопутствующая государю княгиня Юрьевская-Долгорукая ударила труп по носу и сломала ему нос в наказание за то, что Бирон сослал ее предка». В 1883 году в условиях подъема антигерманских настроений в российском обществе в Петербурге был объявлен конкурс на проект памятника казненным А. П. Волынскому и его друзьям, и через два года мемориал «врагам Бирона» торжественно открылся у Сампсониевской церкви, где были когда-то захоронены их останки. Посмертные неприятности сопровождали герцога и позднее: в 1919 году его усыпальница была взломана и разгромлена; при этом еще раз пострадал череп Бирона. Во время Второй мировой войны почти полностью погибли голова и одна рука мумии, пропала большая часть одежды.
Отставной герцог Петр Бирон навсегда покинул родину и умер в 1800 году в своих силезских владениях. От третьей супруги он имел сына Петра, умершего в 1790 году, и шестерых дочерей, вышедших замуж в Австрии, Франции, Италии. Одна из них, Екатерина Фредерика Вильгельмина Бенигна герцогиня Саганская, была помолвлена с сыном А. В. Суворова Аркадием, но брак расстроился после опалы и смерти полководца. Другая — Иоганна Доротея — стала Женой Александра Эдмунда Талейрана-Перигора, герцога Дино, сына знаменитого политика и, в свою очередь, министра иностранных дел Франции; эта линия унаследовала герцогство Саган. Второй сын фаворита Карл в 1778 году женился на княжне Аполлонии Понинской. Делами принц принципиально не занимался и заслужил репутацию «плясуна и повесы».
Мужским наследником фамилии стал его единственный сын принц Густав Каликст. Их потомки служили при дворе прусских королей и сохранили полученные предком владения — замок Вартенберг в Германии и титул владетельных князей. Ныне главой рода является его светлость Эрнст Иоганн Карл Оскар Эйтель Фридрих Петер Бурхард принц Курляндский (род. 1940). Прапраправнук старого Бирона материально поддерживает реставрацию дворцов герцога и его усыпальницы.
Еще один сын Карла, Петр, стал русским офицером-кавалергардом; остались в России и его сестры Екатерина и Луиза, по очереди выйдя замуж за Михаила Юрьевича Виельгорского — гофмейстера двора, композитора и мецената. Луиза Карловна с мужем устраивали у себя приемы и концерты, на которых бывали многие выдающиеся русские музыканты и писатели, в том числе А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В. А. Жуковский.
Зять Бирона — муж Гедвиги (Екатерины) барон А. И. Черкасов поддержал дворцовый переворот, возведший на престол Екатерину II, и стал камергером и президентом Медицинской коллегии, но не поладил с Потемкиным и вышел в отставку. Его жена не появлялась при дворе и не пользовалась расположением императрицы. Убедившись, что его карьера окончена, Черкасов бросил жену и прожил в одиночестве до смерти в деревне в Смоленской губернии. Отвергнутая мужем Екатерина посвятила себя заботам о дочери, воспитывавшейся в Смольном институте. Муж растратил свое состояние, а брат Петр перестал помогать сестре, и Екатерина обратилась к императрице с жалобой: «Только ваше императорское величество и может заставить герцога, моего брата, уплатить мои долги и увеличить мои доходы так, чтобы я могла жить здесь прилично». Екатерина II заступилась за баронессу, заставила герцога Петра назначить сестре ренту и купила в казну ее дом в Петербурге. Черкасова покинула Петербург и переехала в Дерпт, где местные остзейские помещики величали ее принцессой. Ее сын, внук старого Бирона барон Петр Александрович Черкасов и его потомки стали русскими дворянами и офицерами. Внучка Елизавета с отличием закончила Смольный институт и в 1781 году вышла замуж за лифляндского дворянина Густава Пальменбаха, сына дедовского адъютанта.
Так потомки Бирона сохранили связи с Россией, Германией и Прибалтикой, начало которым положил когда-то их предок.
Безвременье и временщики: Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720-е — 1760-е гг.) // Сост., вступ. ст., коммент. Е. Анисимова. Л., 1991.
Дело о курляндском герцоге Э. И. Бироне // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1862. Кн. 1. Смесь. С. 28—128.
Дипломатическая переписка английских послов и посланников при русском дворе. СПб., 1876–1893 // Сборник Русского исторического общества. Т.
Записка Бирена //
Из переписки Бирона с кн. А. И. Шаховским // Русский архив. 1916. № 3. С. 256–270; № 4. С. 381–396.
Империя после Петра. 1725–1765 / Яков Шаховской. Василий Нащокин. Иван Неплюев. М., 1998.
Перевороты и войны / Христофор Манштейн. Бурхард Миних. Эрнст Миних. Неизвестный автор. М., 1997.
Письма Э. Бирона посланнику Герману Кейзерлингу // Сборник Русского исторического общества. Т. 33.
Прошения и письма Бирона и его сыновей // Архив князя Воронцова. М., 1871. Кн. 2. С. 525–548.
Родословие фамилии Биронов // Русская старина. 1873. № 1. С. 61–65.
Русский биографический словарь. СПб., 1908. Т. 3 (Бетанкур — Бякстер).
Эрнст Иоганн Бирон. 1690–1990. Выставка в Рундальском дворце: Каталог. Б.м., 1992.
Карта Курляндии.
Столица Курляндского герцогства — Митава.
Молодой Э. И. Бирон.
Графский герб Э. И. Бирона.
Бенигна Бирон (урожденная Готлиб фон Тротта-Тройден) в молодости.
Коробочка для косметики. Подарок Э. И. Бирона невесте.
Петр Бирон.
Диплом императрицы Анны Иоанновны курляндскому принцу Петру Бирону о возведении в чин подполковника лейб-гвардии Конного полка.
Анна Иоанновна.
Светлейший князь А. Д. Меншиков.
Мориц Саксонский.
Екатерина Иоанновна.
Елизавета Петровна в молодости.
Императрица Анна Иоанновна и Э. И. Бирон.
Веер.
Табакерка.
Шуты при дворе Анны Иоанновны.
Императрица Анна Иоанновна.
«Кондиции», разорванные рукой Анны Иоанновны.
Князь А. М. Черкасский.
А. П. Бестужев-Рюмин.
Вице-канцлер граф А. И. Остерман.
Г. И. Головкин.
Князь Ю. П. Трубецкой.
Князь Я. П. Шаховской.
Г. К. Кейзерлинг.
Галантная сцена.
Договор о покупке Э. И. Бироном имения в Курляндии.
Граф Эрнст Иоганн Бирон.
Архитектор Франческо Бартоломео Растрелли.
Фасад и план парадного этажа Рундальского дворца герцога Бирона.
Рундальский дворец.
Интерьеры Рундальского дворца.
Дворец Бирона в Митаве (Елгаве).
Золотой дукат с портретом Э. И. Бирона.
Спальня герцога Эрнста Иоганна в Елгавском дворце.
Комплект туалетных принадлежностей Э. И. Бирона.
Фарфоровый сервиз Э. И. Бирона.
Столовый комплект Э. И. Бирона.
Салфетка герцога Э. И. Бирона.
Кабинет-министр А. П. Волынский.
Памятник А. П. Волынскому и его друзьям у церкви Сампсония Странноприимца в Петербурге.
На могиле А. П. Волынского.
Император Священной Римской империи Карл VI.
Король Пруссии Фридрих Вильгельм I.
Кронпринц Фридрих (будущий Фридрих II).
Антон Ульрих, принц Брауншвейгский.
Правительница Анна Леопольдовна.
Император Иоанн Антонович с фрейлиной Ю. фон Мегден.
Фельдмаршал Б. X. Миних.
Граф А. И. Ушаков.
Государственный переворот Елизаветы Петровны 1741 года.
План тюрьмы семейства Бирона в Пелыме.
План города Ярославля, места первой ссылки герцога.
Коронационный портрет Екатерины II.
Герцог Бирон в старости.
Герцогиня Бирон в старости.
Курляндский герцог Петр Бирон.
Герцогиня Евдокия Борисовна Бирон.
Мумифицированное тело Э. И. Бирона в гробу.
Баронесса Екатерина Ивановна Черкасова (урожденная Гедвига Елизавета Бирон).
Л. К. Виельгорская (урожденная Бирон).
М. Ю. Виельгорский.
Вензель Курляндского герцога Э. И. Бирона в надвратной решетке Рундальского дворца.