Николай Лесков
Железная воля
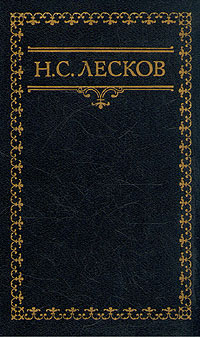
Ржа железо точит.
Мы во всю мочь спорили, очень сильно напирая на то, что у немцев железная воля, а у нас ее нет – и что потому нам, слабовольным людям, с немцами опасно спорить – и едва ли можно справиться. Словом, мы вели спор, самый в наше время обыкновенный и, признаться сказать, довольно скучный, но неотвязный.
Из всех из нас один только старик Федор Афанасьевич Вочнев не приставал к этому спору, а преспокойно занимался разливанием чая; но когда чай был разлит и мы разобрали свои стаканы, Вочнев молвил:
– Слушал я, слушал, господа, про что вы толкуете, и вижу, что просто вы из пустого в порожнее перепускаете. Ну, положим, что у господ немцев есть хорошая, твердая воля, а у нас она похрамывает, – все это правда, но все-таки в отчаяние-то отчего тут приходить? – ровно не от чего.
– Как не от чего? – и мы и они чувствуем, что у нас с ними непременно будет столкновение.
– Ну что же такое, если и будет?
– Они нас вздуют.
– Ну, как же!
– Да разумеется, вздуют.
– Полноте, пожалуйста: не так-то это просто нас вздуть.
– А отчего же не просто: не на союзы ли вы надеетесь? – Кроме авоськи с небоськой, батюшка мой, не найдется союзов.
– Пускай и так, – только опять: зачем же так пренебрегать авоськой с небоськой? Нехорошо, воля ваша, нехорошо. Во-первых, они очень добрые и теплые русские ребята, способные кинуться, когда надобно, и в огонь и в воду, а это чего-нибудь да стоит в наше практическое время.
– Да, только не в деле с немцами.
– Нет-с: именно в деле с немцем, который без расчета шагу не ступит и, как говорят, без инструмента с кровати не свалится; а во-вторых, не слишком ли вы много уже придаете значения воле и расчетам? Мне при этом всегда вспоминаются довольно циничные, но справедливые слова одного русского генерала, который говорил про немцев: какая беда, что они умно рассчитывают, а мы им такую глупость подведем, что они и рта разинуть не успеют, чтобы понять ее. И впрямь, господа; нельзя же совсем на это не понадеяться.
– Это на глупость-то?
– Да, зовите, пожалуй, глупостью, а пожалуй, и удалью молодого и свежего народа.
– Ну, батюшка, это мы уже слышали: надоела уже нам эта сказка про свежесть и тысячелетнюю молодость.
– Что же? – и вы мне тоже ужасно надоели с этим немецким железом: и железный-то у них граф, и железная-то у них воля, и поедят-то они нас поедом. Тпфу ты, чтобы им скорей все это насквозь прошло! Да что это вы, господа, совсем ума, что ли, рехнулись? Ну, железные они, так и железные, а мы тесто простое, мягкое, сырое, непропеченное тесто, – ну, а вы бы вспомнили, что и тесто в массе топором не разрубишь, а, пожалуй, еще и топор там потеряешь.
– Ага, это вы насчет старинного аргумента, что, мол, мы всех шапками закидаем?
– Нет, я совсем не об этих аргументах. Таким похвальбам я даю так же мало значения, как вашим страхам; а я просто говорю о природе вещей, как видел и как знаю, что бывает при встрече немецкого железа с русским тестом.
– Верно, какой-нибудь маленький случай, от которого сделаны очень широкие обобщения.
– Да, случай и обобщения; а только, по правде сказать, не понимаю: почему вы против обобщения случаев? На мой взгляд, не глупее вас был тот англичанин, который, выслушав содержание «Мертвых душ» Гоголя, воскликнул: «О, этот народ неодолим». – «Почему же?» говорят. Он только удивился и отвечал: «Да неужто кто-нибудь может надеяться победить такой народ, из которого мог произойти такой подлец, как Чичиков».
Мы невольно засмеялись и заметили Вочневу, что он, однако, престранно хвалит своих земляков, но он опять сделал косую мину и отвечал:
– Извините меня, вы все стали такая не свободная направленская узость, что с вами живому человеку даже очень трудно говорить. Я вам простое дело рассказываю, а вы сейчас уже искать общий вывод и направление. Пора бы вам начать отвыкать от этой гадости, а учиться брать дело просто; я не хвалю моих земляков и не порицаю их, а только говорю вам, что они себя отстоят, – и умом ли, глупостью ли, в обиду не дадутся; а если вам непонятно и интересно, как подобные вещи случаются, то я, пожалуй, вам что-нибудь и расскажу про железную волю.
– А не длинно это, Федор Афанасьич?
– Н-нет! не длинно; это совсем маленькая история, которую как начнем, так и покончим за чаем.
– А если маленькая, так валяйте; маленькую историю можно и про немца слушать.
– Сидеть же смирно – история начинается.
Вскоре после Крымской войны (я не виноват, господа, что у нас все новые истории восходят своими началами к этому времени) я заразился модною тогда ересью, за которую не раз осуждал себя впоследствии, то есть я бросил довольно удачно начатую казенную службу и пошел служить в одну из вновь образованных в то время торговых компаний. Она теперь давно уже лопнула, и память о ней погибла даже без шума. Частною службою я надеялся достать себе «честные» средства для существования и независимости от прихоти начальства и неожиданностей, висящих над каждым служащим человеком по известному пункту, на основании которого он может быть уволен без объяснения. Словом, я думал, что вырвался на свободу, как будто свобода так и начинается за воротами казенного здания; но не в этом дело.
Хозяева дела, при котором я пристроился, были англичане: их было двое, оба они были женаты, имели довольно большие семейства и играли один на флейте, а другой на виолончели. Они были люди очень добрые и оба довольно практические. Последнее я заключаю потому, что, основательно разорившись на своих предприятиях, они поняли, что Россия имеет свои особенности, с которыми нельзя не считаться. Тогда они взялись за дело на простой русский лад и снова разбогатели чисто по-английски. Но в то время, с которого начинается мой рассказ, они еще были люди неопытные, или, как у нас говорят, «сырые», и затрачивали привезенные сюда капиталы с глупейшею самоуверенностию.
Операции у нас были большие и очень сложные: мы и землю пахали, и свекловицу сеяли, и устраивались варить сахар и гнать спирт, пилить доски, колоть клепку, делать селитру и вырезать паркеты – словом, хотели эксплуатировать все, к чему край представлял какие-либо удобства. За все это мы взялись сразу, и работа у нас кипела: мы рыли землю, клали каменные стены, выводили монументальные трубы и набирали людей всякого сорта, впрочем, все более по преимуществу из иностранцев. Из русских высшего, по экономическому значению, ранга только и был один я – и то потому, что в числе моих обязанностей было хождение по делам, в чем я, разумеется, был сведущее иностранцев. Зато иностранцы составили у нас целую колонию; хозяева настроили нам довольно однообразные, но весьма красивые и удобные флигеля, и мы сели в этих коттеджах вокруг огромного старинного барского дома, в котором разместились сами принципалы.
Дом, построенный с разными причудами, был так велик и поместителен, что в нем могли свободно и со всякими удобствами расположиться даже два английские семейства. Над домом вверху, в полукруглом куполе была Эолова арфа, с которой, впрочем, давно были сорваны струны, а внизу под этим самым куполом – огромнейший концертный зал, где отличались в прежнее время крепостные музыканты и певчие, распроданные поодиночке прежним владельцем в то время, когда слухи об эмансипации стали казаться вероятными. Мои господа, англичане, давали в этом зале квартеты из Гайдена, на которые в качестве публики собирали всех служащих, не исключая нарядчиков, конторщиков и счетчиков.
Делалось это в целях «облагорожения вкуса», но только цель эта мало достигалась, потому что классические квартеты Гайдена простолюдинам не нравились и даже нагоняли на них тоску. Мне они откровенно жаловались, что «им нет хуже, как эту гадину слушать», но тем не менее эту «гадину» они все-таки слушали, пока всем нам не была послана судьбою другая, более веселая забава, что случилось с прибытием к нам из Германии нового колониста, инженера Гуго Карловича Пекторалиса. Этот человек прибыл к нам из маленького городка Доберана, что лежит при озере Плау в Мекленбург-Шверине, и самое его прибытие к нам уже имело свой интерес.
Так как Гуго Пекторалис и есть тот герой, о котором я поведу свой рассказ, то я вдамся о нем в небольшие подробности.
Пекторалис был выписан в Россию вместе с машинами, которые он должен был привезти, поставить, пустить в ход и наблюдать за ними. Почему наши англичане взяли этого немца, а не своего англичанина и отчего они самые машины заказали в маленьком немецком Доберане – я наверно не знаю. Кажется, это случилось так, что один из англичан видел где-то машины этой фабрики и, облюбовав их, пренебрег некоторыми условиями патриотизма. Карман ведь не свой брат – и над английскими патриотами свои права предъявляет. Впрочем, останавливайте меня, пожалуйста, чтобы я не забалтывался.
Машины назначались для паровой мельницы и лесопильни, для которых уже были готовы здания. Высылкою их и инженера мы очень торопили – и фабрикант известил нас, что машины шли в Петербург морем с самыми последними фрахтами. Об инженере же, которого мы просили послать, чтобы он прибыл ранее машин и мог сделать нужные для них приспособления в постройках, нам писали, что такой инженер нам будет немедленно послан; что зовут его Гуго Пекторалис; что он знаток своего дела и имеет железную волю для того, чтобы сделать все, за что возьмется.
Я был тогда по компанейским делам в Петербурге, и на мою долю пало принять из таможни машины и отправить их в нашу глушь, а также взять с собою Гуго Пекторалиса, который должен был очень скоро приехать и явиться в «Сарептский дом», Асмус Симонзен и K°, – известный нам более под именем «горчичного дома». Но в высылке этих машин и инженера вышло какое-то qui pro quo:[1] машины запоздали и пришли очень поздно, а инженер упредил наши ожидания и приехал в Петербург раньше времени. Только что я прибыл в «горчичный дом», чтобы сообщить для ожидаемого Пекторалиса мой адрес, мне отвечали, что он уже с неделю тому назад как проехал.
Это неприятное для меня и очень рискованное для Пекторалиса событие случилось в конце октября, который в тот год, как назло, выдался особенно лют и ненастен. Снегу и морозов еще не было, но шли проливные дожди, сменявшиеся пронизывающими туманами; северные ветры дули так, что, казалось, хотели выдуть мозг костей, а грязь повсеместно была такая невылазная, что можно было представить, какой ад должны представлять теперь грунтовые почтовые дороги. Положение опрометчивого, как мне казалось, иностранца, который в такое время пустился один в такой далекий путь, не зная ни наших дорог, ни наших порядков, – казалось мне просто ужасным, и я в своих предположениях не ошибся. Действительность даже превзошла мои ожидания.
Я осведомился в «горчичном доме»: владеет ли по крайней мере приехавший Пекторалис хотя сколько-нибудь русским языком, – и получил ответ отрицательный. Пекторалис не только не говорил, но и не понимал ни слова по-русски. На мой вопрос: довольно ли с ним было денег, мне отвечали, что ему выданы «за счет компании» прогонные и суточные на десять дней и что он более ничего не требовал.
Дело все осложнялось. Принимая в расчет тогдашний способ езды на почтовых, сопряженный с беспрестанными задержками, – Пекторалис мог застрять где-нибудь и, чего доброго, дойти, пожалуй, до прошения милостыни.
– Зачем вы не удержали его? Зачем не уговорили его хоть подождать попутчика? – пенял я в «горчичном доме», но там отвечали, что они уговаривали и представляли туристу все трудности пути; но что он непоколебимо стоял на своем, что он дал слово ехать не останавливаясь – и так поедет; а трудностей никаких не боится, потому что имеет
В большой тревоге я написал своим принципалам все, как случилось, и просил их употребить все зависящие от них меры к тому, чтобы предупредить несчастия, какие могли встретить бедного путника; но, писавши об этом, я, по правде сказать, и сам хорошенько не знал, как это сделать, чтобы перенять на дороге Пекторалиса и довезти его к месту под охраною надежного проводника. Я сам в эту пору никак не мог оставить Петербурга, где меня задерживали довольно важные получения, и притом он так давно уехал, что я едва ли мог бы его догнать. Если же будет послан кто-нибудь навстречу этой железной воле, то кто поручится, что этот посол встретит Пекторалиса и узнает его?
Я тогда еще думал, что, встретив Пекторалиса, его можно не узнать. Это происходило, конечно, оттого, что немцы, у которых я о нем расспрашивал, не умели сообщить его примет. Аккуратные и бесталанные, они давали мне только общие, так сказать, самые паспортные приметы, которые могут свободно приходиться чуть не к каждому. По их словам, Пекторалис был молодой человек лет от двадцати восьми до тридцати; роста немного выше среднего, худощав, брюнет, с серыми глазами и веселым, твердым выражением лица. Надеюсь, что тут немного такого, по чему бы, встретив человека, можно было сейчас узнать его. Самое рельефное, что я мог удержать в памяти из всего этого описания, это «твердое и веселое выражение», но кто же это из простых людей такой знаток в определении выражений, чтобы сейчас приметить его и – «стой, брат, не ты ли Пекторалис?» Да и, наконец, самое это выражение могло измениться – могло достаточно размокнуть и остыть на русской осенней сырости и стуже.
Выходило, что кроме того, что мною было написано в пользу этого чудака, я более уже не мог для него ничего сделать – и волею-неволею я этим утешился, и притом же, получив внезапно неожиданные распоряжения о поездках на юг, не имел и досуга думать о Пекторалисе. Между тем прошел октябрь и половина ноября; в беспрестанных переездах я не имел о Пекторалисе никакого слуха и возвращался домой только под исход ноября, объехав в это время много городов.
Погода тогда уже значительно изменилась: дожди окончились, стояла сухая холодная кόлоть, и всякий день порхал сухой мелкий снежок.
Во Владимире я нашел покинутый мною тарантас, который мог еще служить свою службу, так как на колесах было удобнее ехать, чем на санях, – и я тронулся в путь в моем экипаже.
Пути мне от Владимира оставалось около тысячи верст; я надеялся проехать это расстояние дней в шесть, но несносная тряска так меня измаяла, что я давал себе частые передышки и ехал гораздо медленнее. На пятый день к вечеру я насилу добрался до Василева Майдана и тут имел самую неожиданную и даже невероятную встречу.
Не знаю, как теперь, а тогда Василев Майдан была холодная, бесприютная станция в открытом поле. Довольно безобразный, обшитый тесом дом, с двумя казенными колоннами на подъезде, смотрел неприветливо и нелюдимо – и на самом деле, сколько мне известно, дом этот был холоден; но тем не менее я так устал, что решился здесь заночевать.
Несмотря на то, что по мерцавшему в окнах пассажирской комнаты огоньку я мог подозревать, что тут уже есть люди, расположившиеся на ночлег, – решимость моя дать себе роздых была тверда, и за нее-то я и был вознагражден самою приятною неожиданностию.
– Вы встретили здесь Пекторалиса? – перебил некто нетерпеливо рассказчика.
– Кого бы я тут ни встретил, – отвечал он, – я вас прошу ждать, чтобы я вам сам рассказал об этом, и не перебивать меня.
– А если это интересно?
– Тем лучше, вы постарайтесь это записать и отдать для фельетона интересной газеты. Теперь вопрос о немецкой воле и нашем безволии в моде – и мы можем доставить этим небезынтересное чтение.
Отдав приказ своему человеку внесть кошму, шубу и другие необходимые вещи, я велел ямщику задвинуть тарантас на двор, а сам ощупью прошел через просторные темные сени и начал ошаривать руками дверь. Насилу я ее нашел и начал дергать, но пазы туго набухли – и дверь не подавалась. Сколько я ни дергал, собственные мои силы, вероятно, оказались бы совершенно недостаточными, если бы мне на помощь не подоспела чья-то добрая рука, или, лучше сказать, добрая нога, потому что дверь мне была открыта с внутренней стороны толчком ноги. Я едва успел отскочить – и тогда увидал пред собою на пороге человека в обыкновенной городской цилиндрической шляпе и широчайшем клеенчатом плаще, на пуговице которого у воротника висел на шнурке большой дождевой зонтик.
Лицо этого незнакомца я в первую минуту не рассмотрел, но, признаться, чуть не обругал его за то, что он едва не сшиб меня дверью с ног. Но что меня удивило и заставило обратить на него особенное внимание – это то, что он не вышел в отворенную им дверь, как я мог этого ожидать, а напротив, снова возвратился назад и начал преспокойно шагать из угла в угол по отвратительной, пустой комнате, едва-едва освещенной сильно оплывшею сальною свечою.
Я обратился к нему с вопросом: не знает ли он, где здесь на этой станции помещается смотритель или какой-нибудь другой жив-человек.
– Ich verstehe gar nichts russisch,[2] – отвечал незнакомец.
Я заговорил с ним по-немецки.
Он, видимо, обрадовался звукам родного языка и отвечал, что смотрителя нет, что он был, да давно куда-то ушел.
– А вы, вероятно, ждете здесь лошадей?
– О! да, я жду лошадей.
– И неужто лошадей нет?
– Не знаю, право, я не получаю.
– Да вы спрашивали?
– Нет, я не умею говорить по-русски.
– Ни слова?
– Да, «можно», «не можно», «таможно», «подрожно»… – пролепетал он, высыпав, очевидно, весь словарь своих познаний. – Скажут «можно» – я еду, «не можно» – не еду, «подрожно» – я дам подрожно, вот и все.
Батюшки мои, думаю себе: вот антик-то! и начинаю его осматривать… Что за наряд!.. Сапоги обыкновенные, но из них из-за голенищ выходят длиннейшие красные шерстяные чулки, которые закрывают его ноги выше колен и поддерживаются на половине ляжек синими женскими подвязками. Из-под жилета на живот спускается гарусная красная вязаная фуфайка; поверх жилета видна серая куртка из халатного драпа, с зеленою оторочкою, и поверх всего этот совсем не приходящий по сезону клеенчатый плащ и зонтик, привешенный к его пуговице у самой шеи.
Весь багаж проезжающего состоял из самого небольшого цилиндрического свертка в клеенчатом же чехле, который лежал на столе, а на нем довольно простая записная книжка и более ничего.
– Это удивительно! – воскликнул я и чуть не спросил его: «Неужто вы так вот это и едете?», но сейчас же спохватился, чтобы не сказать неловкости – и, обратясь к вошедшему в это время смотрителю, велел подать себе самовар и затопить камин.
Чужестранец все прохаживался, но, увидев, что принесли дрова и зажгли их в камине, вдруг несказанно обрадовался и проговорил:
– Ага, «можно», а я тут третий день – и третий день все сюда на камин пальцем показывал, а мне отвечали «не можно».
– Как, вы тут уже третий день?
– О да, я третий день, – отвечал он спокойно. – А что такое?
– Да зачем же вы сидите здесь третий день?
– Не знаю, я всегда так сижу.
– Как всегда, на каждой станции?
– О да, непременно на каждой; как выехал из Москвы, так везде и сижу, а потом опять еду.
– На каждой станции вы сидите по три дня?
– О да, по три дня… Впрочем, позвольте, я на одной просидел два дня, у меня это записано; но зато на другой четыре, это тоже записано.
– И что же вы делаете на станциях?
– Ничего.
– Извините меня, может быть вы нравы изучаете, заметки ваши пишете?
Тогда это было в моде.
– Да, я смотрю, что со мною делают.
– Да зачем же вы это позволяете все с собою делать?
– Ну… как быть!.. – отвечал он, – видите, я не умею по-русски говорить – и я должен всем подчиниться. Я это так себе положил; но зато потом…
– Что же будет потом?
– Я буду всё подчинять.
– Вот как!
– О да; непременно!
– Но как вы могли пуститься в такой путь, не зная языка?
– О, это было необходимо нужно; у нас было такое условие, чтобы я ехал не останавливаясь, – и я еду не останавливаясь. Я такой человек, который всегда точно исполняет то, что он обещал, – отвечал незнакомец – и при этом лицо его, которого я до сих пор себе не определил, вдруг приняло «веселое и твердое выражение».
«Боже, что за чудак!» – думаю себе и говорю: – Но вы извините меня, пожалуйста, разве этак ехать, как вы едете, – значит «ехать не останавливаясь»?
– А как же? – я все еду, все еду; как только мне скажут «можно», я сейчас еду – и для этого, вы видите, я даже не раздеваюсь. О, я очень давно, очень давно не раздеваюсь.
«Чист же, – я думаю, – ты, должно быть, мой голубчик!» И говорю ему:
– Извините, мне странно, как вы собою распорядились.
– А что?
– Да вам бы лучше поискать в Москве русского попутчика, с которым бы вы ехали гораздо скорее и спокойнее.
– Для этого надо было останавливаться.
– Но вы очень скоро наверстали бы эту остановку.
– Я решил и дал слово не останавливаться.
– Но ведь вы, по вашим же словам, на всякой станции останавливаетесь.
– О да, но это не по моей воле.
– Согласен, но зачем же это и как вы это можете выносить?
– О, я все могу выносить, потому что у меня железная воля!
– Боже мой! – воскликнул я, – у вас железная воля?
– Да, у меня железная воля; и у моего отца, и у моего деда была железная воля, – и у меня тоже железная воля.
– Железная воля!.. вы, верно, из Доберана, что в Мекленбурге?
Он удивился и отвечал:
– Да, я из Доберана.
– И едете на заводы в Р.?
– Да, я еду туда.
– Вас зовут Гуго Пекторалис?
– О да, да! я инженер Гуго Пекторалис, но как вы это узнали?
Я не вытерпел более, вскочил с места, обнял Пекторалиса, как будто старого друга, и повлек его к самовару, за которым обогрел его пуншем и рассказал, что узнал его по его железной воле.
– Вот как! – воскликнул он, придя в неописанный восторг, – и, подняв руки кверху, проговорил: – О мой отец, о мой гроссфатер![3] слышите ли вы это и довольны ли вашим Гуго?
– Они непременно должны быть вами довольны, – отвечал я, – но вы садитесь-ка скорее к столу и отогревайтесь чаем. Вы, я думаю, черт знает как назяблись!
– Да, я зяб; здесь холодно; о, как холодно! Я это все записал.
– У вас и платье совсем не такое, как нужно: оно не греет.
– Это правда: оно даже совсем не греет, – вот только и греют, что одни чулки; но у меня железная воля, – и вы видите, как хорошо иметь железную волю.
– Нет, – говорю, – не вижу.
– Как же не видите: я известен прежде, чем я приехал: я сдержал свое слово и жив, я могу умереть с полным к себе уважением, без всякой слабости.
– Но позвольте узнать, кому вы это дали такое слово, о котором говорите?
Он широко отмахнул правою рукою с вытянутым пальцем – и, медленно наводя его на свою грудь, отвечал:
– Себе.
– Себе! Но ведь позвольте мне вам заметить: это почти упрямство.
– О нет, не упрямство.
– Обещания даются по соображениям – и исполняются по обстоятельствам.
Немец сделал полупрезрительную гримасу и отвечал, что он не признает такого правила; что у него все, что он раз себе сказал, должно быть сделано; что этим только и приобретается настоящая железная воля.
– Быть господином себе и тогда стать господином для других – вот что должно, чего я хочу и что я буду преследовать.
«Ну, – думаю, – ты, брат, кажется, приехал сюда нас удивлять – смотри же только, сам на нас не удивись!»
Мы переночевали вместе с Пекторалисом и почти целую ночь провели без сна. Назябшийся немец поместился на креслах перед камином и ни за что не хотел расстаться с этим теплым местом; но он чесался, как блошливый пудель, – и эти кресла под ним беспрестанно двигались и беспрестанно будили меня своим шумом. Я не раз убеждал его перелечь на диван; но он упорно от этого отказывался. Рано утром мы встали, напились чаю и поехали. В первом же городе я послал его с своим человеком в баню; велел хорошенько отмыть, одеть в чистое белье – и с этих пор мы с ним ехали безостановочно, и он не чесался. Я вынул тоже Пекторалиса и из его клеенки, завернул его в запасную овчинную шубу моего человека – и он у меня отогрелся и сделался чрезвычайно жив и словоохотлив. Он во время своего медлительного путешествия не только иззябся, но и наголодался, потому что его порционных денег ему не стало, да он и из тех что-то вначале же выслал в свой Доберан и во все остальное время питался чуть не одною своею железною волею. Но зато он и сделал немало наблюдений и заметок, не лишенных некоторой оригинальности. Ему постоянно бросалось в глаза то, что еще никем не взято в России и что можно взять уменьем, настойчивостью и, главное, «железною волею».
Я очень им был доволен и за себя и за всех обитателей нашей колонии, которым я рассчитывал привезти немалую потеху в лице этого оригинала, уже заранее изловчавшегося произвести в России большие захваты при содействии своей железной воли.
Что он нахватает – вы это увидите из развития нашей истории, а теперь идем по порядку.
Во-первых, этот Пекторалис оказался очень хорошим, – конечно, не гениальным, но опытным, сведущим и искусным инженером. Благодаря его твердости и настойчивости дело, для которого он приехал, пошло превосходно, несмотря на многие неожиданные препятствия. Машины, для установки которых он приехал, оказались изготовленными во многих частях весьма неточно и не из доброкачественного материала. Списываться об этом и требовать новых частей было некогда, потому что заводы ждали перемола хлеба, и Пекторалис много вещей сделал сам. Детали эти с грехом пополам отливали на ничтожном, плохоньком чугунном заводишке в городе у некоего ленивейшего мещанина, по прозванию Сафроныча, а Пекторалис отделывал их, работая сам на самоточке. Уладить все это возможно было действительно только при содействии железной воли. Услуги Пекторалиса были замечены и вознаграждены прибавкою ему жалованья, которое у него поднялось теперь до полуторы тысячи рублей в год.
Когда я объявил ему об этой прибавке, он поблагодарил за нее с достоинством и сейчас же присел к столу и начал что-то высчитывать, а потом уставил глаза в потолок и проговорил:
– Это, значит, не изменяя моего решения, сокращает срок ровно на один год одиннадцать месяцев.
– Что вы считаете?
– Я суммирую… одни мои соображения.
– Ах, извините за нескромность.
– О, ничего, ничего: у меня есть известные ожидания, которые зависят от получения известных средств.
– И эта прибавка, о которой я вам принес известие, конечно, сокращает срок ожидания?
– Вы отгадали: оно сокращает его ровно на год одиннадцать месяцев. Я должен сейчас написать об этом в Германию. Скажите, когда у нас едут в город на почту?
– Едут сегодня.
– Сегодня? очень жаль: я не успею описать все как следует.
– Ну что за вздор! – говорю, – много ли нужно времени, чтобы известить о деле своего компаниона или контрагента?
– Контрагента, – повторил он за мною и, улыбнувшись, добавил: – О, если бы вы знали, какой этот контрагент!
– А что? конечно, это какой-нибудь сухой формалист?
– А вот и нет: это очень красивая и молодая девушка.
– Девушка? Ого, Гуго Карлыч, какие вы за собою грешки скрываете!
– Грешки? – переспросил он и, помотав головою, добавил: – никаких грешков у меня не было, нет и не может быть таких грешков. Это очень, очень важное, обстоятельное и солидное дело, которое зависит от того, когда у меня будет три тысячи талеров. Тогда вы увидите меня…
– На верху блаженства?
– Ну, нет еще, – не совсем наверху, но близко. На верху блаженства я могу быть только тогда, когда у меня будет десять тысяч талеров.
– Не значит ли все это попросту, что вы собираетесь жениться и что у вас в вашем Доберане или где-нибудь около него есть хорошенькая, милая девица, которая имеет частицу вашей железной воли?
– Именно, именно, вы совершенно правы.
– Ну, и вы, как настоящие люди крепкой воли, дали друг другу слово: отложить ваше бракосочетание до тех пор, пока у вас будет три тысячи талеров?
– Именно, именно: вы прекрасно угадываете.
– Да и не трудно, – говорю, – угадывать-то!
– Однако как это, на ваш русский характер, разве возможно?
– Ну что, мол, еще там про наш русский характер: где уже нам с вами за одним столом чай пить, когда мы по-вашему морщиться не умеем.
– Да ведь и это, – говорит, – еще не все, что вы отгадали.
– А что же еще-то?
– О, это важная практика, очень важная практика, очень важная практика, для которой я себя так строго и держу.
«Держи, – думаю, – брат, держи!..» – и ушел, оставив его писать письмо к своей далекой невесте.
Через час он явился с письмом, которое просил отправить, – и, оставшись у меня пить чай, был необыкновенно словоохотлив и уносился мечтами далее горизонта. И все помечтает, помечтает – и улыбнется, точно завидит миллиард в тумане. Так счастлив был разбойник, что даже глядеть на него неприятно и хотелось ему хоть какую-нибудь щетинку всучить, чтобы ему немножко больно стало. Я от этого искушения и не воздержался – и когда Гуго ни с того ни с сего обнял меня за плечи и спросил, могу ли я себе представить, что может произойти от очень твердой женщины и очень твердого мужчины? – я ему отвечал:
– Могу.
– А как вы именно думаете?
– Думаю, что может ничего не произойти.
Пекторалис сделал удивленные глаза и спросил:
– Почему вы это знаете?
Мне стало его жаль – и я отвечал, что я просто пошутил.
– О, вы шутили, а это совсем не шутка, – это действительно так может быть, но это очень, очень важное дело, на которое и нужна вся железная воля.
«Лихо тебя побирай, – думаю, – не хочу и отгадывать, что ты себе загадываешь!..» – да все равно и не отгадал бы.
А между тем железная воля Пекторалиса, приносившая свою серьезную пользу там, где нужна была с его стороны настойчивость, и обещавшая ему самому иметь такое серьезное значение в его жизни, у нас по нашей русской простоте все как-то смахивала на шутку и потешение. И что всего удивительней, надо было сознаться, что это никак не могло быть иначе; так уже это складывалось.
Бесконечно упрямый и настойчивый, Пекторалис был упрям во всем, настойчив и неуступчив в мелочах, как и в серьезном деле. Он занимался своею волею, как другие занимаются гимнастикой для развития силы, и занимался ею систематически и неотступно, точно это было его призвание. Значительные победы над собою делали его безрассудно самонадеянным и порою ставили его то в весьма печальные, то в невозможно комические положения. Так, например, поддерживаемый своею железною волею, он учился русскому языку необыкновенно быстро и грамматично; но, прежде чем мог его себе вполне усвоить, он уже страдал за него от той же самой железной воля – и страдал сильно и осязательно до повреждений в самом своем организме, которые сказались потом довольно тяжелыми последствиями.
Пекторалис дал себе слово выучиться русскому языку в полгода, правильно, грамматикально, – и заговорить сразу в один заранее им предназначенный день. Он знал, что немцы говорят смешно по-русски, – и не хотел быть смешным. Учился он один, без помощи руководителя, и притом втайне, так что мы никто этого и не подозревали. До назначенного для этого дня Пекторалис не произносил ни одного слова по-русски. Он даже как будто позабыл и те слова, которые знал: то есть «можно, не можно, таможно и подрожно», и зато вдруг входит ко мне в одно прекрасное утро – и если не совсем легко и правильно, то довольно чисто говорит:
– Ну, здравствуйте! Как вы себе поживаете?
– Ай да Гуго Карлович! – отвечал я, – ишь какую штуку отмочил!
– Штуку замочил? – повторил в раздумье Гуго и сейчас же сообразил: – ах да… это… это так. А что, вы удивились, а?
– Да как же, – отвечаю, – не удивиться: ишь как вдруг заговорил!
– О, это так должно было быть.
– Почему же «так должно»? дар языков, что ли, на вас вдруг сошел?
Он опять немножко подумал – опять проговорил про себя:
– «Дар мужиков», – и задумался.
– Дар
Пекторалис сейчас же понял и отлично ответил по-русски:
– О нет, не дар, но…
– Ваша железная воля!
Пекторалис с достоинством указал пальцем на грудь и отвечал:
– Вот это именно и есть так.
И он тотчас же приятельски сообщил мне, что всегда имел такое намерение выучиться по-русски, потому что хотя он и замечал, что в России живут некоторые его земляки, не зная, как должно, русского языка, но что это можно только на службе, а что он, как человек частной профессии, должен поступать иначе.
– Без этого, – развивал он, – нельзя: без этого ничего не возьмешь хорошо в свои руки: а я не хочу, чтобы меня кто-нибудь обманывал.
Хотел я ему сказать, что: «душа моя, придет случай, – и с этим тебя обманут», да не стал его огорчать. Пусть радуется!
С этих пор Пекторалис всегда со всеми русскими говорил по-русски и хотя ошибался, но если ошибка его была такого свойства, что он не то говорил, что хотел сказать, то к каким бы неудобствам это его ни вело, он все сносил терпеливо, со всею своею железною волею, и ни за что не отрекался от сказанного. В этом уже начиналось наказание его самолюбивому самочинству. Как все люди, желающие во что бы то ни стало поступать во всем по-своему, сами того не замечают, как становятся рабами чужого мнения, – так вышло и с Пекторалисом. Опасаясь быть смешным немножечко, он проделывал то, чего не желал и не мог желать, но ни за что в этом не сознавался.
Скоро это, однако, было подмечено, и бедный Пекторалис сделался предметом жестоких шуток. Его ошибки в языке заключались преимущественно в таких словах, которыми он должен был быстро отвечать на какой-нибудь вопрос. Тут-то и случалось, что он давал ответ совсем противоположный тому, который хотел сделать. Его спрашивали, например:
– Гуго Карлович, вам послабее чаю или покрепче?
Он не вдруг соображал, что значит «послабее» и что значит «покрепче», и отвечал:
– Покрепче; о да, покрепче.
– Очень покрепче?
– Да, очень покрепче.
– Или как можно покрепче?
– О да, как можно покрепче.
И ему наливали чай, черный как деготь, и спрашивали:
– Не крепко ли будет?
Гуго видел, что это очень крепко, – что это совсем не то, что он хотел, но железная воля не позволяла ему сознаться.
– Нет, ничего, – отвечал он и пил свой ужасный чай; а когда удивлялись, что он, будучи немцем, может пить такой крепкий чай, то он имел мужество отвечать, что он это любит.
– Неужто вам это нравится? – говорили ему.
– О, совершенно зверски нравится, – отвечал Гуго.
– Ведь это очень вредно.
– О, совсем не вредно.
– Право, кажется, – вы это… так…
– Как так?
– Ошиблись сказать.
– Ну вот еще!
И тогда как он терпеть не мог крепкого чаю, он уверял, что «зверски» его любит – и его, один перед другим усердствуя, до того наливали этим крепким чаем, что этот так часто употребляемый в России напиток сделался мучением для Гуго; но он все крепился и все пил теин вместо чая до тех пор, пока в один прекрасный день у него сделался нервный удар.
Бедный немец провалялся без движения и без языка около недели, но при получении дара слова – первое, что прошептал, это было про железную волю.
Выздоровев, он сказал мне:
– Я доволен собою, – признался он, пожимая мою руку своею слабою рукою.
– Что же вас так радует?
– Я себе не изменил, – сказал он, но умолчал, в чем именно заключалась радовавшая его выдержка.
Но с этим его чайные муки кончились. Он более не пил чаю, так как чай ему с этих пор был совершенно запрещен, и для поддержки своей репутации ему оставалось только мнимо жалеть об этом лишении. Но зато вскоре же на его голову навязалась точно такая же история с французской горчицей диафан. Не могу вспомнить, но, вероятно, по такому же точно случаю, как с чаем, Гуго Карлович прослыл непомерно страстным любителем французской горчицы диафан, которую ему подавали решительно ко всякому блюду, и он, бедный, ел ее, даже намазывая прямо на хлеб, как масло, и хвалил, что это очень вкусно и зверски ему нравится.
Опыты с горчицею окончились тем же, что ранее было с чаем: Пекторалис чуть не умер от острого катара желудка, который хотя был прерван, но оставил по себе следы на всю жизнь бедного стоика до самой его трагикомической смерти.
Было с ним много и других смешных и жалких вещей в этом же роде: всех их нет возможности припомнить и пересказать; но остаются у меня в памяти три случая, когда Гуго, страдая от своей железной воли, никак не мог уже говорить, что с ним делается именно то, чего ему хотелось.
Это была фаза, в которой он должен был дойти до апогея – и потом, колеблясь, идти к своему перигею.
Новая фаза эта началась в первое лето, которое Пекторалис проводил с нами, и началась она тем, что Гуго изобрел себе необыкновенный экипаж. Нужно вам знать, что от нас до города считалось верст сорок, но была одна лесная тропинка, которою путь сокращался едва ли не наполовину. Только зато тропа эта была почти непроездна, – по ней едва-едва, и то с великим трудом, езжали на своих двуколесках крестьяне. Гуго хотел ездить ближе и не хотел трястись на мужицкой двуколеске, а сварганил себе нечто вроде колесницы: это было простое кресло с пружинной подушкой, поставленное на раму, укрепленную на передке старых дрожек. Экипаж был мудрен и имел такой вид, что ездившего на нем Пекторалиса мужики прозвали «мордовским богом»; но что всего хуже – кресло, лишенное своего комнатного покоя, ни за что не хотело путешествовать, оно не выдерживало тряски и очень часто соскакивало с рамы, и от этого не раз случалось, что лошадь Гуго прибегала домой одна, а потом через час или два плелся бедный Гуго, таща у себя на загорбке свое кресло. Бывало и хуже: раз он соскочил со своим креслом в болоте и сидел там, пока его вытащили и привезли в самом жалостном виде.
Уверять, что он сам этого хотел, Гуго не мог, но стоять на своем, чтобы не оставить своего упорства, он мог – и делал это с изумительною настойчивостью.
Другая история была такая: раз сильно перемокший Гуго прямо с охоты был затащен одним из наших принципалов к чайному столу, за которым в приятной вечерней беседе сидела в сборе вся наша колония. Для Гуго налили стакан горячей воды с красным вином и расспрашивали о его охотничьей удаче. Он был хороший охотник и лгал не много, но так как его железная воля, разумеется, и здесь имела свое место, то рассказ, сам по себе и весьма невинный, выходил интересен и забавен. Мы все слушали рассказчика и посмеивались; но только, к немалой досаде всех, удобство нашей беседы вдруг начали нарушать беспрестанно появлявшиеся в комнате осы. Престранное было дело, – и решительно невозможно было понять: откуда они сюда брались? Хотя окна дома, где мы сидели, и были открыты, но на дворе шел частый летний дождь, и лёта этим злым насекомым не было: откуда же они могли браться? А они так и порхали, как цветы из шляпы фокусника: они ползли по ножкам стола, появлялись на скатерти, на тарелках и, наконец, на спине Гуго – и в заключение одна из них пребольно ужалила в руку молодую хозяйку.
Дальнейшая беседа была решительно невозможна: сделался переполох, в котором дамская нервность и мужская услужливость заварили страшную кашу. Были вызваны самые энергические меры: все начали метаться – кто хлопал платком, кто гонялся за осами с салфеткою, некоторые сами спешили спрятаться. Во всей этой суете и беготне не принимал участия один Гуго – и он знал почему… Он один стоял неподвижно у стула, на котором сидел до этого времени, и был жалок и ужасен: лицо его было покрыто страшною бледностию, губы дрожали, и руки корчились в судорогах; а весь его сыроватый еще сюртук и особенно спина были сплошь покрыты осами.
– Великий боже! – воскликнули мы, охватывая его со всех сторон, – вы, Гуго Карлыч, настоящее гнездо ос.
– О нет, – отвечал он, едва выговаривая слово за словом, – я не гнездо, но у меня есть гнездо.
– Гнездо ос?!
– Да; я его нашел, но оно было мокро – и я хотел его рассмотреть и принес его с собою.
– И где же оно теперь?
– Оно в моем заднем кармане.
– Так вот оно что!
Мы сдернули с него сюртук (так как дамы давно уже оставили эту опасную комнату) и увидели, что вся спина жилета бедного Гуго была покрыта осами, которые ползли по нем вверх, отогревались, расправлялись и пускались в лёт, меж тем как из кармана бесконечным шнурком ползли одна за другою новые.
Прежде всего, разумеется, злополучный сюртук Гуго бросили на пол и растоптали осиное гнездо, бывшее причиною всего переполоха, а потом взялись за самого Гуго, который был изжален до немощи, но не издал ни жалобы, ни звука. Его освободили от ос, ползавших под его рубашкой, смазали, как сосиску, маслом и, положив на диван, покрыли простынею. Он быстро начинал распухать и, очевидно, страдал невыносимо; но когда один из англичан, соболезнуя о нем, сказал, что у этого человека действительно железная воля, – Гуго улыбнулся и, оборотясь в нашу сторону, проговорил с укоризною:
– Я очень рад, что вы больше в этом не сомневаетесь.
Его оставили любоваться своею железною волею и более с ним не разговаривали – и он, бедный, не знал, как много над ним все смеялись; а между тем новая история ждала его впереди.
Здесь я должен заметить, что Гуго если не был скуп, то был очень расчетлив и бережлив, – и как бережливость его имела целью скорейшее накопление нужных ему трех тысяч талеров и сопровождалась его железною волею в преследовании этой цели, то она стоила самой безумной скупости. Он себе решительно отказывал во всем, в чем была какая-нибудь возможность отказать: он не возобновлял себе платья и, не держа слуги, сам себе чистил сапоги. Но была одна статья, на которую он должен был израсходоваться, так как это было нужно в видах благоразумной экономии. Гуго дорого казалось ездить на наемной лошади, и он решился завести себе свою лошадь, но задумал он это сделать не просто. Конские заводы в тех краях и большие и маленькие в изобилии; но между заводчиками был некто Дмитрий Ерофеич – помещик средней руки и конный заводчик с «закальцем». Никто на свете не умел так обмануть конем, как этот Дмитрий Ерофеич, и надувал он не как обыкновенный, сухой, прозаический барышник, а как артист, – больше для шику, для форса и для славы. Чем большим знатоком слыл или выдавал себя тот или другой покупатель, тем смелее и дерзче обманывал его Дмитрий Ерофеич. Он приходил в неописанную радость при столкновении с таким знатоком и говорил ему комплименты, что нет-де ему ничего приятнее, как иметь дело с таким человеком, который сам все понимает. И был тогда Дмитрий Ерофеич до бесконечности прост – коня не нахваливал, а, напротив, сам говорил о нем полупрезрительно:
– Лошаденка, дескать, так себе, завидного ничего нет – и на выставку ее не пошлешь; но а впрочем, дело в виду, сами смотрите.
И знаток смотрел, а Дмитрий Ерофеич только конюху командовал:
– Не верти ее, не верти! Что ты с нею вертишься, как бес перед заутренею? – мы ведь не цыгане. Дай барину ее хорошо осмотреть, стой спокойно. Вот там ножка-то у нее болела, прошла, что ли?
– Где болела? – спрашивает покупатель.
– Да на цевочке что-то у нее было.
– Это не у нее, Дмитрий Ерофеич, – замечает конюх.
– Ай не у нее? ну, да пусто ей будь, кто их вспомнит. Смотрите, батюшка мой, чтобы не ошибиться, товар недорогой, а всё денег зря бросать не следует, они дороги; а я, извините, устал и домой пойду.
И он уходил, а покупатель без него начинал еще зорче смотреть на ножку, на которой действительно никакой болезни никогда не было, – и не видал того, где заключались пороки.
Надувательство совершалось, и Дмитрий Ерофеич спокойно говорил:
– Дело торговое, а ты не хвались, что знаешь. Это тебе за похвальбу наука.
Но был и у Дмитрия Ерофеича свой пункт, своя ахиллесова пята, в которую он был довольно уязвим. Как всякий желает иметь то, чего не заслуживает, так и Дмитрий Ерофеич любил, чтобы ему верили. Давно он обрел в этом вкус и изрек правило:
– Не смотри, не гляди, дураком назовись, да на меня положись, я тогда тебе все в аккурат исполню, за сотню полтысячного коня дам.
И точно, это так и бывало, Дмитрий Ерофеич имел на этот счет свой point d'honneur,[4] своего рода железную волю. Но как на это пустились довольно многие, то Дмитрию Ерофеичу это стало очень невыгодно – и он давно хотел отбиться от этой докуки доверия. Долго он никак не мог на это решиться, но когда бог послал ему Пекторалиса, Дмитрий Ерофеич напустил на себя смелость. Чуть Гуго заговорил с ним о своей надобности иметь лошадь и попросил дать ему коня на совесть, Дмитрий Ерофеич отвечал ему:
– И, матинька, какая нынче совесть!.. коней у меня много, смотри и выбирай любого, какого знаешь, – а что такое за совесть!
– О, ничего, Дмитрий Ерофеич, я вам верю, я на вас полагаюсь.
– А мой тебе совет – никому, матинька, и не верь и ни на кого не полагайся; что такое на людей полагаться? Что, ты сам дурак, что ли, какой вырос?
– Ну, уже воля ваша, а я это так решил, вот вам сто рублей, и дайте мне за них лошадь. Не можете же вы мне в этом отказать.
– Да что отказать-то? Сто рублей, разумеется, деньги – и отчего их не взять, а только мне неприятно, что ты жалеть будешь.
– Не пожалею.
– Ну, как не пожалеть! Тоже ведь у тебя не шальные деньги, а трудовой грош, жаль станет, как я дрянную лошадь дам, – будешь жаловаться.
– Не буду я жаловаться.
– Это ты только так говоришь, а то где не жаловаться? Обидно покажется, пожалуешься.
– Ручаюсь вам, что никогда никому не пожалуюсь.
– А побожись!
– У нас, Дмитрий Ерофеич, не божатся.
– Ну вот видишь, еще и не божатся. Как же тут верить?
– Моей железной воле поверьте.
– Ну, быть по-твоему, – порешил Дмитрий Ерофеич, – и, угощая Пекторалиса ужином, позвал конюха и говорит: – Запрягите-ка Гуге Карловичу в саночках Окрысу.
– Окрысу, Дмитрий Ерофеич? – удивился конюх.
– Да, Окрысу.
– То есть так ее самую и запречь?
– Тпфу, да что ты, дурак, переспрашиваешь? Сказано запречь – и запряги. – И, отворотясь с улыбкою от конюха, он молвил Пекторалису: – Славного, брат, тебе зверя даю, кобылица молодая, рослая, статей превосходных и золотой масти. Чудная масть, на заглядение. Уверен, что век будешь помнить.
– Благодарю, благодарю, – говорил Пекторалис.
– Ну, поблагодаришь-то после, как наездишься; а только если что не по-твоему в ней выйдет, так смотри, помни уговор: не ругайся, не пожалуйся, потому что я твоего вкуса не знаю, чего ты желал.
– Никогда никому не пожалуюсь, я уже вам это сказал, положитесь на мою железную волю.
– Ну, молодец, если так, а у меня, брат, вот воли-то совсем нет. Много раз я решался, дай стану со всеми честно поступать, но все никак не выдержу. Что ты будешь делать – и попу на духу после каюсь, да уже не воротишь. А у вас, у лютеран, ведь совсем и не каются?
– У нас богу каются.
– Ишь какая воля: и не божатся и не каются! Да, впрочем, у вас и попов нет и святых нет; ну, да зам их и взять негде, все святые-то русские. Прощай, матинька, садись да поезжай, а я пойду помолюсь да спать лягу.
И они расстались.
Пекторалис знал Дмитрия Ерофеича за шутника и был уверен, что все это шутки; он оделся, вышел на крыльцо, сел в саночки, но чуть только забрал вожжи, его лошадь сразу же бросилась вперед и ударилась лбом в стену. Он ее потянул в другую сторону, она снова метнулась и опять лбом в запертый сарай – и на этот раз так больно стукнулась, что даже головою замотала.
Немец долго не мог понять этой штуки и не нашел, у кого бы спросить ей объяснение, потому что, пока это происходило, в доме сник всякий след жизни, все огни везде погасли и все люди попрятались. Мертво, как в заколдованном замке, только луна светит, озаряя далекое поле, открывающееся за растворенными воротами, да мороз хрустит и потрескивает.
Оглянулся Гуго туда и сюда, видит: дело плохо; повернул лошадь головой к луне – и даже испугался: так мертво и тупо, как два тусклые зеркальца, неподвижно глядели на луну большие бельма бедной Окрысы, и лунный свет отражался от них, как от металла.
– Лошадь слепая, – догадался Гуго и еще раз оглянулся по двору.
В одном из окон при свете луны ему показалось, что он видел длинную фигуру Дмитрия Ерофеича, который, вероятно, еще не спал и любовался луною, а может быть, и собирался молиться. Гуго вздохнул, взял лошадь под уздцы и повел ее со двора, – и как только за Пекторалисом заперли ворота, в окошечке Дмитрия Ерофеича засветился тихий огонек: вероятно, старичок зажег лампадку и стал на молитву.
Бедный Гуго был жестоко и немилосердно обманут, его терзала обида, потеря, нестерпимая досада и отчаянное положение среди поля, – и он все это нес, терпеливо нес, идучи целые сорок верст пешком с слепою лошадью, за которою тянулись его пустые санки. И что же, однако, он сделал со всеми этими чувствами и с лошадью? Лошади нигде не оказалось – и он ничего никому не сказал о том, куда она делась (вероятно, он продал ее татарам в Ишиме). А к Дмитрию Ерофеичу, на дворе которого все наши имели обычай приставать, Пекторалис заезжал по-прежнему, не давая заметить в своих отношениях и тени неудовольствия. Долго, долго Дмитрий Ерофеич не показывал ему глаз, но потом они встретились – и Пекторалис не сказал ни слова о лошади.
Наконец уже Дмитрий Ерофеич не выдержал и сам заговорил:
– А что, бишь, я все забываю тебя спросить: какова твоя лошаденка?
– Ничего, очень хороша, – отвечал Пекторалнс.
– Да она, что и говорить, разумеется, лошадь хорошая; только вот какова она в езде-то?
– Хорошо ездит.
– Ну и чудесно. Я так и полагал, что хорошо будет ездить. Только что же ты, кажется, не на ней сегодня приехал?
– Да я ее поберегаю.
– А, вот это прекрасно, это ты очень умно делаешь, поберегай, брат, ее, поберегай. Кобылица чудная, грех такую не беречь.
И людям он с добротою сердечною сообщал, что вот-де Гуго Карлыч нашу Окрысу очень хвалит, а сам все думал: «Что это за чертов такой немец, ей-право, во всю мою жизнь со мной такая первая оказия: надул человека до бесчувствия, а он не ругается и не жалуется».
И впал от этого Дмитрий Ерофеич даже в беспокойство. Понять он не мог, что это такое значит. Сам начал всем рассказывать, как он надул Пекторалиса, и сильно претендовал, что отчего же тот не жалуется. Но Пекторалис держал свой термин и, узнав, что Дмитрий Ерофеич рассказывает, только пожал плечами и сказал:
– Никакой выдержки нет.
Дмитрий Ерофеич был плутоват, но труслив, суеверен и набожен; он вообразил, что Пекторалис замышляет ему какое-то ужасно хитро рассчитанное мщение, и, чтобы положить конец этой душевной тревоге, послал ему чудесную лошадь рублей в триста и велел ему кланяться и просить извинения.
Пекторалис покраснел, но решительно велел отвести лошадь назад и вместо ответа написал: «Мне стыдно за вас, у вас совсем нет воли».
И вот этот-то человек, проделавший перед нами такую бездну экспериментов на своей железной воле, вдруг подвинулся к краю своих желаний: новый год ему принес новую прибавку, которая с прежними его сбережениями сразу перевалила за три тысячи талеров.
Пекторалис поблагодарил хозяев и сейчас же стал собираться в Германию, обещаясь через месяц возвратиться оттуда с женою.
Сборы его были невелики – и он отправился, а мы стали нетерпеливо ждать его возвращения с супругою, которая, по всем нашим соображениям, должна была представлять нечто особенное.
Но в каком роде?
– Непременно, братцы, в надувательном, – старался утверждать Дмитрии Ерофеич.
Мы недолго оставались без вестей от Пекторалиса: через месяц после своего выезда он написал мне, что соединился браком, и называл свою жену по-русски, Кларой Павловной; а еще через месяц он припожаловал к нам назад с супругою, которую мы, признаться сказать, все очень нетерпеливо желали видеть и потому рассматривали ее с несколько нескромным любопытством.
У нас в колонии, где каждому так известны были крупные и мелкие чудеса Пекторалиса, существовало всеобщее убеждение, что и женитьба его непременно должна быть в своем роде какое-нибудь замысловатое чудо.
Оно, как ниже увидим, так и было в действительности, но только на первых порах мы ничего не могли понять.
Клара Павловна была немка как немка – большая, очень, по-видимому, здоровая, хотя и с несколько геморроидальною краснотою в лице и одною весьма странною замечательностью: вся левая сторона тела у нее была гораздо массивнее, чем правая. Особенно это было заметно по ее несколько вздутой левой щеке, на которой как будто был постоянный флюс, и по оконечностям. И ее левая рука и левая нога были заметно больше, чем соответствующие им правые.
Гуго сам обращал на это наше внимание и, казалось, даже был этим доволен.
– Вот, – говорил он, – эта рука побольше, а эта рука поменьше. О, это так не часто бывает.
Я тогда в первый раз видел эту странную игру природы и соболезновал, что бедный Гуго, вместо одной пары обуви и перчаток, должен был покупать для жены две разные; но только соболезнование это было напрасно, потому что madame Пекторалис делала это иначе: она брала и обувь и перчатки
У нас никому не нравилась эта дама, которую, по правде говоря, даже не шло как-то называть и дамою – так она была груба и простонародна, и из нас многие задавали себе вопрос: что могло привлечь Пекторалиса к этой здоровой, вульгарной немке и стоило ли для нее давать и исполнять такие обеты, какие нес он, чтобы на ней жениться. И еще он ездил за нею в такую даль, в Германию… Так и хочется, бывало, ему спеть:
Чего тебя черти носили,
Мы бы тебя дома женили.
Преимущества Клары, разумеется, заключались в каких-нибудь ее внутренних достоинствах – например, в воле. Мы и об этом осведомлялись:
– Большая воля у Клары Павловны?
Пекторалис делал гримасу и отвечал:
– Чертовская!
К обществу наших английских дам, между которыми были существа очень умные и прекрасно воспитанные, Клара Павловна совершенно не подходила, – и это чувствовала и она сама и Пекторалис, который об этом, впрочем, нимало не сожалел и вообще не заботился о том, как кому кажется его жена. Как истый немец, он содержал ее не про господ, а про свой расход, и нимало не стеснялся ее несоответствием среде, в которую она попала. В ней было то, что ему было нужно и что он ценил всего дороже: железная воля, которая в соединении с собственною железною волею Пекторалиса должна была произвесть чудо в потомстве, – и этого было довольно!
Но вот что могло несколько удивлять – это что никто не видал никаких проявлений этой воли. Клара Пекторалис жила себе как самая обыкновенная немка: варила мужу суп, жарила клопс и вязала ему чулки и ногавки, а в отсутствие мужа, который в то время имел много работы на стороне, сидела с состоявшим при нем машинистом Офенбергом, глупейшим деревянным немцем из Сарепты.
Об Офенберге мне достаточно вам сказать десять слов: это был молодой юноша, которого, мне кажется, должны бы имитировать все актеры, исполняющие роль работника, соблазняемого хозяйкою в известной пиеске «Мельничиха в Марли». У нас все считали его дурачком, хотя он, впрочем, имел в себе нечто расчетливое и мягко-коварное, свойственное тем особенным простячкам с виду, каких можно встречать при иезуитских домах в rue de Sèvres и других местах.
Офенберг был взят в помощь Пекторалису не столько как механик, сколько как толмач для передачи его распоряжений рабочим; но и в этом роде он был не совсем удовлетворителен и многое часто путал. Однако тем не менее Пекторалис терпел его и находил полезным даже после того, когда уже и сам научился по-русски. Даже более: Пекторалис почему-то полюбил этого глупого Офенберга и делил с ним свои досуги: он жил с ним в одной квартире, спал до женитьбы в одной спальне, играл с ним в шахматы, ходил с ним на охоту и зорко наблюдал за его нравственностию, на что будто бы имел особенное поручение от его родителей и от старшин сарептских гернгутеров. Вообще Офенберг и Пекторалис у нас жили друзьями и очень редко расставались. Теперь это изменилось, потому что Пекторалис часто уезжал, но это нимало не угрожало нравственнности Офенберга, за которою в отсутствие мужа имела неослабное наблюдение фрау Клара. Таким образом, оба они были друг другу полезны. Офенберг развлекал фрау Клару, а она его оберегала от всяких покушений и соблазнов юности. И здесь дело было обдумано умно; но черт ему позавидовал и сделал из него замечательную глупость, которая благодаря прямоте и оригинальности нашего славного Гуго получила самую нескромную огласку и повернула весь дом вверх дном.
По женскому суждению, во всем этом, о чем я сейчас начну рассказывать, был непростительно виноват сам Гуго; но когда же у дам бывают другие виноватые, кроме мужей? Слушайте, пожалуйста, беспристрастно и рассудите дело сами, без дамского подсказа.
Со времени женитьбы Пекторалиса утек год, затем прошел другой – и, наконец, третий. Так точно мог бы уйти и шестой, и восьмой, и десятый, если бы этот третий год не был необыкновенно счастлив для Пекторалиса в экономическом отношении. От этого счастья и произошло большое несчастие, о котором вы сейчас услышите.
Я уже вам сказал, кажется, что Пекторалис был основательный знаток своего дела – и при отличавшей его аккуратности и настойчивости, свойственной его железной воле, делал все, за что принимался, чрезвычайно хорошо и добросовестно. Это скоро сделало ему такую репутацию в околотке, что его постоянно приглашали то туда, то сюда, наладить одну машину, установить другую, поправить третью. Наши принципалы его в этом не стесняли – и он всюду поспевал, а зато и заработок его был очень значителен. Средства его так возрастали, что он начал подумывать: отложиться от своего Доберана и завести собственную механическую фабрику в центре нашей заводской местности, в городе Р.
Желание, конечно, самое простое и понятное для всякого человека, так как кому же не хочется выбиться из положения поденного работника и стать более или менее самостоятельным хозяином своего собственного дела; но у Гуго Карловича были к тому еще и другие сильные побуждения, так как у него с самостоятельным хозяйством соединялось расширение прав жизни. Вам, пожалуй, не совсем понятно, что я этим хочу сказать, но я должен на минуточку удержать пояснение этого в тайне.
Не помню, право, сколько именно требовалось по расчетам Пекторалиса, чтобы он мог основать свою фабрику, но, кажется, это выходило что-то около двенадцати или пятнадцати тысяч рублей, – и как только он доложил к этой сумме последний грош, так сейчас же и поставил точку к одному периоду своей жизни и объявил начало нового.
Обновление это совершилось в три приема, из коих первый заключался в том, что Пекторалис объявил, что он более не будет служить и открывает в городе фабрикацию. Второе дело было – устройство этой фабрикации, для которой прежде всего нужно было место, и притом, разумеется, по мере возможности дешевое и удобное. Таких мест в небольшом городе было немного – и из них одно только отвечало всем требованиям Пекторалиса: он к нему и привязался. Это было большое глубокое место, выходившее одною стороною к ярмарочной площади, а другою – к берегу реки, – и притом здесь были огромные старые каменные строения, которые с самыми ничтожными затратами могли быть приспособлены к делу. Но половина этого облюбованного Пекторалисом места была давно заарендована на долгое время некоему мещанину Сафронычу, у которого тут был маленький чугуноплавильный завод. Пекторалис знал и этот завод и самого Сафроныча и надеялся его выжить. Правда, что Сафроныч не подавал ему на это никаких надежд и даже прямо отвечал, что он отсюда не пойдет; но Пекторалис придумал себе план, против которого Сафроныч, по его расчетам, никак не мог устоять. И вот, в надежде на этот план, место было куплено, и Пекторалис в один прекрасный день вернулся к нам на старое пепелище с купчею крепостию и в самом веселом расположении духа. Он был так весел, что позволил себе большие и совсем ему не свойственные нескромности, обнял при всех жену, расцеловал обоих своих принципалов, взял за уши и потянул кверху Офенберга и затем объявил, что он устроился, благодарит за хлеб за соль и скоро уезжает в Р. на свое хозяйство.
Мне показалось, что Клара Пекторалис при этом известии побледнела, а Офенберг как будто потерялся до того, что сам Гуго обратил на это внимание и, расхохотавшись, сказал:
– О! ты не ждал этого, бедный разиня! – И с этими словами он повернул к себе деревянного гернгутера, сильно хлопнул его по плечу и произнес: – Ну, ничего, не грусти, Офенберг, не грусти, я и о тебе подумал – я тебя не оставлю, и ты будешь со мною, а теперь отправляйся сейчас в город и привези оттуда много шампанского и все то, что я купил по этой записке.
Записка была – реестр самых разнообразных покупок, сделанных Пекторалисом и оставленных в городе. Тут было вино, закуска и прочее.
Пекторалис, очевидно, хотел задать нам большой пир – и действительно, на другой же день, когда вся бакалея была привезена, он обошел всех нас, прося к себе вечером на большое угощение, по случаю своей женитьбы.
Мне показалось, что я не вслушался, и я его переспросил:
– Вы даете нам прощальный пир по случаю своего отъезда и нового приобретения?
– О нет; это мы еще будем пировать там, когда хорошо пойдет мое дело, а теперь я делаю пир потому, что я сегодня буду жениться.
– Как, вы будете сегодня жениться?
– О да, да, да: сегодня Клара Павловна… я с ней сегодня женюсь.
– Что вы за вздор говорите?
– Никакой вздор, непременно женюсь.
– Как женитесь? Да ведь, позвольте, вы ведь три года уже как женаты.
– Гм! да, три года, три года. Ишь вы! Вы думаете, что это всегда будет так, как было три года. Конечно, это могло так оставаться и тридцать три года, если бы я не получил денег и не завел своего хозяйства; но теперь нет, брат, Клара Павловна, будьте покойны, я с вами нынче женюсь. Вы меня, кажется, не понимаете?
– Решительно не понимаю, не понимаю.
– Дело самое простое: у меня с Кларинькой так было положено, что когда у меня будет три тысячи талеров, я буду делать с Кларинькой нашу свадьбу. Понимаете, только свадьбу и ничего более, а когда я сделаюсь хозяином, тогда мы совсем как нужно женимся. Теперь вы понимаете?
– Батюшки мои, – говорю, – я боюсь за вас, что начинаю понимать, как вы это… три года… все еще не женились!
– О да, разумеется, еще не женился! Ведь я вам сказал, что если бы я не устроился как нужно, я бы и тридцать три года так прожил.
– Вы удивительный человек!
– Да, да, да, я и сам знаю, что я удивительный человек, – у меня железная воля! А вы разве не поняли, что я вам давно сказал, что, получая три тысячи талеров, я еще не буду на верху блаженства, а буду только близко блаженства?
– Нет, – отвечаю, – тогда не понял.
– А теперь понимаете?
– Теперь понимаю.
– О, вы неглупый человек. И что вы теперь обо мне скажете? Я теперь сам хозяин и могу иметь семейство, я буду все иметь.
– Молодец, – говорю, – молодец!.. и черт вас побери, какой вы молодец!..
И целый потом этот день до вечера я был не шутя взволнован этою штукою.
«Этакой немецкий черт! – думалось мне, – он нашего Чичикова пересилит».
И как Гейне все мерещился во сне подбирающий под себя Германию черный прусский орел, так мне все метался в глазах этот немец, который собирался сегодня быть мужем своей жены после трех лет женитьбы.
Помилуйте, чего после этого такой человек не вытерпит и чего он не добьется?
Этот вопрос стоял у меня в голове и во все время пира, который был продолжителен и изобилен, на котором и русские, и англичане, и немцы – все были пьяны, все целовались, все говорили Пекторалису более или менее плоские намеки на то, что задлившийся пир крадет у него блаженные и долгожданные мгновения; но Пекторалис был непоколебим; он тоже был пьян, но говорил:
– Я никуда не тороплюсь; я никогда не тороплюсь – и я всюду поспею и все получу в свое время. Пожалуйста, сидите и пейте, у меня ведь железная воля.
В эти минуты он, бедняжка, еще не знал, как она ему была нужна и какие ей предстояли испытания.
На другой день по милости этого пира пришлось проспать добрым полчасом дольше обыкновенного, да и то не хотелось встать, несмотря на самую неотвязчивую докуку будившего меня слуги. Только важность дела, которое он мне сообщал и которое я не скоро мог понять, заставила меня сделать над собою усилие.
Речь шла о Гуго Карловиче, – точно еще не был окончен заданный им пьянейший пир.
– Да в чем же дело? – говорю я, сидя на постели и смотря заспанными глазами на моего слугу.
А дело было вот в чем: через час после ухода от Пекторалиса последнего гостя, Гуго на рассвете серого дня вышел на крыльцо своего флигеля, звонко свистнул и крикнул:
– Однако!
Через несколько минут он повторил это громче и потом раз за разом еще громче прокричал:
– Однако! однако!
К нему подошел один из ночных сторожей и говорит:
– Что твоей милости, сударь?
– Пошли мне сейчас «Однако»!
Сторож посмотрел на немца и отвечал:
– Иди спать, родной, – что тебе такое!
– Ты дурак: пошли мне «Однако». Пойди туда, вон в тот флигель, где слесаря, и разбуди его там в его комнатке, – и скажи, чтобы сейчас пришел сюда.
«Перепились, басурманы!» – подумал сторож и пошел будить Офенберга: он-де немец и скорее разберет, что другому немцу надо.
Офенберг тоже был под-шефе и насилу продрал глаза, но встал, оделся и отправился к Пекторалису, который во все это время стоял в туфлях на крыльце. Завидя Офенберга, он весь вздрогнул и опять закричал ему:
– Однако!
– Чего вы хотите? – отвечал Офенберг.
– Однако, чего я хочу, того уже, однако, нет, – отвечал Пекторалис. И резко переменив тон, скомандовал: – Но иди-ка за мною.
Позвав к себе Офенберга, он заперся с ним на ключ в конторе – и с тех пор они дерутся.
Я просто своим ушам не верил; но мой человек твердо стоял на своем и добавил, что Гуго и Офенберг дерутся опасно – запершись на ключ, так что видеть ничего не видно, и крику, говорит, из себя не пущают, а только слышно, как ужасно удары хлопают и барыня плачет.
– Пожалуйте, – говорит, – туда, потому что там давно уже все господа собрались – потому убийства боятся; но никак взлезть не могут.
Я бросился к флигелю Пекторалиса и застал, что там действительно вся наша колония была в сборе и суетилась у дверей Пекторалиса. Двери, как сказано, были плотно заперты, и за ними происходило что-то необыкновенное: оттуда была слышна сильная возня – слышно было, как кто-то кого-то чем-то тузил и перетаскивал. Побьет, побьет и потащит, опрокинет и бросит, и опять тузит, и потом вдруг будто пауза – и опять потасовка, и тихое женское всхлипывание.
– Эй, господа! – кричали им. – Послушайте… довольно вам. Отпирайтесь!
– Не отвечай! – слышался голос Пекторалиса, и вслед за этим опять идет потасовка.
– Полно, полно, Гуго Карлыч! – кричали мы. – Довольно! иначе мы двери высадим!
Угроза, кажется, подействовала: возня продолжалась еще минуту и петом вдруг прекратилась – и в ту же самую минуту дверной крюк откинулся, и Офенберг вылетел к нам, очевидно при некотором стороннем содействии.
– Что с вами, Офенберг? – вскричали мы разом; но тот ни слова нам не ответил и пробежал далее.
– Батюшка, Гуго Карлыч, за что вы его это так обработали?
– Он знает, – отвечал Пекторалис, который и сам был обработан не хуже Офенберга.
– Что бы он вам ни сделал, но все-таки… как же так можно?
– А отчего же нельзя?
– Как же так избить человека!
– Отчего же нет? – и он меня бил: мы на равных правилах сделали русскую войну.
– Вы это называете русскою войною?
– Ну да; я ему поставил такое условие: сделать русскую войну – и не кричать.
– Да помилуйте, – говорим, – во-первых, что это такое за русская война без крику? Это совсем вы выдумали что-то не русское.
– По мордам.
– Ну да что же «по мордам», – это ведь не одни русские по мордам дерутся, а во-вторых, за что же вы это, однако, так друг друга обеспокоили?
– За что? он это знает, – отвечал Пекторалис. Этим двусмысленным образом он ответил на всю трагическую суть своего положения, которое, очевидно, имело для него много неприятного в своей неожиданности.
Вскоре же после этой русской войны двух немцев Пекторалис переехал в город и, прощаясь со мною, сказал мне:
– Знаете, однако, я очень неприятно обманулся.
Догадываясь, чего может касаться дело, я промолчал, но Пекторалис нагнулся к моему уху и прошептал:
– У Клариньки, однако, совсем нет такой железной воли, как я думал, и она очень дурно смотрела за Офенбергом.
Уезжая, он жену, разумеется, взял с собою, но Офенберга не взял. Этот бедняк оставался у нас до поправки здоровья, пострадавшего в русской войне; но на Пекторалиса не жаловался, а только говорил, что никак не может догадаться, за что воевал.
– Позвал, – говорит, – меня, кричит: «Однако!», а потом: «Становись, говорит, и давай делать русскую войну; а если не будешь меня бить, – я один тебя буду бить». Я долго терпел, а потом стал и его бить.
– И все за «однако»?
– Больше ничего не слыхал и не знаю.
– Это ведь, однако, странно!
– И, однако, больно-с, – отвечал Офенберг.
– А вы Кларе Павловне кур не строили, Офенберг?
– То есть, ей-богу, ничего не строил.
– И ни в чем не виноваты?
– Ей-богу, ни в чем.
Так это и осталось под некоторым сомнением: в какой мере был виноват сей Иосиф за то, за что он пострадал, но что Пекторалис на сей раз получил жестокий удар своей железной воле – это было несомненно, – и хотя нехорошо и грешно радоваться чужому несчастью, но, откровенно вам признаюсь, я был немножко доволен, что мой самонадеянный немец, убедясь в недостатке воли у самой Клары, получил такой неожиданный урок своему самомнению.
Урок этот, конечно, должен был иметь на него свое влияние, но все-таки он не сломал его железной воли, которой надлежало оборваться весьма трагикомическим образом, но совершенно при другом роковом обстоятельстве, когда у Пекторалиса зашла русская война с настоящим русским же человеком.
Пекторалис имел достаточно воли, чтобы снесть неудовольствие, которое причинило ему открытие недостатка большой воли в его супружеской половине. Конечно, ему это было нелегко уже по тому одному, что его теперь должна была оставить самая, может быть, отрадная мечта – видеть плод союза двух человек, имеющих железную волю; но, как человек самообладающий, он подавил свое горе и с усиленною ревностью принялся за свое хозяйство.
Он устраивал фабрику и при этом на каждом шагу следил за своею репутациею человека, который превыше обстоятельств и везде все ставит на своем.
Выше было сказано, что Пекторалис приобрел лицевое место, задняя, запланная часть которого была в долгосрочной аренде у чугуноплавильщика Сафроныча, и что этого маленького человека никак нельзя было отсюда выжить.
Ленивый, вялый и беспечный Сафроныч как стал, так и стоял на своем, что он ни за что не сойдет с места до конца контракта, – и суды, признавая его в праве на такую настойчивость, не могли ему ничего сделать.
А он со своим дрянным народом и еще более дрянным хозяйством мешал и не мог не мешать стройному хозяйству Пекторалиса. И этого мало; было нечто более несносное в этом положении: Сафроныч, почувствовав себя в силе своего права, стал кичиться и ломаться, стал всем говорить:
– Я-ста его, такого-сякого немца, и знать-де не хочу. Я своему отечеству патриот – и с места не сдвинусь. А захочет судиться, так у меня знакомый приказный Жига есть, – он его в бараний рог свернет.
Этого уже не мог снесть самоуважающий себя Пекторалис и в свою очередь решил отделаться от Сафроныча по-своему, и притом самым решительным образом, – для чего он уже и вперед расставил неосмотрительному мужику хитрые сети.
Пекторалис скомбинировал свои отношения с Сафронычем, казалось, чрезвычайно предусмотрительно, – так, что Сафроныч, несмотря на свои права, весь очутился в его руках и увидал это тогда, когда дело было приведено к концу, или по крайней мере так казалось.
Но вот как шло дело.
Пекторалис трудился и богател, а Сафроныч ленился, запивал и приходил к разорению. Имея такого конкурента, как Пекторалис, Сафроныч уже совсем оплошал и шел к неминучей нищете, но тем не менее все сидел на своих задах и ни за что не хотел выйти.
Я помню этого бедного, слабовольного человека с его русским незлобием, самонадеянностью и беспечностью.
– Что будет с вами, Василий Сафроныч, – говорили ему, указывая на упадок его дел, совершенно исчезавших за широкими захватами Пекторалиса, – ведь вон у вас по вашей беспечности перед самыми устами какой перехват вырос.
– И, да что же такое, господа? – отвечал беспечный Сафроныч, – что вы меня все этим немцем пугаете? Пустое дело: ведь и немец не собака – и немцу хлеб надо есть; а на мой век станет.
– Да ведь вон он всю работу у вас захватывает.
– Ну так что же такое? А может быть, это так нужно, чтобы он за меня работал. А с пепелища своего я все-таки не пойду.
– Эй, лучше уйдите – он вам отступного даст.
– Нет-с, не пойду: помилуйте, куда мне идти? У меня здесь целое хозяйство заведено, да у бабы – и корыта, и кадочки, и полки, и наполки: куда это все двигать?
– Что вы за вздор говорите, Сафроныч, да мудрено ли все это передвинуть?
– Да ведь это оно так кажется, что не мудрено, но оно у нас все лядащенькое, все ветхое: пока оно стоит на месте, так и цело; а тронешь – все рассыпется.
– Новое купите.
– Ну для чего же нам новое покупать, деньги тратить, – надо старину беречь, а береженого и бог бережет. Да мне и приказный Жига говорит: «Я, говорит, тебе по своему самому хитрому рассудку советую: не трогайся; мы, говорит, этого немца сиденьем передавим».
– Смотрите, не врет ли вам ваш Жига.
– Помилуйте, что же ему врать! Если бы он, конечно, это трезвый говорил, то он тогда, разумеется, может по слабости врать; а то он это и пьяный божится: ликуй, говорит, Сафроныч, велии это творятся дела не к погибели твоей, а ко славе и благоденствию.
Такие обидные речи Сафроныча опять доходили до Пекторалиса и раздражали его неимоверно и, наконец, совсем вывели его из терпения и заставили выкинуть самую радикальную штуку.
– О, если он хочет со мною свою волю померить, – решил Пекторалис, – так я же ему покажу, как он передавит меня своим сиденьем! Баста! – воскликнул Гуго Карлыч, – вы увидите, как я его теперь кончу.
– Он тебя кончит, – передали Сафронычу; но тот только перекрестился и отвечал:
– Ничего; бог не выдаст – свинья не съест, мне Жига сказал: погоди, он нами подавится.
– Ой, подавится ли?
– Непременно подавится. Жига это умно судил: мы, говорит, люди русские – с головы костисты, а снизу мясисты. Это не то что немецкая колбаса, ту всю можно сжевать, а от нас все что-нибудь останется.
Сждение всем понравилось.
Но на другой день после этих переговоров жена Сафроныча будит его и говорит:
– Встань скорее, нетяг ленивый, – иди посмотри, что нам немец сделал.
– Что ты все о пустяках, – отвечал Сафроныч, – я тебе сказал: я костист и мясист, меня свинья не съест.
– Иди смотри, он и калитку и ворота забил; я встала, чтобы на речку сходить, в самовар воды принести, а ворота заперты, и выходить некуда, а отпирать не хотят, говорят – не велел Гуго Карлыч и наглухо заколотил.
– Да, – вот это штука! – сказал Сафроныч и, выйдя к забору, попробовал и калитку и ворота: видит – точно, они не отпираются; постучал, постучал: никто не отвечает. Забит костистый человек на своем заднем дворе, как в ящике. Взлез Василий Сафроныч на сарайчик и заглянул через забор – видит, что и ворота и калитка со стороны Гуго Карлыча крепко-накрепко досками заколочены.
Сафроныч кричал, кликал всех, кого знал, как зовут в доме Пекторалиса, и никого не дозвался. Никто ему не помог, а сам Гуго вышел к нему со своею мерзкою немецкою сигарою и говорит:
– Ну-ка ну, что ты теперь сделаешь?
Сафроныч оробел.
– Батюшка, – отвечал он с крыши Пекторалису, – да что же вы это учреждаете? Ведь это никак нельзя: я контрактом огражден.
– А я, – отвечает Пекторалис, – вздумал еще тебя и забором оградить.
Стоят этак – один на крыльце, другой на крыше и объясняются.
– Да как же мне этак жить? – спрашивал Сафроныч, – мне ведь теперь выехать наружу нельзя.
– Знаю, я это для того и сделал, чтобы тебе нельзя было вылезть.
– Так как же мне быть, ведь и сверчку щель нужна, а я как без щели буду?
– А вот ты об этом и думай, да с приказным поговори; а я имел право тебе все щели забить, потому что о них в твоем контракте ничего не сказано.
– Ахти мне, неужли не сказано?
– А вот то-то есть!
– Быть этого, батюшка, не может.
– А ты не спорь, а лучше слезь да посмотри.
– Надо слезть.
Слез бедный Сафроныч с крыши, вошел в свое жилье, достал контракт со старым владельцем, надел очки – и ну перечитывать бумагу. Читал он ее и перечитывал, и видит, что действительно бедовое его положение: в контракте не сказано, что, на случай продажи участка иному лицу, новый владелец не может забивать Сафроновы ворота и калитку и посадить его таким манером без выхода. Но кому же это и в голову могло прийти, кроме немца?
– Ах ты, волк тебя режь, как ты меня зарезал! – воскликнул бедняк Сафроныч и ну стучаться в забор к соседке.
– Матушка, – говорит ей Сафроныч, – позволь мне к твоему забору лесенку приставить, чтобы через твой двор на улицу выскочить. Так и так, – говорит, – вот что со мной злобный немец устроил: он меня забил, – в роковую петлю уловил мои ноги, так что мне и за приказным слазить не можно. Пока будет суд да дело, не дай мне с птенцами гладом-жаждой пропасть. Позволь через забор лазить, пока начальство какую-нибудь от этого разбойника защиту даст.
Мещанка-соседка сжалилась и открыла Василию Сафронычу пропуск.
– Ничего, – говорит, – батюшка, неужели я тебя этим стесню: ты добрый человек, – приставь лесенку, мне от этого убытку не будет, и я с своей стороны свою лесенку тебе примощу, и лазьте себе туда и сюда на здоровье через мой забор, как через большую дорогу, доколе вас начальство с немцем рассудит. Не позволит же оно ему этак озорничать, хотя он и немец.
– И я думаю, матушка, что не позволит.
– Но пока не позволит, ты только скорее к Жиге беги – он все дело справит.
– И то к нему побегу.
– Беги, милый, беги; он уже что-нибудь скаверзит, либо что, либо что, либо еще что. Ну, а пока я тебе, пожалуй, хоть одно звено в своем заборчике разгорожу. Сафроныч успокоился – щель ему открывалась. Утвердили они одну лесенку с одной стороны, другую с другой, и началось опять у Сафроновых хоть неловкое, а все-таки какое-нибудь с миром сообщение. Пошла жена Сафроныча за водою, а он сам побежал к приказному Жиге, который ему в давнее время контракт писал, – и, рыдая, говорит свою обиду:
– Так и так, – говорит, – все ты меня против немца обнадеживал, а со мною вот что теперь сделано, и все это по твоей вине, и за твой грех все мы с птенцами должны, – говорит, – гладом избыть. Вот тебе и слава моя и благополучие!
А подьячий улыбается.
– Дурак ты, – говорит, – дурак, брат любезный, Василий Сафроныч, да и трус: только твое неожиданное счастье к тебе подошло, а ты уже его и пугаешься.
– Помилуй, – отвечал Сафроныч, – какое тут счастье, во всякий час всему семейству через чужой забор лазить? Ни в жизнь я этого счастья не хотел! Да у меня и дети не великоньки, того гляди которого за чем пошлешь, а он пузо занозит, или свалится, или ножку сломит; а порою у меня по супружескому закону баба бывает в году грузная, ловко ли ей все это через забор прыгать? Где нам в такой осаде, разве можно жить? А уже про заказы и говорить нечего: не то что какой тяжелый большой паровик вытащить, а и борону какую сгородить – так и ту потом негде наружу выставить.
А подьячий опять свое твердит:
– Дурак ты, – говорит, – дурак, Василий Сафронович.
– Да что ты зарядил одно: «дурак да дурак»? ты не стой на одной брани, а утешенье дай.
– Какого же, – говорит, – тебе еще утешения, когда ты и так уже господом взыскан паче своей стоимости?
– Ничего я этих твоих слов не понимаю.
– А вот потому ты их и не понимаешь, что ты дурак – и такой дурак, что моему значительному уму с твоею глупостию даже и толковать бы стыдно; но я только потому тебе отвечаю, что уже счастье-то тебе выпало очень несоразмерное – и у меня сердце радуется, как ты теперь жить будешь великолепно. Не забудь, гляди, меня, не заветряйся; не обнеси чарою.
– Шутишь ты надо мною, бессовестный.
– Да что ты, совсем уже, что ли, одурел, что речи человеческой не понимаешь? Какие тут шутки, я тебе дело говорю: блаженный ты отныне человек, если только в вине не потонешь.
Ничего бедный Василий Сафроныч не понимает, а тот на своем стоит.
– Иди, иди домой своею большою дорогою через забор, только ни о чем не проси немца и не мирись с ним. И боже тебя сохрани, чтобы соседка тебе лаза не открывала, а ходи себе через лесенку, как показано, этой дороги благополучнее тебе быть не может.
– Полно, пожалуй, неужто так всё и лазить?
– А что же такое? – так и лазий, ничего не рушь, как сделалось, потому что экую благодать и пальцем грех тронуть. А теперь ступай домой да к вечеру наготовь штофик да кизлярочки – и я к тебе по лесенке перелезу, и на радостях выпьем за немцево здоровье.
– Ну, ты приходить, пожалуй, приходи, а чтобы я стал за его здоровье пить, так этого уже не будет. Пусть лучше он придет на мои поминки блины есть, да подавится.
А развеселый приказный утешает:
– И, брат, все может статься, теперь такое веселое дело заиграло, что отчего и тебе за его здоровье не попить; а придет то, что и ему на твоих похоронах блин в горле комом станет. Знаешь, в писании сказано: «Ископа ров себе и упадет». А ты думаешь, не упадет?
– Где ему сразу пасть! – всю силу забирает…
– А «сильный силою-то своею не хвались», это где сказало? Ох вы, маловеры, маловеры, как мне с вами жить и терпеть вас? Научитесь от меня, как вот я уповаю: ведь я уже четырнадцатый год со службы изгнан, а все водку пью. Совсем порою изнемогу – и вот-вот уже возроптать готов, а тут и случай, и опять выпью и восхвалю. Все, друг, в жизни с перемежечкой, тебе одному только теперь счастье до самого гроба сплошное вышло. Иди жди меня, да пошире рот разевай, чтобы дивоваться тому, что мы с немцем сделаем. Об одном молись…
– О чем это?
– Чтобы он тебя пережил.
– Тпфу!
– Не плюй, говорю, а молись: это надо с верою, потому что ему теперь очень трудно станет.
И все это изрекал Жига такими загадками.
Побрел Василий Сафроныч к своему загороженному дому, перелез большою дорогою через забор, спосылал тою же дорогою, кого знал, закупить для подьячего угощение, – сидит и ждет его в смятенном унынии, от которого никак не может отделаться, несмотря на куражные речи приказного.
А тот в свою очередь этим делом не манкировал: снарядился он в свой рыжий вицмундир, покрылся плащом да рыжеватою шляпою – и явился на двор к Гуго Карловичу и просит с ним свидания.
Пекторалис только что пообедал и сидел, чистя зубы перышком в бисерном чехольчике, который сделала ему сюрпризом Клара Павловна еще в то блаженное время, когда счастливый Пекторалис не боялся ее сюрпризов и был уверен, что у нее есть железная воля.
Услыхав про подьячего, Гуго Карлыч, который на хозяйственной ноге начал уже важничать, долго не хотел его принять, но когда приказный объявил, что он по важному делу, Гуго говорит:
– Пусть придет.
Подьячий явился и ну низко-низко Пекторалису кланяться. Тому это до того понравилось, что он говорит:
– Принимайте место и садитесь-зи.[5]
А приказный отвечает:
– Помилуйте, Гуго Карлович, – мне ли в вашем присутствии сидеть, у меня ноги русские, дубовые, я перед вами, благородным человеком, и стоять могу.
«Ага, – подумал Пекторалис: – а этот подьячий, кажется, уважает меня, как следует, и свое место знает», – и опять ему говорит:
– Нет, отчего же, садитесь-зи!
– Право, Гуго Карлович, мне перед вами стоять лучше: мы ведь стоеросовые и к этому с мальства обучены, особенно с иностранными людьми мы всегда должны быть вежливы.
– Эх вы, какой штука! – весело пошутил Пекторалис и насильно посадил гостя в кресло.
Тому больше уже ничего не оставалось делать, как только почтительно из глубины сиденья на край подвинуться.
– Ну, теперь извольте говорить, что вы желаете? Если вы бедны, то вперед предупреждаю, что я бедным ничего не даю: всякий, кто беден, сам в этом виноват.
Приказный заслонил ладонью рот и, воззрясь подобострастно в Пекторалиса, ответил:
– Это вы говорите истинно-с: всякий бедный сам виноват, что он бедный. Иному точно что и бог не даст, ну а все же он сам виноват.
– Чем же такой виноват?
– Не знает, что делать-с. У нас такой один случай был: полк квартировал, кавалерия или как они называются… на лошадях.
– Кавалерия.
– Именно кавалерия, так там меня один ротмистр раз всей философии выучил.
– Ротмистр никогда не учит философии.
– Этот выучил-с, случай это такой был, что он мог выучить.
– Разве что случай.
– Случай-с: они командира-с ожидали и стояли верхами на лошадях да курили папиросочки, а к ним бедный немец подходит и говорит: «Зейен-зи зо гут»,[6] и как там еще, на бедность. А ротмистр говорит: «Вы немец?» – «Немец», говорит. «Ну так что же вы, говорит, нищенствуете? Поступайте к нам в полк и будете как наш генерал, которого мы ждем», – да ничего ему и не дал.
– Не дал?
– Не дал-с, а тот и взаправду в солдаты пошел и, говорят, генералом сделался да этого ротмистра вон выгнал.
– Молодец!
– И я говорю – молодец; и оттого я всегда ко всякому немцу с почтением, потому бог его знает, чем он будет.
«Это совсем превосходный человек, это очень хороший человек», – подумал про себя Пекторалис и вслух спрашивает:
– Ну, анекдот ваш хорош; а по какому же вы ко мне делу?
– По вашему-с.
– По моему-у-у?
– Точно так-с.
– Да у меня никаких делов нет-с.
– Теперь будет-с.
– Уж не с Сафроновым ли?
– С ним и есть-с.
– Он никакого права не имеет, ему забор сказано стоять – он и стоит.
– Стоит-с.
– А про ворота ничего не сказано.
– Ни слова не сказано-с, а дело все-таки будет-с. Он приходил ко мне и говорит: «Бумагу подам».
– Пусть подает.
– И я говорю: «Подавай, а про ворота у тебя в контракте ничего не сказано».
– Вот и оно!
– Да-с, а он все-таки говорит… вы извините, если я скажу, что он говорил?
– Извиняю.
– «Я, говорит, хоть и все потеряю…»
– Да он уже и потерял, его работа никуда не годится, его паровики свистят.
– Свистят-с.
– Ему теперь шабаш работать.
– Шабаш, и я ему говорю: «Твоей фабрикации шабаш, и никто тебе ничего не поможет, – в ворота ничего ни провесть, ни вывезть нельзя». А он говорит: «Я вживе дышать не останусь, чтобы я этакому ферфлюхтеру[7] немцу уступил».
Пекторалис наморщил брови и покраснел.
– Неужто это он так и говорил?
– Смею ли я вам солгать? – истинно так и говорил-с: ферфлюхтер, говорит, вы и еще какой ферфлюхтер, и при многих, многих свидетелях, почитай что при всем купечестве, потому что этот разговор на благородной половине в трактире шел, где все чай пили.
– Вот именно негодяй!
– Именно негодяй-с. Я его было остановил, – говорю: «Василий Сафроныч, ты бы, брат, о немецкой нации поосторожнее, потому из них у нас часто большие люди бывают», – а он на это еще пуще взбеленился и такое понес, что даже вся публика, свои чаи и сахары забывши, только слушать стала, и все с одобрением.
– Что же именно он говорил?
– «Это, говорит, новшество, а я по старине верю: а в старину, говорит, в книгах от царя Алексея Михайловича писано, что когда-де учали еще на Москву приходить немцы, то велено-де было их, таких-сяких, туда и сюда не сажать, а держать в одной слободе и писать по черной сотне».
– Гм! это разве был такой указ?
– Вспоминают в иных книгах, что был-с.
– Это совсем не хороший указ.
– И я говорю, не хорошо-с, а особенно: к чему о том через столько прошлых лет вспоминать-с, да еще при большой публике и в народном месте, каковы есть трактирные залы на благородной половине, где всякий разговор идет и всегда есть склонность в уме к политике.
– Подлец!
– Конечно, нечестный человек, и я ему на это так и сказал.
– Так и сказали?
– Так и сказал-с; но только как от моих этих слов у нас между собою горячка вышла, и дошло дело до ругани, а потом дошло и больше.
– Что же: у вас вышла русская война?
– Точно так-с: пошла русская война.
– И вы его поколотили?
– И я его, и он меня, как по русской войне следует, но только ему, разумеется, не так способно было меня побеждать, потому что у меня, извольте видеть, от больших наук все волоса вылезли, – и то, что вы тут на моей голове видите, то это я из долгового отделения выпускаю; да-с, из запасов, с затылка начесываю… Ну, а он лохматый.
– Лохматый, негодяй.
– Да-с; вот я потому, как вижу, что мир кончен и начинается война, я первым делом свои волосы опять в долговое отделение спустил, а его за вихор.
– Хорошо!
– Хорошо-с; но, признаться, и он меня натолкал.
– Ничего, ничего.
– Нет, больно-с.
– Ничего; я вас буду на мой счет лечить. Вот вам сейчас же и рубль на это.
– Покорно вас благодарю: я на вас и полагался, но только это ведь не вся беда.
– А в чем же вся-то?
– Ужасную я неосторожность сделал.
– Ну-у?
– Началось у нас после первого боя краткое перемирие, потому что нас розняли, и пошел тут спор; я сам и не знаю, как впал от этого в такое безумие, что сам не знаю, что про вас наговорил.
– Про меня?
– Да-с; об заклад за вас на пари бился-с, что подавай, говорю, подавай свою жалобу, – а ты Гуги Карлыча волю не изменишь и ворота отбить его не заставишь.
– А он, глупец, думает, что заставит?
– Смело в этом уверен-с, да и другие тоже уверяют-с.
– Другие!
– Все как есть в один голос.
– О, посмотрим, посмотрим!
– И вот они восторжествуют-с, если вы поддадитесь.
– Кто, я поддамся?
– Да-с.
– Да вы разве не знаете, что у меня железная воля?
– Слышал-с, и на нее в надежде такую и напасть на себя сризиковал взять: я ведь при всех за вас об заклад бился и увлекся сто рублей за руки дать.
– И дайте – назад двести получите.
– Да вот-с, я, их всех там в трактире оставивши, будто домой за деньгами побежал, и к вам и явился: ведь у меня, Гуго Карлыч, дома, окромя двух с полтиною, ни копейки денег нет.
– Гм, нехорошо! Отчего же это у вас денег нет?
– Глуп-с, оттого и не имею; опять в такой нации, что тут – честно жить нельзя.
– Да, это вы правду сказали.
– Как же-с, я честью живу и бедствую.
– Ну ничего, – я вам дам сто рублей.
– Будьте благодетелем: ведь они не пропадут-с. Это все от вас зависит.
– Не пропадут, не пропадут, вы с него когда двести получите, сто себе возьмите, а эти сто мне возвратите.
– Непременно ворочу-с.
Пекторалис вручил подьячему бумажку, а тот, выйдя за двери, хохотал, хохотал, так что насилу впотьмах в соседний двор попал и полез к Сафронычу через забор пьяный магарыч пить.
– Ликуй, – говорит, – русская простота! Ныне я немца на такую пружину взял, что сатана скорее со своей цепи сорвется, чем он соскочит.
– Да хотя поясни, – приставал Сафроныч.
– Ничего больше не скажу, как уловлен он – и уловлен на гордости, а это и есть петля смертная.
– Что ему!
– Молчи, маловер, или не знаешь, ангел на этом коне поехал, и тот обрушился, а уж немцу ли не обрушиться.
Осушили они посудины, настрочили жалобу, и понес ее Сафроныч утром к судье опять по той же большой дороге через забор; и хотя он и верил и не верил приказному, что «дело это идет к неожиданному благополучию», но значительно успокоился. Сафроныч остудил печь, отказал заказы, распустил рабочих и ждет, чтό будет всему этому за конец, в ожидании которого не томился только один приказный, с шумом пропивавший по трактирам сто рублей, которые сорвал с Пекторалиса, и, к вящему для всех интересу и соблазну, а для Гуго Карлыча к обиде, – хвастался пьяненький, как жестоко надул он немца.
Все это создало в городе такое положение, что не было человека, который бы не ожидал разбирательства Сафроныча и Пекторалиса. А время шло; Пекторалис все пузырился, как лягушка, изображающая вола, а Сафроныч все переда в своем платье истер, лазя через забор, и, оробев, не раз уже подсылал тайком от Жиги к Пекторалису и жену и детей за пардоном.
Но Гуго был непреклонен.
– Нет, – говорил он, – я к нему приду по его приглашению, но приду на его похороны блины есть, а до того весь мир узнает, что такое моя железная воля.
И вот получили и Сафроныч и Пекторалис повестки – настал день их, и явились они на суд.
Зала была, разумеется, полна, – как я говорил, это смешное дело во всем городе было известно. Все знали весь этот курьез, не исключая и происшествия с подьячим, который сам разболтал, как он немца надул. И мы, старые камрады[8] Пекторалиса, и принципалы наши – все пришли посмотреть и послушать, как это разберется и чем кончится.
И Пекторалис и Сафроныч – прибыли оба без адвокатов. Пекторалис, очевидно, был глубоко уверен в своей правоте и считал, что лучше его никто не скажет, о чем надо сказать; а Сафронычу просто вокруг не везло: его приказный хотел идти говорить за него на новом суде и все к этому готовился, да только так заготовился, что под этот самый день ночью пьяный упал с моста в ров и едва не умер смертию «царя поэтов». Вследствие этого события Сафроныч еще более раскапустился и опустил голову, а Пекторалис приободрился: он был во всеоружии своей несокрушимой железной воли, которая теперь должна была явить себя не одному какому-нибудь частному человеку или небольшому семейному кружку, а обществу целого города. Стоило взглянуть на Пекторалиса, чтобы оценить, как он серьезно понимает значение этой торжественной минуты, и потому не могло быть никакого сомнения, что он сумеет ею воспользоваться, что он себя покажет, – явит себя своим согражданам человеком стойким и внушающим к себе уважение и, так сказать, отольет свои лик из бронзы, на память временам. Словом, это был, как говорят русские офицеры, «момент», от которого зависело все. Пекторалис знал, что его странный анекдот с свадьбою и женитьбой вызвал на свет множество смешных рассказов, в которых его железная воля делала его притчею во языцех. К истинным событиям, начиная с его двухмесячного путешествия зимою в клеенчатом плаще до русской войны с Офенбергом и легкомысленного предания себя в жертву надувательства пьяного подьячего, – прилагались небылицы в лицах самого невозможного свойства. И впрямь, Пекторалис сам знал, что судьба над ним начала что-то жестоко потешаться и (как это всегда бывает в полосе неудач) она начала отнимать у него даже неотъемлемое: его расчетливость, знание и разум. Еще так недавно он, устраивая свое жилье в городе, хотел всех удивить разумною комфортабельностью дома и устроил отопление гретым воздухом – и в чем-то так грубо ошибся, что подвальная печь дома раскалялась докрасна и грозила рассыпаться, а в доме был невыносимый холод. Пекторалис мерз сам, морозил жену и никого к себе не пускал в дом, чтобы не знали, что там делается, а сам рассказывал, что у него тепло и прекрасно; но в городе ходили слухи, что он сошел с ума и ветром топит, и те, которые это рассказывали, думали, что они невесть как остроумны. Говорили, что будто колесница, на которой Пекторалис продолжал ездить «мордовским богом», удрала с ним насмешку, развалясь, когда он переезжал на ней вброд речку, – что кресло его будто тут соскочило и лошадь с колесами убежала домой, а он остался сидеть в воде на этом кресле, пока мимо ехавший исправник, завидя его, закричал: «Что это за дурак тут не к месту кресло поставил?»
Дурак, этот оказался Пекторалис.
И взял будто исправник снял Пекторалиса с этого кресла и привез его сушиться в его холодный дом; а кресло многие люди будто и после еще в реке видели, а мужики будто и место то прозвали «немцев брод». Что в этом было справедливо, что преувеличено и в чем – добраться было трудно; но кажется, что Гуго Карлыч действительно обломился и сидел на реке и исправник привез его. И сам исправник об этом рассказывал, да и колесницы мордовского бога более не видно было. Все это, как я говорю, по свойству бед ходить толпами, валилось около Пекторалиса, как из короба, и окружало его каким-то шутовским освещением, которое никак не было выгодно для его в одно и то же время возникавшей и падавшей большой репутации, как предприимчивого и твердого человека.
Наша милая Русь, где величия так быстро возрастают и так скоро скатываются, давала себя чувствовать и Пекторалису. Вчера еще его слово в его специальности было для всех закон, а нынче, после того как его Жига надул, – и в том ему веры не стало.
Тот же самый исправник, который свез его с речного сидения, позвал его посоветоваться насчет плана, сочиняемого им для нового дома, – и просит:
– Так, – говорит, – душа моя, сделай, чтобы было по фасаду девять сажен, – как место выходит, и чтобы было шесть окон, а посередине балкон и дверь.
– Да нельзя тут столько окон, – отвечал Пекторалис.
– Отчего же нельзя?
– Масштаб не позволит.
– Нет, ты не понимаешь, ведь это я буду в деревне строить.
– Все равно, что в городе, что в деревне, – нельзя, масштаб не позволяет.
– Да какой же у нас в деревне масштаб?
– Как какой? Везде масштаб.
– Я тебе говорю, нет у нас масштаба. Рисуй смело шесть окон.
– А я говорю, что этого нельзя, – настаивал Пекторалис, – никак нельзя: масштаб не позволяет.
Исправник посмотрел-посмотрел и засвистал.
– Ну, жаль, – говорит, – мне тебя, Гуго Карлыч, а делать нечего, – видно, это правда. Нечего делать, – надо другого попросить нарисовать.
И пошел он всем рассказывать:
– Вообразите, Гуго-то как глуп, я говорю: я в деревне вот столько-то окон хочу прорубить, а он мне: «маштап не позволит».
– Не может быть?
– Истинна, истинна; ей-богу, правда.
– Вот дурак-то!
– Да вот и судите! Я говорю: образумься, душенька, ведь я это в своей собственной деревне буду делать; какой же тут карта или маштап мне смеет не позволить? Нет; так-таки его, дурака, и не переспорил.
– Да, он дурак.
– Понятно, дурак: в помещичьем имении маштап нашел. Ясно, что глуп.
– Ясно; а всё кто виноват? – мы!
– Разумеется, мы.
– Зачем возвеличали!
– Ну, конечно.
Одним словом, Пекторалис был к этой поре не в авантаже, – и если бы он знал, что значит такая полоса везде вообще, а в России в особенности, то ему, конечно, лучше было бы не забивать ворота Сафронычу.
Но Пекторалис в полосы не верил и не терял духа, которого, как ниже увидим, у него было даже гораздо больше, чем позволяет ожидать все его прошлое. Он знал, что самое главное не терять духа, ибо, как говорил Гете, «потерять дух – все потерять», и потому он явился на суд с Сафронычем тем же самым твердым и решительным Пекторалисом, каким я его встретил некогда в холодной станции Василева Майдана. Разумеется, он теперь постарел, но это был тот же вид, та же отвага и та же твердая самоуверенность и самоуважение.
– Что вы не взяли адвоката? – шептали ему знакомые.
– Мой адвокат со мною.
– Кто же это?
– Моя железная воля, – отвечал коротко Пекторалис перед самою решительною минутою, когда с ним более уже нельзя было переговариваться, потому что начался суд.
Для меня есть что-то столь неприятное в описании судов и их разбирательств, что я не стану вам изображать в лицах и подробностях, как и что тут деялось, а расскажу прямо, что содеялось.
Сафроныч пересеменивал, почтительно стоя в своем длиннополом коричневом сюртуке, пострадавшем спереди от путешествия по заборам, и рассказывал свое дело, простодушно покачивая головою и вяло помахивая руками, а Гуго стоял, сложивши на груди руки по-наполеоновски, – и или хранил спокойное молчание, или давал только односложные, твердые и решительные ответы.
Нехитрое дело просто выяснилось сразу: о воротах и проезде через двор в контракте действительно ничего сказано не было – и по тону речей расспрашивавшего об этом судьи ясно было, что он сожалеет Сафроныча, но не видит никаких оснований защитить его и помочь ему. В этой части дело Сафроныча было проиграно; но неожиданно для всех луна оборотилась к нам тем боком, которого никто не видал. Судья предъявил документы, которыми удостоверялись убытки Сафроныча от самочинства Пекторалиса. Они не были особенно преувеличены: их было высчитано по прекращении средств его производства по пятнадцати рублей в день.
Расчет этот был точен, ясен и несомненен. Сафроныч мог иметь действительный убыток в этом размере, если бы производство его шло как следует, но как оно на самом деле никогда не шло по его беспечности и невнимательности.
Но в виду суда было одно: ежедневный убыток в том размере, в каком он представлен возможным и доказан.
– Что вы на это скажете, господин Пекторалис? – вопросил судья.
Пекторалис пожал плечами, улыбнулся и отвечал, что это не его дело.
– Но вы причиняете ему убытки.
– Не мое дело, – отвечал Пекторалис.
– А вы не хотите ли помириться?
– О, никогда!
– Отчего же?
– Господин судья, – отвечал Пекторалис, – это невозможно: у меня железная воля, и это все знают, что я один раз решил, то так должно и оставаться, и этого менять нельзя. Я не отопру ворота.
– Это ваше последнее слово?
– О да, совершенно последнее слово.
И Пекторалис стал с своим выпяченным подбородком, а судья начал писать – и писал не то чтобы очень долго, а написал хорошо.
Решение его в одно и то же время доставляло и полное торжество железной воле Пекторалиса и резало его насмерть – Сафронычу же оно, по точному предсказанию Жиги, доставляло одно неожиданнейшее счастье.
Судебный приговор не отворял забитых Пекторалиоом ворот, – он оставлял немца в его праве тешить этим свою железную волю, но зато он обязывал Пекторалиса вознаграждать убытки Сафроныча в размере пятнадцати рублей за день.
Сафроныч был доволен этим решением; но, ко всеобщему удивлению, на него выразил удовольствие и Пекторалис.
– Я очень доволен, – сказал он, – я сказал, что ворота будут забиты, и они так останутся.
– Да, но вам это будет стоить пятнадцать рублей в день.
– Совершенно верно; но он ничего не выиграл.
– Выиграл пятнадцать рублей в день.
– А я об этом не говорю.
– Позвольте, что же это составит: двадцать восемь рабочих дней в месяце…
– Кроме Казанской.
– Да, кроме Казанской, – это двести восемьдесят, да сто сорок, – всего четыреста двадцать рублей в месяц. Около пяти тысяч в год. Батюшка, Гуго Карлыч, ведь это черт возьми совсем такую победу! Ведь он этого никогда бы не заработал: это он просто вас себе в крепость забрал.
Гуго моргал глазами, он чувствовал, что дело дорого обошлось, но волю свою показал – и первое число внес судье сумму за покой Сафроныча и его бедствие.
Так это и пошло далее: как, бывало, приходит первое число месяца, Сафроныч несет в суд пятнадцать рублей своей месячной аренды, следующей от него Пекторалису, а оттуда приносит домой через лестницу четыреста двадцать рублей, уплаченные в его пользу Пекторалисом.
Славное дело чудная жизнь пошла для Сафроныча! Никогда он так не жил, да и не думал жить так легко, вольготно и прибыльно. Запер он свои доменки и амбары – и ходит себе посвистывает да чаи распивает или водочкой с приказным угощается, а потом перелезет через лесенку и спит покойно и всех уверяет, что «я, говорит, супротив немца никакой досады не чувствую. Это его бог мне за мою простоту ниспослал. Теперь я только одного боюсь, чтобы он прежде меня не помер. Да бог даст не помрет, он ко мне на похороны блины есть обещался, а он свое слово верно держит. Накорми его тогда, жена, хорошенько блинками, а пока пусть его бог на многое лето бережет на меня работать».
И как Сафроныч и впрямь был человек незлобивый, то и действительно он относился к Гуго Карлычу с полным благорасположением – и при встрече, где еще далеко его, бывало, завидит, как уже снимает шапку и кланяется, а сам кричит:
– Здравствуй, батюшка Гуга Карлыч! Здравствуй, мой кормилец!
Но Гуго этой сердечной простоты не понимал, он принимал ее за обиду и все за нее сердился.
– Ступай прочь, – говорит, – мужик; полезай через забор, где я тебе дорогу положил.
А добродушный Сафроныч отвечает:
– И чего ты, милота моя, гневаешься, за что сердишься? Через забор лезть, я и через забор полезу, – будь твоя воля, а я ведь к тебе со всем моим уважением и ничем не обижаю.
– Еще бы ты смел меня обидеть!
– Да и не смею же, государь мой, не смею, да и не за что. Напротив того, за тебя навсегда со всею семьею каждое утро и вечер богу молюсь.
– Не надо мне этого.
– Ах, благодетель, да нам-то это надо, чтобы тебя как можно дольше бог сохранил, я в том детям внушаю: не забывайте, говорю, птенцы, чтобы ему, благодетелю нашему, по крайней мере сто лет жить, да двадцать на карачках ползать.
«Что это такое „на карачках ползать“? – соображал Пекторалис. – „Сто жить и двадцать ползать… на карачках“. Хорошо это или нехорошо „на карачках ползать“?»
Он решил об этом осведомиться – и узнал, что это более нехорошо, чем хорошо, и с тех пор это приветствие стало для него новым мучением. А Сафроныч все своего держится, все кричит:
– Живи и здравствуй, и еще на карачках ползай.
Семья проигравшего процесс Сафроныча хотя и сообщалась с миром через забор, но жила благодаря контрибуции, собираемой с Пекторалиса, в таком довольстве, какого она никогда до этих пор не знала, и, по сказанному Жигою, имела покой безмятежный, но зато выигравшему свое дело Пекторалису приходилось жутко: контрибуция, на него положенная, при продолжении ее из месяца в месяц была так для него чувствительна, что не только поглощала все его доходы, но и могла угрожать ему решительным разорением.
Правда, что Пекторалис крепился и никому на свою судьбу не жаловался – и даже казался веселым, как человек, публично отстоявший свое право на всеобщее уважение, но в веселости этой уже начинало обозначаться нечто как будто притворное. Да и в самом деле, ведь не мог же этот упрямец не видать впереди, чем это кончится, – и не мог же он с развеселою душою ожидать этого комичного и отчаянного исхода. Дело было просто и ясно: сколько бы Пекторалис ни работал и как бы много ни заработал, все это у него должно было идти на удовлетворение Сафроныча. Не мог же Пекторалис с первого года заработать более пяти-шести тысяч, а от этого у него ничего не могло оставаться не только на развитие дела, даже на свое житье. Поэтому дело его в самом уже начале стало быстро клониться к упадку – и печальный конец его уже можно было предвидеть. Воля Пекторалиса была велика, но капитал слишком мал для того, чтобы выдерживать такие капризы, – и, нажитый в России, он снова стремился опять сюда же и попасть в свое русло. Пекторалис выдерживал сильное испытание и, очевидно, решился погибнуть, но живой не сдаться, – и история эта бог весть чем бы кончилась, если бы случай не распорядился подготовить ей исход самый непредвиденный.
В описанном мною положении прошел целый год и другой, Пекторалис все беднял и платил деньги, а Сафроныч все пьянствовал – и совсем, наконец, спился с круга и бродяжил по улицам. Таким образом, дело это обоим претендентам было не в пользу, но был некто, распоряжавшийся этою операцией умнее. Это была жена Сафроныча, такая же, как и ее муж, простоплетная баба, Марья Матвеевна, у которой было, впрочем, то счастливое перед мужем преимущество, что она сообразила:
– Ну а как мы все-то у немца переберем, тогда что будет?
Соображение это имело и свои резонные основания и свои важные последствия. Марья Матвеевна видела ясно, чего, впрочем, и мудрено было не видеть, что к концу второго года фабрика Пекторалиса уже совсем стояла без работы и Гуго сам ходил в жестокие морозы без шубы, в старой, изношенной куртке, а для форса только pince-nez на шнурочке наружу выпустил. У него уже не оставалось никакого имущества и, что хуже всего, никакой серьезной репутации, кроме той шутовской, которую он приобрел у нас своею железною волею. Но она ему, по правде сказать, ни на что полезное не могла пригодиться.
К тому же над ним в это время стряслась еще беда: его покинула его дражайшая половина – и покинула самым дерзким и предательским образом, увезя с собою все, что могла захватить ценного. К вящему горю, Клару Павловну еще все оправдывали, находя, что она должна была сбежать, во-первых, потому, что у Пекторалиса в доме необыкновенные печи, которые в сенях топятся, а в комнатах не греют, а во-вторых, потому, что у него у самого необыкновенный характер – и такой характер аспидский, что с ним решительно жить невозможно: что себе зарядит в голову, непременно чтобы по его и делалось. Дивились даже, что жена от него ранее не сбежала и не обобрала его в то время, когда он был поисправнее и не все еще перетаскал в штраф Сафронычу.
Таким образом, злополучный Гуго был и кругом обобран и кругом обвинен во всем, и притом нельзя сказать, чтобы для этого обвинения не существовало совсем основания. Обворовывать его, разумеется, не следовало, но жить с ним действительно, должно быть, было невыносимо, и вот за то он оставался один-одинешенек и, можно было сказать, уже нищ и убог, но все-таки не подавался и берег свою железную волю. Не в лучшем, однако, положении, как я сказал, был и Сафроныч, который проводил вое свое время в трактирах и кабачках и при встречах злил немца желанием ему сто лет здравствовать и двадцать на карачках ползать.
Хотя бы этого по крайней мере не было; хотя бы этот позор и поношение от Пекторалиса были отняты – все бы ему было легче.
И вот он, кажется более для того, чтобы освежить положение, подал на Сафроныча жалобу, чтобы наказать того за эти «карачки», на которых, по мнению Пекторалиса, немцу нет никакого резона ползать.
– Это вот он сам и есть, который сам часто из трактиров на карачках ползает, – говорил Пекторалис, указывая на Сафроныча; но Сафронычу так же слепо везло, как упрямо не везло Пекторалису, – и судья, во-первых, не разделил взгляда Гуго на самое слово «карачки» и не видал причины, почему бы и немцу не поползти на карачках; а во-вторых, рассматривая это слово по смыслу общей связи речи, в которой оно поставлено, судья нашел, что ползать на карачках, после ста лет жизни, в устах Сафроныча есть выражение высшего благожелания примерного долгоденствия Пекторалису, – тогда как со стороны сего последнего это же самое слово о ползанье Сафроныча из трактиров произносимо
Гуго своим ушам не верил, он все это считал вопиющею бестолковщиною и возмутительною русского несправедливостью. Но тем не менее он по просьбе обрадовавшегося Сафроныча был присужден к вознаграждению его десятью рублями и окончательно потерялся. Пекторалис должен был взнести последний грош на удовлетворение Сафронычу за обиду его «карачками» – и, исполнив это, он почувствовал, что ему уже ничего иного не оставалось, как проклясть день своего рождения и умереть вместе со своею железною волею. Он бы, вероятно, так и сделал, если бы не был связан намерением «пережить» своего врага и прийти есть блины к нему на похороны. Должен же был Пекторалис сдержать это слово!
Пекторалис был некоторым образом в гамлетовском положении, в нем теперь боролись два желания и две воли – и, как человек, уже значительно разбитый, он никак не мог решить, «что доблестнее для души» – наложить ли на себя с железною волею руку, или с железною же волею продолжать влачить свое бедственнейшее состояние?
А десять рублей, отнесенные им в удовлетворение Сафроныча за «карачки», были последние его деньги – и контрибуцию на следующий месяц ему вносить было нечем.
«Ну что же, – говорил он себе, – придут в дом и увидят, что у меня ничего нет…
Между тем, когда Пекторалис, находясь в таком ужасном поистине состоянии, переживал самые отчаянные минуты, в судьбе его уже готов был неожиданный кризис, который я не знаю как назвать – благополучным или неблагополучным. Дело в том, что в это же время и в судьбе Сафроныча происходило событие величайшей важности – событие, долженствовавшее резко и сильно изменить все положение дел и закончить борьбу этих двух героев самым невероятнейшим финалом.
Надо сказать, что пока Пекторалис с Сафронычем тягались – и первый, разоряясь, сносил определенными кушами все свои достатки в пользу последнего, – этот, сделавшись настоящим пьяницею, все-таки был в лучшем положении. Этим он был обязан своей жене, которая не бросила Сафроныча, как бросила своего мужа Клара; Марья Матвеевна, напротив, взяла распившегося мужа в руки. Она сама носила за него аренду и сама отбирала у Сафроныча получаемую им с Пекторалиса контрибуцию. Чтобы распьянствовавшийся мужик не спорил с нею и подчинялся установленному женою порядку, она его не отягощала без меры и выдавала ему в день по полтине, которую Сафроныч и имел право расходовать по собственному его усмотрению. Расход этот, разумеется, имел одно назначение: Сафроныч в течение дня пропивал свою полтину и к ночи возвращался домой по хорошо известной ему лестнице через забор. Никакая степень опьянения не сбивала его с этой оригинальной дороги. Бог, охраняющий, по народному поверью, младенцев и пьяных, являл над Сафронычем все свое милосердие во тьме, под дождем, снегом и гололедицей; всегда Сафроныч благополучно поднимался по лестнице, достигал вершины забора и благополучно сваливался на другую сторону, где у него на этот случай была подброшена кучка соломы. И он думал продолжать это так долго, как долги сто двадцать лет, которые он сулил жить и ползать Пекторалису. Сафронычу и в ум не приходило, чтобы фонды Пекторалиса иссякли. Где этому статься, чтобы у немца в России денег не достало? Кому-кому, а на их долю все достанет.
Хозяйка же Сафроныча в бабьей простоте «без направления» думала иначе и, переняв все деньги, мужем с Пекторалиса взысканные, собрала капиталец, с которым не хотела более лазить через забор, и купила себе домик – хороший домик, чистенький, веселенький, на высоком фундаменте и с мезонинчиком и с остренькою высокою крышею – словом, превосходный домик, и притом рядом с своим старым пепелищем, где все их дела расстроил железный Гуго.
Эта покупка происходила как раз около того времени, когда Сафроныч судился с Пекторалисом за «карачки», и в тот день, когда бывший чугунщик одержал над немцем неожиданную победу и получил десятирублевый штраф, семья Сафроныча перебиралась в свое новое жилище и располагалась в нем с давно незнакомым ей комфортом.
Сам Сафроныч не принимал в этом никакого участия, и семья, давно считавшая его неблагонадежным, не ожидала его помощи и устраивалась сама, как хотелось и как умела.
Сафроныч же, получив значительную для него сумму в десять рублей, утаил ее от жены, благополучно перебрался с ними в трактир и загулял самым широким загулом. Три дня и три ночи семья его провела уже в своем новом доме, а он все кочевал из трактира в трактир, из кабака в кабачок – и попивал себе с добрыми приятелями, желая немцу сто лет здравствовать и столько же на карачках ползать. В благодушии своем он сделал ему надбавку и вопиял:
– Глупый я человек, – очень глупый: правду мне покойник Жига говорил, что я глуп, а мне неожиданная благодать в сем немце дарована. А за что? «Что есть человек, что ты помниши его, или сын человеч, что ты посещаеши его». Где это сказано?
– В писании.
– То-то и есть, что в писании, а мы много ли про него помним? Ох, как не помним, совсем не помним!
– Слабы.
– Разумеется, слабы, – червь, а не человек, поношение человеков. А бог захочет – и червя сохранит, устроит тебя так, что лучше требовать нельзя, сам этак никогда и не выдумаешь. Слаб ты – он тебе немца пошлет и живи за его головою.
– Только вот одно гляди, – предостерегали его, – как бы твой немец не измучился да ворот не отпер.
Но одуревший Сафроныч этого не боялся.
– Куда ему отпереть, – отвечал он, – ни за что он не отопрет. Ему перед своею нациею стыдно. У них ведь это уже такое положение, что сказал, то чтобы непременно и сдействовать.
– Ишь ты какие сволочи!
– Да уж у них это так, особенно же он на суде прямо объяснил: «у меня, говорит, воля железная», – где же ему с нею справиться. Ему и так тяжело.
– Тяжело.
– Не дай бог этакой воли человеку, особенно нашему брату русскому, – задавит.
– Задавит.
– Давай лучше выпьем, зачем про такое говорить, теперь дело под вечер. Ну, дай бог, чтобы ему сто лет здравствовать и меня пережить.
– И то, брат, пусть переживет.
– И я говорю, пусть переживет, это ему по крайности утешением будет.
– Как же!
– Пусть придет и блинков съест.
– Вот у тебя душа, Сафроныч!
– Душа у меня добрая, но только, знаешь, пусть он переживает… но только самую крошечку.
– Да, безделицу.
– Вот так, вот так, этого стаканчика по рубчик.
– И хорошо.
– Да; вот по самый по маленький рубчик.
Отмеря это, приятели выпили и еще потом долго выпивали за всякие здоровья – и, наконец, стали пить за упокой души благодетеля приказного Жиги, который устроил им всю эту благостыню, и затянули нестройно и громко «вечную память», но тут-то и произошло то странное начало конца, которое до сих пор осталось ни для кого не объяснимым.
Только что пьяницы пропели покойнику вечную память, как вдруг с темного надворья в окно кабака раздался сильный удар, глянула чья-то страшная рожа, – и оробевший целовальник в ту же минуту задул огонь и вытолкал своих гостей взашей на темную улицу. Приятели очутились по колено в грязи и в одно мгновение потеряли друг друга среди густого и скользкого осеннего тумана, в который бедный Сафроныч погрузился, как муха в мыльную пену, и окончательно обезумел.
Едва держась на ногах, долго он старался спрятать в карман захваченный на бегу нераскупоренный штоф водки – и потом хотел было кого-то начать звать, но язык его, после сплошной трехдневной работы, вдруг так сильно устал, что как прилип к гортани, так и не хочет шевелиться. Но и этого мало, – и ноги Сафроныча оказались не исправнее языка, и они так же не хотели идти, как язык отказывался разговаривать, да и весь он стал никуда не годен: и глаза не видят, и уши его не слышат, и только голову ко сну клонит.
«Эге, ну нет, ты, черт тебя возьми, меня этим не обманешь! – подумал Сафроныч, – этак Жига лег спать, да и совсем не встал, а я еще не хочу, чтобы меня немец много пережил. Пусть переживет, да только немножечко».
И он приободрился; сделал еще шагов пять – и, чувствуя, что влез в грязь выше колен, снова остановился.
«Ей-богу, того и гляди утонешь, не хуже Англии, – повторил он в своих мыслях, – и черт знает, куда это я так глубоко залез, да и где мой дом? А? Где, и исправда, мой дом? Где моя лестница? „Черт с квасом съел“? Кто это там говорит, что мой дом черт с квасом съел? А? Выходи: если ты добрый человек, я тебя водкой попотчую, а не то давай делать русскую войну».
– Давай! – послышалось из тумана, – и в то же самое время кто-то дал Сафронычу сильную затрещину, от которой тот так и упал в болото.
«Ну, шабаш, – подумал он, – всю память отшибло, и не знаю, что это со мною делается. И куда это к черту все мои приятели делись? Экие пьяницы! Вот уже правда – нехорошо пить с пьяницами, ни за что больше не буду пить с пьяницами. Что? Да кто это со мною все разговаривает? Слышишь, скажи, пожалуйста: чего ты это на мне ищешь? Ничего, братец, не найдешь: а штоф я под себя спрятал. Ага! стой, стой! Зачем же ты меня теперь так больно за вихор? Ведь это беспользительно. А теперь опять за уши – ну, это, разумеется, другое дело, это в память приводит, только опять-таки и это мне больно, – дай я лучше так встану».
И он – сколько волею, столько же неволею и своею охотою – встал и, кажется, пошел. Не то чтобы настояще в этом уверен, а кажется ему, что или идет, или так просто под ним земля убывает, но только что-то делается-делается, кто-то его ведет, поддерживает и ничего не говорит. Только раз сказал: «А, вот это кто!» – и повел.
«Что это, кто меня ведет? Ну, если это черт? Да и должно быть что-нибудь непутное. А впрочем, пусть только доведет до лестницы, я свой путь узнаю».
И вот привел Сафроныча его поводырь к лестнице и говорит:
– Полезай, да держись за перила покрепче.
Сафронычу в это время после прогулки возвратился язык, и он отвечает:
– Постой, брат, постой, я свое дело тверже тебя знаю: моя лестница без перил.
Но поводырь не стал долго разговаривать и, схватив, начал опять мять уши Сафроныча, точно бересту.
– Вспомнил? – говорит.
«Ну, – думает Сафроныч, – лучше скажу, что вспомнил», – и полез.
И как полез он на эту лестницу, так лезет и лезет – и все ей нет конца.
«Ей-богу же это не мой дом!» – соображает Сафроныч, который чем выше стал подниматься, тем яснее припоминать, как, бывало, он поднимался по своей лесенке, и все что шаг кверху, то все ему, бывало, становится светлее и светлее – и звезды, и месяц, и лазурь небесная открывается… Правда, что теперь такая непогодь, но а все же это ни на что не похоже: что ни ступень вверх, то темнее и темнее делается. Отчего же это уже совсем ни зги не видно, и что за темнота в воздухе, что со всех сторон сдавливает, и удушливый запах сажи и золы? И нет этому конца, нет заветного верха забора, с которого Сафронычу давно бы пора сделать низовое движение, а вместо того все дорога идет вверх и вверх, – и вдруг страшный оглушающий удар в темя, такой удар от которого у бедного Сафроныча не искры, а целые снопы света брызнули из глаз и осветили… кого бы вы думали? – осветили приказного Жигу!
Не думайте, пожалуйста, что это, например, снилось во сне Сафронычу или что-нибудь в этом роде. Нет: это было именно так, как я вам рассказываю. Сафроныч шел вверх по бесконечно длинной лестнице и пришел к Жиге, которого узнал при внутреннем освещении, и сказал:
– Ну, будь на то божья воля, здравствуй!
А Жига сидит на каменном стуле и тоже кивает ему и отвечает:
– Здравствуй, рад, что ты пожаловал: а то у нас здесь давно на тебя провиант отпускается.
– Да, так это я вот где… Темно же у вас тут в аду; ну да делать нечего, стало быть здесь мой предел.
И Сафроныч сел, достав штоф, выпил сколько вошло и подал Жиге.
Меж тем как с заблудившимся пьяным Сафронычем случились такие странные происшествия и он остался проводить время с мертвым Жигою на какой-то необъяснимой чертовской высоте, которую он принимал за кромешную область темного ада, – все его семейные проводили весьма тревожную ночь в своем новом доме. Несмотря на то, что все они страшно устали с переноскою и устройством хозяйства на новом месте, крепкий сон их был беспрестанно нарушаем самым необъяснимым шумом, который начался раньше полуночи и продолжался почти до самого утра. И хозяйке и всем домашним сначала слышалось, что у них над самыми их головами по чердаку кто-то ходит – сначала тихо, как еж, а потом словно начал сердиться: что-то такое переставлял, что-то швырял и вообще страшно возился и не давал покою. Иным казалось даже, что они как будто слышат какой-то говор, какой-то тихий звон и вообще непонятный гул. Просыпавшиеся ко всему этому тревожно прислушивались, будили друг друга, крестились и без противоречий единогласно решили, что причиняемое им сверху беспокойство есть, конечно, не что иное, как проказы какой-нибудь нечистой силы, которая, как всякому православному человеку известно, всегда забирается в новые дома ранее хозяев и размещается преимущественно на вышках, сеновалах и чердаках, вообще в таких местах, куда не ставят образа.
Очевидно, с доброю семьею Сафроныча стряслось то же самое, то есть черт забежал в их новый дом прежде, чем они туда переехали. Иначе это не могло быть, потому что Марья Матвеевна как только вошла в дом, так сейчас же собственною рукою поделала на всех дверях мелом кресты – и в этой предусмотрительности не позабыла ни бани, ни той двери, которая вела на чердак. Следовательно, ясно, что нечистой силе здесь свободного пути не было, и также ясно, что она забралась сюда ранее.
Но оказалось, что могло быть и иначе: когда после этой тревожной ночи наступило утро и с приближением его успокоился чертовский шум и прошел страх, то вышедшая впереди всех из комнаты Марья Матвеевна увидела, что дверь на чердачную лестницу была открыта настежь, и меловой крест, сделанный рукою этой благочестивой женщины, таким образом скрылся за створом и оставил вход для дьявола ничем не защищенным.
Марья Матвеевна, обнаружив эту оплошность, тотчас же произвела дознание, кто вчера последний лазил на чердак.
После долгих об этом исследований и препирательств среди младших членов семейства подозрения, а потом и довольно сильные улики пали на одну из младших дочерей, босоногую Феньку, которая родилась с заячьей губою и за это не пользовалась в семье ничьим расположением. Если еще кто-нибудь оказывал ей какое-нибудь сострадание, то это разве пьяный отец, который в акте рождения дитяти с заячьей губою не видал большой собственной вины ребенка и даже не проклинал и не бил ее. Девочка эта жила, что называется, в полном семейном загоне, она велась впроголодь, употреблялась на самые черные послуги, спала на полу, ходила босиком, без теплого шушуна и в затрапезных лохмотьях. Ясные улики говорили, что она одна последняя ходила вчера поздно вечером с фонарем наверх «кутать трубу» и, всего вероятнее, по своей ребячьей трусливости слетела оттуда сломя голову и забыла запереть за собою дверь, а так и оставила ее, отмахнув к стене тою стороною, где был начертан рукою Сафронихи меловой крест – «орудие на супостата». Затем, разумеется, ясно, как супостат этим воспользовался, – проскочил на чердак и очень рад, что может не давать доброму семейству целую ночь покоя. Конечно, и у него тоже, вероятно, свои хлопоты, потому что и ему тоже надо было устроиться; но Марья Матвеевна была на этот счет эгоистка, она не имела снисхождения к чужой необходимости и взялась поправлять дело с подвержения виновной строгой и беззаконной ответственности. Отыскав за печью трегубую Феньку, она привела ее за вихор к двери и начала ее здесь трясти и приговаривать:
– Вот, чтобы по твоим следам черт не ходил, я эту дверь твоим лбом затворю.
И она, точно, стукнула лбом девочки в дверь и наложила клямку, но едва только это было сделано, нечистая сила снова взбудоражилась и притом с неожиданным и страшным ожесточением. Прежде чем смолк жалостный писк ребенка, над головами всей собравшейся здесь семьи наверху что-то закрутилось, забегало и с противуположной стороны в дверь сильно ударил брошенный с размаха кирпич.
Это уже была слишком большая наглость. С детства знакомая со всеми достоверными преданиями о чертях и их разнообразных проделках в христианских жилищах, Марья Матвеевна хотя и слыхала, что черти чем попало швыряются, но она, по правде сказать, думала, что это так только говорится, но чтобы черт осмеливался бушевать и швырять в людей каменьями, да еще среди белого дня – этого она не ожидала и потому не удивительно, что у нее опустились руки, а освобожденная из них девочка тотчас же выскочила и, ища спасения, бросилась на двор и стала метаться по закуткам. Но лишь только за этою виновницею всеобщего беспокойства по тому же по двору бросилась погоня, бес ожесточился и опять взялся за свое дело. Руки у него, надо полагать, были отлично материализованы, потому что и целые кирпичи и обломки летели в людей, составлявших погоню, с такою силою и таким ожесточением, что все струсили за свою жизнь и, восклицая «с нами крестная сила», все, как бы по одному мановению, бросились в открытый курятник, где и спрятались в самом благонадежном месте – под насестью.
Бесспорно, что здесь им было очень хорошо в том отношении, что черт здесь, конечно, уже ничего никому сделать не мог, потому что на насести поет полуночный петух, имеющий на сей предмет особые, таинственные повеления, насчет которых дьяволу известно кое-что такое, чего он имеет основание побаиваться; но все же нельзя же тут и оставаться. В сумерки придут сюда куры – и позиция, занятая под их решеткою, будет небезопасна в другом роде.
И вот, как только скрывшиеся в курятнике люди мало-помалу оправились от обуявшей их паники, с ними произошло то, что происходит с большинством всех суеверов и трусов на свете: от страха они начали переходить к некоторому скептицизму. Первая зашевелилась батрачка Марфутка, очень живая молодая бабенка, которой совсем не нравилось долго оставаться без всякого движения в курятнике, за ней последовал батрак Егорка, хромой, но очень шустрый рыжий парень, имевший привычку везде, где можно, шептаться с батрачкою Марфуткой. Оба они и на этот раз обратились к своему любимому занятию – и, пошептавшись, пришли, можно сказать, к самым неожиданным результатам: их давно один с другим гармонировавшие умы прозрели в сокровенную глубь вещей и заподозрили, что, может быть, все это дело не чисто совсем с иной стороны.
Им пришло в голову, что вся эта ночная возня и теперешняя канонада производилась совсем не чертом, а каким-нибудь негодным человеком, которым, всего вероятнее и даже непременнее, по их выводам, мог быть немец Пекторалис.
Со злости и с зависти, подлец, залез, да и швыряется.
Марья Матвеевна, услыхав это, даже руками всплеснула, так это показалось ей вероятным. И вот сейчас же из курятника была выпущена вылазка, с целью ближайшего дознания и принятия надлежащих мер к пресечению злоумышленнику средств к отступлению.
Батрак Егорка с Марфуткою, схватясь рука за руку, выбежали из курятника, сняли замок с амбара и заперли им чердачную дверь – и, пошептавшись, о чем знали, в сенях, направились в разные стороны. Егорка побежал оповестить соседним людям о происшествии и созвать их на выемку засевшего на чердаке немца, а Марфутка стала у дверей с ёмками, чтобы бить Пекторалиса, если он пойдет сквозь дверь какою-нибудь своею немецкою хитростию. Но немец сидел смирно и Марфутке не показывался. Зато лишь только Егорка выскочил за калитку и бросился во всю прыть к базарному месту, он на самом повороте за угол столкнулся нос к носу с Гуго Карловичем. Это так поразило бедного парня, что он в первую секунду не знал, что делать, но потом схватил немца за ворот и закричал: «Караул!» Не ожидавший этого Пекторалис треснул Сафронычева батрака по голове сложенным дождевым зонтиком и отшвырнул его в лужу. Странная смесь ощущений от этого мягкого, но трескучего удара зонтиком и быстрого полета в грязь так удивила Егорку, что он только сидел в луже и кричал:
– Чур меня, чур!
Все внушенные Егорке Марфуткою подозрения рассеялись. Как ни прост был этот бедный парень, он, однако, должен был сообразить, что если немец не пролез сквозь запертую амбарным замком дверь, то надо полагать, что на чердаке шалит не он, а кто-нибудь другой. И тут слабый ум Егорки, не поддерживаемый Марфуткою, опять начал склоняться к обвинению во всем домашнем беспокойстве черта. Так он и представил это дело всей базарной публике, которая очень обрадовалась новости – и в полном сборе, толпою повалила к дому Марьи Матвеевны, где, по докладу Егорки, происходили такие редкостные, хотя, впрочем, конечно, как всякий спирит подтвердить может, – самые вероятные дела, обличающие нынче у некоторых ученых людей близость к нам существ невидимого мира.
До вечера у Марьи Матвеевны перебывал весь город, все по нескольку раз переслушали рассказ о сверхъестественном ночном и утреннем происшествии. Являлась даже и какая-то полиция, но от нее это дело скрывали, чтобы, храни бог, не случилось чего худшего. Приходил и учитель математики, состоящий корреспондентом ученого общества. Он требовал, чтобы ему дали кирпичи, которыми швырял черт или дьявол, – и хотел их послать в Петербург.
Марья Матвееана ему в этом решительно отказывала, боясь, чтобы ей за это чего худого не сделали; но вострая Марфутка сбегала в баню и принесла оттуда кирпич из-под припечки.
Учитель взял вещественное доказательство и понес его к аптекарю, с которым они его долго рассматривала, нюхали, потом оба лизнули, облили какою-то кислотою и оба разом сказали:
– Это кирпич.
– Это смело можно сказать, что кирпич.
– Да, – отвечал аптекарь.
– Его даже, кажется, можно и не посылать?
– Да, кажется, можно, – отвечал аптекарь.
Но люди верующие, которым нет дела ни до каких анализов, проводили свое время гораздо лучше и извлекли из него более для себя интересного: некоторые из них, отличавшиеся особенною чуткостью и терпением, сидели у Сафронихи до тех пор, пока сами сподобились слышать сквозь дверь, как на чердаке кто-то как будто вздыхает и тихо потопывает, точно душа, в аду мучимая. Правда, что и среди них тоже находились дерзкие; так, кто-то и здесь подал было голос в пользу осмотра чердака через слуховое окно, но эта дерзость так всем и показалась дерзостию и сейчас же была единогласно отвергнута. Притом же здесь принято было в расчет и то, что предлагаемый осмотр был далеко не безопасен, так как из этого же самого слухового окна, о котором шла речь, тоже недавно еще летели камни, и канонада эта могла возобновиться. А потому тот, кто посягнул бы на эту обсервацию, легко мог подвергнуться немалой неприятности.
Матвеевна, как женщина, прибегла к патентованному женскому средству – к жалобе.
– Разумеется, – говорила она, – если бы у меня, как у других прочих, был такой муж, как надобно, то есть хозяин, так это его бы дело слазить и все это высмотреть. Но ведь мой муж в слабости, вот его пятый день и дома нет.
– Правда, – отвечали ей соседки, – хозяина и лукавый не бьет.
– Ну, бить, положим, как не бьет.
– Ну да ежели и бьет, так все же это его дело.
А о Сафроныче все не было ни слуха ни духа, и никто не знал, где его и искать, в каком кабачке. Может быть, он ушел далеко-далеко в какую-нибудь деревеньку и пьянствует.
– О нем нечего думать, матушка Марья Матвеевна, – говорили все в один голос, – а надо скорее думать, что учредить на сатану лучшее.
– Да что же, отцы мои, что лучше? – советуйте.
– Один тебе, родимая, совет: либо чеботаря Фоку кликнуть, чтобы он вьшанул беса, либо воду освятить.
– Что вы, что вы про Фоку вспоминаете, – и так тут невесть что деется, а Фока совсем сам бесово племя.
– Именно, разве бес беса погонит?
– Ну, если так судите, то остается воду святить.
– А воду освятить я согласна, и еще к ночи это думала, да повернулась и опять забыла; а теперь как уберусь, так пирогов напеку и подниму икону, и пущай поют водосвятие… Да вот только Сафроныча дома нет.
– Ну, где его теперь ждать!
– Разумеется, нельзя ждать, а все бы лучше, да он же и службу, голубчик мой, любит и, бывало, сам чашу перед священником по всем комнатам носит и сам молитвы поет. Как без него это и делать – не знаю, и кого звать – не вздумаю.
– Протопопа позовите, он старший, его бес скорее испужается.
– Ну, легко ли кого звать, табачника. Нет, бог с ним, он папиросы сосет, я лучше отца Флавиана позову.
– И отца Флавиана хорошо.
– Грузен он очень.
– Да; мягенький да пухленький и очень добр, и тоже он намедни у Ильиных толчею святил, очень хорошо святит. Только чтобы во всех местах хорошенько побрызгал, а то ведь он тучен, в иное место не подлезет – и этак зря, как попало, издали кропит.
– За этим смотреть будем.
– Да, вот если есть кто опытный смотреть, так ничего.
– Разумеется, надо смотреть, чтобы крест-накрест брызгал и приговаривал. А он ведь, отец-то Флавиан, он по своей полноте в эту дверь на чердак не пройдет.
– Да, он не пройдет.
– Разве расширить, что ли, ее? Это опять убытку много.
– Это убыточно.
– А вы вот что: отец Флавиан-то пусть посвятит, а кропить-то на чердак дьякон Савва полезет. Право, его попросите, он такой подчегаристый – всюду пройдет. Это самое лучшее, а то отец Флавиан с своею утробой на этой лестнице еще, пожалуй, обломится и сам убьется.
– Храни боже такого греха, пусть живет, старец добрый и угодливый! Я раз родами мучилась, послала протопопа просить, чтобы царские двери отворили, ни за что не захотел.
– Видно, мало дали.
– Рубль посылала; а отец Флавиан, голубчик, за полтинник во всю ширь размахнул.
– Да; он старик добродетельный, он пусть тут внизу останется да приговаривает, а наверх пусть с водою и с кропилом один дьякон Савва полезет. Ему ничего, если с ним что такое и случится, у него дьяконица всякий месяц один раз с ума сходит, чай ему уже давно и жизнь-то надоела.
– Да, он ничего, он пойдет, он дьякон уважительный, куда хочешь полезет и все как надо выкропит, а вы только за ним присмотрите, чтобы не спешил, не как попало, а крест-накрест брызгал.
– Уже я за ним присмотрю, – отвечала Марья Матвеевна, – я, пожалуй, даже и сама с ним, что бог даст, на отвагу полезу, только чтобы от этого помоглося.
– Ну уже чего еще, если все это как надо сделать, да чтобы не помогло! Надо только чтобы как можно скорее да духовнее.
– Родные мои, да чего же еще духовнее? – отвечала Марья Матвеевна, – сейчас велю Марфутке пироги ставить, а Егорку к отцу Флавиану пошлю, чтобы завтра, как ранню кончит, ко мне бы и двигал.
– Чудесно, Марья Матвеевна.
– Да чего же откладывать, разве же мне самой хорошо в одном доме с бесом жить и ждать, что он, мерзавец, швырять будет. Будь у меня пироги, я бы даже и до завтра этой мольбы не оставила.
– Нет, без пирогов, Марья Матвеевна, не делайте, без этого духовенству нельзя, отец же Флавиан сам как хлопок и всякое тесто любит, – подтвердили Марье Матвеевне ее советники и затем положили: еще один день и одну ночь как-нибудь злополучной семье перебедовать, а между тем поставить пироги и послать Егорку к отцу Флавиану, чтобы завтра прямо от ранней обедни пожаловал с дьяконом Саввою к Марье Матвеевне на дому воду посвятить и дьявола выгнать, а потом мягкого пирожка откушать.
Отец Флавиан, грузный-прегрузный и как пуховик мягкий, подагрический старик, в засаленной камилавке, с большою белой бородой и обширным чревом, выслушав от Егорки всю историю о бесе и призыв к его изгнанию, пропищал в ответ тоненьким детским голоском:
– Хорошо, дитя, скажи, пусть готовится, будем и справимся; только пусть мне пирожка два либо три с морковкою защипнут, а то у меня напоследях стало что-то нутро слабо. А сам Василий Сафроныч еще не бывал дома?
– Не бывал.
– Ну что делать, без него справимся, пусть пекут пирожки, справимся… Да того… полотенце чтобы большое сготовили, потому что в этом случае я ведь буду самый большой крест макать.
Егорка возвратился домой бегом и с прискоком и, проходя мимо слухового окна, даже дьяволу шиш показал. Да и все приободрились, решив, что одну ночь как-нибудь уже можно прокоротать, а чтобы не было очень страшно, то все легли вместе в одной комнате, и только Егорка поместился на кухне, при Марфутке, чтобы той не страшно было ночью вставать переваливать тесто, которое роскошно грелось и подходило под шубою на краю печки.
Бес между тем совсем присмирел, он точно как будто прознал обо всем, что на его голову затевалось. Целый день он не сделал никому из семейства никакой гадости, только кое-кому слышалось все, что он как будто сопел; а к ночи, когда стал забирать большой мороз, начал будто даже и покряхтывать и зубами щелкать. Это и во всю ночь слышалось и Марье Матвеевне и всем, кто на более или менее короткое время просыпался, но никого сильно это не тревожило; всякий говорил только: «Так ему, врагу христианскому, и надо», и, перекрестясь, поворачивался на другой бок и засыпал.
Но, увы, такое пренебрежение, однако, было еще несвоевременно, оно вывело злого духа из терпения, и в тот самый момент, как у церкви отца Флавиана раздался третий удар утреннего колокола, на чердаке у Марьи Матвеевны послышался самый жалостный стон, и в то же самое время в кухне что-то рухнуло и полетело с необъяснимым шумом.
Марья Матвеевна вскочила и, забыв весь страх, выбежала в чем была на этот разгром и остолбенела от новой бесовской каверзы.
Перед нею на полу у самой печи, на краю которой подходило в корчаге пирожное тесто, стоял Егорка, весь с головы до ног обмазанный тестом, а вокруг него валялись черепки разбитой корчаги.
И Марья Матвеевна, и Егор, и спустившая ноги с печи батрачка Марфутка, все втроем так были этим озадачены, что в один голос крикнули:
– А, чтоб тебе пусто было!
Таким-то недобрым предзнаменованием начался этот новый день, которому суждено было осветить борьбу отца Флавиана и дьякона Саввы с загадочным существом, шумевшим на чердаке и дошедшим до той крайней дерзости, чтобы выбросить из горшка все тесто, назначенное на пироги духовенству.
И когда это, в какое время? – когда уже нельзя было завести новой опары и когда о железное кольцо калитки звякал рукою сухой, длинный пономарь, тащивший луженую чашу.
Как теперь все это уладить, чтобы не пострадало дело, которое имело такое дурное начало и могло иметь еще худший конец?
По правде сказать, все это было гораздо интереснее, чем весь Пекторалис, к судьбе которого это, по-видимому, весьма стороннее обстоятельство имело самое близкое и роковое касательство.
Марья Матвеевна была в страшном горе по поводу происшествия с тестом; она решительно не знала, как объявить отцу Флавиану, что ему нет пирогов с морковью, и решилась не смущать его этим по крайней мере до тех пор, пока он отслужит водосвятие. Как женщина благоразумная и опытная, она держалась выжидательного метода и была уверена, что время большой фокусник, способный помочь там, где уже, кажется, и нет никакой возможности ждать помощи. Так и вышло, водосвятие было начато тотчас же, как пришло духовенство, а прежде чем служба была окончена, дело приняло такой неожиданный оборот, что о пирогах с морковью некогда стало и думать.
Случилось вот что: едва в конце молебна дьякон Савва начал возглашать многолетие хозяевам, как в чердачную дверь, которая оставалась до сих пор замкнутою, послышался нетерпеливый стук, и чей-то как будто знакомый, но упавший голос заговорил:
– Отоприте мне, отоприте!
Сначала это, разумеется, произвело общий переполох, и все присутствующие бросились в перепуге к отцу Флавиану…
Зрелище, открытое дверью, действительно было самое неожиданнее: на последней ступеньке лестницы в двери стоял сам Сафроныч, или бес, принявший его обличье. Последнее, конечно, было вероятнее, тем более что привидение или лукавый дух хоть и хитро подделался, но все-таки не дошел до оригинала; он был тощее Сафроныча, с мертвенною синевою в лице и почти с совершенно угасшими глазами. Но зато как он был смел! Нимало не испугавшись кропила, он тотчас же подошел к отцу Флавиану, подставил горсточку и сам ждал, чтобы тот его покропил, что отец Флавиан и исполнил. Тогда Сафроныч приложился к кресту и, как ни в чем не бывало, пошел здороваться с семейными. Марья Матвеевна волей-неволей должна была признать в этом полумертвеце своего настоящего мужа.
– Где же ты был, мой голубчик? – спросила она, исполнись к нему сострадания и жалости.
– Там, куда меня бог привел за наказание, там и сидел.
– Это ты и стучал?
– Должно быть, я стучал.
– Но зачем же ты швырялся?
– А вы зачем девчонку обижали?
– А ты зачем же сам вниз не лез?
– Как же я мог против определения… Вот когда я многолетний глас услыхал, я сейчас и спустился… Чайку мне, чайку потеплее, да на печку меня пустите, да покройте тулупчиком, – заговорил он поспешно своим хриплым и слабым голосом и, поддерживаемый под руки батраком и женою, полез на горячую печь, где его и начали укутывать тулупами, меж тем как дьякон Савва этим временем обходил с кропилом весь чердак и не находил там ничего особенного.
Понятно, что после такого открытия о большом угощении уже нечего было думать; появление Сафроныча в этом жалостном виде заставило свертеть все это кое-как, на скорую руку, и Флавиан удовольствовался только горячим чаем, который кушал, сидя в широком кресле, поставленном возле печки, где отогревался Сафроныч и кое-как отвечал на шббольно предлагаемые ему вопросы.
Все последние события представлялись Сафронычу таким образом, что он был где-то, лез куда-то и очутился в аду, где долго беседовал с Жигою, открывшим ему, что даже самому сатане уже надоела их ссора с Пекторалисом, – и все это дело должно кончиться. Не противясь такому решению, Сафроныч решил там и остаться, куда он за грехи свои был доставлен, и он терпел все, как его мучили холодом и голодом и напускали на него тоску от плача и стонов дочки; но потом услыхал вдруг отрадное церковное пение и особенно многолетие, которое он любил, – и когда дьякон Савва помянул его имя, он вдруг ощутил в себе другие мысли и решился еще раз сойти хоть на малое время на землю, чтобы Савву послушать и с семьею проститься.
Толковее этого бедный человек ничего не мог рассказать, да и отцу Флавиану жаль было его больше неволить. Бедняк был в самом жалком положении, все он грелся и дрожал, не мог согреться. К вечеру, придя немножко в себя, он пожелал поисповедаться и приготовиться к смерти, а через день действительно умер.
Все это совершилось так неожиданно и скоро, что Марья Матвеевна не успела прийти в себя, как ей уже надо было хлопотать о похоронах мужа. В этих грустных хлопотах она даже совсем не обратила должного внимания на слова Егорки, который через час после смерти Сафроныча бегал заказывать гроб и принес странное известие, что «немец на старом дворе отбил ворота», из-за которых шла долгая распря, погубившая и Пекторалиса и Сафроныча.
Теперь враг Пекторалиса был мертв, и Гуго мог, не нарушая обетов своей железной воли, открыть эти ворота и перестать платить разорительный штраф, что он и сделал.
Но должен был исполнить еще другое Пекторалис обязательство: переживя Сафроныча, он должен был прийти к нему на похороны есть блины, – он и это выполнил.
Только что духовенство, гости и сама вдова, засыпав на кладбище мерзлою землею могилу Сафроныча, возвратились в новый дом Марьи Матвеевны и сели за поминальный стол, как дверь неожиданно растворилась, и на пороге показалась тощая и бледная фигура Пекторалиса.
Его здесь никто не ждал, и потому появление его, разумеется, всех удивило, особенно огорченную Марью Матвеевну, которая не знала, как ей это и принять: за участие или за насмешку? Но прежде чем она выбрала роль, Гуго Карлович тихо и степенно, с сохранением всегдашнего своего достоинства, объявил ей, что он пришел сдержать свое честное слово, которое давно дал покойному, – есть блины на его похоронном обеде.
– Что же, мы люди крещеные, у нас гостей вон не гонят, – отвечала Марья Матвеевна, – садитесь, блинов у нас много расчинено. На всю нищую братию ставили, кушайте.
Гуго поклонился и сел, даже в очень почетном месте, между мягким отцом Флавианом и жилистым дьяконом Саввою.
Несмотря на свои несколько заморенный вид, Пекторалис чувствовал себя очень хорошо: он держал себя как победитель и вел себя на тризне своего врага немножко неприлично. Но зато и случилось же здесь с ним поистине курьезное событие, которое достойно завершило собою историю его железной воли.
Не знаю, как и с чего зашло у них с дьяконом Саввою словопрение об этой воле – и дьякон Савва сказал ему:
– Зачем ты, брат Гуго Карлович, все с нами споришь и волю свою показываешь? Это нехорошо…
И отец Флавиан поддержал Савву и сказал:
– Нехорошо, матинька, нехорошо; за это тебя бог накажет. Бог за русских всегда наказывает.
– Однако я вот Сафроныча пережил; сказал – переживу, и пережил.
– А что и проку-то в том, что ты его пережил, надолго ли это? Бог ведь за нас неисповедимо наказывает, на что я стар – и зубов нет, и ножки пухнут, так что мышей не топчу, а может быть, и меня не переживешь.
Пекторалис только улыбнулся.
– Что же ты зубы-то скалишь, – вмешался дьякон, – неужели ты уже и бога не боишься? Или не видишь, как и сам-то зачичкался? Нет, брат, отца Флавиана не переживешь – теперь тебе и самому уже капут скоро.
– Ну, это мы еще увидим.
– Да что «увидим»? И видеть-то в тебе стало уже нечего, когда ты весь заживо ссохся; а Сафроныч как жил в простоте, так и кончил во всем своем удовольствии.
– Хорошо удовольствие!
– Отчего же не хорошо? – как нравилось, так и доживал свою жизнь, все с примочечкой, все за твое здоровье выпивал…
– Свинья, – нетерпеливо молвил Пекторалис.
– Ну вот уже и свинья! Зачем же так обижать? Он свинья, да пред смертью на чердаке испостился и, покаясь отцу Флавиану, во всем прощении христианском помер и весь обряд соблюл, а теперь, может быть, уже и с праотцами в лоне Авраамовом сидит да беседует и про тебя им сказывает, а они смеются; а ты вот не свинья, а, за его столом сидя, его же и порочишь. Рассуди-ка, кто из вас больше свинья-то вышел?
– Ты, матинька, больше свинья, – вставил слово отец Флавиан.
– Он о семье не заботился, – сухо молвил Пекторалис.
– Чего, чего? – заговорил дьякон. – Как не заботился? А ты вот посмотри-ка: он, однако, своей семье и угол и продовольствие оставил, да и ты в его доме сидишь и его блины ешь; а своих у тебя нет, – и умрешь ты – не будет у тебя ни дна, ни покрышки, и нечем тебя будет помянуть. Что же, кто лучше семью-то устроил? Разумей-ка это… ведь с нами, брат, этак озорничать нельзя, потому с нами бог.
– Не хочу верить, – отвечал Пекторалис.
– Да верь не верь, а уж дело видное, что лучше так сыто умереть, как Сафроныч помер, чем гладом изнывать, как ты изнываешь.
Пекторалис сконфузился; он должен был чувствовать, что в этих словах для него заключается роковая правда, – и холодный ужас объял его сердце, и вместе с тем вошел в него сатана, – он вошел в него вместе с блином, который подал ему дьякон Савва, сказавши:
– На тебе блин и ешь да молчи, а то ты, я вижу, и есть против нас не можешь.
– Отчего же это не могу? – отвечал Пекторалис.
– Да вон видишь, как ты его мнешь, да режешь, да жустеришь.
– Что это значит «жустеришь»?
– А ишь вот жуешь да с боку на бок за щеками переваливаешь.
– Так и жевать нельзя?
– Да зачем его жевать, блин что хлопочек: сам лезет; ты вон гляди, как их отец Флавиан кушает, видишь? Что? И смотреть-то небось так хорошо! Вот возьми его за краечки, обмокни хорошенько в сметанку, а потом сверни конвертиком, да как есть, целенький, толкни его языком и спусти вниз, в свое место.
– Этак нездорово.
– Еще что соври: разве ты больше всех, что ли, знаешь? Ведь тебе, брат, больше отца Флавиана блинов не съесть.
– Съем, – резко ответил Пекторалис.
– Ну, пожалуйста, не хвастай.
– Съем!
– Эй, не хвастай! Одну беду сбыл, не спеши на другую.
– Съем, съем, съем, – затвердил Гуго.
И они заспорили, – и как спор их тут же мог быть и решен, то ко всеобщему удовольствию тут же началось и состязание.
Сам отец Флавиан в этом споре не участвовал: он его просто слушал да кушал; но Пекторалису этот турнир был не под силу. Отец Флавиан спускал конвертиками один блин за другим, и горя ему не было; а Гуго то краснел, то бледнел и все-таки не мог с отцом Флавианом сравняться. А свидетели сидели, смотрели да подогревали его азарт и приводили дело в такое положение, что Пекторалису давно лучше бы схватить в охапку кушак да шапку; но он, видно, не знал, что «бежкб не хвалят, а с ним хорошо». Он все ел и ел до тех пор, пока вдруг сунулся вниз под стол и захрапел.
Дьякон Савва нагнулся за ним и тянет его назад.
– Не притворяйся-ка, – говорит, – братец, не притворяйся, а вставай да ешь, пока отец Флавиан кушает.
Но Гуго не вставал. Полезли его поднимать, а он и не шевелится. Дьякон, первый убедясь в том, что немец уже не притворяется, громко хлопнул себя по ляжкам и вскричал:
– Скажите на милость, знал, надо как здорόво есть, а умер!
– Неужли помер? – вскричали все в один голос.
А отец Флавиан перекрестился, вздохнул и, прошептав «с нами бог», подвинул к себе новую кучку горячих блинков. Итак, самую чуточку пережил Пекторалис Сафроныча и умер бог весть в какой недостойной его ума и характера обстановке.
Схоронили его очень наскоро на церковный счет и, разумеется, без поминок. Из нас, прежних его сослуживцев, никто об этом и не знал. И я-то, слуга ваш покорный, узнал об этом совершенно случайно: въезжаю я в день его похорон в город, в самую первую и зато самую страшную снеговую завируху, – как вдруг в узеньком переулочке мне встречу покойник, и отец Флавиан ползет в треухе и поет: «святый боже», а у меня в сугробе хлоп, и оборвалась завертка. Вылез я из саней и начинаю помогать кучеру, но дело у нас не спорится, а между тем из одних дрянных воротишек выскочила в шушуне баба, а насупротив из других таких же ворот другая – и начинают перекрикиваться:
– Кого, мать, это хоронят?
А другая отвечает:
– И-и, родная, и выходить не стоило: немца поволокли.
– Какого немца?
– А что блином-то вчера подавился.
– А хоронит-то его отец Флавиан?
– Он, родная, он, наш голубчик: отец Флавиан.
– Ну, так дай бог ему здоровья!
И обе бабы повернулись и захлопнули калитки.
Тем Гуго Карлыч и кончил, и тем он только и помянут, что, впрочем, для меня, который помнил его в иную пору его больших надежд, было даже грустно.