Автор неизвестен
Песни южных славян
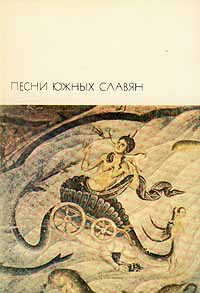
Примерно четырнадцать веков назад славяне пришли в движение. Это была одна из могучих волн «Великого переселения народов».
Мы не знаем точно исходный район: чужеземные письменные источники скупы и обманчивы, археология то обнаруживает славян повсюду, то не может найти их материальные следы. Но на Балканы славяне двигались с севера, через Карпаты, равнины Дакии и Паннонии. К Рейну славяне шли с востока. В верховья Днепра и к Ильмень-озеру они пробирались с юга.
Мы не знаем точно причин этого движения. Можно придумать любую причину и с такой же легкостью заменить ее другою. Что побуждало их сниматься с насиженных мест и идти все дальше и дальше? Жажда наживы? Поиски земли обетованной? Перенаселенность родных краев? Вражеские нашествия?.. Колышется в дали веков загадочная история, как раскаленный воздух под балканским солнцем или как радуга на порогах северных рек — не приблизишься, не ткнешь пальцем.
Мы знаем лишь некоторые результаты движения славян. В VI–VII веках н. э. славяне оказались хозяевами самых обширных территорий в Европе. Они уже выходили к теплым морям — к Эгейскому (Белому!) и Адриатическому, в благодатные края, где растут вечнозеленые смоковницы и зреют виноградные гроздья. Их манили Ладога и Онего, Волга и Дон. К X веку славянские поселения были в Северной Италии, в Пелопоннесе, на Крите, в Малой Азии, на Белом озере и там, где потом появился крепкий город Гамбург.
Но уже поднимались встречные волны со всех сторон. И стали рваться не упрочившиеся связи между славянами. Вторжение угров (предков венгров) в IX веке в Паннонию, ставшую их новой родиной, разорвало непосредственное соседство славян южных и западных. Походы византийских императоров, смущенных дерзостью русского князя Святослава, привели к завоеванию Болгарии, к полуторавековому византийскому игу, к исчезновению общей границы между Болгарией и Киевской Русью, славянами южными и восточными.
Память о родстве и близости славян то хранилась лишь келейными книжниками, то оживала с приходом южнославянских мастеров и священников на Русь, то втаптывалась в развалины конницей кочевников… Текло время, шло, бежало, взвивалось огненными сполохами войн и застывало на пепелищах и снова текло, шло, бежало, кое-где, наверное, и без оглядки, без памяти, потому что некому или нечего было вспоминать.
А была еще одна память, не келейных книжников, а народная. В ней не удержались отголоски ранних воспоминаний о родстве славян, зато во множестве сохранились факты, недвусмысленно родство подтверждающие. Эта память — фольклор, если пользоваться общепринятым английским термином, то есть народное знание о себе и окружающем мире. В верованиях и обрядах, в заговорах и приметах, в сказках и песнях славяне, как и любой другой народ мира, передавали свои знания от поколения к поколению. Каждый фольклорный текст был определенным стереотипом народного мышления, а совокупность произведений — системой народных представлений об отношениях внутри своего, человеческого мира, во внешнем, часто мифологизированном, мире и между этими двумя мирами. Народная память не могла не меняться с течением времени. И нередко причиной тому оказывались не только обстоятельства внутренней жизни, побуждавшие переделывать и приспособлять к общественным изменениям дедовские стереотипы мышления, или смешение с другими, неславянскими народами.
В 30-е годы XX века в Заонежье, на родине Трофима Рябинина и других сказителей, было отмечено бытование не менее сорока пяти былинных сюжетов. После войны бытовала только треть этих сюжетов. Былины погибали вместе с людьми. Физическое уничтожение людей влекло за собой гибель эпической традиции. На примере этого свежего факта нетрудно представить жестокие последствия каждого вражеского нашествия для фольклорной традиции. Тысячи фольклорных произведений, в особенности самых ранних и архаичных, безвозвратно погибли, из-за чего многие фольклорные образы стали загадочными и непонятными. Фольклор превратился в книгу со множеством вырванных страниц.
Вторая половина I тысячелетия н. э. была переломной для славян во многих отношениях. Здесь очень важно отметить стремление историков перенести начальную грань феодального периода в истории славян к VI–VII векам, то есть ко времени активного заселения славянами Балкан и Восточной Европы. Эта нижняя граница государственности у славян, на наш взгляд, служит своего рода указателем того, что по меньшей мере с этого времени в славянском фольклоре могли зарождаться эпические сюжеты об отражении вражеских нашествий, о решении межэтнических конфликтов путем единоборства двух воинов, полузависимом или вовсе независимом положении эпического героя («феодала») относительно «царя» или «короля» и т. д. В общественной жизни славян того времени, безусловно, актуальную роль играли языческие верования, кровнородственные отношения, обряд умыкания, обычай брать жену за пределами своего рода (племени) и другие явления, широко отразившиеся в эпосе в виде определенных стереотипов.
Переломные эпохи всегда оставляют заметный след в жизни и памяти людей. Вторая половина I тысячелетия н. э. была для славян, вероятно, одной из самых примечательных и ярких страниц истории: освоение новых земель и новых видов труда (виноградарство и других), восприятие достижений и пороков греко-римской цивилизации, переход к государственной религии, ломка старых устоев и норм и обязательная попытка сознания примирить старые представления с новыми требованиями.
Примерно четырнадцать веков от исходной точки времени. Много ли это? Если допустить, что каждое поколение — вопреки всем бедам и горестям — оставляло людям несколько столетних памятливых стариков и особенно старух, щедро одарявших внуков и правнуков сокровищами своей памяти, то окажется, что в цепи времени было всего четырнадцать звеньев, четырнадцать передатчиков народной памяти. Так могло быть на Балканах, в Болгарии и Югославии и некоторых соседних странах, где теперь живет семь славянских народов: словенцы, хорваты, боснийцы-мусульмане, сербы, черногорцы, македонцы и болгары. Так, возможно, было среди западных славян: сербов-лужичан (ГДР), поляков и кашубов, чехов и словаков. И, наверное, было среди белорусов, русских и украинцев. Четырнадцать звеньев в цепи истории — и мало и много; и близко и недосягаемо, как локоть собственной руки.
По ряду районов расселения славян мы, впрочем, знаем — иногда плохо, иногда получше или совсем неплохо — двух, а то и трех последних передатчиков народной памяти. В этом — великая заслуга собирателей XVIII–XX веков, смешных чудаков, искавших мудрость и самовыражение не в книжном, а в живом слове. Безвестные и именитые, не очень грамотные люди и крупные ученые или деятели национально-освободительного движения вложили немало сил и энергии в дело собирания бесценных богатств народной памяти. Они знали, что фольклор становится бессмертным лишь тогда, когда он записан и опубликован. И в наши дни подчас удается записывать неизвестные ученым песни, прожившие в народе сотни лет и готовые вот-вот исчезнуть за ненадобностью даже для тех, кто их еще помнит.
Осмысливая фольклорные записи XVIII–XX веков, ученые пытаются отодвинуть в глубь веков отложившиеся в них народные представления, показать, что многие явления существовали пятьсот, восемьсот, тысячу и более лет назад. Уверенность ученых зиждется на прочном основании, ибо замечено, что традиция, передача фольклорных произведений из поколения в поколение нередко очень устойчива и догматична. Певцов и рассказчиков, канонически почитающих усвоенные произведения, всегда оказывалось значительно больше, чем людей, склонных сильно изменять текст (импровизаторов), это нетрудно объяснить. Большинство населения славянских стран из века в век составляли крестьяне и связанные с ними ремесленники. Их производственный уклад и формы труда, образ жизни и нормы быта изменялись очень медленно или воспроизводились в неизменном качестве. Это и предопределяло устойчивость народной духовной жизни. Устойчивость фольклорной традиции, в свою очередь, чрезвычайно затрудняет точную датировку сложения текстов, раскладку по векам народных песен и сказок, чего упорно и, конечно, безуспешно добиваются историки от фольклористов. Один и тот же образ (например, змея) или сюжет (например, «Муж на свадьбе своей жены») может быть актуальным в течение всех минувших столетий, одновременно порождая себе подобные преемники — образы и сюжеты. Одновременное сосуществование разновременных и родственных образов и произведений является естественной нормой бытования фольклорной традиции.
Итак, изменчивость и устойчивость — вот два кита, на которых стоит здание фольклора. Конкретное соотношение изменчивости и устойчивости обусловливает качества фольклора, степень сохранности древних и совсем архаичных элементов и степень приспособленности фольклорных произведений к новым историческим веяниям. В этом смысле эпическая традиция южных славян, образцы которой здесь представлены, выглядит более ранней по своим качествам, нежели русский эпос. Исторические условия на Балканах способствовали большой консервации эпической традиции и сохранению древних черт, предопределяли большую ее жизненность и актуальность.
Вплоть до наших дней во многих местах Болгарии и Югославии южные славяне осознавали эпические песни как актуальные, жизненно важные произведения. Южнославянские интеллигенты зачастую прекрасно знают сюжеты своих песен, даже могут их петь или виртуозно складывают новые тексты по старому эпическому канону.
Южные славяне лучше сохранили таинственный жанр мифологических песен, к образам и сюжетам которых у других славян имеются по большей части лишь прозаические параллели.
Загадочен образ солнца. У южных славян солнце — мужского рода, что уже позволяло создавать сюжеты, построенные на обыгрывании этого качества. Песни рисуют многие поступки солнца и ничего не говорят о его внешнем виде. Иногда можно почувствовать, что солнце имеет человеческий облик. Но только ли эта ипостась приписывалась раньше солнцу? По-видимому, нет, если допускать, что и солнцу, подобно другим мифологическим существам, могла присваиваться способность к оборотничеству. И все же об этом можно только гадать. Нераскрытость образа солнца или предельная его очеловеченность затрудняют аналитическое прочтение песен о нем.
Сложен, многосоставен образ вилы. В ее поступках угадывается сходство с общеславянской бабой-ягой и с восточнославянской русалкой, с севернорусской лешачихой или водяницей, с западноукраинской нявкой (мавкой), с западноукраинской и польской «дикой бабой», с балтской лауме. Вила (ср. глагол «виться») — это славянская фея лесов и вод. Она рисуется красивой женщиной (реже — безобразной и нагой) с распущенными русыми волосами, облаченной в длинное белое платье. Ее оружие — лук со стрелами и волшебный пояс или платок. У нее могут быть крылья, что, вероятно, можно считать следом ее способности превращаться в птицу (ср. девушек-лебедушек в сказках). Вила прекрасно знает растения и цветы, даже сама их выращивает или лечит ими раненого молодца. Она, как и русалка, может оказывать таинственное, но благотворное влияние на рост хлебов. «Самодивские» источники, которым крестьяне приписывали целебные свойства, ныне на поверку оказались минеральными. Вила охотно, но не бескорыстно готова оказать услугу человеку, она даже может наделить человека богатырской силой, и каждый юнак в своих деяниях обычно пользуется помощью вилы-посестримы (названой сестры). Мотивами запирания вод и похищения людей образ вилы нередко сближается или отождествляется с образом змея.
Образ змея, с учетом его эволюционных преемников и последующих метаморфоз, занимает центральное место в славянском фольклоре. Он тоже не однозначен. Ему свойственно множество ипостасей. Змея видели в небесных телах (кометах, метеорах, болидах) и в радуге. Змея отождествляли с природными стихиями (грозой, бурей, туманом, вихрем). Солнечные затмения объясняли тем, что змей стремится пожрать солнце. Змей мог перевоплощаться и в чудовищное пресмыкающееся, и в обычную змею или ужа. Он рисовался также обыкновенным человеком, но, по представлениям южных славян, с крупной головой, большими глазами, бледным лицом и крылышками под мышками. Под влиянием христианства ипостаси славянского змея постепенно подменялись единообразным представлением о драконе с одной или несколькими собачьими головами (ср. иконы), а змей стал восприниматься как олицетворение или ипостась нечистой силы.
Молодцу в песнях всегда противостоит змея (змеиха), девушке — змей. Такое противопоставление не случайность, а принцип первобытной диалектики. Борьба молодца со змеей бескомпромиссна, ибо змея изображалась вредоносной силой, олицетворяющей губительные стихии, и люди не были заинтересованы в умножении этих сил. К змею же издревле относились положительно, хотя он также мог греметь громами и сверкать молниями, обрушиваться ливнем или градом. Считалось, что у каждого села имеется свой змей-покровитель, оберегающий его угодья от нападения чужих и враждебных сил (ср. верования балтов и белорусов в змею, покровительницу дома). Поэтому к похищению девушки змеем относились как к неизбежной плате за покровительство, а в любовной связи девушки со змеем греха не видели, как это стало позже, под воздействием христианства. Люди были убеждены, что только от такой связи может родиться преемник змея — змеевич, будущий их охранитель. Логика была совершенно естественной и безукоризненной: змея может победить только змей или человек, наделенный атрибутами (свойствами) змея.
Рождение змеевича, по песням, сопровождается природными знамениями. Громы и молнии распугивают зверей, птиц и рыб, пытающихся укрыться в глубине лесов, неба и вод. Дрожит и сотрясается земля. Солнце или месяц меркнет во время этого таинства. Новорожденный и есть юнак (ср. слова «юный», «юнец», «юноша»).
Так произошел эволюционный сдвиг, заметный и по русским былинам (ср. рождение Волха Всеславьевича, Суровца Суздальца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича и др.), изменился характер образа. И уже не сам огненный змей, а грудное дитя выступает в песнях победителем чудовищ и врагов. Возраст юнака в эпических песнях впоследствии мог увеличиваться или быть совсем неопределенным. Он уже мог не осознаваться змеевичем, а рисовался только богатырем. Однако истоки его образа, несомненно, идут от древних представлений о змее-покровителе.
Ранние юнацкие песни вырастали из древних стереотипов народного мышления, которые мы теперь опознаем в сказках. И самым ранним после змеи эпическим врагом представляется Черный Арап. Среди его атрибутов можно заметить и те, что ранее приписывались змее: прожорливость, способность извергать пламя и др. Но Черный Арап — уже не совсем мифологическое существо. Он показан могучим, но глуповатым великаном, наподобие былинного Идолища. Предполагают, что внешним толчком к созданию этого образа послужили впечатления южных славян от встреч с арабами и африканцами еще до эпохи турецких завоеваний. Мы же склонны допускать, что эти впечатления послужили лишь для нанесения последних или предпоследних штрихов на уже существовавший образ великана, наделенного атрибутами 8мея. Основание этому мы видим в многочисленных рассказах о нарицательных, то есть безликих, великанах, которые записывались у славян, и в примечательном сходстве образа Черного Арапа с былинными Тугарином-змеевичем и Идолищем. В песнях Черный Арап часто выступает эпическим преемником змея: он запирает дороги и никого по ним не пропускает, похищает красавиц, пожирает скот и т. п. Образ Черного Арапа стал очень расхожим в пору турецкого ига. Не опасаясь расправы, южнославянские певцы могли петь про него песни, а сметливый слушатель легко угадывал за этим обобщенным образом турок.
Тематика ранних юнацких песен довольно однообразна. В них постоянно варьируются темы защиты родного места, добывания невесты, выполнения трудных свадебных задач, кровной мести, взаимопомощи родичей. Заметную роль при этом играет пара взаимодействующих героев — дядя и племянник по материнской линии. В их образах мы видим след той поры родоплеменного общества, когда семья в современном понимании еще не сложилась, когда отцовство оказывалось трудно определимым и по причине этого кровное родство нужно было устанавливать по матери. Такая норма, условно говоря, брачных отношений со временем отмерла, семья стала моногамной, однако традиционная пара героев продолжала использоваться в эпосе как художественный прием. Они переносились и в старые, мифологические песни (см. «Секула-дитя и шестикрылая змея»), и в новые, юнацкие и гайдуцкие. При этом в некоторых произведениях произошла накладка, контаминация образа дитяти-змеевича и образа племянника. Отсюда парадоксальные на первый взгляд ситуации, в которых грудной или малолетний племянник убивает страшное для своего дяди чудовище или выполняет за него трудные свадебные задачи («Малое дитя и ламия», «Женитьба царя Степана»).
Образы взаимодействующих дяди и племянника по материнской линии, несомненно, возникали как общеславянское эпическое явление. Подтверждение этому мы находим и в русских былинах. Так, в былине «Илья Муромец и Калин-царь» Илья оказывается либо племянником Самсона Колывановича, либо, наоборот, дядей Ермака Тимофеевича, что с точки зрения основного содержания былины кажется немотивированным и излишним. Многие богатыри в былинах Владимирова цикла названы племянниками князя Владимира. Правда, в былинах уже не уточняется с помощью особых терминов, по какой линии (отцовской или материнской) ведется счет родства, поскольку термины позабылись и в самом народном языке.
Ко времени турецких завоеваний южные славяне успели последовательно создать два типа эпических героев: героя нарицательного, чей подвиг был повседневным и будничным (см. песни о змееборстве и грудном дитяти), и героя, наделенного только одной функцией, играющего свою роль лишь в одной песне (больной Дойчин, дитя Голомеше, Момчило, Груица-воевода). Турецкое нашествие и последовавшее иго привели к гибели множества песен о героях с одной ролью и к перелицовке уцелевших текстов. Так, песня о Момчиле превратилась в «Женитьбу короля Вукашина», а исторические реалии песни «Сторожил ущелье Груица-воевода», содержащей очень древний сюжет, никак нельзя отнести ко времени более раннему, чем начало турецких завоеваний на Балканах.
В условиях турецкого ига южные славяне почти перестали, если судить по дошедшим произведениям, создавать песни о герое с одной определенной ролью, о герое одной песни. Им не помогли защититься ни бог, ни царь (князь), ни враждовавшие между собой феодалы, со вторжением турок перебитые, разбежавшиеся или потурчившиеся. Испытывалась острейшая потребность в духовной компенсации после всего происшедшего, нужно было хотя бы в песнях утешить себя или укрепить свой дух образом идеального защитника, беззаветно выполняющего свою многотрудную миссию. И кандидат для новой эпической роли нашелся.
Им стал Марко Королевич, владетель небольшого удела с центром в городе Прилеп в Вардарской Македонии и турецкий вассал тотчас после гибели своего отца Вукашина в битве с турками. Становлению Марка в качестве эпического героя поначалу, как предполагают, способствовало то обстоятельство, что исторический Марко Королевич, по-видимому, получил от турок какие-то привилегии и облегчения для жителей своего удела. Во всяком случае, ничего не известно о том, чтобы жители владений Марка Королевича при его жизни подвергались грабежам и насилию, уводились толпами в рабство. По сравнению с соседними районами положение, вероятно, выглядело отрадным.
Эпический Марко быстро прошел все этапы развития героя и стал превращаться в индивидуализированный образ с пространной поэтической биографией, в которой лишь редкие детали и ситуации напоминали об историческом прототипе. Песни о Марке Королевиче, первоначально создававшиеся, по-видимому, в Вардарской Македонии, распространились по всем другим южнославянским районам, где они также встречали поэтический отклик в виде местных песен о Марке. Его повсюду признали своим эпическим героем. О нем постепенно складывали целый цикл песен. Даже турки не запрещали петь о Марке Королевиче, а, напротив, благосклонно относились к их исполнению, ибо их герой изображался названым сыном султана. Уже спустя сто шестьдесят лет после гибели исторического Марка Королевича (1395 г.) песни о его эпическом двойнике были записаны на далматинском побережье Адриатического моря, причем в зрелой, хорошо отработанной форме «бугарштиц» — песен, характерных именно для этого района бытования эпической традиции. Это были первые записи песен о нем, кстати, сделанные там, где турки никогда не были хозяевами.
Песен, специально сложенных о Марке Королевиче, сравнительно немного: это — «Королевич Марко узнает отцовскую саблю», «Марко пьет в рамазан вино», «Охота Марка с турками», «Королевич Марко и Алил-ага» и др. Большинство же произведений, в которых он играет главную роль, представляют собою переделки более ранних песен, чьих древних героев мы не знаем по именам. Известно в общей сложности свыше двухсот сюжетов, за которыми закреплено имя Марка Королевича. В их числе немало таких, что противоречат друг другу: в них Марко многократно женится на совершенно разных героинях, многократно освобождает свою жену от разных похитителей, многократно умирает, он одновременно находится едва ли не повсюду на Балканах, а также в Стамбуле, в Арапской земле, на Мальте, на Афоне, на краю земли, где встает солнце, и в других местах. Причиной тому был не только процесс циклизации, противоречивый, протяженный во времени, изменявшем вкусы и требования. Основную роль сыграло локальное творчество южных славян, которое лишь отчасти согласовывалось между разными районами за счет взаимного обмена песнями о Марке. Большинство песен о Марке было создано уже за пределами Вардарской Македонии, и каждый южнославянский народ вносил свою лепту в формировавшийся цикл. Образ Марка Королевича становился всеобъемлющим, универсальным, в результате чего его индивидуализация стала растворяться и исчезать. Ныне для болгарских певцов, например, исполнение юнацкой песни означает прежде всего пение произведений о Марке Королевиче. Чрезмерная циклизация песен привела к отрицанию индивидуализации героя, к превращению его снова в нарицательного, наподобие «неисторических» Ивана, Стояна, Манола, Храбра и других, единое конкретное содержание имен которых — сам народ.
В отличие от обширного цикла о Марке Королевиче, охватывающего едва ли не всю эпоху турецкого ига, другой, косовский цикл юнацких песен довольно скромен. Он посвящен лишь одному событию — Косовской битве сербов с турками (1389 г.), причем о самой битве мы узнаем только из лаконичных рассказов эпических очевидцев. Непосредственного описания битвы нет, и это обстоятельство побуждало многих людей искать в народе песню с таким описанием, а поэтов — сочинять «забытые народом» поэмы о битве. Все же, по-видимому, правы те ученые, которые полагают, что песня с непосредственным описанием битвы скорее всего не существовала.
Косовские песни создавались как поэтическое воспоминание о давно минувшем событии, должное пробудить в народе патриотические чувства. Многие их персонажи вымышлены, додуманы в соответствии с эпическими нормами. И вместе с тем в косовских песнях подчас наблюдается стремление к историзованной правдоподобности, не свойственной настоящим народным песням. Творцы косовских песен, вероятно, жили в разное время и испытывали не только фольклорное, но церковно-книжное влияние: хорошо известно, что южнославянские церковники и книжники содействовали популяризации так называемой «косовской легенды», бродячего и постоянно расширяющегося по содержанию мотива хроник. Ни один из творцов косовских песен не был в силах дать конкретное описание битвы, ибо этого не позволяли поэтические средства народного эпоса, а подлинная литература еще не возникла. Поэтому интерес творцов косовских песен сосредоточен на личных судьбах героев, в особенности князя Лазаря и его ближайшего окружения. Косовская битва — лишь трагический, насыщенный высоким пафосом фон, на котором раскрываются личные судьбы.
В пору турецкого ига наиболее решительные люди, конечно, не занимались тем, что лишь создавали эпический образ идеального защитника или оплакивали Косовское поражение. Эти люди брались за оружие и вели борьбу с турками. Их звали гайдуками (болгарск. «хайдут», сербскохорватск. «хайдук»). Как стихийное бунтарство или как форма выражения национально-освободительной борьбы гайдучество активно проявляло себя вплоть до полного освобождения Сербии и Болгарии, а в македонских землях оно переросло в массовое революционное движение конца XIX — начала XX века.
Гайдуки — это «благородные разбойники», если мерить их меркою Робина Гуда, или партизаны, если вспомнить о том, как боролись в России с захватчиками. Сравнения вполне правомерны, причем первое из них относится к гайдукам более раннего времени, а второе — преимущественно к гайдукам XIX века. Они действовали обычно в теплое время года, от первых весенних листьев на деревьях до листопада. На зиму гайдуки расходились по своим домам или по укрытиям, которые им предоставляли поддерживавшие люди (турецк. «ятаки»).
Народные низы, чьими представителями были гайдуки, сложили о них немало песен. И снова традиция как бы повторила творческий опыт, испробованный на мифологических (в меньшей степени) и на юнацких песнях. Снова создавалась масса песен о нарицательном герое пли о герое лишь одного произведения, герое с определенной ролью, и эта тенденция осталась преобладающей для болгарских и черногорских гайдуцких песен. Герой-гайдук на в повседневной действительности, ни в адекватной ей поэзии еще ничем не выделялся из своей среды. Он был таким же, как все, и в нужный момент поступал так, как заранее было определено народными нормами.
Значительную роль в становлении гайдуцких песен сыграло использование предшествующих эпических стереотипов (см. песни «Татунчо», «Ангел-воевода», «Предраг и Ненад», «Плен Стояна Янковича» и др.). Поэтика ранних гайдуцких песен нередко построена на заимствованиях из песен юнацких. В традиции народов сербскохорватской языковой группы эпический десятисложный размер стиха («десетерац») стал стиховой нормой и для творцов гайдуцких песен.
Среди нарицательных героев-гайдуков постепенно выделялись любимые. К ним певцы привязывали уже сложившиеся песни или о них создавали новые произведения. Любимые герои становились собирательными образами, имеющими определенный отпечаток индивидуализации. Круг песен о них превращался в цикл.
Наиболее ранним гайдуцким циклом можно считать песни о Старине Новаке и его сыне Груе. Иногда, впрочем, Груя назван племянником Новака, и в этом мы видим след предшествующей традиции. Поначалу Новак и Груя, вероятно, выступали в песнях как традиционная эпическая пара. Непонятность эпического значения изжитого шаблона и прочно утвердившийся семейный порядок привели к изменению характера кровнородственных отношений между этими героями. Новак и Груя — старинные типы гайдуков. Они охотнее действуют в одиночку, всецело полагаясь только на собственную смекалку. Не помощь вилы или данная от рождения магическая мощь змея, не богатырская сила, а именно смекалка подчеркивается в песнях как характерный признак образа гайдука. И это нетрудно понять, так как в реальной действительности гайдук без смекалки просто не смог бы долго продержаться.
Песни о Новаке и Груе сравнительно широко распространились среди южных славян. Они частично перешли к румынам, у которых эти образы получили новую жизнь и стали собственными, довольно популярными эпическими героями.
Другим заметным циклом являются песни об Иване (Иво) Сенянине. Он локализован преимущественно в хорватском Приморье, о нем знают и в соседней Боснии.
Строго говоря, Иван Сенянин — это не гайдук, а ускок. Гайдуки жили и действовали на территории Турецкой империи. Лишь поздние болгарские гайдуки XIX века имели свои базы в Румынии и оттуда время от времени устремлялись на порабощенную родину. В этом отношении они как бы повторяли опыт ускоков XVI–XVII веков.
К XVI веку турки держали в своих руках почти весь Балканский полуостров. Черногория и районы далматинского побережья упорно противостояли захватчикам. На далматинское побережье бежали многие люди из захваченных районов. Они горели жаждой борьбы и мести, а венецианцы, контролировавшие узкую прибрежную полосу и заинтересованные в ее сохранении, поначалу сквозь пальцы смотрели на лихие набеги мстителей-ускоков. Не менее двух столетий длилась кровавая борьба. Ускоки «перескакивали» неустойчивую границу, нападали на заранее выбранный объект и с добычей и пленными возвращались назад. Их своеобразной столицей был прибрежный город Сень. Отсюда и прозвище ускоков Ивана и Тадии, который опять-таки в силу предшествующей традиции иногда назван племянником Ивана. Большинство песен, связанных с этими героями, представляет собой переделку старых эпических образцов. В жанровом отношении песни об ускоках — это те же гайдуцкие песни.
Своеобразным антиподом гайдуцких песен в пределах одного жанра представляется боснийский цикл о братьях Муйо и Халиле.
Боснийцы — это славяне-мусульмане сербскохорватской языковой группы, и ныне их официальное, узаконенное конституцией самоназвание — «мусульмане». Когда-то боснийцы отреклись от навязываемого им христианства как в католической, так и в православной форме. Они предпочли исповедовать бунтарскую ересь богомилов, которые считали, что, кроме «духа», то есть сознания, разума человеческого, как потом стали говорить философы, все земное — и феодальный порядок, и иконы, и семья, и богатство — идет от дьявола и должно быть отвергнуто. А в XVI веке боснийцы едва ли не поголовно начинают переходить в ислам. Причины перехода не вполне ясны. Вероятно, не столько насилие со стороны турок, сколько привилегии и льготы, предоставлявшиеся мусульманам, содействовали этому переходу в ислам. Боснийцы стали ревностными мусульманами, в своих песнях они называют себя только «турками». Они, а не собственно турки, вели активную борьбу с ускоками и подробнейшим образом описывали ее в своих песнях, прежде всего в цикле о Муйо и Халиле.
В составе цикла немало местных поделок, по-восточному тягучих и монотонных. Имеется и много переделок, вывернутых наизнанку старых сюжетов, ибо славянские корни эпической традиции боснийцев — те же, что и у их соседей славян-христиан. Боснийцы создавали произведения, противоположные по направленности песням об ускоках: в них «турки» всегда успешно побивают того же Ивана Сенянина с дружиной или какого-то другого эпического ускока. И редкими были песни, где бы тон окрашенной религиозным рвением вражды сменялся нотами дружелюбия, сближения, даже побратимства (ср. «Халил ищет коня своего брата Муйо» и «Дочери Али-бега Атлагича»). Боснийский цикл о Муйо и Халиле почти не повлиял на эпику соседних славян-христиан, зато приобрел большую популярность среди албанцев-мусульман, у которых он стал самой зрелой формой их эпической традиции.
В условиях Балкан вероисповедание было серьезным фактором, определяющим социальную направленность эпической традиции. С ним связывался коренной вопрос: быть за или против общественного порядка, установленного турками. Тот, кто выбирал ислам, автоматически становился «турком». Тот, кто упорно держался за христианскую религию, был совершенно бесправным. Его имущество, он сам, жена, дети когда угодно могли подвергнуться насилию или присвоению. Турки официально именовали подвластных славян-христиан презрительным словом «райя» (стадо).
Известны случаи того, как турки проводили насильственную исламизацию («потурчивание»). Жителям села, окруженным вооруженными турками, предлагалось: тот, кто принимает ислам, должен отойти, скажем, направо, а тот, кто не хочет, пусть отойдет налево. И тут же, у всех на глазах, отрубали голову несогласному сменить веру. Так было в некоторых районах Болгарии.
Поэтому борьба за «свою веру», за которую, кстати сказать, не очень держались до поры турецких завоеваний, в южнославянских песнях всегда осознавалась как борьба за самосохранение, за свои старинные обычаи и установления, за собственное этническое лицо, за самобытность. Очень трудно отказаться от самого себя — даже под угрозой смерти, а смерти религиозные люди часто и не боялись.
Сильные люди уходили в гайдуки. Слабые — замыкались в привычном и неисчерпаемом мире кровнородственных и семейных отношений. Сильными чаще были мужчины, слабыми — женщины.
Главным образом с женщинами связано бытование песен, которые ранними южнославянскими собирателями так и назывались «женскими», а русскими собирателями — «низшими эпическими песнями». Теперь эти песни принято называть балладами, хотя термин «баллада», как представляется, не покрывает все разнообразие славянских «женских» песен. Если к славянским песням подходить с западноевропейскими критериями понимания баллады, то почти все сюжетные «женские» песни, что записывались среди южных славян, можно отнести к балладам. Эти песни часто действительно женские, потому что их пели и до сих пор поют преимущественно женщины.
Женщины искони были олицетворением устойчивости народных традиций. Им мы обязаны записями многих великолепных эпических песен, и не только «женских». Певицы часто нигде не бывали за пределами родного села, и это содействовало консервации старинных песен. Они хранили народную память, как земля — жизненные соки. И как земля с весною дает жизнь всему растущему и живущему, так женщины давали в нужную пору жизнь и детям и песням.
Поразительна прекрасная отточенность балладного языка. Во многих текстах, в отличие от подчас рыхловатых юнацких и гайдуцких песен, совсем нет лишних слов. Стиховая стихия плотно спрессована в точные, почти или вовсе афористичные фразы (формулы), все слова которых в буквальном смысле работают.
В любимых песнях женщин раскрывается мир кровнородственных и семейных отношений, как правило, именно с точки зрения средневековой женщины-славянки. Это — позиция матери или сестры, любимой девушки или жены, невестки или свекрови. Поэтому мы вправе считать авторами этих песен — женщин.
Баллада — динамичный рассказ или даже небольшая повесть. В отличие от богатырских, «мужских» песен, где все обычно доведено до логического конца, у баллады часто нет последней точки. Вместо точки стоит многоточие. При анализе нередко выясняется, что причиной недоговоренности является не забвение. Недосказанность — нарочитый художественный прием: самому слушателю предоставляется возможность домыслить финал, вообразить последствия песенного случая в соответствии с собственными моральными установками и с собственным положением в мире кровнородственных и семейных отношений.
Песенное отношение женщины к этому миру было жестко обусловлено традиционными народными нормами и заданной, каждый раз конкретной, конфликтной песенной ситуацией. Певица не могла выбирать произвольное мнение. Каждой женщине в течение своей жизни приходилось, условно говоря, последовательно играть ту или иную роль: быть дочерью, сестрой, любимой девушкой, женой, невесткой, наконец, свекровью. Отношение женщины к содержанию конкретной баллады, конечно же, менялось в зависимости от того, кем сама женщина была в реальной жизни. Отсюда, по нашему мнению, и расхождения в трактовке какой-либо баллады, которые выявляются при сличении ее вариантов.
Мир кровнородственных и семейных отношений поистине неисчерпаем. Каждый день в нем воспроизводились или только-только возникали бесчисленные конфликты, неповторимые для каждого человека и повторяющиеся без конца на протяжении многих веков. Столетиями шел отбор типичных конфликтных ситуаций и отливался в балладной форме. Женщины не спешили, слагая и отделывая песни, которые были неотделимой частью их собственной жизни: никому не дано убежать от самого себя. Жизнь повторялась — повторялись и баллады, жизнь изменялась — обновлялся и репертуар каждой женщины, неактуальное отходило на задворки памяти или вовсе исчезало.
Образы баллад неизменно нарицательны и предельно типизированы, что, как и формулический характер балладного языка, свидетельствует об очень продолжительном бытовании и непрестанной шлифовке песен. Имена героинь и героев также нарицательны, они — народные. Лишь в некоторых случаях имена прочно закреплены за определенным произведением («Лазар и Петкана», «Омер и Мейрима», «Хасанагиница»), что указывает на выделение персонажей с назначенной ролью, свойственное для сравнительно поздних песенных обработок. Нередки, однако, случаи, когда у героев нет даже нарицательных имен: они — просто сын, брат, жених, муж и мать, сестра, милая, жена.
Многие сюжеты баллад древни, как мир, или, точнее, как сами славяне и их ближайшие родственники балты (литовцы и латыши), а то и как все индоевропейские народы. К ним относится большинство представленных здесь баллад. Вместе с тем южнославянские версии баллад — нередко сравнительно поздние, средневековые или позднефеодальные обработки старых сюжетов. Они, как и другие эпические песни, неоднократно переделывались и приспособлялись к требованиям очередной исторической эпохи.
Среди баллад нет циклов, посвященных одному герою. Сам жанр исключает циклизацию, ибо в каждой балладе не один, а несколько персонажей может быть признано равновеликими героями. Причем — в этом тоже особенность баллады — некоторые персонажи даже не являются действующими лицами, они лишь подразумеваются, но они обязательны в глубине подтекста, к ним обращаются, с ними сопоставляется или соотносится действующее лицо (см. «Голова Янкулы», «Раненый юнак и его конь», «Наказ юнака», «Отдашь ли, отдашь, горец Йово», «Три вереницы невольников», «Янычар тоскует по дому» и др.).
Создателям и слушателям баллад интересны не личности. Их прежде всего волнуют отношения персонажей между собой, перенесенные, эпически копирующие мир кровнородственных и семейных отношений. Например, как поведет себя мать, если сын ее в чем-то конкретном ослушался (хочет жениться, женился без ее благословения и т. п.)? Как поступит сын, недовольный мнением матери? Кто милее и дороже — брат или муж, брат или собственный сын? Кем из них пожертвовать? Что и как выбирать в трудную минуту, на кого положиться?.. Такие вопросы предлагают баллады своим слушателям.
В балладах обычно показываются отношения между двумя персонажами (матерью и сыном, матерью и дочерью, сестрой и братом, женой и мужем) или тремя (матерью, сыном и снохой; матерью, сыновьями и их сестрой; мужем, женой и детьми). Встречаются и более сложные узлы отношений. Герои баллад, как правило, принадлежат к своему, родному миру. Они — не те враги между собою, каких описывают гайдуцкие и юнацкие песни. И все же возникающий между ними конфликт бескомпромиссен, драматически накален и часто трагичен по своему исходу. Кто из них прав, кто виноват, и виноват ли? — опытные певицы старались объективизировать балладную ситуацию, предоставляя каждому слушателю судить об этом по своему уму-разуму. В объективизации мы видим яркий признак эпичности баллад.
Не все отношения, показанные балладами, первоначально понимались «по-семейному». Так, отношения брата (братьев) и сестры, перепетые в десятках сюжетов, раньше всего понимались, видимо, как отношения лиц разного пола, но одного поколения, принадлежащего к одному «роду-племени». Все лица женского пола в одном поколении были сестрами, все лица мужского пола — братьями. Таким образом устанавливался запрет на брачные отношения между ними: жениха или невесту предписывалось искать в соседнем «роде-племени». Этнографы фиксировали подобную систему родства у разных народов мира. Она, по всей вероятности, была и у славян. Ее существование относится к тому же времени, какое положило начало бытованию эпической пары героев — дяди и племянника по материнской линии.
Сказанное относится и к эпическому образу матери, очень популярному песнях всех эпических жанров, в отличие от периферийного, проходящего и, как правило, позднего образа отца. Эпическая поэзия славян почти не знает образа отца, что тоже надо считать показателем довольно раннего сложения большинства эпических песен.
Южнославянские эпические песни, как и восточнославянские, пелись или исполнялись своеобразным, неподражаемым речитативом («сказывались»). Ранее их исполнение, наверное, обязательно сопровождалось игрой на «гусле», похожей на древнерусские гусли. Под гуслу их и теперь поют в Югославии. В Болгарии гуслу заменил «кеменче», инструмент восточного происхождения, похожий на скрипку. При пении музыкальная мелодия обычно соответствует размеру одного эпического стиха. Однако было и строфическое исполнение песен, известное и по былинной традиции Русского Севера. Песню пели строфами, например, в три, пять, семь стихов. Живое бытование строфического пения автор этих строк наблюдал в 1960–1962 годах среди болгар-переселенцев Запорожской и Одесской областей, живущих там уже сто шестьдесят- сто семьдесят лет. Особенно интересно слушать двух певцов, когда они, чередуясь, сменяя друг друга, поют одну песню строфа за строфой. Это, вероятно, очень старый способ исполнения.
Изобразительные средства южнославянских песен часто совпадают с восточнославянскими. Одинаково употребительны постоянные эпитеты: ясное солнце, светлый месяц, ясная звезда, ясное небо, темная туча, синее море, зеленый лес, тихий Дунай (в значении — любая река), огненный змей (и змей огнянин, огняник), лютая змея, черный ворон, серый сокол, добрый конь, добрый юнак (молодец), острая сабля, русая коса, родная мать, старая мать и др. Но «красным» в песнях южных славян чаще называют молодца, нежели девушку. Девушка — «лёпа» или «хубава» (красивая; ср. в том же значении слова «купав», «купава» в былинах). Дороги в песнях не широкие, как у нас, а ровные, что немаловажно в условиях гор. Очень употребителен эпитет «белый»: белое лицо, белые руки, белая девушка, белый день, белый двор, белая башня (дом), белый Дунай, белый камень, белая стрела, белые лебеди и др. Белый цвет — символ чистоты, священности и принадлежности к родине, в отличие от черного, «нечистого» цвета.
В южнославянских песнях мы обнаруживаем несколько десятков типизированных описаний внешнего вида, поступков и действий героев (на ряд из них указано в примечаниях). Около пятидесяти схожих описаний встречаются и в восточнославянском фольклоре, что также подтверждает генетическое родство фольклорных традиций.
Но более всего сходны славянские песни между собою по содержанию, по мотивам и сюжетам. Любопытно, что наибольшая концентрация сходных эпических сюжетов наблюдается в меридиональном направлении: на Русском Севере, в Полесье (в чем убедился автор в ходе экспедиций 1974–1975 гг.), на Карпатах (Западная Украина, Словакия и Моравия), в Западной Болгарии и Македонии. Не случайный, нередко очень древний характер сходства эпики славян в разных районах их расселения подтверждается и внушительным числом сходных текстов, обнаруживаемых в фольклоре литовцев, ближайших родственников славян.
Мы с детства узнаем о Гильгамеше и древнегреческих мифах, читаем «Илиаду» и «Одиссею», знакомимся с памятниками творчества других народов мира. И это прекрасно! Познание культурного наследия другого народа есть одновременно и обогащение собственной культуры. Творчество южных славян особенно близко и дорого, ибо с ними нас связывают многие и прочные узы прошлого и настоящего.
Была у матери дочка,
Одна кровинка Марийка.
Росла она, возрастала,
Вошла в девичий возраст,
Могла хозяйничать в доме.
Стала ее матушка сватать,
Просватала, выдала замуж,
Но чада она не имела,
От сердца рожденного чада.
Мать говорит Марийке:
«Марийка, дочка Марийка,
И на это ль тебя наставить?
Ступай-ка ты вниз на Тунджу,
На Тунджу и на Марицу,[2]
Найди там камешек белый,
Обмой его со стараньем,
Укутай в теплые пелены,
Положи в золотую люльку,
Его, Марийка, баюкай,
Баюкай, пой ему, дочка:
«Баю, камешек, баю,
Стань у меня дитятью!»»
Послушалася Марийка,
Пошла она вниз на Тунджу,
На Тунджу и на Марицу.
Нашла она камешек белый,
Его в реке искупала,
Тепло его запеленала,
Клала в золотую люльку.
Марийка камень качала,
Качала и песни пела,
Триста песен пропела,
Ни разу не развернула.
А как его развернула,
Вот уж большое чудо:
Камешек стал дитятью.
И окрестили младенца,
Дали красивое имя,
Красивое имя Добринка.
Росла она, вырастала,
Взрослой девушкой стала,
А мать ее не пускала
Ни по воду, ни к скотине.
Мать как-то пошла за водою,
Добринка из дому вышла
И на балконе села,
Там вышивала на пяльцах.
Там Солнце ее увидало,
Глядело три дня, три ночи,
Глядело и трепетало
И заходить не хотело.
Мать ему ужин готовит,
Готовит, его ожидает,
Ждет его и вздыхает:
Где это сын задержался?
Как воротилось Солнце,
Мать ему тихо молвит:
«Солнце, милое Солнце,
Где же ты задержалось,
Вот уж еда остыла?»
Солнце не отвечает,
Только чело хмурит.
Мать на него поглядела,
Вновь ему тихо молвит:
«Сын, почему не скажешь,
Зачем ты светишь так долго,
Светишь и не заходишь,
Матери не отвечаешь?
Зачем спалил ты, сыночек,
Старых людей на ниве
И молодцов в Добрудже[3],
Малых девиц в Загорье?»[4]
Солнце матери молвит:
«Ведаешь ли ты, мама,
Какую узрел я девицу
На нижней земле под небом?
Я на небе — светило,
Она на земле — Солнце,
Среди людского рода
И среди трав зеленых.
Знаешь, матушка, знаешь,
Коль не возьму ее в жены,
Мне не светить так ясно,
Как до сих пор светил я».
Мать ему отвечает:
«Солнце, мамино Солнце,
Как ты возьмешь невесту,
Ведь на земле невеста,
А мы на небе синем?»
Солнце снова ей молвит:
«Мы заберем ее просто:
Пустим лучи золотые,
Их превратим в качели,
Их на землю опустим,
В лучший девушкин праздник,
Как будет Святой Георгий[5],
Явятся старый и малый
Во здравие покачаться,[6]
С ними придет Добринка,
Сядет она на качели,
Во здравье качаться станет,
А мы качели потянем
И прямо в небо поднимем!»
Как придумало Солнце,
Так и сделало скоро:
Лучи золотые пустили,
Привязали златые качели,
На землю их опустили
В лучший девушкин праздник,
Как был Святой Георгий.
Сходились старый и малый
Во здравие покачаться,
И вот явилась Добринка
Во здравие покачаться.
Когда на качели села,
Села и закачалась,
Вверх поднялись качели,
Под синее ясное небо.
С тех пор и по наши поры
Светят на небе два солнца;
Первое солнце — Солнце,
Другое солнце — Добринка,
Солнце сияет летом,
А Добринка — весною.
Девица Мария, Мария!
В Марию солнце влюбилось,
Не выходит Мария из дому,
Чтобы солнце не увидало.
У Марии мать неродная,
Не верит она Марии,
Искупала мачеха сыночка,
Постирала грязные пелены,
Посреди двора их разостлала —
Набежала тут темная туча,
Меленький дождик посыпал,
Мать говорит Марии:
«Девица Мария, Мария,
Вышла бы ты, Мария,
Собрала б шелковые пелены!»
Только вышла Мария,
Чтобы собрать пелены,
Как ее увидало солнце.
Три дня стояло, сияло,
Девушек меньших спалило,
Девушек меньших на нивах,
Косарей на левадах.
Сыну-солнцу матушка сказала:
«Сынок мой, ясное солнце,
Девушки меньшие сгорели,
Девушки меньшие на нивах,
Косари на левадах.
Как придет, солнышко, праздник,
Велик день[8] придет пресветлый,
Или больший праздник — Егорий,
Устрой-ка тогда качели,
Качели на гнутой вербе.
Соберутся девушки и жены
И пригожие молодицы
На твоих качелях покачаться.
А с ними придет и Мария,
Встанет она на качели,
На качелях твоих покачаться,
А ты подними качели!»
Так и сделало солнце.
Как настал Велик день — праздник
И больший праздник — Егорий,
Опустило оно качели —
Собрались девицы и жены,
На тех качелях качались.
Молвила мать Марии:
«Падчерица Мария,
Пошла бы ты, дочка Мария,
Пошла бы к своим подружкам,
Покачалась бы на качелях!»
Послушалась ее Мария,
Как следует приоделась,
Пошла на качелях качаться.
А едва на качели встала,
Поднял господь качели.
За Марией бегом побежала
Мать-мачеха Марии,
Побежала, вслед закричала:
«Эй, падчерица Мария,
Вот тебе мой наказ, Мария,
Как только придешь ты к солнцу,
К солнцу на двор широкий,
Говей свекрови и свекру[9]
Девять лет год за годом,
А также деверю Огняну,[10]
И ему говей четыре года,
Четыре года с половиной;
И своему супругу —
Тоже год с половиной!»
Послушалась ее Мария,
Говела она, говела
Целый год своему супругу,
Ни слова не проронила,
А солнце того не стерпело,
Чтобы ждать полтора года,
Покинуло оно Марию,
И вновь просваталось солнце,
Взяло Дену-Деницу.[11]
Велели они Марии,
Чтоб она их повенчала,
Солнцу стала сестрою.
Вот началось венчанье,
Мария свечи держала.
Свечи ее догорели,
У нее загорелись пальцы,
А она стоит — и ни слова.
Увидала Дена-Деница
И говорит Марии:
«Пусть немая ты и глухая,
Но ведь есть у тебя очи!
Гляди — догорели свечи,
Пальцы твои загорелись».
Тут Мария заговорила:
«Батюшка-свет, мой свекор!
Простите мое говенье,
Говенье, земные поклоны.
Я, батюшка, не немая,
Не глухая и не слепая,
Да мачеха мне наказала,
Наказала, чтобы говела:
Девять свекру и свекрови,
Девять годов полных,
А также деверю Огняну
Четыре года с половиной
И своему супругу
Еще полтора года.
А он не дождался, боже,
И меня, молодую, оставил».
Как солнце услышало это,
К господу-богу взмолилось:
«Не желаю Дену-Деницу,
А желаю замуж Марию!»
Осталась Дена-Деница,
Невенчанная невеста.
Молила она бога:
«Господи боже всевышний,
Сделай ты меня, боже,
Сделай малою птахой!»
Сделал господь Дену
Ласточкою полевою,
Вылетела, полетела,
Она из солнцева дома.
А солнце, как увидало
Дивную эту птицу,
Догнало и отхватило
Перышко хвостовое,[12]
Чтобы узнали повсюду,
Что эта малая птаха
Была невестою солнца
И что жених покинул
Ее во время венчанья.
Как-то вечером у колодца
Похвалялся добрый юнак
Перед девушками, перед парнями:
«Есть такой у меня конь добрый,
Добрый конь и такой быстрый,
За день землю на нем объезжаю,
За день землю, кругом всю землю;
Объезжаю и возвращаюсь».
Как услышало ясно солнце,
Отвечает ясное солнце:
«Гой еси ты, юнак добрый,
Ну-ка мы с тобою поспорим,
О великий заклад поспорим,
Положим с тобою клятву:
Если за день землю объедешь,
За день землю, кругом всю землю,
Объедешь ее и вернешься,
Возьмешь мою милую сестрицу,
Милую сестрицу Ангелину;
Ну а если не сможешь объехать,
Твоего коня заберу я».
Добрый юнак выходит
Утром рано, еще до света.
Покуда солнце вставало,
Коня седлал добрый юнак.
Оседлал его добрый юнак,
Вывел коня против солнца.
И едва он вставил ногу в стремя,
Как погнал его конь быстрый,
На средину земли доставил,
А солнце-то уже на полудне.
Спешился добрый юнак
Посредине земли под тенью,
Под тенью орешины рослой,
Там он добра коня поставил,
Привязал его к ветке крепкой,
А сам прилег и сном забылся.
Добрый конь его бьет копытом,
Бьет копытом и ржет губами:
«Вставай, пора, добрый юнак,
Поднялось уже ясное солнце,
Поднялось, стоит на полудне».
Пробудился тут добрый юнак,
И вскочил здесь добрый юнак,
И коня отвязал от ветки.
И опять он вставил ногу в стремя,
И всю землю тогда объехал,
И объехал, и воротился.
И тогда поехал он к солнцу,
К солнцу, к его воротам.
Ангелина по двору ходит.
Как увидела доброго юнака,
Отворяет ему, встречает
И коня по двору водит.
Ждал-дождался добрый юнак,
Пока не вернулось солнце —
Вечерять ему пришло время.
Сели солнце вместе с юнаком,
Чтоб поесть да попить толком.
Ангелина им услужает,
Наливает им и подносит.
Так ели они и пили,
И отдало ясное Солнце,
И отдало милую сестрицу,
Милую сестру Ангелину,
И отдало в жены юнаку.
Посадил ее добрый юнак,
Посадил на коня с собою,
И повез ее добрый юнак,
Повез домой молодую.
Девушкина мать хвалилась
На закате у колодца
Перед девками, парнями,
Что растит красу-девицу —
Солнца ясного пригожей,
Вдвое месяца красивей.
Красно солнышко, заслышав,
Ясную звезду послало,
Звездочку послом послало
Пригласить красу-девицу,
Чтобы с солнцем состязалась,
И увидим, кто пригожей,
Кто кого пересияет.
Собралась звезда в дорогу,
Припасла вина в кувшине
Да отправилась на ровный,
Ровный двор, к самшит-воротам,
Где жила краса-девица.
Постучала и сказала:
«Выходи ж навстречу, дочка!»
Только девушка не вышла,
Вышла мать ее к порогу.
Ясная звезда ей молвит:
«Ты ли давеча хвалилась,
На закате у колодца,
Перед девками, парнями,
Что растишь красу-девицу —
Солнца ясного пригожей,
Вдвое месяца красивей?»
Отвечает мать спокойно:
«Да, но я сказала правду».
Ясная звезда ей молвит:
«Коль и впрямь не солгала ты,
Наряди покраше дочку,
Мелко заплети ей косы,
Чтобы вышла на Юрдана,
На Юрдана, на восходе,
С ясным солнцем состязаться,
И увидим, кто пригожей,
Кто кого пересияет».
Мать охотно согласилась,
Ярко девушку одела,
Нарядила, заплела ей
Много меленьких косичек,
Уложила их рядами;
Вышла дочка на Юрдана,
На Юрдана, на восходе,
Где встает поутру солнце,
Где родится месяц ясный, —
Будет с солнцем состязаться,
И увидим, кто пригожей,
Кто кого пересияет.
Красно солнышко явилось,
Осветило две планины,
В третью брызнуло лучами.
Вышла девушка за солнцем —
Всю-то землю озарила!
Красно солнышко сказало:
«Счастье матери, взрастившей
Девушку, что всех прекрасней
Ведь лицо белеет, словно
После двух просевов брашно;
Ведь глаза чернеют, словно
Трижды вспаханная пашня;
Брови тонкие синеют,
Как шнурок шелковый в лавке;
Косы русые пушатся,
Точно елочка в ущелье!»
Будь, красавица, здорова,
Тебе поем, а бога славим!
Девушка перечила солнцу:
«Солнце жаркое, я тебя краше,
Краше также родного брата,
Брата твоего — светлого месяца,
И племянников-влашичей[16] краше,
И вечерней звезды — их матери».
Это влашичам было обидно.
Матери сказали такое:
«Наша матушка, звезда вечерняя,
Проси дядю, жаркое солнце,
Чтоб он спалил лицо девичье,
Чтобы девушка больше не хвалилась!»
Услыхала то звезда вечерняя,
Не хотелось ей, но было трудно
Не послушаться детей родимых,
Попросила жаркое солнце.
Рассердилось жаркое солнце
И красивой девушке сказало:
«Что хвалишься, красивая девушка,
Красотою своею великой?
Лучше встань пораньше завтра утром
И приди на высокую гору —
Восходить я буду над нею,
Там посмотрим, кто одолеет!»
Только утро белое настало,
Рано встала красивая девушка
И пошла на высокую гору.
Как дошла она, жаркое солнце
Над горою, сердитое, вышло.
Зеленая трава вся повяла,
А листва в лесу вся посохла,
А студеную воду посушило,
А лицо девичье потемнело,
Как земля, по которой ходила.
Зарыдала красивая девушка:
«Горе мне, моя матушка милая,
Что ты сделало, солнце жаркое?
Вороти мне лицо мое белое,
Никогда тебе не буду противиться».
Солнце жаркое ей не внемлет,
С неба светит оно все сильнее.
Два могучих поссорились ветра,
Замутили реку, переправы,
Лишь колодец царский пощадили.
На колодце том сидит султанша,
А при ней три сына-одногодка:
Одного звать: Солнце от Востока,
Сын второй зовется: Ясный Месяц,
Третий сын, любимый: Частый Дождик.
Молвит старший — Солнце от Востока:
«Любят все меня и почитают,
Больше всех же — бедняки в лохмотьях».
Говорит брат средний — Ясный Месяц:
«Любят все меня и почитают,
Больше всех же — путники в дороге».
Говорит брат младший — Частый Дождик:
«Любят все меня и почитают,
Больше всех же — травы и пшеница».
Гнал-подогнал Тодор
Буйволов четыре пары,
Хотел он загнать их в воду
У брода на водопое.
Средь брода сидит бродница,[19]
Собой запрудила воду,
Ее решетом сеет,
У ней на коленях месяц,
Звезды у ней в подоле.
Кричит она Тодору с броду:
«Тодор, птенец ты теткин,
Теткин птенец ты, сестрин,
Назад поверни упряжки,
Тетка тебя не узнала,
Тетка околдовала!
Издалека матушке крикни,
Пусть она собирает,
Собирает всякую траву,
Собирает пижму, и донник,
И тонкую горечавку,[20]
Пускай их сварит, Тодор,
На нежилом огнище,
Пускай отвар отцедит
Сквозь брошеные колеса
И тебя искупает, Тодор».
Тодор к дому вернулся,
Звал он мать, не дозвался,
Покуда с душой не расстался.
Гордился князь Петр, хвалился:
«Нет любы моей прекрасней!
Краше вилы моя люба!»
Услыхала вила лесная,
Во двор к Петру прилетела,
Вызвала Петрову любу:
«Выходи, Петрова люба,
Давай рассмотрим друг дружку!»
Отвечала виле Ела:
«Подожди немного, вила,
Пока я, молодая, оденусь!»
Надела червленое платье,
А на голову — бисерную корону,
На руки перстни златые,
Бока затянула шелком.
Словно солнце из-за леса,
Так и Ела к виле вышла.
Увидала Елу вила,
Сказала белая вила:
«Прочь поди, Петрова люба,
Ведь ты мне ранила очи!
Когда мать тебя породила,
В золотой люльке качала,
Самого лучшего шелка
Твои пеленки были,
Укачивали тебя братья,
Они с тобою играли,
Кормилицы грудью кормили,
Гулять тебя выносили.
А меня родила вила,
Завернула в лист зеленый;
У меня пеленки были
Из этой травы зеленой;
Для меня были постелью
Тонкие веточки ели;
Какой ни задует ветер,
Тот меня и качает,
Какой ни падает камень,
Тот со мной и играет;
Какой ни польется дождик,
Тот меня и накормит!»
Горы высокие, горы,
А Ловчен-гора[23] всех выше;
На ней дремучие чащи,
Снега на ней и морозы
Во всякое время года;
Живут там горные вилы,
Водят свои хороводы.
Поехал юнак на Ловчен
Искать дорогое счастье.
Его увидели вилы
И кличут, манят юнака:
«Сюда иди поскорее!
Здесь счастье твое родилось,
Солнечным светом повито,
Вскормлено лунным сияньем,
Звездной пролилось росою!»
Йова, ты девица Йова,
Неужели в другом месте
Нет воды и нету тени,
Чтобы ты лицо отмыла,
Белое лицо от пыли,
Чтобы очи ты отмыла,
От слез твои черные очи?
Чуть проснулась, и пошла ты
На планину, на Влаину,[25]
К самовильскому озерку.
Были там две молодицы,
Молодицы-самовилы,
Малых детей там купали,
Малых детей из люлек.
Они говорили Йове:
«Слушай-ка, сестрица Йова,
Ты пойдем-ка, Йова, с нами,
Наших детей купать будешь,
Купать будешь, качать будешь,
Малых детей качать в люльке,
Подносить нам будешь луки,
Подносить луки и стрелы!»
«Ах же вы, две молодицы,
Молодицы-самовилы,
Коль так долго меня ждали,
Еще чуток подождите,
Как минует день Лазаров,[26]
И как Велик день минует,
Велик день, Святой Георгий,
На Спасов день[27] приходите.
На Спасов день, на забаву,
На забаву к большим качелям,
Мглой покройте, пыль пустите
И поднимите Йову
Высоко, под самый облак.
Кто увидит, тот заплачет,
Кто услышит, загорюет».
Подождали самовилы,
Миновал уж день Лазаров,
День Лазаров и Велик день,
День Георгия Святого,
А на Спас они явились,
На Спасов день, на гулянье,
На собор к большим качелям,
Мглой покрыли, пыль пустили,
Подняли они Йову
Высоко, под самый облак.
Кто увидел, по ней плакал.
Закричала тонкая Стана,
Стана — тонкая самовила,
Сверху, с горной вершины:
«Эй вы, кратовские крестьяне,[29]
Отдайте мне двух младенцев,
Двух близнецов-младенцев,
Юнаков двух отдайте,
Двух молодых и пригожих,
Девушек двух отдайте».
Девушки отвечают:
«Самовила, тонкая Стана,
Погоди, потерпи немного,
Отпразднуем день Лазарев».
А крестьяне ей отвечают:
«Где ж это мать найдется,
Что отдаст тебе двух младенцев,
Двух близнецов-младенцев?
И что же это за парни,
Что отдадут двух молодиц?
И где отец найдется,
Который отдаст двух парней?
И где еще мать найдется,
Что отдаст тебе двух дочек?
Ты лучше возьми подарок —
За деточек двух ягняток,
За молодух — двух коровок,
За парней — бычков пару,
За девушек — телок пару!»
Рассерчала тонкая Стана,
Самовила, тонкая Стана,
И забрала за младенцев,
За младенцев — сто младенцев,
За молодух — сто молодиц,
За юнаков — сто юнаков,
За парней — сотню парней,
За девушек — девушек сотню
И отвела их в горы.
Плетут галуны молодухи,
Юнаки камни бросают,
Парни — в свирели дуют,
Девушки песни играют,
Младенцы травы сбирают,
Травы сбирают, носят.
Клятое дитятко Рады
Травы ищет, а трав нет,
Травы из рук выпадают,
Из-за пазухи выпадают.
Сказала тонкая Стана:
«Ой, клятое дитятко Рады,
Травы сбираешь, а трав нет».
А ей дитя отвечало:
«Самовила, тонкая Стана,
Не проклинай ребенка,
Радиного ребенка,
А мать мою прокляни ты,
Мать прокляни и бабку,
Видишь, я не подпоясан,
У меня выпадают травы,
Из-за пазухи выпадают.
Дай-ка мне лук и стрелы,
Пойду я в наше селенье
И мать там убью стрелою,
Убью моих мать и бабку».
Поверила тонкая Стана,
Самовила, тонкая Стана,
Дала ему лук и стрелы,
Не пошел ребенок в селенье,
Чтоб убить свою мать стрелою,
Убить свою мать и бабку,
А убил он тонкую Стану,
Самовилу, тонкую Стану,
Все пленники разошлися,
По домам вернулись из плена.
Возводила самовила,
Возводила стройный терем,
Между небом и землею
Возводила, в черных тучах.
Как она столбы вбивала,
Что ни столб — юнак пригожий,
Как закладывала стены,
Бревна — девы-белолички,
Как стропила городила —
Черноглазые молодки.
Крыла кровлю, но не тесом,
А младенцами грудными,
А старушки в белых юбках
Стали кольями ограды,
А дверными косяками —
Старцы с белой бородою.
Но семидесьти младенцев
Недостало самодиве,
Чтобы свой достроить терем.
И послала самовила,
В Прасково наказ послала,
В Прасково наказ крестьянам:
«Дайте, прасковцы, мне выбрать
В людных селах придунайских
Семьдесят грудных младенцев,
Чтобы свой достроить терем!»
Собрались тогда крестьяне,
Собрались да порешили:
Не позволим самовиле
Забирать детишек малых
В людных селах придунайских.
Пусть она берет планину,
Пусть туда приходит с бурей,
Там ей хватит стройных елей,
Стройных елей, крепких сосен,
И пускай свой терем строит!
Осерчала самодива,
Налетела на планину,
Три дня дует, три дня валит,
Наломала стройных елей,
Стройных елей, крепких сосен
И достроила свой терем.
Городил Будим[32] будимский Йово,
И когда огородил он город,
Вкруг Будима стены поставил,
Сорвался тогда с Будима камень,
Ногу Йово перебил в колене
И в плече перебил руку.
Он болеет сильно и долго,
Тут случилась нагорная вила.
Увидала Йово, закричала:
«Что с тобою, будимский Йово?
И какая от бога неволя?
Что ты стонешь в траве зеленой?»
Йово виле тогда отвечает:
«Как я стены городил в Будиме,
Как вокруг Будима стены ставил,
Сорвался тогда с Будима камень,
Перебил мне ногу в колене,
Повредил мне правую руку».
Вила говорит на это Йово:
«Кабы знала я, будимский Йово,
Знала бы, что крепко слово держишь,
Я бы раны твои залечила.
Дал бы ты мне материны очи,
Дал бы ты мне сестрицыны груди,
Дал бы ты мне женино монисто,
То, что братья жене подарили,
То, что стоит оку дукатов?»
И схватила бахромчатый пояс
И хлестнула будимского Йово.
Йова встал, как будто вновь рожденный,
И оттуда направился Йово,
И приходит он к родному дому.
Его в доме матушка встречает.
«Слава богу, вот мой сын явился! —
Обнимает сына и целует,
Спрашивает о его здоровье. —
Неужели, сынок мой Йово,
Вкруг Будима стены ты поставил?»
И на это отвечает Йово:
«Правда, матушка, так оно и было,
Вкруг Будима стены я поставил,
Да с Будима сорвался камень,
Перебил мне ногу в колене,
Перебил мне правую руку.
И лежал я в траве зеленой,
И случилась нагорная вила:
«Что с тобою, будимский Йово?»
И на это я виле ответил:
«Я, Йово, сейчас строил стены,
Вкруг Будима стены я поставил,
Да сорвался с Будима камень,
Перебил мне ногу в колене,
Перебил мне правую руку.»
За леченье обещал я виле,
Что отдам твои черные очи.
Хочешь ты отдать свои очи?»
На это мать отвечала:
«Да, отдам тебе я, Йово, очи,
Й слепую ты меня прокормишь».
Как к сестре своей явился Йово,
Закричала сестра: «Слава богу!
Слава богу, брат ко мне явился!»
И сестре своей молвит Йово:
«Не отдашь ли ты свои мне груди?»
И сестра ответствует Йово:
«Я отдам за тебя белые груди,
Ты меня и калеку прокормишь».
И к жене своей явился Йово,
Так он говорил своей супруге:
«Хочешь ли отдать свое монисто?»
А жена ему отвечает:
«Не отдам тебе свое монисто,
Что мне братья привезли в подарок
Из Млетака[33], за оку[34] дукатов,
Отыщу себе хозяина получше,
Что не знает вина и куренья,
Зато копит лавки и товары».
Это слышит нагорная вила,
Как узнала она про монисто,
Отравила у Йово раны.
Раз поспорила Драганка
Со свекровью и со свекром,
Со своим деверем младшим,
Что сожнет она всю ниву,
Ниву ту, что на кургане,
Ниву, что три дня пахали
Буйволами в три упряжки[36]
И волов четвертой парой, —
Дескать, жать начнет с восходом,
А окончит жать с закатом.
Так вот и пошла Драганка,
Люльку же с младенцем малым
Прикрепила к шелковице;
Сдала жать она с рассветом
И окончила с закатом,
И пошла себе Драганка,
А младенца позабыла
У межи на шелковице.
Скоро вспомнила Драганка,
Что дитя она забыла
У межи на шелковице,
И она вернулась к ниве,
Чтоб забрать домой младенца.
Только глянула Драганка,
А при нем сидят три волка.
Говорит волкам Драганка:
«Волки вы, волчья стая,
Уходите вы от люльки,
Дайте мне забрать младенца!»
Говорят Драганке волки:
«Ой, Драганка-молодица,
Вовсе мы не стая волчья,
Мы не волки, мы три дивы,
Три дивы, три самодивы.
Ты ответь-ка нам, Драганка,
Коли ты всю ниву сжала,
Ты сама ли ее жала,
Ты сама ль ее дожала?»
Говорит Драганка дивам,
Трем дивам, трем самодивам:
«Не одна я ее жала,
Не одна и дожинала.
Это вы со мною жали,
Первая брала колосья,
А вторая сноп вязала,
Третья же дитя качала».
Лесом едет Юранович Мате,
Лесом едет и лес проклинает:
«Накажи тебя бог, лес мой черный,
Если капли воды в тебе нету!»
Кто-то из лесу отвечает:
«Ты, мой свет, Юранович Мате,
Не кляни ты лесок тот зеленый,
Будто нет в нем воды нисколько!
Повернись лучше слева направо
И увидишь Дунай студеный,
У воды же — вилу-водарицу.
Подать вила взимает[38] большую:
Обе белые руки — с юнака,
Обе белые груди — с девицы,
С молодицы — золотые перстни».
Как услышал Юранович Мате,
Повернулся слева направо,
И увидел Дунай студеный,
И себя напоил и лошадку.
Помогли бог и счастье Мате —
Вила-водарица уснула,
И поехал оттуда Мате,
Напевая, конем играя:
«Тебе, боже, большое спасибо,
Обманул я вилу-водарицу —
И себя напоил и лошадку!»
Отвечала водарица Мате:
«Мате, не меня обманул ты,
А себя самого обманул ты!»
Но сказал водарице Мате:
«Погляди-ка, белая вила,
Как заходит жаркое солнце!»
Укуси ее змея, обманулась,
Обернулась к жаркому солнцу.
Как увидел то Мате Юранович,
Так отсек ей голову саблей.
Ездил-ездил Марко Королевич,
Ездил он по зеленому лесу,
Загонял он серого оленя,
Ездил он три дня и три ночи
И ручья нигде не находит,
Чтоб смочить юнацкое горло,
Ни воды, ни вина за деньги.
Проклинает он лес зеленый:
«Ой же ты, зеленый лесочек,
Пусть господь спалит тебя пожаром,
А весною ударит морозом,
Потому что нет воды ни капли,
Нет воды и нет вина за деньги».
Отвечает Гюргя-самовила:
«Помолчал бы, побратим мой Марко,
Зря ты проклинаешь лес зеленый,
Нет вины здесь зеленого леса,
Виновата Вида-самовила.
Спрятала она ручьев двенадцать,
В дерево сухое заключила,
В то сухое с зеленой вершиной».
Спохватился Королевич Марко,
Королевич Марко устыдился,
Сел на своего коня лихого,
Едет, лес он топчет и ломает.
Рыскал он по зеленому лесу,
Отыскал то дерево сухое,
То сухое с зеленой вершиной.
И ударил палицей тяжелой,
И разбил на мелкие кусочки,
И разбил двенадцать запоров.
Снова потекло ручьев двенадцать.
Услыхала Вида-самовила,
И поймала серого оленя,
И схватила трех змей лютых,
Сделала двух змей уздой оленю,
А из третьей смастерила плетку.
Подъезжает скорей она к Марку,
Бросилася на плечи юнаку,
Чтобы вырвать юнацкие очи.
Марко тут ее по чести просит:
«Нет, сестрица Вида-самовила,
Ты не вырывай мне черны очи,
Если хочешь, заплачу за воду,
Чем захочешь — черными грошами
Или дам тебе желтых флоринов».
«Ах ты, Марко, глупый ты болгарин!
Не нужны мне ни черные деньги,[40]
Не нужны мне ни желтые флорины,[41]
А нужны мне юнацкие очи».
Тут сказала Гюргя-самовила:
«Ах ты, Марко, побратим мой милый,
Зря ты молишься этой курве,
Помолился бы рукам юнацким».
Догадался Марко Королевич,
Ухватил он Виду за косы,
Положил он ее на колени,
Положил на колени навзничь
И ударил палицей тяжелой,
Вида верно умоляет Марко:
«Ой ты, Марко, Королевич Марко,
Не маши так палицей тяжелой».
«Ах ты, Вида, курва-самовила,
Ты не тронулась моей мольбою,
И твоя мольба меня не тронет».
Вынул он из-за пазухи саблю,[42]
Изрубил он Виду-самовилу,
Изрубил на мелкие кусочки,
Чтобы добрый конь ту кровь увидел,
Чтобы кровь увидел, взвеселился
И взлетел высоко, прямо к небу,
Вверх высоко, к синему небу.
«Муржо, Муржо, черный Муржо,
Вот уже прошло три года,
Как пасешь на моей планине,
А мне податей не платишь!
Как с тебя мне взять за выпас?»
Муржо просит, улещает:
«Юда[44], юда, сильная юда,
Потерпи, юда, немного,
Соберу я белые деньги,
Уплачу я тебе за гору,
За планину со травою!»
Ему юда отвечает:
«Муржо, Муржо, черный Муржо,
Коли брала бы юда деньги,
Гору бы посеребрила
И пасти бы негде было».
Муржо ее улещает;
«Юда, юда, сильная юда,
Потерпи, юда, немного,
Соберу тебе отару,
Уплачу тебе за планину!»
Юда ему отвечает:
«Муржо, Муржо, черный Муржо,
Коль брала бы овец юда,
Вся гора бы побелела
И пасти бы негде было».
Муржо ее улещает:
«Юда, юда, сильная юда,
Потерпи, юда, немного,
Соберу я коней сивых,
Уплачу тебе за планину!»
Юда ему отвечает:
«Муржо, Муржо, черный Муржо,
Коли брала б конями юда,
Вся гора бы посивела
И пасти бы негде было.
Так поладим, черный Муржо,
Ты сыграй на медовой свирели,
Я спляшу частое хоро.
Коль меня переиграешь,
Ты возьмешь на счастье гору,
Коли тебя перепляшу я,
Я возьму черного Муржо
За пастьбу твою в уплату!»
Заиграл тут черный Муржо
На своей медовой свирели,
Юда заплясала хоро,
Он играл, она плясала
Целых три дня и три ночи.
Юда пляшет, Муржо просит:
«Пошли, боже, мелкий дождик,[45]
Пусть намочит юде крылья!»
Темную нагнало тучу,
Мелкий дождик посыпал,
Намочил он юде крылья,
И остановилась юда,
И плясать больше не может.
Переиграл черный Муржо
И себе взял полонину.
Собралися на сбор молодцы,
На сбор молодцы, на подбор молодцы,
Триста парней-коледарей.[47]
На Витоше[48] собралися,
Чтобы метать белый камень,[49]
Чтобы метать белый камень
От Витоши до Пирина,[50]
И никто его не добросил.
Явился тут Рабро-юнак,[51]
И бросил он белый камень
От Витоши до Пирина,
И упал во цветник камень,
Упал во цветник самодивский,
Примял, поломал половину,
Поломал ранний базилик.
Осерчала на то самодива,
Осерчала, олютела.
Взяла она серого оленя,
Оседлала его, зануздала,
Села на серого оленя,
Поехала от Пирина,
До Витоши от Пирина.
«Слава богу, триста юнаков,
Триста парней-коледарей,
Что спрошу, на то мне ответьте!
Кто добросил тот белый камень
От Витоши до Пирина,
Кто тот белый камень бросил,
Что упал во цветник самодивский?
Поломал он цветник, испортил,
Попримял мне ранний базилик?»
Отвечали триста юнаков,
Триста парней-коледарей:
«На вопрос мы тебе ответим,
Это был Рабро-юнак,
Он белый камень добросил
От Витоши до Пирина».
А Рабро коня шпорит,
На своем скакуне играет
По пастбищу, по планине,
Чтоб разозлить самодиву.
Осерчала на то самодива,
Осерчала, олютела,
И так говорила Рабру:
«Смотри-ка, юнак Рабро,
Пошлю тебе тонкую стрелку,
Она уже душ немало,
Немало душ погубила,
А тебе — что господь покажет!»
И пустила тонкую стрелку
И ударила юнака Рабро.
Но тот за щитом укрылся,
Себя и коня прикрыл он,
Поймал он тонкую стрелку,
Разломал на мелкие части
И вновь на коне играет
По пастбищу, по планине,
Чтоб разозлить самодиву.
Чуть не лопнула самодива,
Чуть не треснула она от злобы.
И говорит самодива:
«Смотри-ка ты, Рабро-юнак,
Пошлю я другую стрелку,
Другую стрелку, двойную,[52]
Немало жен эта стрелка
В горючих вдов превратила;
Пошлю и третью стрелку,
Третью стрелку тройную,
Она матерей немало
До смерти заставила плакать,
А твою — как господь покажет!»
Пустила стрелы в Рабро,
А он снова щитом прикрылся,
Себя и коня прикрыл он,
Поймал он тонкие стрелки,
Поломал на мелкие части,
На добром коне взыграл он,
Буйным копьем размахнулся,
И ударил он самодиву
Меж двух очей ее черных
И вогнал ее в черную землю.
Что это белеет там в долине?
Или то белеют белы лебеди,
Или тяжкие белеют снеги?
Нет, то не белеют белы лебеди,
И не тяжкие белеют снеги,
Там в долине старая юда,
Она стирает белое платье.
Выстирала его и расстелила
На траве, чтоб высохло платье.
Увидал ее Рабро-юнак;
Он высматривал и подбирался,
Подстерег он старую юду
И украл у нее белое платье.
Кричит ему вслед юда:
«Эй, постой-погоди, Рабро-юнак!
Стану я тебе помайчимой!»[54]
Отвечает ей Рабро-юнак:
«Гой еси ты, старая юда,
У меня уже есть помайчима».
Снова вслед кричит ему юда:
«Эй, постой-погоди, Рабро-юнак,
Я стану тебе посестримой».[55]
Отвечает ей Рабро-юнак:
«Гой-еси ты, старая юда,
Есть уже у меня посестрима».
Снова вслед кричит ему юда:
«Эй, постой-погоди, Рабро-юнак,
Стану я тебе первою любовью!»[56]
Рабро-юнак оборотился:
Перед ним была не старая юда,
А юная стояла девица,
Первая любовь его стояла.
И повел ее, отвел девицу
К матушке своей, к отцу родному.
Собрался Йоан Попов,
На Велик день собрался,
Землю пахать собрался,
Едва полпути проехал,
Навстречу ему самовила,
Самогорская самовила,[58]
Встала поперек дороги:
«Воротись, Йоан Попов,
На Велик день землю не пашут,
Лучше б ты оставался дома».
Йоан ей хорошо отвечает:
«Прочь с пути моего, самовила,
А не то я сейчас спешусь,
С борзого коня слезу
И твою русую косу
Вокруг кулака обмотаю,
А то к коню приторочу,
За хвост привяжу к борзому,
И, как борону, потаскаю».
Рассерчала тогда самовила,
Распустила русую косу,
На борзого коня напала,
Чтобы выпить черные очи.
Рассердился Йоан Попов,
Ухватил рукой самовилу,
Ухватил он ее за косу,
За ее русую косу,
К коню ее приторочил,
За хвост привязал к борзому,
Поволок, как борону, к дому.
Дотащил он ее до дому,
Издалека матушку кличет:
«Ну-ка, милая матушка, выйди,
Вот везу я тебе невестку,
Самовильскую везу невесту,
Тебе она будет подмогой,[59]
Отцу переменит одежду,
Братцу кудри она причешет,
Сестре — заплетет косицу».
И крыло ее правое запер,
В пестрый сундук его запер.
И она прожила три года
И родила ему сына.
Позвали честного кума,
Чтоб окрестить сына.
И кум пришел к самовиле
И такие слова ей молвил:
«Молодица-самовила,
Не спляшешь ли малое хоро,
Самовильское малое хоро?»
Отвечала ему самовила:
«Ай же ты, кум пречестный,
Пусть отдаст мне Йоан Попов,
Правое крыло отдаст мне,
Без него хоро не спляшешь!»
«Молодица-самовила,
Убежишь ты, нет тебе веры».
Самовила на то отвечает:
«Ой же ты, Йоан Попов,
Если так за меня боишься,
Заприте малые двери,
Двери малые и большие,
Тогда и спляшется хоро».
Заперли малые двери,
Двери малые и большие,
Достал он крыло самовилы.
А она заплясала хоро
И через трубу улетела.
Свекровь ее призывает:
«Молодица-самовила,
Плачет дитя по качанью,
По качанью да по сосанью».
Отвечает ей самовила:
«Как только дитя заплачет,
Заплачет дитя по сосанью,
Клади ты его под стрехи,
Пошлю я мелкие росы,
Чтоб накормить сыночка.
А ежли дитя заплачет,
Заплачет дитя по качанью,
Клади ты его в люльку,
Повею я тихим ветром
И покачаю сыночка».
Свекровь она обманула.
Когда дитя закричало,
Заплакало по качанью,
Его положила в люльку.
Не тихий ветер повеял,
Влетела в дом самовила,
Схватила она сына
И похвалилась Йоану:
«Ой же ты, Йоан Попов,
Как это ты придумал
В доме держать самовилу,
Чтоб любила тебя самовила».
Теляток Стоян гоняет
Там, где самодивы играют,
И сам на волынке играет.
Самодивы там собирались,
Собирались там и плясали,
Наплясались они, устали.
И высоко взлетели
Над ельником зеленым,
Над ручьем студеным,
Над муравой цветистой.
Прилетели к гладким полянам,
Там донага разделись,
Чтобы в воде искупаться.
Платья свои поснимали,
Платки с золоченым краем,
Зеленый девичий пояс,
Всю самодивскую одежу.
Погнал Стоян свое стадо,
За горный скат его спрятал,
К самодивам тихо подкрался
И у них утащил одежду.
Самодивы на берег вышли,
Все три без рубашек, нагие,
Все три они просят Стояна:
«Стоян, молодой подпасок,
Верни нам, Стоян, одежду,
Верни самодивское платье!»
А Стоян отдавать не хочет.
Говорит одна самодива:
«Отдай мне, Стоян, одежду,
У меня ведь мачеха злая,
Убьет меня за пропажу!»
Стоян ничего не ответил,
Ей молча одежду отдал.
Говорит Стояну вторая:
«Верни мне, Стоян, одежду,
У меня ведь девятеро братьев,
Убьют они нас с тобою!»
Стоян ничего не ответил,
А молча ей подал одежду.
Третью звали Марийкой,
Она говорит Стояну:
«Верни мне, Стоян, одежду,
Отдай самодивское платье,
Одна я у матушки дома —
За сына и за дочку,
А ты ведь, Стоян, не хочешь
Взять самодиву замуж?
Не будет она хозяйкой,
Нянчить детей не станет».
Тихо Стоян отвечает:
«Я невесту ищу такую,
Что без сестер и братьев!»
Отвел он домой еамодиву,
Дал ей другую одежду
И на ней оженился,
Святой Иван[61] обвенчал их.
Три они прожили года,
Стала она тяжелой
И разродилась сыном.
Святой Иван крестил младенца.
А как дитя окрестили,
Ели они и пили.
Святой Иван с полупьяну
Такое сказал Стояну:
«Стоян, кум и дружище,
А ну-ка, Стоян, сыграй мне,
Сыграй мне, Стоян, на гайде,[62]
Ну а кума пусть спляшет,
Как самодивы пляшут».
Стоян заиграл на гайде,
И заплясала Марийка,
Только как люди пляшут.
Святой Иван говорит ей:
«Что ж ты, кума Марийка,
Что ж ты, кума, не пляшешь,
Как самодивы пляшут?»
«Святой Иван, кум любезный,
Попроси-ка ты, кум, Стояна,
Пусть вытащит мне одежду,
Мое самодивское платье,
Без него не выходит пляска».
Упросил святой Иван кума,
Уговорил Стояна.
Сам Стоян не гадал, не думал:
Уж коль родила ему сына,
Наверно, бежать не захочет.
И вытащил он одежду,
Вытащил и жене подал.
А Марийка взвилась вихрем
Да из трубы — наружу,
А там на крыше уселась,
По-самодивски свищет
И говорит Стояну:
«Ведь я тебе говорила —
Самодива хозяйкой не будет!»
Плеснула она в ладоши,
И высоко взлетела,
И далеко улетела,
В дремучие лесные чащи,
Где живут самодивы,
Где девичий источник.
Там искупалась Марийка,
Девичество к ней вернулось,
И к матери воротилась.
Разродилась младая Момирица,
Родила она девять дочек,
И в десятый раз стала тяжелою.
И сказал Момир-бег, воевода:
«Молодица, младая Момирица,
Коль родишь десятую дочку,
Ноги я отрублю по колено,[64]
Руки я отрублю по рамена,
И тебе я выколю очи,
Молодую в темнице оставлю,
Молодую сделаю калекой».
Как пришло разродиться время,
Дочь меньшую, Тодору, взяла она,
И пошли они в лес зеленый,
Сели там под зеленым явором,
Разродилась младая Момирица.
Не была то десятая девочка,
А был тот младенец мальчиком!
Убрала его в пеленку кумачовую,
Повила его шитым повойником.
Плачет чадо, аж листья падают.
Огляделась младая Момирица,
На планине огонь увидела,
Посылает Тодору, младшую,
Принести ей огонь с планины.
Жаркий костер развели они,
Согрели младенца малого,
И заснула младая Момирица,
И тогда пришли три наречницы,[65]
А Тодора глаз не смыкает,
Все глядит, трех наречниц слушает.
Молвит первая: «Надо его взять».
А вторая: «Не будем брать,
Пока это дитя не вырастет,
Пока семь лет не исполнится».
Третья молвит: «Пускай растет,
Пусть дитя женихом сделается,
Пусть ему невесту сосватают,
Пусть сосватают и в дом возьмут,
А как только пойдут к венцу они,
Мы себе заберем юнака!»
Так они нарекли и сокрылися.
Росло дитя, вырастало,
Вырастало, сделалось юнаком,
И пришло ему время свататься,
И невесту ему сосватали.
Как пришла пора за невестой идти,
Тодора, меньшая, промолвила:
«Ай же ты, милая матушка,
Брата слать моего не следует
За красавицей за невестою.
Ты когда в лесу дитя родила,
Нарекали ему три наречницы,
Одна молвила: «Надо его взять».
А вторая: «Не надо брать,
Пока лет до семи не вырастет».
Третья молвила: «Пускай растет,
Пусть дитя женихом сделается,
Пусть ему невесту сосватают,
Пусть сосватают и в дом возьмут,
А как только пойдут к венцу они,
Мы себе заберем юнака!»»
И пошла Тодора, младшая,
Отперла она сундук крашеный,
Достала одежды жениховские,
Их надела Тодора, младшая,
Молодым женихом она сделалась…
И нарядных сватов взяла с собой,
За красивой невестой отправилась,
Взяли они нареченную
И в церковь венчаться поехали.
Тут сильные ветры повеяли,
Мгла опустилась пыльная,
Сильные вихри завихрились,
И жениха они подняли,
Тодору подняли, младшую,
Под самое вышнее облако —
Уж не будет того, что сделалось.
За брата сестра сгинула,
Милого брата избавила,
Один он был сын у матери,
Так погибла Тодора, младшая,
Но остался жив молодой жених,
Обвенчался братец единственный,
Обвенчался с красивой невестою.
Кто услышит, тому пусть запомнится.
Девушка в лесу цветы сбирала,
Встретились ей в чаще, повстречались
Три волка, три гайдука лесные,
И поцеловать ее хотели,
Жалобно их просит молодая:
«О гайдуки, милые мои братья,[67]
Сироту не троньте молодую,
У меня нет никого не свете.
Если б вы меня поцеловали,
Я свое бы счастье загубила,
Никогда бы замуж я не вышла!»
Два гайдука вспомнили о боге,
Третий же, Иван-гайдук, не вспомнил,
И поцеловал он молодую.
Прокляла Ивана молодая:
«Будь ты проклят, Иван-разбойник,
Раз в лицо меня поцеловал ты![68]
Я-то свое счастье загубила,
Ты же, Иван, — великого бога!
Тихий дождь чтоб пал на тебя с неба!
Лютая змея с дождем чтоб пала!
Чтоб вилась она не круг сосны и камня,
А сжимала чтобы твое горло,
Чтоб на шее лето летовала,
На груди же зиму зимовала
И тебя всю жизнь терзала, Иво,
До тех пор, пока не уморила!»
С этим вышла девушка из чащи
И потом пошла немного дальше.
Милый боже, великое чудо!
Вёдро было, облачно стало,
Тихий дождь из облака выпал,
С тем дождем змея лютая пала,
Не вилась круг сосны и камня,
А вилась круг Иванова горла.
Как увидел Иван-разбойник,
Острый нож хватает немедля,
И змею пестроватую колет,
И змее говорит он лютой:
«Ты зачем явилась с планины,
Что круг камня с сосной не вьешься.
Вьешься круг моего ты горла?»
Ивану змея отвечала:
«Не коли, все равно не заколешь.
Я не лютая змея с планины,
Я — змея, ниспосланная богом.
Я ведь счастье девушки красивой.
Лето буду летовать на шее,
Зиму на груди я прозимую,
До того тебя я закусаю,
Чтоб ты, Иво, лютой смертью помер».
Очень сильно Иво испугался,
Как услышал Иво это слово,
Потому что понял, что погибнет.
Говорит своей дружине Иво:
«О юнацкая моя дружина,
Вы идите, вы меня не ждите,
Ко двору, к белому пойдите,
Потому что я, бедный, погибаю,
Мимо моего двора пройдете,
Матушка моя вас всех увидит
И захочет выйти вам навстречу.
Вот что матушка моя вам скажет:
«О гайдуки, вы милые дети,
Где же Иво, дитя дорогое,
Не погиб ли у меня он, бедной?»
Что случилось, ей не говорите,[69]
А скажите матушке милой,
Что в лесу зеленом я остался
И что не погиб я, ее Иво,
А меня заколдовали вилы.
Пусть она не плачет, не горюет,
В лес зеленый пусть пойдет скорее,
Выкопает там зеленый явор,
На лугу, перед двором посадит.
Пусть она растит зеленый явор,
Только яблоки родит тот явор —
Тотчас сына матушка увидит».
Поняли гайдуки речи Иво,
Очень сильно они испугались,
Всего больше — змеи пестроватой,
Убежали они из чащи.
Город Сень проходят гайдуки,
Ко двору Иванову вышли,
Иванова мать увидала,
Вышла старая им навстречу.
Говорила старая гайдукам:
«Заходите, дорогие дети!
Где же Иво, дитя дорогое?
Не погиб ли у меня он, бедной?»
Гайдуки ответили старой:
«Ай ты, Иванова мать, старушка,
Не погиб у тебя твой Иво,
А в лесу остался он в зеленом,
Белые заколдовали вилы.
Кланяется тебе твой Иво,
И наказывает он с поклоном:
«Не горюй, ты, старая, нисколько,
А пойди скорее в лес зеленый,
Выкопай в лесу зеленый явор,
На лугу посади перед домом.
Только яблоки родит тот явор —
Сына, Иво твоего, увидишь!»»
Старая решила — это правда,
И пошла скорее в лес зеленый,
Выкопала там зеленый явор,
К белому двору притащила,
На лугу перед двором посадила.
Старая за явором ходила,
Летом водой поливала,
А зимой закутывала шелком.
Явор к небу поднял вершину,
Часто старая к нему ходила,
Все глядела явору на ветки,
Все ждала, что яблоки родятся.
Но сестра Иванова сказала:
«Матушка, наверно, ты рехнулась,
Слыхано ли, видано ли в мире,
Чтоб на яворе яблоки рождались?
Худо жил дитя твое, Иво,
Худо жил, горше того помер».
«Дена, ты девица Дена,
Что ты, Дена, день румяна,
День румяной ходишь, белой,
То зеленая день целый?»[71]
«Ах, неверные подружки,
Почему, не знаю, Дена
День румяной ходит, белой,
То зеленая день целый!»
«Дена, милая подруга,
Кто дарил тебе цветочки,
Те цветочки, что ты носишь
В головном своем уборе?»
«Ох, неверные подруги,
То Стоян собрал цветочки,
То Стоян собрал их в чаще».
«Дена, молодая Дена,
Не растут цветы такие
Здесь ни в поле, ни в чащобе!
Ох, беда тебе, подруга,
В тебя, Дена, змей влюбился!»
Слова не договорили,
Как цветы упали к Дене,
Прямо к Дене на колени,
А с безоблачного неба
Вслед за этими цветами,
За цветами змей спустился,
Змей спустился прямо к Дене,
Прямо к Дене на колени.
И тогда сказала Дена:
«Вы увидели, подруги,
Отчего я день румяна,
День хожу румяной, белой,
То зеленою день целый».
По воду Рада ходила,
А был колодец змеиный,
Змеиный колодец, заклятый,
Пошла она и воротилась.
Навстречу идут два змея,
Огняника два навстречу.
Старший прошел мимо Рады,
Младший остановился
И напился из корчаги.
И говорит он Раде:
«Рада, милая Рада,
Ко мне, что ни вечер, приходишь,
Всегда мне цветы приносишь,
А нынче ты без цветочков».
Ответствует Рада змею:
«Змей же ты, змей-огняник,
Пусти меня, дай дорогу,
Дай мне пройти поскорее.
Матушка захворала,
Терпит она от хвори,
Но дважды терпит от жажды».
Змей говорит Раде:
«Рада, красная дева,
Обманывай, Рада, другого,
А змея ты не обманешь:
Змей летает высоко
И видит вокруг широко.
Летел я над вашим домом,
В углу твоя мать сидела,
Сидела и колдовала.
Ведь мать твоя — колдунья,
Колдунья и волховница,
Шьет для тебя рубашки,
Разные травы вшивает,
Мне ненавистные травы,
Злые травы, отсушки,
Чтоб тебя я возненавидел,
Ведь мать твоя чаровница,
Лес и воду околдовала!
Живую змею схватила,
В новый горшок положила,
Белым шипом подколола;
Змея по горшку вилася,
Металась она, верещала,
А мать твоя — колдовала:
«Как эта змейка вьется,
Так пусть вьются вкруг Рады,
Вкруг Рады лучшие парни;
Пусть змей ее возненавидит,
Возненавидит и бросит!»
Покуда она колдует,
Я унесу тебя, Рада!»
Едва это змей промолвил,
Взял он Раду и поднял,
Поднял высоко в небо,
До самых скал высоченных,
До каменных скал ее поднял,
В широкие пещеры.
«Ты меня сватаешь, мама,
Сватаешь, а не спросишь,
Хочу ли пойти я замуж,
Змей меня любит, мама,
Змей любит, возьмет меня в жены.
Под вечер ко мне приходит,
И нынче придет под вечер:
Змеи на иноходцах,
Змеихи в златых колясках,
Змееныши в пестрых повозках,
Как через лес поедут,
Лес без ветра поляжет,
Как через поле поедут,
Без огня затрепещет поле,
Как они к дому подъедут,
Дом наш пламенем вспыхнет,
Со всех сторон запылает —
Но ты огня не пугайся!»
Только Радка сказала,
Выстрел ружейный грохнул,
Самшит-ворота открылись,
Полный двор наводнили
Змеи, а с ними змеихи,
И те говорили Радке:
«Девица, красная Рада,
Ты расплети свои косы,
По-нашему заплетем их,
По-нашенски, по-змеински!»
Заплели они Раде косы,
Сели в златые коляски,
Проехали лес зеленый,
Потом широкое поле,
Навстречу едут телеги,
Пять возов снопов и сена.
Радка молвила змею:
«Змей огненный и горючий,
Коль ты огненный и горючий,
Можешь спалить это сено,
Эти снопы и сено?»
Змей отвечает Радке:
«Радка, красная дева,
Снопы я зажгу, Радка,
А сено зажечь не умею,
Ведь в нем есть разные травы,
Есть в нем желтый донник
И тонкая горечавка.
Когда запалю я сено,
С тобой придется расстаться».
Хитра, умна была Радка,
Сено она запалила
И разделилась со змеем.
И змей говорит Раде:
«Рада, красная дева,
Как же ты эдак схитрила,
Выспросила мою тайну
И разделилась со мною!»
Стоян в корчме обретался,
Красным вином ублажался,
Глядел Стоян на планину
И говорил планине:
«Гора-Мургаш,[75] планина,
Очень уж хороша ты, Мургаш,
Для стада в пору зимовки,
А лучше для летних пастбищ,
Но меня ты, Мургаш, обижаешь,
У меня, Мургаш, забираешь
Каждый год по подпаску,
А нынче пропало двое
И с ними чабан старший!»
Мургаш хмурится молча,
Никогда она не молвит слова,
Но Стояну она отвечает,
«Стоян, молодой юнак,
Не я похищаю подпасков,
Но на моей вершине
Россыпь из синих камней,
А в камнях живет змеиха,
Змеиха-вдова, колдунья,
Она забирает подпасков,
Она и взяла старшого».
Мать вопрошает Тодора:
«Тодор, сыночек Тодор,
Когда ты ходил с отарой,
Семь лет молодым подпаском,
Всегда возвращался веселым,
Веселым на двор отцовский,
А нынче, сыночек Тодор,
Зачем же ты так печалишься,
Печалишься и горюнишься,
Лицом потемнел, сыночек?
Иль нет у тебя согласья
С твоей молодой дружиною
И оттого увял ты,
Увял, лицо стало серым?»
Тодор ответствует матери:
«Скажу, если ты пытаешь,
Что у меня приключилось.
С недавней поры, матушка,
Змеиха ко мне приходит,
По вечерам приходит.
Если огонь пылает,
Змеиха к огню подходит,
Берет из огня головню
И побивает дружину,
А после ко мне приходит,
Спать ложится со мною».
Тодору мать говорила:
«Что это за змеиха?»
Тодор говорил своей маме:
«Лицом хороша змеиха,
Когда на нее глянули,
Лицо ее светит, как солнце.
Стан у нее тонкий,
Коса у нее золотая».
Тодору мать отвечает:
«Тодор, сыночек Тодор,
Ты не ходи ко стаду,
Матушка спросит-расспросит,
В травах тебя искупает,
Чтоб отсушить змеиху».
Спрашивала, узнавала
Матушка и узнала
Траву от змеев, отсушку,
В ней Тодора искупала.
Рано поднялся Тодор,
Пошел он в лесную чащу
Пасти там свою отару.
А как наступил вечер,
Они костер разложили
И у огня заснули.
Не спал лишь один Тодор.
Как явилась змеиха,
Прямо к огню подходила,
И брала она головни,
Ими дружину била,
К Тодору подходила.
Но чуть подошла поближе,
Прочь от него побежала,
В чащу она полетела.
И так она верещала,
Что лес отозвался эхом,
Всех пастухов разбудило.
Ездил-ездил воевода Мирчо,
Ездил-ездил по ровному полю,
Играл конем, забавлялся ловом,
Гонялся он за серым оленем.
Да не поймал он того оленя,
А изловил он хворого змея.
Бодрит коня, вынимает саблю,
Вынимает саблю, чтоб изничтожить,
Чтоб изничтожить хворого змея.
И говорит ему змей хворый:
«Остерегись, Мирчо-охотник,
Коня не шпорь, не вытаскивай саблю,
Ведь я же не проклятая ламя,
Я хворый змей, воевода Мирчо,
Нас в этом месте трое братьев,
Один охраняет ваше селенье,
Другой охраняет Костурское поле,[78]
Я же хранитель Пиринской вершины,[79]
Замешкались мы на ровном поле,
И мелкий заморосил дождик,
Темная мгла на поле упала,
И я не видал, как меня прибили,
Здесь остался лежать я хворым.
Давай-ка, Мирчо-охотник,
Езжай на коне, поигрывай саблей,
Пойдем со мной к Пиринской вершине!
Там живет проклятая ламя.
Только начнет моросить дождик,
Выходит она, проклятая ламя,
Белым виноградом кормиться,
Белую истреблять пшеницу.
Нас ты знаешь, трое братьев:
Первый как загремит и треснет,
Второй напустит мелкий дождик,
Третий темную мглу напустит,
Тогда и выйдет проклятая ламя
Есть виноград и портить пшеницу,
А ты разыграй коня получше,
И обнажи свою острую саблю,
И погуби проклятую ламю,
Хватит ей нажираться пшеницей,
Хватит есть виноград белый,
Хватит зло причинять людям».
Так и отправился Мирчо-охотник,
Отправился к Пиринской вершине,
Отправился вслед за хворым змеем,
Там собралися все три брата,
Первый загремел и треснул,
Второй опустил темную тучу,
Третий пустил темную темень,
До самой земли опустил темень,
Мглу опустил и послал дождик.
Вышла тогда проклятая ламя
Белым виноградом кормиться,
Белую истреблять пшеницу.
Саблей взмахнул Мирчо-охотник,
Саблей взмахнул, погубил ламю,
И поднялись тогда трое братьев,
Мглу подняли и разогнали,
Солнце с ясного неба пригрело,
Тогда спустился Мирчо-охотник,
И отвел он хворого змея,
И отвел его в чащу лесную,
В голый лес, что звался Дабика,
Там была пастушья хибара,
Стадо паслось по зеленому лесу,
Там его Мирчо-охотник оставил,
Там ему дал молока парного,
Там отпаивал три недели,
И хворый змей тогда излечился,
А когда от хвори змей излечился,
Он с Мирчо-охотником побратался,
И вновь отправился змей хворый
Оберегать Костурское поле, —
Вот что содеял Мирчо-охотник.
Как упала темная мгла,
Залегла ни мало, ни много,
Залегла она на три года,
Начался во всем мире голод,
Шел по пахарям недородом,
По мотыжникам шел он жаждой,
А по пастухам шел мором.
Собиралися все святые,
Маялись они и дивились,
Что поделать с темною мглою,
И святой Илия промолвил:
«Ой, святые угодники божьи,
Разыщите лес без дороги,
Разыщите воду без броду,
Двух змеенышей там найдите,
Двух змеенышей тоньше стрелок,
Издалека их подстерегайте,
А приблизившись, их поймайте,
Осторожно их принесите,
Мы их в темную мглу запустим,
Пусть они загремят громом.
Если это темная туча,
Она опустится ниже,
Если это серая ламя,
Она тотчас поднимется выше».
Разыскали лес без дороги,
Разыскали воду без брода,
Двух змеенышей отыскали,
Двух змеенышей, тонких, как стрелки,
Издалека их подстерегали,
А приблизившись, их поймали,
Потихонечку принесли их
И пустили в темную тучу.
Загремели, зарокотали, —
То была не темная туча,
А была то серая ламя.
Как догнали ее, хватили,
Потихоньку она поднялася,
И тогда потекли три реки:
Была первая — желтой пшеницей,
А вторая — вина хмельного,
Ну а третья — меда и масла.
Первая река — хлебопашцам,
Черносошникам — река вторая,
Ну а третья — пастухам нагорным.
Конь заржал в своей конюшне длинной.
Дитятко-Секула коня проклинает:
«Чтоб тебя, постылый, разорвало!
Отчего ты ржешь в конюшне длинной?
Из серебряна ведерка водой не напоен
Иль пшеницей белоярой вдоволь не накормлен?»
Из конюшни конь ему ответил:
«Ой, Секула, молодой хозяин,
Я водой напоен, пшеницей накормлен.
Оттого заржал я, что в лесу зеленом
Огонь полыхает, пышет пламень синий,
Пышет пламень синий до самого неба».
Встал-поднялся дитятко Секула.
Он коня подпругами подпружил,
Девятью широкими ремнями.
С палицей тяжелой, с острой саблей
Он верхом в зеленый лес въезжает.
Не огонь увидел он в лесу зеленом,
Не огонь увидел и не пламень синий
И не пламень синий до самого неба.
Он увидел змею шестикрылу,
Что глотала серого оленя.
Говорила змея шестикрыла:
«Ой ты, богатырь, юнак безвестный,
Обруби рога у серого оленя,
Чтобы мне глотать сподручней было!
Одарю тебя за это щедро».
Обманулся дитятко Секула.
Размахнулся палицею желтой,
Мигом обломал рога оленю.
Заглотала змея шестикрыла
И оленя, и коня Секулы:
Ноги с крупом — до луки седельной.
Громко крикнул дитятко-Секула:
«Ой ты, Марко, мой любимый дядя!
Приезжай быстрее в лес зеленый.
Гибну я от змеи шестикрылой!»
Крик услышал Королевич Марко,
Крик услышал в тереме высоком.
Он вскочил на коня Кыршигора[82]
И верхом в зеленый лес помчался.
Что же видит Королевич Марко?
Конь Секулы до седла проглочен,
Конь проглочен змеей шестикрылой.
Взял желтую палицу он в руки,
Да змея сказала шестикрыла:
«Не бей, Марко, палицею желтой!
Пришибешь ты серого оленя,
Заодно убьешь коня Секулы.
Лучше ты возьми свой ножик фряжский
Да вспори мне клятую утробу.
Вытащишь и серого оленя,
И освободишь коня Секулы».
Фряжский нож взял Королевич Марко,
Распорол ей клятую утробу.
Вытащил он серого оленя
И освободил коня Секулы.
И тогда олень пошел за Марком,
По пятам за ним пустился серый.
И промолвил Королевич Марко:
«Не ходи за мной, олень мой серый.
Оставайся ты в лесу зеленом!»
Не послушался олень тот серый,
Он в зеленый лес не воротился.
Побежал олень за Марком следом,
Прямо к расписным его хоромам.
Похвалялся Бранко-юнак
Как-то вечером у колодца
Перед девицами и парнями:
Дескать, Бранко добрый юнак,
Дескать, конь у него добрый,
Вихрегон у него хилендарский,[84]
Вихри гонит, ветры обгоняет;
Перед девицами похвалялся
И в корчме с крестьянами спорил,
Спорил с кметами[85] и мужиками,
Что отправится и погубит
На планине лютую змеиху,
На планине в темной пещере,
Лютую о трех главах,
О трех главах, шести крыльях,
А хвостов у нее двенадцать,
И лютует она по планине,
По всем пастбищам на планине,
Перекрыла змея три ущелья,
Три планины загородила
И три города разгородила,
Девять деревень расселила
И расстроила девять свадеб,
Так стоят — венчаться не могут.
Похвалялся Бранко-юнак,
Вызывался не из геройства,
Вызывался с сильного хмеля.
Ему в дар давали крестьяне
Магделену, лучшую деву,
Словно звездочку, лучшую деву,
И дала Магделена слово,
Дала слово, дала заручку,
Перстни с пальцев и с рук браслеты.
И отправился Бранко-юнак,
Вечерять отправился Бранко.
Мать ему тогда говорила,
Говорила ему, пытала:
«Исполать тебе, Бранко-юнак,
Что ж ты, Бранко, не вечеряешь,
Что ж ты дремлешь, роняешь слезы?
Или ты об заклад побился,
Иль товарищи осмеяли,
Или дальше тебя метали?»
Бранко-юнак ей отвечает,
Говорит он ей, отвечает:
«Моя матушка, слава богу,
Ты ни разу меня не пытала
С той поры, как я уродился,
Раз пытаешь — тебе отвечу:
Нынче вечером я похвалялся,
Нынче вечером у колодца
Пред девицами и парнями,
Молодицами и молодцами,
Слово дал и о том поспорил,
Что убью я лютую змеиху,
Что живет у нас на планине,
На планине, в темней пещере.
А змея та о трех главах,
О трех главах, шести крыльях,
А хвостов у нее двенадцать.
Подарили мне Магделену,
Магделену, лучшую деву!»
Вскоре дрема его одолела,[86]
И поспать завалился Бранко,
А проснулся утречком рано,
На заре, ранешенько-рано,
Своего коня засупонил,
Обуздал его желтой уздою,
Оседлал его седлом синим,
Накормил его мелким рисом
И вином напоил красным.
Сел верхом и тронулся Бранко,
И поехал он на планину,
К той пещере лютой змеихи.
Закричал тогда Бранко-юнак,
Закричал он что было мочи:
«Эй, змея, покарай тебя небо,
Где ты есть — выходи навстречу,
Мы с тобой судьбу попытаем,
Кто из нас герой из героев,
Кто любой змеихи сильнее!»
А змея его голос слышит
На планине внутри пещеры;
Как услышала, зашевелилась,
Зашумела и зашипела,
Она дыхом лавины рушит,
И трясет крылами всю землю,
И ногами леса ломает,
Где пройдет она — все увянет,
А где ступит, там все посохнет,
Как увидел Бранко-юнак —
Испугался, давай бог ноги,
Он вперед бежит, назад смотрит,
А змея его настигает,
Трехголовая настигает,
Настигает его, ловит,
Головой одной коня хватает,
Головой другой — его хватает,
Третьей хочет испить крови,
Лютым зверем пищит Бранко,
Говорит он змее умильно:
«Я прошу, дорогая сестрица,
Ты позволь мне вымолвить слово».
Слово молвить змея разрешает,
Трехголовая эта змеиха
Говорить ему разрешает,
Говорит ей Бранко-юнак,
Сам он плачет, умильно плачет,
Плачет Бранко, слезы роняет:
«Не любить я сюда явился,
Не губить я тебя приехал,
Просто мимо ехал в Загорье,
У меня там сестра родная,
Та сестра, что меня постарше
И в Загорье выдана замуж.
Я к сестрице своей ехал,
Навестить ее собирался,
Да с пути на планине сбился.
Как настанет раннее утро,
Рассветет ранешенько-рано,
Я отсюда поеду в Загорье».
И ему лютое чудище верит,
И поверило, и обманулось,
Разрешило ему слово молвить,
Он же взял острую саблю,
Погубил он лютую змеиху,
Рассек ее на две части.
Понеслось молоко потоком,[87]
До селенья струя дохлестнула,
До одной деревни в Загорье.
И крестьяне ему подарили
Магделену, лучшую деву,
Из-за этой радости славной
Ему девушки песни слагают,
Ему поклоняются парни.
С месяцем сговаривалось солнце:
«Ты меня послушай, месяц ясный!
Вместе мы всходить с тобою станем,
Вместе будем заходить мы оба».
Красно солнце поднялось на зорьке,
Добралось помалу до полудня.
Лишь тогда взошел и месяц ясный.
«Погоди, обманщик, солнце красно!
Или мы с тобой не сговорились,
Что всходить мы станем оба вместе,
Заходить опять же вместе будем?»
«Или ты не знаешь, ясный месяц, —
Молвило, однако, солнце красно, —
Что не всходит солнце пополудни,
Что всходить на ранней зорьке надо?»
Отвечает солнцу ясный месяц:
«Ай же ты, обманщик, солнце красно!
Не взошел я поутру, на зорьке,
Оттого, что чудо видел нынче.
Собиралась вдова молодая,
Собиралась породить сыночка.
При семи старухах-повитухах
Еле разродилась роженица.
А когда дитя на свет явилось,
С матерью заговорило тотчас:
«Пеленай меня,[89] милая мати,
Пеленай пеленкой кумачовой,
Повивай повоем златотканым.
Дай мне сроку три дня и три ночи,
Дай мне сроку — я посплю маленько».
Мать исполнила дитяти волю.
Через три денька оно проснулось,
Пробудившись, вновь заговорило:
«Ой ты, матушка моя родная!
Есть у тебя резвый конь отцовский,
Есть отцово у тебя оружье?»
Отвечает сыну мать родная:
«У меня есть резвый конь отцовский,
У меня отцово есть оружье!»
«А отцова белая одежда?»
«Есть, сынок, и белая одежда!»
«Коли так, достань ее, родная!»
Расписной сундук свой отворила
И достала белую одежду.
Он в кафтан отцовский нарядился.
Тут выносит мать ему оружье,
Богатырского коня выводит.
Выехал он из ворот высоких,
А куда поехал — не сказался.
Дитятко спешит к Янкуле-дяде,
К брату матери своей родимой.
Свадьбу он три месяца справляет,
Он справляет свадьбу, да не смеет
Съездить по красивую невесту.
Ехать за невестой он страшится.
Разрази, господь, ламию-суку,
Что пала на ровные дороги!
Нет спасенья ни пешим, ни конным.
Въехало дитя во двор Янкулы.
Конь под ним играет богатырский.
Дитятко его разгорячило,
Вокруг сватов крутится со злостью:
«Ой вы, сваты, нарядные сваты,
Три месяца вы едите-пьете,
Едите да пьете, не хотите
Ехать по красивую невесту».
«Ты небось, дитятко-малолеток,
Не слыхал про великое чудо?
Разрази, господь, ламию-суку,
Что пала на ровные дороги.
Нет спасенья ни пешим, ни конным.
По невесту ехать мы боимся».
«Эй, вставайте, вслед за мной езжайте.
Я поеду, сваты, перед вами».
Поднимались нарядные сваты,
Снаряжались ехать по невесту.
Впереди малое дитя едет,
Сзади — сваты, за дитятей малым.
Как приблизились к ламии-суке,
Сваты разом коней осадили.
А дитя берет палицу желту
И дамасскую острую саблю.
Острой саблей рубит змее горло,
Палицей по тулову колотит.
У ламии-суки в белом чреве
Три свадебных поезда застряло.
Со сватами — женихи младые,
Три младых невесты — с женихами.
Люди только диву дивовались!
Во дворе у пригожей невесты
Вырастала яблоня златая.
Увезли невесту после пира.
Взяло дитя яблоню златую,
Что рождала три плода златке.
Едет впереди, а сваты — сзади,
Прямо ко двору дяди Янкулы.
И дивятся люди богатырству —
Богатырству малого дитяти.
Вскоре привезли невесту сваты.
И сказало дитятко Янкуле:
«Ой ты, дядя мой, любимый дядя,
Три месяца праздновал ты свадьбу,
А теперь со сватами поедем,
Попируем на моих крестинах!»
Удивился тут Янкула-дядя.
Он с собою взял нарядных сватов,
К милому племяннику поехал.
В честь его крещенья веселились,
Пировали ровно три недели.»
Близ Мостара, в зеленой леваде,
Пас коней своих Черный Арапин,
Звал мостарцев он на поединок.
Но боятся мостарцы сраженья
И богатую дань высылают:
Днем — овцу, красну девицу — на ночь
Да вина непомерную чару.
Мало девушек нынче в Мостаре!
Вот черед и единственной дочке;
Поднялась в светлу горницу дева,
В чисто зеркало долго гляделась,
Любовалась лицом своим белым.
Как увидела лицо свое белое,
Разрыдалася на голос дева,
Плачучи, лицу говорила:
«Ах, лицо мое, горе мне, бедной!
Для того ль я тебя умывала,
Чтоб ласкал тебя Черный Арапин?
Чтобы змея его поцеловала!»
Провожают красавицу деву,
Провожают к Арапину на ночь,
А она громче прежнего плачет.
И услышала аждая деву,
Из студеной воды она вышла,
Проглотила Арапина мигом.
И красавицу освободила.
Воротилась на двор свой девица.
То-то было в Мостаре веселья:
Веселились три месяца кряду,
Три-то месяца да три годочка.
Сиротой остался Георгий,
С матерью без отца остался.
Бьется мать, решить не может,
Куда отдавать в ученье,
Ремеслу научить какому.
Отдала его мать, послала
К златокузнецу, ювелиру.
Матери сказал Георгий:
«Златокузнецом я не буду,
Хочу в овчары я, мама,
Пасти овец на лужайке,
Играть на медовой свирели!»
Бьется мать, решить не может
И сняла монисто с шеи,
И купила мать, купила
Двенадцать овец годовалых,
Посох и свирель пастушью.
Как повел Георгий стадо,
Он завел его в чащобу,
На краю он остановился,
Как увидел он, увидел —
Лес горит с четырех концов.
На дереве змейка пищала,
Георгию говорила:
«Георгий, сирота Георгий,
Покуда еще глуповатый,
Свирель подай мне, Георгий,
Спаси меня от пожара».
Отвечал змее Георгий:
«Змейка, ущельная змейка,
Как же мне подать свирель,
Если я боюсь тебя, змейка.
Змейка, ты меня укусишь».
«Подай, Георгий, свой посох,
По посоху проползу я
И спасусь от пожара».
Протянул Георгий посох,
Проползла по посоху змейка,
Так она спаслась от пожара.
И Георгию сказала:
«Ты иди за мной, Георгий!»
И Георгий повел стадо.
Завела в середину леса,
Вырвала ему дерево:
«Бери, оно плодовитое.
Трижды в год плоды родит:
Золотой — на каждой ветке,
Грошик — на каждом листочке,
На вершине — яблоко золотое»,
У Георгия были соседи,
Царю они рассказали,
Царь позвал Георгия:
«Что бы Георгий ни делал,
Ко мне пусть немедля приходит!»
Встал и пошел Георгий,
Издали царю поклонился,
Честь воздал, подойдя поближе.
Царь сказал Георгию:
«Георгий, сирота Георгий,
Твое плодовитое древо
Трижды в год родит плоды:
Золотой — на каждой ветке,
Грошик — на каждом листочке,
На вершине — яблоко золотое.
Не тебе оно подобает.
Подобает древо это
Царскому двору мощеному!»
Георгий голову повесил,
Стал ронить мелкие слезы,
К себе домой вернулся,
Выкопал плодовитое древо,
Перенес его к царю,
Посадил его, посадил
На мощеном царском дворе.
Год минул — древо засохло.
Георгия царь вызывает:
«Возьми древо, Георгий,
Для меня оно не к счастью,
Для тебя же оно — к счастью».
Забрал Георгий древо,
И отнес домой Георгий.
У него на дворе мощеном
Древо прижилось,
Прижилось и пустило:
Золотой — на каждой ветке,
Грошик — на каждом листочке,
На вершине — яблоко золотое.
Стойте, братья, расскажу про чудо!
Девять лет с поры той миновало,
Как король будимский оженился,
А потомства нет у государя.
Вот собрался Милутин[93] будимский
И поехал на охоту в горы
Позабавиться звериным ловом.
Только не дал бог ему удачи,
Не поймал ни серны, ни косули;
Милутина одолела жажда,
И поехал он к студеной речке,
Напился король воды студеной,
И присел он под зеленой елью.
Времени затем прошло немного,
Как три горных вилы появились,
Напились они воды студеной,
Завели между собой беседу.
Говорит меньшим старшая вила:
«Вы меня послушайте, две дочки!
Помните ли, знаете ли, дочки,
Сколько лет женат король будимский?
Девять лет сегодня миновало
С той поры, как, бедный, оженился,
Нет от семени его потомка».
И еще им говорила вила:
«Нету ли у вас такого зелья,
Чтоб жена его тяжелой стала?»
Но молчат в ответ меньшие вилы,
И тогда опять старшая молвит:
«Ведал бы король, что мне известно,
Он собрал бы девушек будимских,
Да принес бы чистого им злата,
Да сплели они бы частый невод,
Частый невод из чистого злата,
Да в Дунай забросили бы невод,
Да поймали б золотую рыбку,
Да перо бы правое отъяли
И опять пустили б рыбку в реку,
А перо отдали королеве,
Чтоб от правого пера поела,
И тогда она затяжелеет».
Слушает король, запоминает,
Едет он обратно в Будим-город,
Собирает девушек будимских
И приносит чистого им злата,
А они сплетают частый невод,
Частый невод из чистого злата,
И в Дунай забрасывают невод.
Тут и дал господь ему удачу,
И поймал он золотую рыбку,
Взял он правое перо у рыбки,
А ее пустил обратно в реку,
А перо отнес он королеве
И отдал перо ей золотое;
Королева то перо поела,
И тогда она затяжелела.
Целый год она носила бремя,
А настало время — разрешилась.
Было то не человечье чадо,
Было то змеиное отродье.
Как змееныш тот упал на землю,
Тут же под стену уполз змееныш.
Побежала королева к мужу,
Говорит супругу королева:
«Ой, король, пришла я не с весельем,
Не с весельем, а с большой печалью:
Родила я не людское чадо,
Родила змеиное отродье,
Как змееныш тот упал на землю,
Тут же под стену уполз змееныш».
И тогда король сказал супруге:
«Господу спасибо и на этом!»
Семь годов с поры той миновало,
Говорит из-под стены змееныш:
«Государь-отец, король Будима!
Что ты ждешь, зачем меня не женишь?»
Так и этак король повернулся,
Наконец сказал такое слово:
«Ой, змееныш, горькое ты чадо!
Кто же выдаст девушку за змея?»
Но ему змееныш отвечает:
«О родитель мой, король Будима!
Ласточку-коня седлай немедля,
Поезжай на нем ты в Призрен[94]-город,
К государю Призренского царства,
Царь отдаст свою мне дочку в жены».
И послушался король Будима,
Ласточку-коня из стойла вывел,
Оседлал его, в седло садился,
И король поехал к Призрен-граду.
Он подъехал к царскому подворью,
А уж царь его заметил с башни.
Быстро сходит царь с высокой башни,
Посреди двора встречает гостя,
Обнялись они, расцеловались
И поздравствовались по-юнацки.
Гостя царь за правую взял руку,
За собой повел его на башню,
Ласточку расседлывают слуги
И отводят в новую конюшню.
Сплошь три белых дня пропировали;
Лишь вином насытились юнаки,
И ударило вино им в лица,
Ракия язык им развязала,
Но кручинится король Будима,
И царь Призрена заметил это
И сказал такое слово гостю:
«Ради господа, король Будима!
Что с тобою, отчего невесел?
Отчего тебя томит кручина?»
Говорит ему король Будима:
«Ты, царь призренский, меня послушай,
Помнишь ли ты, царь, или не помнишь,
Как давно я, бедный, оженился?
Девять лет прошло, как я женился,
Не рождалось у меня потомство,
Но когда девять лет миновало,
Родилося не людское чадо,
Родилось змеиное отродье.
Как змееныш тот упал на землю,
Тут же под стену уполз змееныш.
Семь годов с поры той миновало,
Говорит из-под стены змееныш:
«О родитель мой, король будимский!
Что ты ждешь, зачем меня не женишь?»
Я змеенышу тогда ответил:
«Ой, змееныш, горькое ты чадо!
Кто же выдаст девушку за змея?»
И тогда мне говорит змееныш:
«О родитель мой, король будимский!
Ласточку-коня седлай скорее,
Поезжай на нем ты в Призрен-город,
К государю призренского царства,
Он отдаст свою мне дочку в жены».
Потому-то в путь я снарядился,
Потому-то я к тебе поехал».
И хозяин так ответил гостю:
«Слушай ты меня, король Будима!
Поезжай обратно в Будим-город
И спроси у змея под стеною,
Сможет ли такое дело сделать:
Привести своих нарядных сватов
От Будима в белый Призрен-город,
Чтоб лучом их солнце не коснулось,
Чтоб роса на них не опустилась.
Если может сделать так змееныш,
За змееныша я выдам дочку».
Как услышал то король Будима,
Выводил коня он из конюшни,
На коня на ласточку садился
И по ровному поехал полю,
Как звезда по ясному небу.
А когда подъехал он к Будиму,
Про себя подумал, горемычный:
«Ой, беда мне, господи единый!
Как найду я змея под стеною,
Чтобы царское поведать слово?»
Тут подъехал он к вратам будимским,
А ему и говорит змееныш:
«О родитель мой, король будимский!
Царскую ты высватал ли дочку?»
И ему король на это молвит:
«Ой, змееныш, горькое ты чадо!
Если можешь так, змееныш, сделать:
Привести своих нарядных сватов
От Будима в белый Призрен-город,
Чтоб лучом их солнце не коснулось,
Чтоб роса на них не опустилась, —
Дочку царскую получишь в жены.
Если ж привести не сможешь сватов,
Не получишь и царевну в жены».
И на это отвечал змееныш:
«Кликни сватов, поезжай к невесте,
Приведу я так нарядных сватов,
Чтоб лучом их солнце не коснулось,
Чтоб роса на них не опустилась!»
Собиралися сваты без сметы,
Собралося сватов ровно тыща,
Все на двор явились королевский.
Ласточку из стойла выводили,
Пляшет коник, во дворе играет.
Закричали молодые дружки:
«Собирайтесь, нарядные сваты!
Собирайся, женишок, в дорогу!»
Услыхал змееныш под стеною,
Выполз к ним из-под стены змееныш,
По колену на коня взобрался,
На седле вокруг луки обвился.
Двинулись от города Будима,
А над ними взвился синий облак,[95]
От Будима и до Призрен-града
Солнце их лучами не коснулось
И роса на них не опустилась.
Подъезжают в белый Призрен-город,
Заезжают во дворы царевы,
Сваты все своих коней разводят,
Лишь один змееныш не разводит,
Ласточка и без него гуляет.
Царь встречает их со всей душою,
От души подносит им подарки:
Сватам всем по шелковой рубашке,
Жениху подарок — конь и сокол,
А в придачу — призренка-девица.
Закричали молодые дружки:
«Собирайтесь, нарядные сваты!
Собирайтесь, кум со старшим сватом!
Собирайся, призренка-невеста!
Ехать надо нам, пора в дорогу!»
На коней горячих сели сваты,
На коня невесту посадили,
А змееныш под стеной услышал,
Выполз к ним из-под стены змееныш,
По колену на коня взобрался,
На седле вокруг луки обвился;
Двинулись они из Призрен-града,
А над ними мчится синий облак.
Горячат коней щеголи-сваты,
Горячит и ласточку змееныш,
Так он своего коня разгневал,
Что разрушились все мостовые,
В Призрене дома все повалились.
С той поры прошло уж лет двенадцать,
А дома разрушены, как были.
Вот какой урон нанес змееныш!
И поехали в здоровье добром,
И приехали к Будиму-граду,
Там играли свадьбу всю неделю,
Там играли свадьбу и сыграли
И к дворам своим отбыли с миром,
А змееныш под стеной остался,
А король остался жить в палатах.
Молодых сводить настало время,
Жениха сводить с его невестой.
Привели красавицу невесту,
Привели красавицу на башню,
Привели на самый верх, в светлицу.
А когда в ночи настала полночь,
Загремело высоко на башне.
Королева-госпожа крадется,
С лестницы на лестницу крадется,
Поднимается в светлицу наверх,
Отворяет дверь она тихонько.
Что ж увидела? Какое диво?
Видит на подушке шкуру змея,
А в постели доброго юнака,
Спит юнак, свою невесту обнял!
Рада мать, узнав родное чадо,
Забирает быстро шкуру змея
И в живой огонь ее бросает,
Новость королю спешит поведать.
«Благо нам, король, большое благо!
Поднялась я за полночь на башню,
Отворила двери я в светлицу,
Вижу — на подушке шкуру змея,
А в постели доброго юнака,
Спит юнак, свою невесту обнял!
Забрала тогда я шкуру змея
И в живом огне ее спалила».
«Что ты, люба! Что ты сотворила!»
Побежали вверх они на башню,
Что ж увидели? Какое диво?
Мертвый юноша лежит в постели,
А его невеста обнимает
И над ним, над мертвым, причитает:
«Горе, горе мне, единый боже!
Я осталась молодой вдовицей!
Пусть, свекровь, господь тебя накажет!
Это ты мне горе причинила
И себе несчастье учинила!»
Так лишилась мать родного сына.
От нас песня, от господа здравье.
Что нам врали, то мы рассказали.[96]
Породила древняя старушка
Девять сыновей себе на радость.
Сыновьям иглой обновы шила,
С ног сбивалась — только б накормить их.
Девять милых сыновей вскормила,
Девять милых сыновей взрастила.
А ушли на заработки, в люди —
Выслужили девять башен злата
И к старухе-матери вернулись.
Оженила древняя старушка
Девять сыновей своих любимых.
Всех юнаков созвала на свадьбу.
Обошла лишь Коруну-делию.
Бог его убей — как разъярился!
Девять милых сыновей сгубил он,
Он конем топтал старуху-матерь
И в полон угнал ее невесток.
Он в полон угнал их, в Будим-город.
Отобрал и девять башен злата,
Девять башен золотых червонцев.
И тогда на ель старушка взлезла,
Взгромоздилась древняя высоко.
Девять лет оттоле не спускалась.
Девять лет очей не промывала,
Девять лет волос не убирала.
Как пошел десятый год — старушка
Породила малого мальчонку.
Породила — и вскочил на ножки,
К матери-старухе обратился:
«Ой ты, мати, ой, старая мати!
Братнина коня мне из конюшни
Выведи, родимая, скорее.
Вынеси мне братнино оружье.
Я искать поеду старших братьев».
Братнина коня она выводит
И выносит братнино оружье.
Палицу она ему выносит,
В той палице девяносто ока.
«Оставайся! — молвит мать-старуха. —
Ты еще, сыночек, не крещенный,
Не творили над тобой молитву».
«Некогда, родимая, мне мешкать!»
Как на доброго коня вскочил он
Да поехал прямо в Будим-город,
В Будим-город, на реку Ситницу.
Там он увидал невесток девять.
Девять снох в реке руно стирают:
Черное руно добела моют.
«Эй, невесток девять, бог на помощь!
Черное руно зачем стирать вам,
И кому вы вяжете носочки?»
Девять снох ему сказали тихо:
«Ты поверь нам, дитя Дукадинче,
Нынче мы прослышали, прознали,
Что у нас есть малолеток-деверь.
Надобно связать ему носочки».
И тогда дитя спросило тихо:
«Девять снох, скажите без утайки,
Где жилище Коруны-делии?»
А невестки отвечали тихо:
«Право слово, дитя Дукадинче,
Коруна — юнак такой могучий,
Что и сабли обнажить неможно,
А не то чтобы с Коруной биться!»
И сказало дитя Дукадинче:
«Вы мне двор Коруны укажите!»
А невестки отвечали тихо:
«Двор Коруны ты узнаешь сразу:
У двора железные ворота,
Алой кровью выкрашены стены,
Девичьими руками подперты,
Выстроены из голов юнацких.[98]
Сам Коруна — юнак из юнаков.
У него есть мраморная глыба.
Он ее по пояс поднимает».
Взяло дитя мраморную глыбу,
Зашвырнуло прямо в Дунай белый!
А невестки диву дивовались,
Набрались и великого страху.
Ко двору Коруны прискакало
Дитятко и выкликает биться:
«Эй, не прячься, Коруна-делия!
Бог тебя убей, Коруна, выйди!»
А Коруны дома не случилось.
Оставалась только мать-старуха.
Сапогом дитя ворота пнуло,
Аж во двор влетели обе створки.
Двор Коруны разорил младенец,
Взял оттуда девять башен злата.
Растоптал конем он мать Коруны,
Саблей зарубил его сынишку.
И сказало дитя Дукадинче:
«Ой вы, кметы, будимские кметы!
Время искупать меня родимой.
Я в леса зеленые поеду.
Отыщу два родника студеных.
Искупаюсь малость в их водице.
Если я понадоблюсь Коруне,
Пусть в леса зеленые приедет».
Поскакало дитя Дукадинче
Во леса зеленые, густые,
Искупалось в роднике студеном,
Искупалось и грудь пососало.
Прилегло вздремнуть в лесу зеленом.
Тут как тут и Коруна-делия!
Издали дитя он выкликает:
«Вставай, вставай, дитя Дукадинче!
Поднимайся, — чтоб ты не поднялся!
Двор мой разорил дотла, проклятый».
Но дитя речей его не слышит.
Встрепенулся добрый конь дитяти:
«Вставай, вставай, дитя Дукадинче.
Поднимайся, — чтоб ты не поднялся!
Сам погибнешь и коня загубишь».
Но дитя речей его не слышит.
Конь склонился головою долу,
Ухватил дитя он за пеленки.
Пробудилось дитя Дукадинче
И на доброго коня вскочило.
И сказало дитя Дукадинче:
«Палицу швырни, швырну я тоже!»
Палицу свою оно метнуло
И пришибло Коруну-делию,
На девять аршин вогнало в землю.
Тут малыш поехал в Будим-город,
Взял оттуда девять башен злата,
Вызволил он девять снох любимых.
И повез он девять башен злата,
Проводил он девять снох любимых.
Отдали они ему носочки,
На прощанье руку целовали,
Целовали край его одежды.
И сказало дитя Дукадинче:
«Вы, невестки милые, ступайте,
Вы к отцу и матери ступайте,
Про меня поведайте правдиво».
Девять милых снох домой вернулись,
К матери, к отцу они вернулись,
Рассказали, как руно стирали,
Как вязали деверю носочки,
Как их навсегда избавил деверь
От злодея Коруны-делии.
Разгулялся, ой, да разгулялся
Черный Арап, турок-басурманин,
Разгулялся он да по Солунской,
По земле Солунской, по ее равнинам.
Голова-то у него котел котлом,[100]
Уши у него, как две лопаты,
Прямо б хлеб совать с них в печку,
И, как две бадьи, его глазища,
А уж губы — как большая лодка.
Белые шатры он пораскинул
И попов к себе созвал и старцев.
Что ни день, все требует он хлеба,[101]
Что ни день, по целой печке хлеба.
Что ни день, вина давай две бочки,
В день ракии требует по кадке.
На день трех коров давай яловых
И одну красавицу молодку,
На ночь дай красивую девицу.
Очередь стояла в городе Солуне,
Очередь за домом шла от дома,
Подошла и к молодой Грозданке,
К молодой Грозданке, младшенькой в семействе.
Ходит по двору она и горько плачет
И слезами двор свой поливает:
«Убиваюсь, ой, я погибаю,
Погибаю я, зеленая, младая!
Не отдайте Черному Арапу,
Черному Арапу, турку-басурману».
Увидал ее тревогу Дойчин,
Больной Дойчин со своей постели,
Где лежал больной три года целых.
И больной ей молвил Дойчин:
«Ой, Грозданочка, моя сестрица![102]
Что так жалобно, сестрица, плачешь
И весь двор слезами поливаешь?
Может быть, тебе уж надоело,
Что три года целых я болею,
Что три года я лежу в постели,
Не встаю с нее, не умираю?
Может быть, тебе уж надоело
Перевязывать мне злые раны,
Подавать студеную мне воду?»
Отвечала юная Грозданка,
Юная Грозданка, младшая в семействе:
«Ой ты, братец! Братец ты мой милый!
Мне никак не надоело, братец,
Что лежишь ты, братец мой, три года,
Ой, три года на своей постели,
Не встаешь с нее, не умираешь.
Мне никак не надоело, братец,
Перевязывать, брат, злые раны,
Подавать студеную, брат, воду!
Но терпеть нет больше силы,
Как Арап тот Черный разгулялся,
Черный Арап, турок-басурманин
На земле Солуйской, по ее равнинам.
Голова-то у него котел котлом,
Уши у него, как две лопаты,
Прямо б хлеб совать с них в печку.
И, как две бадьи, его глазища,
А уж губы — как большая лодка.
Белые шатры он пораскинул
И попов созвал к себе и старцев,
Что ни день, все требует он хлеба,
Что ни день, по целой печке хлеба,
Что ни день, вина давай две бочки,
В день ракии требует по кадке,
На день трех коров давай яловых
И одну красавицу молодку.
Очередь идет по всему Солуну,
Очередь идет от дома к дому,
Очередь ко мне подходит, братец,
И должна идти я к Черному Арапу».
Брат возлюбленный ей отвечает:
«Ой, Грозданочка, моя сестрица!
Драгоценную достань мне саблю,
Иноземной дорогой работы.
Неотточенной лежит три года,
Неотточенной, сестрица, неотбитой.
Отнеси ее к точильщику Юсману,
Пусть наточит поострее саблю!
Коль поправлюсь, заплачу я щедро,
Коль умру, пускай простит убыток».
Побежала юная Грозданка,
Драгоценную достала саблю,
Что была три года неотбитой,
Неотбитой, неотточенной лежала,
Отнесла ее к точильщику Юсману:
«Ой, Юсман-точилыцик, здравствуй!
Я к тебе от Дойчина больного.
Наточи ему острее саблю.
Коль поправится, заплатит щедро,
Коль умрет, прости ему убыток».
И ответил ей Юсман-точилыцик:
«Ой, Грозданочка ты молодая!
Если белое лицо свое подаришь,
Отточу я поострее саблю».
Зарыдала юная Грозданка,
Зарыдала и пошла обратно.
«Ой ты, мой любимый братец, Дойчин!
Он не хочет, брат, Юсман-точилыцик,
Дорогую он точить не хочет саблю.
Белое мое лицо себе он просит.
Подарю — и саблю он наточит».
И больной ей отвечает Дойчин:
«Ой, Грозданочка, моя сестрица!
Ты оставь мне саблю на постели
Да пойди в прохладные подвалы,
Выведи коня мне дорияна,[103]
Что стоял три года не подкован,
Отведи его ты к Кольо в кузню,
Чтобы подковал он дорияна.
Коль поправлюсь, заплачу я щедро,
Коль умру, пускай простит убыток».
Положила саблю юная Грозданка,
На постель к больному положила
И пошла в прохладные подвалы.
Вывела оттуда дорияна,
Что стоял три года не подкован,
К Кольо-кузнецу пошла с ним в кузню!
«Ой, кузнец ты Кольо, здравствуй!
Я к тебе от Дойчина больного.
Подковать коня он дорияна просит.
Коль поправится, заплатит щедро,
Коль умрет, прости ему убыток».
И кузнец ей Кольо отвечает:
«Ой, Грозданочка ты молодая!
Подари свои мне брови завитые,
Как шнурочки, завитые брови.
Подкую коня я дорияна».
Зарыдала юная Грозданка,
С белого лица скатились слезы,
И по вышитой рубашке заструились,
И на вышитый подол упали.
И пошла Грозданка молодая
И больному Дойчину сказала:
«Ой ты, братец мой любимый, Дойчин!
Подковать коня кузнец не хочет,
Подковать не хочет дорияна,
Просит завитые мои брови,
Брови завитые, как шнурочки».
И ответил ей больной, ответил Дойчин:
«Ой, Грозданочка, моя сестрица!
Моего коня оставь ты дорияна.
А пойди к Юмеру-брадобрею,
Пусть придет он да меня побреет.
Коль поправлюсь, заплачу я щедро,
Коль умру, пускай простит убыток.
Поскорей иди, Грозданочка, сестрица!
Поскорей иди, ведь времени-то мало!»
И пошла Грозданка молодая,
Подошла к Юмеру-брадобрею:
«Здравствуй, брадобрей Юмер! — сказала.
Я к тебе от Дойчина больного,
Приходи, побрей его скорее!
Коль поправится, заплатит щедро,
Коль умрет, прости ему убыток»
Брадобрей Юмер ей отвечает:
«Ой, Грозданочка ты молодая!
Если черные подаришь очи,
Очи черные, угля чернее,
Вот тогда пойду я и побрею,
Я побрею Дойчина больного».
Осерчала юная Грозданка
И пошла обратно к Дойчину больному:
«Ой ты, братец, дорогой мой Дойчин!
Брадобрей Юмер идти не хочет,
Он прийти побрить тебя не хочет.
Хочет, чтоб ему я подарила
Очи черные свои, как уголь».
И больной ей отвечает Дойчин:
«Ой, Грозданочка, моя сестрица,
Потерпи ты, потерпи немного.
Сам пойду, спрошу я побратимов.
Сундуки мадьярские открой мне
И локтей достань мне девяносто,
Девяносто мне локтей холста льняного,
Девять ран, сестра, перевяжи мне,
Девять ран от сабли иноземной».
Девять страшных ран перевязали,
Опоясался он саблей иноземной,
Палицу тяжелую он поднял,
На коня взобрался дорияна
И поехал прямо на Солунско поле.
Ах, и крикнул же больной там Дойчин,
Изо всей своей он силы крикнул:
«Эй, Арап ты Черный, басурманин!
Выходи-ка на юнацкое ты поле!
Посмотреть хочу, какой юнак ты!»
Вышел в поле, Черный Арап вышел:
«Погоди, юнак желтее воска!
Размахнусь и душу твою выну!»
И за тяжкий боздуган схватился,
Чтоб больного Дойчина ударить,
Прямо в голову ему наметил.
Размахнулся тяжким боздуганом.
Тотчас дориян пригнулся верный,
Тотчас лег на черную он землю —
Тяжкий боздуган промчался мимо.
Быстро выпрямился Дойчин.
«Погоди-ка ты, Арапин Черный,
И с моим спознайся боздуганом,
Девятьсот в нем ок — он палицей зовется!»
И больной тут целиться стал Дойчин,
Он ни вверх, ни вниз не брал прицела,
Прямо в голову коню наметил.
Палицу тяжелую забросил.
Тотчас конь Арапина пригнулся,
Тотчас лег на черную он землю,
Но ничто не помогло Арапу!
Палица ударила Арапа,
Прямо между глаз ему попала.
Голова Арапа оторвалась,
Выскочили сразу оба глаза.
Припустил коня больной наш Дойчин,
Голову Арапа в руке держит.
Все живое вышло, чтоб увидеть,
Чтоб увидеть чудо, удивляться:
«Как сухое дерево, юнак по виду,
А великий подвиг совершил он!
Вот юнак смелее всех юнаков!
Вот юнак, рожденный от юнака!
Слава богу, что явил нам чудо!»
А больной наш Дойчин гонит дорияпа,
Он к точильщику Юсману мчится:
«Выходи-ка ты, Юсман-точилыцик!
Саблю наточить мою не хочешь?
Белое лицо сестры ты хочешь?»
Как завертит саблей иноземной, —
Напрочь голову отсек Юсману.
Прямо к Кольо-кузнецу помчался:
«Ой ты, Кольо, ой, кузнец! — воскликнул. —
Или глаз своих тебе не жалко,
Что посмел обидеть ты так сильно
Милую мою сестру Грозданку?»
Так сказал и размахнулся саблей,
Напрочь голову отсек он Кольо.
И летит к Юмеру-брадобрею:
«Ой, Юмер ты, брадобрей, — кричит он, —
Очи черные сестры просил ты,
Очи черные, чернее угля,
Мол, тогда я Дойчина побрею?
Вижу, ждешь ты от меня награды!
Я пришел, чтоб расплатиться щедро».
Так сказал и размахнулся саблей,
Напрочь голову отсек Юмеру.
Подстегнул коня, домой помчался.
Вот к отцовскому двору приехал
И с коня воскликнул, закричал он:
«Ой, Грозданочка, моя сестрица!
Постели постель мне в комнате красивой.
Все, чего ждала ты, я исполнил,
А теперь, сестра, мне смерть подходит.
Ты не плачь, сестрица дорогая,
А к юнаку позови юнаков,
Пусть трубят рожки, бьют барабаны,
Из поминок сотвори мне праздник».
Полетела юная Грозданка,
Кованые распахнув ворота,
Испугалась головы Арапа,
Испугалась вся и задрожала.
А больной с коня сошел наш Дойчин,
И на мягкую постель прилег он.
Хуже худшего ему тут стало,
И с душою распрощался Дойчин.
И когда юнака хоронили,
Все исполнила его сестрица,
Созвала к юнаку всех юнаков,
И попов, и старцев заповедных,
Пировали целую неделю.
Господи, прости юнаку,
Прости, боже, Дойчину больному!
Расхворался Дойчин-воевода
В белокаменном Солуне-граде,
Девять лет болеет воевода,
И в Солуне про него забыли.
Думают, что нет его на свете.
Злые вести не стоят на месте —
Долетели до страны арапской.
Услыхал про то Арапин Усо,[105]
Услыхал, седлает вороного,
Едет прямо к городу Солуну.
Приезжает под Солун Арапин,
Под Солуном во широком поле
Он шатер узорчатый раскинул,
Из Солуна требует юнака,
Чтобы вышел с ним на поединок,
Чтобы вышел с ним на бой юнацкий.
Нет юнака в городе Солуне,
Чтобы вышел с ним на поединок.
Дойчин был, а ныне расхворался,
А у Дуки[106] разломило руки,
А Илия младше, чем другие,
Несмышленыш, боя он не видел,
А не то чтоб самому сражаться.
Он и вышел бы на бой юнацкий,
Только мать-старуха не пускает:
«Ты, Илия, младше, чем другие,
Ведь Арапин тот тебя обманет,
Дурня малого, убьет, поранит,
Одинокою меня оставит».
Как увидел тот Арапин Черный,
Что в Солуне больше нет юнака,
Чтобы вышел с ним на поединок,
Обложил солунцев тяжкой данью,
С каждого двора берет по ярке
Да по печи подового хлеба,
Красного вина берет по вьюку,
И ракии жженой по кувшину,
Да по двадцать золотых дукатов,
Да к тому еще по красной девке,
По девице или молодице,
Что приведена совсем недавно,
Что приведена, но не поята.
Весь Солун исправно дань приносит,
Вот и Дойчину платить настало.
Никого нет в Дойчиновом доме,
Кроме верной любы — молодицы,
Кроме Елицы[107] — родной сестрицы.
Хоть они всю дань давно собрали,
Некому нести ее Арапу,
Дань Арапин принимать не хочет,
Без сестры, без Блицы-девицы.
Извелися вовсе горемыки,
Плачет Ела в изголовье брата,
Белое лицо слезами мочит,
Братнино лицо кропит слезами.
Как почуял Дойчин эти слезы,
Начал сетовать болящий Дойчин:
«Чтоб мои дворы огнем сгорели!
Не могу я умереть спокойно,
Дождь сочится сквозь гнилую крышу!»
Отвечает Елица больному:
«О мой милый брат, болящий Дойчин!
Нет, дворы твои не протекают,
Это плачет Елица-сестрица!»
Говорит тогда болящий Дойчин:
«Что случилось, ты скажи по правде!
Иль у вас уже не стало хлеба?
Или хлеба, иль вина в бочонках?
Или злата, иль холстины белой?
Или нечем вышивать на пяльцах?
Нечего расшить и шить вам нечем?»
Отвечает Елица-сестрица:
«О мой милый брат, болящий Дойчин!
Хлеба белого у нас довольно,
Красного вина у нас в избытке,
Хватит злата и холстины белой,
Есть у нас чем вышивать на пяльцах,
Что расшить и чем узоры вышить.
Нет, другое нас постигло горе:
Объявился к нам Арапин Усо,
Под Солуном во широком поле,
Из Солуна требует юнака,
Чтобы вышел с ним на поединок, —
Но в Солуне нет сейчас юнака,
Чтобы вышел с ним на поединок.
Как узнал про то Арапин Черный,
Обложил солунцев тяжкой данью:
С кажого двора берет по ярке
Да по печи подового хлеба,
Красного вина берет по вьюку,
И ракии жженой по кувшину,
Да по двадцать золотых дукатов,
Да к тому еще по красной девке,
По девице или молодице;
Весь Солун ему исправно платит,
И твоим дворам платить настало;
Нету у тебя родного брата,
Чтобы дань собрал он для Арапа,
Сами мы собрали, горемыки,
Только как нести ее, не знаем,
Дань Арапин принимать не хочет,
Без сестры, без Елицы-девицы;
Слышишь ли меня, болящий Дойчин,
Как могу я полюбить Арапа!
Слышишь ли, коль ты еще не помер?»
Говорит тогда болящий Дойчин:
«Чтоб, Солун, тебя огнем спалило!
Или нету у тебя юнака,
Чтоб с Арапом вышел потягаться,
Нет, нельзя мне умереть спокойно!»
И зовет он любу Анджелию:[108]
«Анджелия, верная супруга!
Жив ли мой гнедой еще на свете?»
Отвечает люба Анджелия:
«Господин ты мой, болящий Дойчин!
Твой гнедой покуда в добром здравье,
Хорошо я за гнедым ходила».
Говорит тогда болящий Дойчин:
«Анджелия, верная супруга!
Ты возьми-ка моего гнедого,
Отведи гнедого к побратиму,
К побратиму Перу[109] в его кузню,
Пусть он в долг мне подкует гнедого;
Сам хочу идти на бой с Арапом.
Сам хочу идти, да встать не в силах».
И его послушалась супруга,
Вывела могучего гнедого,
К Перу-кузнецу с конем явилась,
А когда кузнец ее увидел,
С ней повел такие разговоры:
«Стройная невестка Анджелия,
Неужели побратим скончался,
Что ведешь ты продавать гнедого?»
Говорит красавица невестка:
«Что ты, Перо, мой любезный деверь!
Побратим твой вовсе не скончался,
Но тебе велел он поклониться,
Чтобы в долг ты подковал гнедого,
Он идти на бой с Арапом хочет,
А вернется — и с тобой сочтется».
Отвечает ей на это Перо:
«Анджелия, милая невестка!
Не с руки мне в долг ковать гнедого,
Дай в заклад мне черные ты очи,
Я лобзать и миловать их буду
До поры, когда мне долг заплатят».
Люто прокляла его невестка.
Загорелась, как живое пламя,
Увела некованным гнедого,
К Дойчину болящему вернулась.
Обратился к ней болящий Дойчин;
«Анджелия, верная супруга,
Подковал ли побратим гнедого?»
Застонала люба Анджелия:
«Господин ты мой, болящий Дойчин!
Пусть господь накажет побратима!
Он не хочет в долг ковать гнедого,
Эти очи миловать он хочет
До тех пор, покуда не заплатишь;
Но пристало ль мне любить другого
При тебе-то, при живом супруге?»
Как услышал то болящий Дойчин,
Говорил своей он верной любе:
«Анджелия, верная супруга!
Оседлай могучего гнедого,
Принеси копье мне боевое!»
А потом сестру он призывает:
«Елица, любимая сестрица!
Принеси мне крепкую холстину,
Спеленай меня, сестра, от бедер,
Спеленай от бедер и до ребер,
Чтобы кость не вышла из сустава,
Чтобы с костью кость не разошлася».
Женщины послушались больного:
Доброго коня жена седлает
И копье приносит боевое;
А сестрица достает холстину,
Пеленает Дойчина больного,
Пеленает от бедра до ребер,
Надевает саблю-алеманку,[110]
Доброго коня ему подводит,
Дойчина сажает на гнедого
И копье вручает боевое.
Добрый конь хозяина почуял
И взыграл под ним, возвеселился,
И поехал Дойчин через площадь.
Так гнедой под ним играет-пляшет,
Что из-под копыт летят каменья.
Говорят солунские торговцы:
«Слава господу! Вовеки слава!
С той поры, как умер храбрый Дойчин,
Не видали лучшего юнака
В белокаменном Солуне-граде
И коня не видывали лучше».
Едет Дойчин во широко поле,
Где Арапин свой шатер раскинул.
Увидал его Арапин Черный,
Вскакивает на ноги со страху,
Говорит ему Арапин Черный:
«Бог убей тебя, проклятый Дойчин,
Неужели ты еще не помер?
Заходи, вина испей со мною,
Бросим наши ссоры, наши споры,
Все тебе отдам, что взял в Солуне».
Говорит ему болящий Дойчин:
«Выходи, Арап, ублюдок черный!
Выходи со мной на бой юнацкий,
Чтоб в бою юнацком потягаться.
Красного вина ты попил вдосталь,
Девушками всласть себя потешил!»
Говорит ему Арапин Черный:
«Брат по богу, воевода Дойчин!
Бросим наши ссоры, наши споры,
Ты сойди с коня, и выпьем вместе,
Все тебе отдам, что взял в Солуне,
Возвращу тебе невест солунских!
Правым господом готов поклясться,
Сам я навсегда уйду отсюда».
Тут увидел воевода Дойчин,
Что Арап сразиться с ним не смеет,
Разогнал он доброго гнедого,
Прямо на шатер его направил,
Он копьем поднял шатер Арапа,
Глянь-ка под шатром какое чудо!
Под палаткой тридцать полонянок,
Сам Арапин Черный между ними.
Как увидел Арапин Черный
Что его не пожалеет Дойчин,
Вскакивает он на вороного
И копье хватает боевое.
Встретились они в широком поле,
Боевых коней разгорячили.
Говорит тогда болящий Дойчин:
«Первым бей, Арап, ублюдок черный,
Первым бей, не пожалей удара!»
И метнул копье Арапин Черный,
Чтоб ударить Дойчина больного,
Но гнедой для боя был обучен,
Конь гнедой припал к траве зеленой,
А копье над ними просвистело
И вонзилось в черную землицу,
Полкопья ушло глубоко в землю,
Полкопья над землей обломилось.
Как увидел то Арапин Черный,
Смазал пятки, мчится без оглядки,
Мчится прямо к белому Солуну,
А за ним болящий Дойчин скачет.
Подскакал Арап к вратам солунским,
Тут его настиг болящий Дойчин,
И метнул копье он боевое,
Вбил его в солунские ворота,
После вынул саблю-алеманку
И отсек он голову Арапу;
Голову его на саблю вскинул,
Из глазниц глаза Арапа вынул
И в платок запрятал тонкотканый.
Бросил голову на луг зеленый
И потом отправился на площадь.
Подъезжает Дойчин к побратиму:
«Друг сердечный, умелец кузнечный,
Выходи, получишь за подковы,
За подковы для коня гнедого,
Я перед тобою задолжался».
А кузнец на это отвечает:
«Ой ты, побратим, болящий Дойчин!
Я тебе не подковал гнедого,
Просто подшутить хотел без злобы,
А гадюка злая Анджелия
Загорелась, как живое пламя,
Без покова увела гнедого».
Говорит ему болящий Дойчин:
«Выходи, сполна получишь плату!»
Показался побратим из кузни,
Саблею взмахнул болящий Дойчин,
Голову отсек он побратиму,
Голову его на саблю вскинул,
Из глазниц его глаза он вынул,
Кинул голову на мостовую,
К белому двору поехал прямо,
У двора он спешился с гнедого,
Сел на мягко стеленное ложе,
Вынул очи Черного Арапа,
Бросил их сестрице милой в ноги.
«Вот, сестрица, Араповы очи,
Знай, сестра, пока я жив на свете,
Эти очи целовать не будешь».
После вынул очи побратима,
Подает супруге Анджелии:
«На-ка, Анджа, очи Кузнецовы,
Знай, жена, пока я жив на свете,
Эти очи целовать не будешь!»
Попрощался и с душой расстался.
Как осталось дитя с малолетства,
Маленькое дитя сиротинкой,
Без отца, без матери родимой.
Не досталось от отца дитяти
Ни скотины, ни добра, ни злата.
Только златогривый жеребенок,
Стригунок со щетками златыми.
Да долги отцовские достались.
Малое дитя в недоуменье:
Как ему с долгами расплатиться?
Думает-гадает несмышленыш,
Думает-гадает — и надумал:
«Возьму жеребенка-стригуночка,
На новый базар сведу сегодня.
Продам жеребенка-стригуночка,
Расплачусь с отцовскими долгами».
Малое дитя не стало мешкать
И на жеребенке-стригуночке
Поскакало по дорогам белым,
К новому базару поскакало —
Продать жеребенка-стригуночка.
На дорогах белых конь играет,
То взметнется влево он, то вправо.
И сказало дитя-несмышленыш:
«Наиграйся, жеребенок, вволю.
На новый базар тебя веду я.
Там тебя продам, чтоб расплатиться
Как-нибудь с отцовскими долгами».
Где родник обложен пестрым камнем,
Спешилося дитя-несмышленыш
Поить жеребенка-стригуночка.
Видит он пригожую девицу,
Что сидит у этой чешмы[112] пестрой.
Говорит пригожая девица:
«У тебя, у малого дитяти,
Златогривый конь на удивленье,
Стригунок со щетками златыми.
Верно, ты и сам юнак на диво?
Слышал ли ты, нет ли, только нынче
Замуж отдают цареву дочку.
Кричал бирюч на базаре новом:
Кто у нас юнак среди юнаков,
Кто конем владеет богатырским,
Приезжайте к новому базару.
Там великая начнется скачка.
Шесть часов пути она продлится:
Два часа поскачут по болотам,
Два — песками, вдоль Черного моря,
Два часа по тропам каменистым.
За того юнака из юнаков,
Что прискачет первым к чешме пестрой,
Мне как раз идти придется замуж:
Я сама и есть царева дочка!
Раньше всех собрался-снарядился,
Бог его убей, Арапин Черный,
Ой, дитя, скакун под ним арабский,
Злато-бурая под ним кобыла.
И никто не смеет с ним тягаться,
Состязаться в этой скачке трудной.
У тебя, дитя, конек отменный.
Попытай-ка в этом деле счастья!
Не робей! Авось господь поможет, —
Черного Арапина обгонишь!»
Отвечало дитя-несмышленыш:
«Ай же ты, пригожая девица!
Я еще младенец, несмышленыш.
Жеребенок мой глуп-необъезжен,
Необъезженный да не подкован,
Неподкованный да не оседлан,
Неоседланный да не обуздан.
Жеребенка подковать — нет денег!
Я остался, дитя-малолеток,
Без отца, без матушки родимой,
Да еще с отцовыми долгами.
Вот и вздумал на новом базаре
Продать жеребенка-стригуночка,
Чтобы вылезть из долгов отцовых».
Достает пригожая девица,
Достает из правого кармана
Две пригоршни золотых червонцев.
Говорит пригожая девица:
«Ой ты, малолеток, несмышленыш!
У меня возьми две горсти злата.
Подкуй жеребенка-стригуночка.
Ты ему купи узду златую,
Кованное золотом седельце,
А себе купи, дитя, оружье,
Оружье и светлую одежду,
Выкажи отвагу в трудной скачке.
О долгах твоих я позабочусь».
Несмышленыш взял две горсти злата.
Прямиком погнал он жеребенка
По дорогам, к новому базару.
Он коню серебряны подковы
Прибил ухналями золотыми
И купил ему узду златую,
Кованное золотом седельце.
А себе — надежную кольчугу,
Палицу тяжелую купил он,
Золоченое копье купил он,
И дамасскую купил он саблю.
Всем он обзавелся, снарядился,
Сел на жеребенка-стригуночка
И поехал по дорогам ровным,
Из каменьев искры высекая.
Отовсюду съехались юнаки.
Только несмышленыш неискусный
Выскакал вперед и мчался первым.
Как увидел тут Арапин Черный,
Что дитя юнаков обскакало,
Бог его убей, — кричит вдогонку:
«Ой, дитя малое, несмышленыш,
Жеребенок твой да необъезжен,
Сам ты опрометчив, неискусен,
Лопнула ведь задняя подпруга!
Сбросит конь тебя в Черное море!»
Обманулся малый несмышленыш.
Осадил он с ходу жеребенка,
Спешился, чтоб осмотреть подпругу.
А пока слезал да вновь садился,
Обогнал его Арапин Черный.
И в сердцах промолвил жеребенок:
«Ой, дитя малое, несмышленыш!
Очи завяжи платком шелковым.
Полечу я по дорогам белым,
Черного Арапина объеду».
Отвечало дитя-несмышленыш:
«Мчись, мой жеребенок, что есть силы!
Черного Арапина обскачешь.
А очей завязывать не стану!»
Конь помчался по дорогам белым.
От него отстал Арапин Черный.
Два часа пути легло меж ними.
Тут как заорет Арапин Черный:
«Разрази тебя господь, младенец!
Или жеребенка не жалеешь?
Белы легкие коню ты выбил!»
Тот было хотел остановиться,
Да конек с досады огрызнулся:
«Ой, дитя малое, несмышленыш!
Вновь тебя Арапин одурачил?
Ты с меня соскакивать не вздумай!
Знай сиди, не то на землю сброшу,
Да и разорву тебя на части!»
Прискакали прямо к пестрой чешме.
Подошла пригожая девица,
Чтоб коня накрыть попоной красной.
Тут Арап дитяти вслед примчался
И ему такое слово молвил:
«Ой, дитя малое, несмышленыш,
Мудрено ль конями состязаться?
Лучше мы померяемся силой!
Кто из нас юнак среди юнаков —
Тот бери пригожую девицу!»
Принялись два удалых юнака
Тяжелыми палицами биться.
Палицы тяжелые сломались.
Стали биться острыми клинками —
Острые клинки у них сломались.
А когда схватились в рукопашной —
По пояс друг дружку в землю вбили.[113]
И тогда смекнул Арапин Черный:
Хоть мало дитя, да в богатырстве
С ним тягаться недостанет силы.
Тут проговорил Арапин Черный:
«Ай же ты, пригожая девица!
Подними с земли обломок сабли,
И тому, кого в мужья желаешь,
Ты вложи его в правую руку.
Пусть юнак один из нас погибнет».
Сжалилась пригожая девица
Над малым дитятей, неразумным.
Подала ему обломок сабли.
Размахнулось дитя-малолеток,
Размахнулось правою рукою,
Голову Арапину срубило.
Распрямился малый несмышленыш.
Он берет пригожую девицу,
На коня позадь себя сажает
И на царский двор ее отвозит.
Хоть мало дитя и неразумно,
Неразумно дитя, несмышлено,
Да зато юнак среди юнаков!
Царь созвал царей, князей соседних,
Род и племя он созвал на свадьбу,
Свадьбу справил всем гостям на диво,
Оженил он дитя-малолетка,
Маленькое дитя, сиротинку.
Ездит, ездит Тимишарин[115] Гюро,
Всюду ездит, суженую ищет,
На коне он всюду проезжает,
В пальцах повод, на запястье сокол.
Всю-то землю от конца до края
Он с востока проехал на запад,
Не находит по себе невесты,
Все лицом юнаку не подходят,
Не находит матушке подмогу,
Не находит батюшке невестки.
Вот приехал он в город Солнчамен,[116]
Там нашел он по сердцу подругу,
Там нашел он матушке подмогу,
Там нашел он батюшке невестку
И просватал красную девицу.
В сваты взял он удалого Марка,
Дружкою — Янкулу-воеводу.
Не хватает лишь младшего дружки.
Едет Гюро к матушке родимой:
«Здравствуй, здравствуй, матушка родная,
На чужбине я нашел невесту,
На чужбине, в Солнчамене-граде.
Взял я сватом удалого Марка,
Дружкою — Янкулу-воеводу,
Не хватает мне младшего дружки».
Отвечала матушка родная:
«Здравствуй, сын мой, Тимишарин Гюро!
Мне ли, старой, учить тебя надо?
Замеси-ка белую лепешку,
Нацеди-ка молодой ракии,
Собери-ка шелковую сумку,
Отбери-ка ты коня в конюшне,
Заседлай-ка, сын мой, удалого,
Поезжай-ка ты прямой дорогой,
Кого встретишь, с тем и побратайся,
Младшим дружкой для тебя он будет.
Кто нагонит тебя по дороге,
С тем ты можешь тоже побрататься».
Внял советам Тимишарин Гюро,
Замесил он белую лепешку,
Нацедил он молодой ракии,
Выбирал он скакуна в конюшне,
Зануздал он коня удалого
И поехал по прямой дороге.
Никого он в дороге не встретил,
Не нагнал его никто в дороге.
Вот приехал он к Белому морю,[117]
Вот ступил он на песок прибрежный,
Где лежало Дитя Голомеше,
Где лежало на песке, на белом,
Голенькое на песке лежало.
И промолвил Тимишарин Гюро:
«Бог на помощь, братец малолетний!»
Отвечает Дитя Голомеше:
«Дай бог счастья, юнак незнакомый!»
И промолвил Тимишарин Гюро:
«Ты послушай, братец малолетний,
Подымайся с песчаного ложа,
Подымайся, будь мне побратимом,
Я венчаюсь — стань мне младшим дружкой».
Отвечает Дитя Голомеше:
«Чтоб ты сгинул, юнак незнакомый!
Ты со мною, видно, шутки шутишь?
Уходи подобру-поздорову!
А не то схвачу тот малый камень
Да по русой голове ударю,
Камнем выбью тебе черны очи».
И промолвил Тимишарин Гюро:
«Бог с тобою, братец малолетний!
Не намерен шутить я с тобою,
Говорю я с тобою по чести.
Коль не примешь слов моих на веру,
Поклянусь я собственною жизнью!
Коль не примешь слов моих на веру,
Поклянусь я и Постом Великим,
Тем, когда мы семь недель постимся
Перед Пасхой — Светлым Воскресеньем,
Поклянусь я и всеми постами!»
Вняло клятве Дитя Голомеше,
Встало резво с песчаного ложа,
Встало разом на резвые ноги.
С плеч широких Тимишарин Гюро
Мигом скинул просторную гуню,
Облачил он Дитя Голомеше,
С ним приехал на свое подворье
И в покои повел побратима.
В тех покоях лари расписные,
В тех ларях парчовые одежды.
Поднял крышку Тимишарин Гюро,
Распахнул он лари расписные,
Разложил золотые одежды.
И промолвил Тимишарин Гюро:
«С богом, милый братец малолетний,
Выбирай-ка, что душа желает».
Выбирало Дитя Голомеше,
Выбирало яркие одежды,
Надевало яркие одежды,
Поднималось в верхние покои,
Там висели в ряд стальные сабли.
И промолвил Тимишарин Гюро:
«С богом, милый братец малолетний,
Выбирай-ка сабельку по вкусу!»
Выбрал саблю братец малолетний,
Выбрал он длиной в шестнадцать пядей
И в четыре пяди шириною.
Зазвенела дамасская сабля.
И промолвил Тимишарин Гюро:
«С богом, милый братец малолетний,
На широкий двор ступай за мною,
Выберешь там палицу по силе».
Выбрал братец палицу по силе,
Весом ровно в сто шестьдесят ока,
Стал ее он подбрасывать ловко,
Словно весит меньше, чем пушинка.
Молвил братцу Тимишарин Гюро:
«С богом, милый братец малолетний,
Вслед за мною ты ступай в конюшню,
Можешь выбрать скакуна по нраву!»
Отправлялось Дитя Голомеше,
Отправлялось к лошадям в конюшню
Испытало всех поочередно:
Скакуна за хвост хватает братец
И бросает мигом за ворота.
Был последним конь любимый Гюро,
Мигом братец за хвост ухватился,
Как потянет — конь стоит, ни с места,
Не качнется и не шевельнется.
По колено Дитя ушло в землю —
Не качнется конь, не шевельнется.
Так был выбран конь любимый Гюро.
Усмирило Дитя Голомеше,
Зануздало коня, оседлало.
Был упрямым конь любимый Гюро,
Был смышленым этот конь и резвым,
Он три раза побывал в сраженье,
Он три раза мчался на арапов.
Не скакал он — колесом крутился.
Прокатилось Дитя Голомеше,
Прокатилось на коне ретивом,
Тут собрались нарядные сваты.
Выезжало Дитя Голомеше
В окружении нарядных сватов,
Среди прочих оно выделялось,
Как вожак в большом овечьем стаде.
Миновали широкое поле,
Показалась узкая теснина
Среди гор, среди лесов зеленых.
Повстречали сваты в той теснине
Черное чудовище, Арапа,
У Арапа рот, как те ворота,[118]
Словно окна, очи у Арапа,
Ноги, словно две солунских балки.
Повстречал Арап нарядных сватов,
Повстречал он сватов и промолвил:
«Бог вам в помощь, нарядные сваты,
В этот раз проедете безбедно,
Вам худого ничего не будет,
Но когда вы повернете к дому
И невесту и дары возьмете,
Вот тогда я заберу невесту,
И невесту и дары в придачу».
Испугались сваты, онемели,
И сказало Дитя Голомеше:
«Чтоб ты сгинул, Арап черноликий,
Черное чудовище, страшило!
Все боятся тебя, все робеют,
Мне ж нисколько ты, Арап, не страшен,
Говоришь ты, а я и не слышу.
Нас однажды матери рожали,
Нам однажды суждена погибель,
Уж кому-то господь бог поможет!»
Проезжали нарядные сваты,
Подъезжали ко двору невесты,
Им навстречу мать невесты вышла,
Подносила юнакам подарки,
Свату Марку — копье костяное,
А Янкуле — шитую рубаху,
Малолетке не дала подарков.
Говорила матушка невесты:
«Будь прославлен трижды, младший дружка,
Ничего я тебе не вручила,
Я невесту тебе поручаю,
Будь в дороге девушке защитой».
Уезжали нарядные сваты,
Проезжали по дорогам ровным,
Увозили девицу-невесту.
Миновали широкое поле,
Показалась узкая теснина
Среди гор, среди лесов зеленых.
Бог сразил бы Черного Арапа!
Нагрузил Арап пятнадцать мулов,
Нагрузил их золотой казною
И расселся под шатром зеленым.
Заезжали нарядные сваты,
Заезжали в узкую теснину.
Бог сразил бы Черного Арапа!
Оседлал он скакуна лихого
И помчался встречь нарядным сватам,
Преградил он узкую теснину.
Молвил сватам Арап черноликий:
«Погодите, нарядные сваты,
Отдавайте все свои подарки!
Стоит дунуть мне — снесет вас ветром,
Стоит плюнуть — унесет потоком,
Вас глотать мне — на глоток не хватит.
Отдавайте все свои подарки,
А иначе — всех вас порешу я».
Мигом сваты подарки отдали,
Отдал Марко копье костяное,
А Янкула — шитую рубаху,
Побежали нарядные сваты,
Все бежали, никто не остался,
Там остался только младший дружка
Да осталась девица-невеста.
И промолвил Арап черноликий:
«Бог тебе на помощь, младший дружка!
Отдавай-ка ты мне свой подарок!»
Отвечал Арапу младший дружка:
«Бог сразил бы Черного Арапа!
Говоришь ты, а я и не слышу.
Никаких мне даров не вручали,
Поручили девушку-невесту,
Чтоб ее я охранял в дороге.
Хоть убей, а девушку не выдам!»
И промолвил Арап черноликий:
«Бог тебе на помощь, младший дружка!
Отдавай мне девушку-невесту!
Стоит дунуть мне — умчишься с ветром,
Стоит плюнуть — унесет потоком,
Проглочу я тебя — не замечу!»
Отвечало Дитя Голомеше:
«Бог сразил бы Черного Арапа!
Нас однажды матери рожали,
Нам однажды суждена погибель,
Уж кому-то господь бог поможет.
Говоришь ты, а я и не слышу.
Ну-ка стань ты на черте юнацкой,[119]
Палицу я брошу боевую,
Испытаю юнацкую силу!»
Устрашился Арап черноликий,
Устрашился Арап, испугался.
Стали спорить меж собой юнаки,
Кто ударит палицею первый.
И промолвил Арап черноликий:
«Бог тебе на помощь, младший дружка,
Палицу я должен бросить первым!»
Согласилось Дитя Голомеше,
И подходит воин малолетний,
Подъезжает он к черте юнацкой.
Цель наметил Арап черноликий,
Он прикинул, как верней ударить,
В грудь коню не стал он примеряться,
Промеж глаз он целит аргамаку
И с размаху палицу бросает.
В то мгновенье конь любимый Гюро
Лег на землю, рухнул на колени,
Пролетела палица чуть выше.
И промолвил Арап черноликий:
«Бог тебе на помощь, младший дружка!
В первый раз ты взял меня обманом,
Дай мне бросить палицу вторично!»
Отвечало Дитя Голомеше:
«Бог сразил бы Черного Арапа!
Нас однажды матери рожали,
Нам однажды суждено погибнуть,
Уж кому-то господь бог поможет».
И подъехал Арап черноликий,
И подъехал он к черте юнацкой,
Цель наметил воин малолетний,
Он прикинул, как верней ударить,
Как ударить палицей Арапа,
Промеж глаз не стал он примеряться,
Прямо в грудь он целит аргамаку:
Если конь упадет на колени,
В голову врагу удар придется.
И метнул в Арапа младший дружка,
И метнул он палицу с размаху,
Конь Арапа рухнул на колени,
Рухнул на колени, лег на землю,
И припал он к мураве зеленой,
Угодила палица в Арапа,
Угодила, в голову попала,
Сбросила с седла того Арапа.
Выхватил тут саблю младший дружка,
Вмиг раскрыл он лезвие складное,
Обнажил отточенную саблю,
И взмахнул он этой острой сталью,
Чтобы голову отсечь Арапу,
Размахнулся он острою саблей,
Десять буков разом повалилось.
Погубил он Черного Арапа,
Зарубил Арапа острой саблей,
Отрубил он голову злодею
И, отрубленную, в торбу бросил.
Сам направился в шатер зеленый
И добычей взял пятнадцать мулов,
Нагруженных золотой казною.
И поехал он вдвоем с невестой,
И поехал по ровным дорогам,
И приехал он к подворью Гюро.
Как подъехал он к подворью Гюро,
Там в застолье сваты толковали:
«Счастье наше, нарядные сваты,
Мы поели и выпили вволю,
Надо выпить нам еще, юнаки,
Надо выпить за душу Дитяти.
Взял невесту Арап черноликий,
Погубил он Дитя Голомеше,
Младший дружка уже не вернется».
Лишь промолвили такое слово,
Младший дружка постучал в ворота,
Крикнул, чтоб ворота отворили,
В нетерпенье пнул ногою створы,
Пнул ногою — рухнули ворота,
Посреди двора они упали,
А калитка отлетела к дому.
На подворье въехал младший дружка,
Он привез красавицу невесту.
И собрал он всех нарядных сватов,
Всех нарядных сватов на пирушку,
И уселись все в честном застолье.
Младший дружка, словно ненароком,
Замахнулся палицей своею
Да как хватит удалого Марка,
Как ударит доброго юнака,
Лупит свата, говорит при этом:
«Бог тебя срази, отважный Марко!
Как ты смеешь в сваты набиваться,
Коли дело не можешь исполнить,
Коль не в силах уберечь невесту?»
Как он хватит Янку-воеводу,
Как ударит палицею крепкой,
Лупит дружку, говорит при этом:
«Бог тебя срази, Янкула храбрый!
Как ты смеешь в дружки набиваться,
Коль не в силах уберечь невесту?»
А потом как хватит молодого,
Как ударит жениха дубиной,
Крепко лупит, говорит при этом:
«Бог тебя срази, жених пригожий!
На чужбине свататься задумал,
А невесту уберечь не можешь!»
И колотит братец молодого.
Тут сказала девушка-невеста:
«Милый братец, бей его покрепче,
Да гляди-ка, были б кости целы!»
Отпустил тут братец молодого,
И собрал он всех нарядных сватов,
Он вручил им золота пять вьюков,
Чтобы справили свадьбу, как надо,
Он пять вьюков подарил невесте,
Пять — невесте, пять себе оставил.
И собрался он сразу в дорогу
И отправился к Белому морю,
К побережью, на песок на белый.
Когда сербский царь Степан[121] женился,
Он далече высватал невесту —
Из Леджана, латинского града.
Отдал Михаил,[122] король латинский,
Дочь ему по имени Роксанда.[123]
Сватал царь и получил согласье.
Он по письмам девушку сосватал
Да покликал Тодора-визиря:[124]
«Поезжай-ка ты, слуга мой, Тодор,
Побывай-ка ты в Леджане белом
У короля Михаила, тестя.
Ты столкуйся с королем о свадьбе:
Сколько привезти с собою сватов
И когда нам ехать по невесту?
Повидай и девушку Роксанду.
Ей под стать ли быть царю — царицей,
Нашей сербской стороны хозяйкой?
Да надень ей перстень обручальный!»
И Тодор-визирь царю ответил:
«Еду, царь, мой повелитель! Еду!»
Снарядился и махнул к латинам.
А когда в Леджан приехал белый,
Ласково король визиря встретил
И вином поил его неделю.
И такое слово молвил Тодор:
«Слушай, Михаил-король, дружище!
Разве царь Степан меня отправил
Пить вино у вас, в Леджане белом?
Царь велел о свадьбе столковаться,
Разузнать, в какое время года
Надобно приехать по невесту,
Много ль привезти с собою сватов.
Наказал он повидать Роксанду
И вручить ей перстень обручальный».
Михаил-король сказал визирю:
«Передай царю, дружище Тодор,
Пусть приедет он в любую пору,
Сватов привезет число любое.
Об одном прошу царя Степана —
Сестричей своих оставить дома, —
Воиновичей двоих беспутных, —
Вукашина с Петрашином-братом.[125]
Воиновичи в пиру — пропойцы,
В сваре — сорвиголовы, буяны.
Как натянутся они хмельного,
Так затеют непременно драку.
Ведь у нас, Тодор, в Леджане белом,
Ссору замирить куда как трудно!
А Роксанду тотчас ты увидишь
И вручишь ей перстень, честь по чести».
Как сошла на землю тьма ночная,
Восковых свечей не жгли в трапезной,
А во мраке вывели невесту.
Увидал Роксанду визирь Тодор,
Тут же золотой достал он перстень
С жемчугом, с каменьем самоцветным.
От него покои засияли!
Показалась Тодору невеста
Краше, нежели белая вила.
Дал он перстень девушке Роксанде,
Подарил ей тысячу дукатов.
С тем и увели невесту братья.
Ранним-рано зорька заалела.
Визирь Тодор собрался в дорогу
И поехал прямо в белый Призрен.
А когда приехал в белый Призрен,
Спрашивает сербский царь визиря:
«Ой же ты, слуга мой, визирь Тодор!
Повидал ли девушку Роксанду,
Отдал ли ей перстень, честь по чести?
Что мне Михаил-король ответил?»
И поведал Тодор по порядку:
«Видел, царь, и отдал ей твой перстень.
Спросишь — какова собой Роксанда?
В Сербии у нас ей равных нету!
Ладно говорил король Михайло:
«Приезжай, когда тебе угодно,
Сколь угодно собирай ты сватов.»
Об одном король латинский просит:
Сестричей двоих не брать с собою, —
Вукашина с Петрашином, братом.
Воиновичи в пиру — пропойцы,
В сваре — сорвиголовы, буяны.
Как напьются, так затеют ссору.
А в Леджане, городе латинском,
Ссору замирить куда как трудно!»
Сербский царь Степан про то услышал,
И себя он хлопнул по колену:
«Вот злосчастье, милосердный боже!
Знать, про Воиновичей бесчинства
И туда уж докатились вести!
Верь мне, Тодор, слово мое твердо:
Дай лишь срок, сыграем эту свадьбу —
И обоих сестричей повешу
На воротах града Вучитырна,[126]
Чтоб меня по свету не срамили!»
Начал царь Степан готовить сватов.
А когда собрал двенадцать тысяч,
Поехал по ровному Косову.
Добрались они до Вучитырна.
Там два Воиновича младые
Тихо меж собой вели беседу:
«Отчего, мол, рассердился дядя?
Нас не хочет сватами поставить!
Кто перед царем оклеветал нас,
Чтоб с того живое мясо слезло!
Царь Степан поехал в край латинский,
Не имея при себе юнака,
Чтоб ему роднею доводился,
Из беды бы выручил, не выдал,
Коли что худое приключится.
Ведь латины плуты, прощелыги,
Дядю ни за грош они загубят.
Мы ж идти незваными не смеем!»
Сыновьям сказала мать-старуха:
«Воиновичи, мои вы дети!
Есть у вас в горах родимый братец,
Милош[127] молодой, пастух овечий.
Всех моложе он да всех отважней.
Царь Степан о нем и знать не знает!
Вы пошлите лист бумаги белой, —
Пусть, мол, в город Вучитырн приедет.
Что и как — всей правды не пишите.
Отпишите — мать, мол, помирает
И зовет принять благословенье,
Чтобы ты с проклятьем не остался.
К белому двору ступай скорее,
Может быть, в живых ее застанешь!»
Матери послушались два брата.
Грамоту строчат они проворно
И на Шар-планину[128] посылают,
Где пасет овечье стадо Милош:
«Ой же ты, родимый братец Милош!
В град Вучитырн поспешай скорее.
Там старая матерь помирает
И зовет принять благословенье,
Чтобы ты с проклятьем не остался».
Грамоту, написанную мелко,
Он читает, слезы проливает.
Тридцать пастухов его спросили:
«Ой же ты, наш предводитель, Милош!
Сколько раз тебе писали письма —
Никогда, читаючи, не плакал!
От кого письмо, скажи скорее!»
И вскочил на резвы ноги Милош,
И поведал овчарам всю правду:
«Ой, чабаны, братья дорогие!
Весть пришла мне из родного дома.
Там старая матерь помирает
И зовет принять благословенье,
Чтоб на мне проклятья не осталось.
Стадо пуще глаза берегите!
Я схожу и ворочусь обратно».
В город Вучитырн явился Милош.
Вот он к белому двору подходит,
А навстречу двое милых братьев.
Позади идет старая матерь.
Говорит пастух овечий Милош:
«Коли в бога веруете, братья, —
Без беды грешно беду накликать!»
Отвечают оба милых брата:
«Заходи! Беда у нас найдется!»
Все расцеловались в белы лица.
В белу руку мать целует Милош.
Рассказали братья по порядку:
«Сербский царь поехал по невесту
Далеко, в латинскую столицу.
Сестричей своих не взял с собою.
Коли хочешь, брат родимый, Милош,
Поезжай за ним незваным сватом.
Будешь всюду следовать за дядей.
Приключись беда с ним ненароком,
Ты ему избыть беду поможешь.
Коли ничего не приключится,
Возвращайся, не открывшись дяде!»
А Милош того и дожидался:
«Я согласен, братья дорогие!
И кому помочь мне, как не дяде?»
Стали собирать его в дорогу.
Петрашин буланого седлает,
Вукашин Милоша снаряжает:
Тонкую рубашку надевает,
До пояса — из чистого злата,
От пояса — из белого шелка,
На нее — три безрукавки тонких,
Пуговиц-то на кафтане тридцать,
Златокованы на нем пластины,
В каждых трех, клади, по пуду злата.
А еще надел в дорогу Милош
Наколенники, штаны в обтяжку.
Он болгарскую накинул бурку.
Нахлобучил болгарскую шапку,
Ну ни дать ни взять — болгарин черный!
Братья смотрят и узнать не могут!
Дали брату копье боевое
Да зеленый меч[129] отцовский дали.
Буланого Петрашин выводит.
Добрый конь обшит медвежьей шкурой,
Чтрбы не узнал его царь сербский.
Милоша два брата научали:
«Как догонишь царских сватов, Милош,
Кто ты, спросят, и откуда едешь,
Отвечай: «Из Валахии Черной.[130]
Там служил у бега Радул-бега,[131]
Ни гроша не получил за службу,
И пустился я по белу свету
Поискать хозяина получше.
Тут я услыхал про царских сватов
Да — незваный — к ним в пути прибился
Хлеба белого ломоть мне нужен,
Красного вина нужна мне чара!»
Да узду натягивай покрепче:
Если дать буланому поблажку —
Побежит с конем царевым рядом!»
Милош па буланого садится,
Едет за царем — прибиться к сватам,
И в Загорье сватов догоняет.
Спрашивают нарядные сваты:
«Ты откуда, молодой болгарин?»
Слово в слово отвечает Милош,
Как ему наказывали братья.
Подобру его встречают сваты:
«Едем с нами, молодой болгарин,
Пусть одним в дружине больше будет!»
Когда Милош пас овечье стадо,
Приобрел он вредную привычку
Подремать в полуденную пору:
В этот час на Шар-планине жарко!
И в дороге Милош сном забылся,
У буланого узду ослабил.
А буланый голову закинул,
Растолкал коней, юнаков, сватов.
Он с конем царевым поравнялся
И пошел спокойно с ним бок о бок.
Бить хотят болгарина вельможи,
Только сербский царь не дозволяет:
«Юного болгарина не бейте!
В полдень спать, небось, он приучился,
Когда пас в горах овечье стадо.
Зря его не бейте, — разбудите!»
Кинулись вельможи, воеводы:
«Просыпайся, молодой болгарин!
Не казни, господь, старуху-матерь,
Что тебя, такого, породила
Да в царевы сваты снарядила!»
Встрепенулся Милош Воинович,
Видит черные царевы очи,
Царского коня — с буланым рядом.
Он рванул буланого за повод,
Гонит сквозь двенадцать тысяч сватов.
Выгнал — и ударил острой шпорой.
Конь на три копья в сторону скачет,
На четыре — взвивается к небу,
А вперед летит — и меры нету!
Из хайла — живой огонь сыпучий,
Из ноздрей синий пламень текучий.
Сваты поднялись — двенадцать тысяч:
Ну и конь под болгарином пляшет!
Все коню болгарина дивятся:
«Что за чудо, милостивый боже!
Добрый конь, а молодец нескладный.
Мы коней подобных не видали.
Царский зять имел коня такого,
Как теперь имеет болгарин».
Тут случились три корыстолюбца.
Первый звался Джаковица Вуче,[132]
Был другой — из Нестополья Янко,[133]
Третий молодец — из Приеполья.[134]
Живо меж собой они стакнулись.
«Доброго коня достал болгарин!
Нет такого ни у царских сватов,
Ни у самого царя Степана.
Ну-ка, приотстанемте маленько!
Может быть, юнака одурачим».
Подъезжая к самому ущелью,
Приотстали три корыстолюбца.
Пастуху овечьему сказали:
«Эй, послушай, молодой болгарин!
Коли ты сменять коня согласен,
Лучшего коня взамен получишь
И возьмешь в придачу сто дукатов
Да орало и волов упряжку,
Чтобы век пахать, кормиться хлебом».
Отвечает Милош Воинович:
«Убирайтесь, три корыстолюбца!
Лучшего коня и не ищу я,
Даже с этим совладать мне трудно!
И на что сдались мне сто дукатов?
На весах я не смогу их взвесить,
Даже сосчитать их не сумею.
Да на что орало мне с волами?
И отец мой не пахал — не сеял,
А меня вскормил, однако, хлебом!»
И сказали три корыстолюбца:
«Ты послушай, молодой болгарин!
Ежели коня сменять не хочешь —
У тебя его отымем силой!»
Отвечает Милош Воинович:
«Сила города берет и земли.
Моего коня легко отнять ей.
Я уж, так и быть, его сменяю:
Не ходить же мне пешком по свету!»
Осадил буланого проворно,
Сунул руку под медвежью шкуру.
Думали, он шпору отцепляет.
Нет! Свой шестопер златой он вынул.
Как ударил Вука Джаковицу —
Кувырнулся Вуче троекратно, —
Ягодицей кверху кувырнулся.
И промолвил Милош Воинович:
«Чтоб такие гроздья винограда
Наливались в твоей Джаковице!»
Удирает нестополец Янко.
Милош на буланом догоняет.
Между плеч ударил шестопером —
Тот четыре раза кувырнулся.
«Не сдавайся, нестополец Янко!
Чтоб такие яблоки созрели
У тебя в родимом Нестополье!»
Мчится приеполец-горемыка.
Милош на буланом догоняет.
Зацепил беднягу шестопером.
Семикратно тот перевернулся.
«Не сдавайся, парень-приеполец!
А когда вернешься в Приеполье,
Будешь красным девушкам хвалиться:
У болгарина коня я отнял!»
Сватам вслед коня направил Милош.
Подъезжая к белому Леджану,
Белые шатры разбили в поле.
Глядь, у царского коня нет корма!
Все приел и конь буланый тоже.
Осмотрелся Милош Воинович.
Торбу он берет в левую руку,
С ней обходит он другие торбы
На ноги вскочил латинин белый.
На ретивого гнедого вспрыгнул.
Разогнался по ровному полю.
На черте застыл недвижно Милош.
Тут в него копье латин бросает,
Метит прямо в юнацкие груди.
Шестопер златой сжимает Милош.
Он копье встречает шестопером,
Переламывает на три части.
Закричал тогда латинин белый:
«Ты повремени, болгарин черный!
Копьецо худое мне всучили,
За другим копьем придется съездить».
И помчался по ровному полю.
Отозвался Милош Воинович:
«Малость погоди, латинин белый!
Ты охотней от меня сбежал бы».
Вскачь погнал он по полю латина.
Доскакали до ворот леджанских —
Заперты леджанские ворота!
Как пустил копье в латина Милош,
Пригвоздил он белого латина,
Пригвоздил его к вратам Леджана.
Русую головушку он рубит
И бросает буланому в торбу.
В поле Милош изловил гнедого
И привел его царю Степану:
«Голову заступника принес я!»
Не считая, царь отсыпал злата:
«Ты вина, сынок, напейся вдоволь!
Будешь у меня премного счастлив».
Только Милош за вино уселся,
Как бирюч латинский выкликает:
«Сербский царь, под городом Леджапом,
На лугу — три коня богатырских.
Каждый — под седлом и в полной сбруе.
На конях — мечи огнисты[135] блещут,
Острия у них подъяты к небу.[136]
Через трех коней ты перепрыгни,
Либо не уедешь ты отсюда
И своей не вывезешь невесты».
И опять стал выкликать глашатай:
«Разве мать юнака не родила,
В сваты царские не снарядила,
Чтоб через коней трех богатырских,
Да с тремя огнистыми мечами,
Он сумел с разгона перепрыгнуть?»
И один лишь молодой болгарин
Подошел к шатру царя Степана:
«Ты дозволишь, сербский царь-надёжа,
Через трех коней мне перепрыгнуть?»
«Можно, только, дитятко родное,
Не в болгарской долгополой бурке!
Боже, разрази того портнягу,
Что сварганил длинную такую!»
Отвечает Милош Воинович:
«Не заботься, царь, о бурке черной!
Красное вино ты пей, как прежде.
Будь лишь смелость у юнака в сердце!
Бурка удалому — не помеха.
Коли шерсть своя овце мешает,
Грош цена и шерсти и овечке!»
Поскакал юнак Леджанским полем,
Поравнялся с добрыми конями.
Он за них буланого отводит:
«Жди меня в седло, мой конь буланый!»
Как зашел с другого боку Милош,
Разогнался по ровному полю,
Через трех коней он перепрыгнул,
Через острия мечей огнистых,
Да в седло к буланому метнулся.
Трех коней берет он богатырских
И ведет к шатру царя Степана.
Долго ли, коротко ли, латинин
Снова с городской стены взывает:
«Ты ступай-ка, сербский царь, под башню,
Самую высокую в Леджане.
Долгое копье в ту башню вбито.
Яблоко на нем блестит златое.
Нужно прострелить его сквозь перстень».
Ждать не хочет Милош Воинович.
Вопрошает он царя Степана:
«Ты дозволишь, сербский царь-надёжа,
Выстрелить мне в яблоко сквозь перстень?»
«Дозволяю, мой сынок родимый!»
И подходит к белой башне Милош,
И стрелу на тетиву златую
Он кладет и, выстрелив сквозь перстень,
Пробивает яблоко златое.
Яблоко берет он в белы руки,
Отдает его царю Степану,
Получает щедрую награду.
Со стены опять латинин кличет:
«Видишь, сербский царь, под белу башню
Двое королевичей выходят,
Трех пригожих девушек выводят,
Трех пригожих, меж собою схожих.
Все у них едино — стать и платье.
Распознай, которая — Роксанда.
Коли ошибешься ненароком —
Не уедешь, головы не сносишь,
А не то чтоб увезти невесту!»
Царь Степан услышал эти речи
И покликал Тодора-визиря:
«Опознай, слуга, мою невесту!»
И царю сказал по правде Тодор:
«Царь-надёжа, я ее не видел!
Затемно невесту выводили.
Я во мраке отдал ей твой перстень».
Царь себя ударил по колену:
«Вот злосчастье, боже милосердный!
Нас перехитрили, одолели,
Нас на глум девица выставляет!»
Как услышал Милош Воинович,
Сразу подошел к царю Степану:
«Сербский царь, мой господин, дозволь мне
Опознать Роксанду-королевну!»
«Дозволяю, дитятко родное,
Только на тебя плоха надежда;
Как мою невесту опознаешь,
Коли ты ее не видел сроду?»
Отвечает Милош Воинович:
«Не пекись об этом, царь-надёжа!
Стадо я стерег на Шар-планине,
Было там овец двенадцать тысяч.
По три сотни в ночь ягнят рождалось.
По овце я мог узнать любого.
А Роксанду отличу по братьям!»
Сербский царь Степан ему ответил:
«Коли бог тебе, дитя, поможет
Опознать Роксанду-королевну,
Дам тебе я землю Скендерию,[137]
Целый век ты будешь ею править».
Ехал Милош по ровному полю,
А когда он к девушкам подъехал,
С плеч болгарскую он сбросил бурку,
И болгарскую он шапку скинул.
Заблистали златоткань да бархат,
Заблистали пластины златые,
Заблистали поножи златые.
Заблистал в зеленом поле Милош,
Точно солнце красно из-за леса!
Стелет бурку на траве зеленой,
Рассыпает по ней кольца, перстни,
Жемчуг мелкий, самоцветны камни.
Меч зеленый достает из ножен,
Девушкам пригожим слово молвит:
«Подоткнет подол пускай Роксанда,
Закатает рукава шелковы,
Соберет златые кольца, перстни,
Жемчуг мелкий, самоцветны камни.
А попробуй сунуться другая —
И, святою верою клянуся,
Белы руки отрублю по локти!»
И тотчас из трех девиц пригожих
Крайние на среднюю взглянули,
А Роксанда — на траву зелену.
Вот подол Роксанда подоткнула,
Закатала рукава шелковы,
Кольца собрала она и перстни,
Жемчуг мелкий, самоцветны камни.
Две подружки наутек пустились.
За руки схватил обеих Милош,
Всех троих привел к царю Степану:
Дал он сербскому царю Роксанду,
Ей в наперсницы он дал другую,
Да себе оставил третью Милош.
Царь промежду глаз его целует,
Хоть не знает, кто он и откуда.
Закричали нарядные дружки:
«Снаряжайтесь, разодеты сваты!
Ехать нам домой приспело время».
Собирались нарядные сваты,
Увозили девушку Роксанду.
Только удалились от Леджана,
Как промолвил Милош Воинович:
«Сербский царь Степан, мой повелитель!
Есть в латинском городе Леджане
Этакий Балачко[138]-воевода.
С тем Балачкой мы друг дружку знаем.
Семь годов король его содержит,
Чтобы разгонять нарядных сватов,
Силой отымать у них Роксанду.
Нам король пошлет его вдогонку.
У него Балачко — трехголовый:
Из одной главы бьет пламень синий,
Из другой — студеный ветер дует.[139]
Как наружу выйдут пламень с ветром,
Можно без труда сгубить Балачка.
Поезжайте с девушкой Роксандой.
Я дождусь Балачка-воеводы,
Чтоб его попридержать маленько».
Ускакали нарядные сваты,
Увезли пригожую невесту.
Ждет-пождет в лесу зеленом Милош.
Вместе с ним — товарищей три сотни.
Ускакали сваты из Леджана,
А король к себе призвал Балачка:
«Ой ты, верный мой слуга Балачко!
Ты разгонишь ли царевых сватов,
Отобьешь ли девушку Роксанду?»
Вопросил Балачко-воевода:
«Повелитель мой, король Леджана!
И какой-такой юнак удалый
Затесался меж царевых сватов?»
Говорит Балачке-воеводе
Королева белого Леджана:
«Наш слуга, Балачко-воевода!
Никакого нет у них юнака!
Есть молокосос, болгарин черный,
Молодой болгарин, безбородый».
Говорит Балачко-воевода:
«Не болгарин черный — царский сестрич,
Милош Воинович едет с ними.
Царь Степан его и знать не знает.
Мне он, между тем, знаком давненько!»
Молвила Леджана королева:
«Наш слуга, Балачко-воевода!
Поезжай, отбей у сербов дочку,
Я отдам тебе Роксанду в жены».
Оседлал арабскую кобылу,
Поскакал за сватами Балачко.
С ним — шесть сотен всадников латинских.
Вот они в зеленый лес въезжают.
Встал буланый на пути широком,
Позади встал Милош Воинович.
Закричал Балачко-воевода:
«Не меня ли, Милош, поджидаешь?»
Синеярым пламенем дохнул он,
На буланом сжег медвежью шкуру.
Увидал такую незадачу —
И дохнул студеным лютым ветром.
Конь буланый трижды кувырнулся,
Цел и невредим остался Милош.
Крикнул Воинович белым горлом:
«Принимай нечаянный подарок!»
Шестопер свой золотой метнул он,
Зацепил Балачка-воеводу,
Из седельца боевого вышиб.
Смертоносное копье направил,
Приколол его к траве зеленой,
Отрубил три головы Балачке,
Да буланому их бросил в торбу.
Напустились удальцов три сотни
С Милошем на всадников Балачки
И голов срубили ровно триста.
Царским сватам вслед поехал Милош,
А когда нагнал царя Степана,
Бросил наземь головы Балачки,
Взял в подарок тысячу дукатов.
Поскакали сваты в Призрен белый.
Выехали на Косово поле,
И собрался Милош в град Вучитырн.
Он царю сказал такое слово:
«С богом оставайся, дядя милый,
Сербский царь Степан, родной мой дядя!»
Сербский царь внезапно догадался:
Это Милош, младший Воинович!
Сестрича он ласково приветил:
«Неужели, дитятко, ты — Милош?
Ты ли это, сестрич мой любимый?
Счастлива твоя родная матерь!
Счастлив тот, кого зовешь ты дядей!
Что ж ты мне доселе не открылся?
И тебя в пути я мучил жаждой,
Скудной пищей и ночлегом трудным!
Своему без своего не сладко!»
Письма пишет Вукашин[141] тщедушный
В белом Скадре на реке Бояне,[142]
Посылает их в Герцеговину,
В белый град Пирлитор[143] неприступный,
Что стоит у вершин Дурмитора.[144]
Тайно пишет, тайно отправляет
Видосаве,[145] супруге Момчилы.
Так в письме он молвит Видосаве!
«О жена Момчилы, Видосава,
Как живешь ты среди льда и снега?
Если глянешь вверх с высокой башни,
Там ничто не обрадует взгляда —
Пред тобою Дурмитор бесплодный,
Льдом и снегом студеным покрытый
И холодной зимою и летом.
Если глянешь вниз со стен отвесных,
Мутной Тары[146] воды протекают;
Катит камни и стволы уносит.
Через Тару нет брода для конных,
Через Тару нет моста для пеших;
Только бор вокруг да камень черный.
Отрави воеводу Момчилу,
Отрави иль выдай с головою.
Приезжай ко мне в мое Приморье,
В город Скадар на реке Бояне,
Там ты станешь моею женою,
Госпожой пресветлой королевой.
Дам тебе веретено златое,
Будешь шелк прясти, сидеть на шелке,
В бархате ходить, в парче заморской,
В жемчуге и золоте червонном.
А каков-то Скадар на Бояне!
Если взглянешь вверх с высокой башни —
На горах смоковницы, маслины,
Виноградников богатых гроздья.
Поглядишь ли вниз со стен отвесных —
Наливает пшеница колосья,
Искрится зеленая Бонна,
Через луг зеленый протекает.
Много разных рыб в реке Бояне:
Лишь захочешь, свежую получишь».
Прочитала письмо Видосава.
Мелкие нанизывает буквы.
Пишет так королю Вукашину:
«Господин, король и повелитель.
Как мне выдать Момчилу — не знаю.
Выдать трудно, отравить опасно.
У Момчилы сестра Ефросима[147] —
Кушанья господские готовит,
Пробует их до него сестрица.
У Момчилы девять милых братьев
И двенадцать двоюродных братьев —
Подают ему вино с поклоном,
До него из чаши пьют хмельное.
У Момчилы чудный конь крылатый,
Ябучилой[148] конь его зовется.
Может конь перелететь все горы;
И с очами сабля[149] у Момчилы.
Он боится лишь вышнего бога.
Но послушай, король, что скажу я:
Поведи с собой большое войско
И в лесу у Озер[150] сядь в засаду.
А таков у Момчилы обычай:
Отправляется он на охоту
В воскресенье утром в край озерный.
Девять братьев ведет за собою
И двенадцать двоюродных братьев,
С ними сорок конников из града.
Вечером, пред самым воскресеньем
Я спалю у Ябучилы крылья,
Саблю я залью соленой кровью,
Чтоб ее не вытянул из ножен.
Так ты сможешь погубить Момчилу».
Получил король ее посланье
И увидел, что письмо вещает.
Вукашин обрадовался вести.
Собирает он большое войско.
Воинов ведет в Герцеговину,
Прямо в горы, к далеким озерам,
И в зеленом лесу сел в засаду.
Вечером пред самым воскресеньем
В свою спальню идет воевода.
На перины мягкие ложится.
В скором времени жена приходит,
Но в постелю лечь она не хочет.
Над его склонилась изголовьем
И роняет слезы на подушки.
Спрашивает жену воевода:
«Видосава, верная подруга,
Приключилось ли какое горе —
На подушки ты роняешь слезы?»
Молодая жена отвечает:
«Господин, воевода Момчило,
Ничего со мною не случилось.
О чудесном я слышала чуде,
Слышала, глазами не видала,
Что владеешь конем Ябучилой,
Ябучилой, жеребцом крылатым.
У коня я не видела крыльев.
Не могу я этому поверить
И боюсь, что ты погибнешь в битве».
Был умен воевода Момчило
Был умен, а поддался обману.
Так своей жене он отвечает:
«Видосава, верная подруга,
Я легко смогу тебя утешить:
Ты увидишь крылья Ябучилы.
Лишь петух запоет пред зарею,
В новые скорей пойди конюшни.
Серый конь свои выпустит крылья,
В этот час его крылья увидишь».
Спит Момчило, а жене не спится.
Ждет она петушиного пенья.
Только первый петух объявился,
Мягкие покинула перины.
Вот свечу в фонаре зажигает
И берет с собой смолу и сало.
В новые идет она конюшни.
Истину сказал ей воевода.
Ябучило крылья распускает,
До копыт он крылья расширяет.
Салом и кипучею смолою
Видосава намазала крылья,
Подожгла их яркою свечою
И спалила крылья Ябучиле.
А остаток, то, что не сгорело,
Жесткою подпругою стянула.
В оружейную она прокралась
И схватила Момчилову саблю,
Залила ее соленой кровью
И вернулась на мягкое ложе.
Только утром заря заалела,
Рано встал воевода Момчило.
Говорит он жене Видосаве:
«Видосава, верная подруга,
Чудный сон мне сегодня приснился.
Из урочищ Васоев проклятых[151]
Появилась полоса тумана
И обвилась вокруг Дурмитора.
Сквозь туман я начал пробиваться,
Пробиваться с братьями родными,
А за мной двоюродные братья,
А за ними конники из замка.
Мы во мгле друг друга потеряли,
Потеряли, не нашли друг друга.
Видит бог, беда нас не минует».
Отвечает жена Видосава:
«Ты не бойся, господин мой милый,
Добрый витязь видел сон хороший,
Сон ведь ложь, а истина у бога».
На охоту собрался Момчило.
С белой башни он сходит к воротам.
Ждут Момчилу девять милых братьев
И двенадцать двоюродных братьев,
С ними сорок конников из замка.
Серого коня жена выводит.
На коней они добрых вскочили,
На охоту поскакали к Озерам:
А когда приблизились к Озерам,
Окружило их большое войско.
Это войско Момчило заметил
И схватился за острую саблю:
Вытянуть проклятую не может;
Приросла она, кажется, к ножнам.
Воевода Момчило промолвил:
«Слушайте, мои родные братья,
Предала нас сука Видосава,
Дайте саблю скорей, да получше».
Воеводы послушались братья,
Дали лучшую саблю Момчиле.
Братьям так говорит воевода:
«Нападайте вы с боков на войско.
Я ударю по самой середке».
Боже правый, чудо-то какое!
Если б кто-нибудь был там и видел,
Как Момчило рубится жестоко,
Как он путь прокладывает в чаще!
Ябучило врагов поражает.
Больше конь передавил копытом,
Чем Момчило перебил оружьем.
Только не было ему удачи.
Выехал он к граду Пирлитору.
Девять вороных коней навстречу —
На конях ни единого брата.
Сжалось сердце храброе Момчилы;
Он жалеет девять милых братьев.
Ослабели юнацкие руки,
И не может он биться с врагами.
Ударяет коня Ябучилу
Сапогом и шпорою стальною,
Чтобы конь полетел к Пирлитору,
Но лететь Ябучило не может.
Стал ругать тут коня воевода:
«Волчья сыть, Ябучило проклятый,
Раньше мы шутя с тобой летали,
Без нужды, из удали, для шутки,
А сегодня полететь не хочешь!»
Отвечает ржаньем Ябучило:
«Господин воевода Момчило,
Ты меня не поноси напрасно.
Я сегодня полететь не в силах —
Видосава крылья мне спалила.
Разрази ее гром, Видосаву!
А остаток от сожженных крыльев
Притянула крепкою подпругой.
Сам спасайся теперь как сумеешь!»
Эти речи слушает Момчило;
По лицу его слезы струятся.
Спрыгивает он с коня проворно.
В три прыжка был у ворот он замка.
Только замка заперты ворота,
Заперты засовами, замками!
Тут в беде призывает Момчило,
Призывает сестру Ефросиму:
«Ефросима, милая сестрица,
Полотно со стен спусти на землю,
Чтобы мог я подняться на стены».
Отвечает сквозь слезы сестрица:
«Милый брат, Момчило-воевода,
Не спустить мне полотна на землю:
Видосава-изменница крепко
Волосы за столб мне привязала,
Привязала сноха, не пускает».
Но сестры-то жалостливо сердце,
Как не пожалеть родного брата.
Лютою змеею зашипела
И вперед рванулась со всей силой;
Волосы оставила на балке.
Полотно схватила Ефросима,
Опускает с белой башни наземь.
Воевода полотно хватает,
Подымается быстро по стенам.
Вот, казалось, он вскочит на башню.
Но изменница тут подоспела,
А в руках ее острая сабля.
Полотно разрезала злодейка.
Со стены Момчило покатился.
Приняли королевские слуги
Воеводу на мечи и копья,
На палицы и на алебарды.
Тут король Вукашин подбегает.
Боевым копьем его ударил,
Прямо в сердце ударил Момчилу.
Перед смертью так сказал Момчило:
«Я тебе, Вукашин, завещаю:
Не женись на моей Видосаве,
С нею головы лишишься вскоре.
Для тебя изменила сегодня,
Для другого предаст тебя завтра.
Обвенчайся с сестрой моей милой,
С милой сестрою Ефросимой,
Будет верною тебе женою
И родит тебе, король, юнака,
Что во всем мне будет подобен,
Равен мне богатырскою силой».
Так сказал воевода Момчило,
Так юнак промолвил и скончался.
Отворились города ворота,
Появилась сука Видосава.
Вукашина-короля встречает,
За руку ведет его на башню.
За столы золотые сажает,
Угощает вином, и ракией,[152]
И закуской сладкою господской.
В оружейную затем спустилась,
Воеводы приносит одежды
И оружье светлое Момчилы.
Глянь-ка, братец, чудо-то какое!
Что Момчиле было до колена,
По полу король едва волочит!
Шапка, что была Момчиле впору,
Вукашину на плечи упала!
И в один большой сапог Момчилы
Две ноги Вукашиновы входят.
Чтобы перстень надеть воеводы,
Вукашин три пальца подставляет.
Поясную сабельку Момчилы
За собою на аршин волочит,
А в тяжелом панцире Момчилы
На ноги не в силах он подняться!
Тут король Вукашин молвил слово:
«Горе мне, клянусь я вышним богом!
Видосава, ну и потаскуха!
Коль такого предала юнака, —
Нет на свете равного Момчиле, —
То меня предаст, наверно, завтра!»
Верных слуг Вукашин призывает.
Схватывают суку Видосаву,
Вяжут крепко к хвостам лошадиным.
Гонят слуги коней по нагорьям.
Растерзали кони Видосаву.
Захватил Вукашин все богатства,
И увез он сестру воеводы,
Красную девицу Ефросиму.
В белом Скадре на реке Бояне
С ней король Вукашин обвенчался.
Сыновья у них вскоре родились.
Их назвали Марком и Андреем.[153]
Старший, Марко, на дядю походит,
На дядю, воеводу Момчилу.
Накажи, бог, Момчила-юнака!
Ходит все по Новому Пазару![155]
Сам ходи, — зачем же вместе с любой?
Вот и люба по делам хозяйским
Ходит все по Новому Пазару.
Встретила там краля Вылкашина,[156]
И сказал ей прямо краль Вылкашин:
«С добрым утром, Момчилова люба!»
Отвечает Момчилова люба:
«С добрым утром, краль Вылкашин».
И опять сказал ей краль Вылкашин:
«Рад я встрече, Момчилова люба!
Ты у Момчила в шелках гуляешь.
У меня бы ты в парче ходила».
Отвечает Момчилова люба:
«Если Момчила сгубить ты можешь,
Можешь стать моим любимым».
И в ответ ей краль Вылкашин:
«Рад я встрече, Момчилова люба!
Если можешь Момчила нам выдать,
Выдавай, и мы его погубим».
Отвечала Момчилова люба:
«Почему бы Момчила не выдать?»[157]
И в ответ сказал ей краль Вылкашин:
«Рад я встрече, Момчилова люба!
Завтра утром мы, как только встанем,
Мы чуть свет поедем на охоту,
Наловить хотим мы диких уток,
Диких уток — уток златокрылых.
Предложи ему со мною ехать
На охоту за болотной дичью,
На охоте мы его погубим».
Время к вечеру привечерилось, —
Накажи, бог, Момчилову любу! —
Пробралась она в его конюшню
И дурное дело совершила:
Доброму коню спалила крылья
И под ними раны растравила,
Да и дегтем их еще натерла,
Саблю с ножнами оловом спаяла.
Чуть зарею небо озарилось,
Разбудила Момчила его подруга:
«Поднимайся, Момчил, поднимайся!
Встань, вставай, юнак мой, поскорее!
Все юнаки на охоту едут,
Ты ж на мягких тюфяках заспался!»
С мягких тюфяков поднялся Момчил,
И коня он вывел из конюшни,
Оседлал крылатого коня он,
Загремел он саблею дамасской,
На крылатого коня вскочил он
И помчался за дружиной дружной,
Вслед помчался, чтоб ее настигнуть.
Он настигнул краля Вылкашина,
Он настигнул, Момчил, добрый юнак.
А дружине краль Вылкашин молвил!
«Мой привет вам, дружная дружина.
Не ловите, други, дикой дичи,
Изловите Момчила-юнака,
Изловите, чтоб его сгубить нам».
Собралась вся дружная дружина
На поимку Момчила-юнака.
Все услышал Момчил, добрый юнак.
Поскакал обратно по дороге,
Вот он скачет по дороге ровной,
И коню тихонько молвит Момчил:
«Мчись быстрее, — если не помчишься,
Я, юнак, и ты, мой конь, погибнем».
Конь тихонько говорит юнаку:
«Не робей, юнак, наш храбрый Момчил!
Нам бы лишь до крепости добраться!
Но ведь крепость для тебя закрыта.
Накажи, бог, Момчилову любу!
Любу, первую твою подругу!
Ведь она пробралась к нам в конюшню
И дурное дело совершила:
Опалила легкие мне крылья
И под ними раны растравила,
Да и дегтем их еще натерла,
Саблю с ножнами оловом спаяла!»
Все же добрый конь примчался в крепость.
Чуть к воротам крепости примчался,
Громко крикнул Момчил, добрый юнак:
«Добрый день, сестрица Ангелина!
Поднимись, сестра, открой ворота!»
Отвечает милая сестрица:
«Ой, юнак, мой брат любимый!
Накажи, бог, Момчилову любу,
Любу, первую твою подругу!
Оплела она меня обманом
И к столбу за косы привязала.
Встать, мой брат любимый, не могу я!»
И сестре ответил добрый юнак Момчил:
«Напрягись, сестра, и косы вырви!
Косы снова вырастут, сестрица,
Сгинет брат — другого не увидишь».
Напряглась любимая сестрица,
Напряглась и косы оборвала.
И пошла она в глубокие подвалы
И локтей взяла там девяносто
Полотна льняного, что белее снега,
И полотнище закинула за стену.
За полотнище схватился Момчил,
За него держась, полез на стену
И готов был стену перепрыгнуть.
Накажи, бог, Момчилову любу!
Прибежала Момчилова люба,
Полотно льняное надрезала,
И сорвался Момчил, не во двор упал он.
Тут к нему примчался краль Вылкашин.
Встал, поднялся юнак добрый Момчил,
За дамасскую схватился саблю,
Тянет саблю, а она не лезет!
Тут промолвил юнак, добрый Момчил:
«Здравствуй, здравствуй, краль Вылкашин!
Если Момчила сейчас погубишь,
Погуби и Момчилову любу,
Любу, первую мою подругу,
На сестре моей женись любимой!»
И убил Вылкашин Момчила-юнака,
На широкий двор пошел Вылкашин,
И поднялся он в высокий терем,
И сказал он Момчиловой любе:
«Будь здорова, Момчилова люба!
Принеси мне Момчила сапожки,
Дай попробую я их примерить!»
Принесла сапожки Момчилова люба,
Стал примеривать их краль Вылкашин.
Он в сапожки Момчила обулся —
Две ноги в один сапог засунул,
Но его двумя ногами не заполнил.
И промолвил снова краль Вылкашин:
«Будь здорова, Момчилова люба!
Принеси мне Момчилову шубу,
Я попробую ее примерить».
Вот надел он Момчилову шубу,
Два аршина на земле остались.
И промолвил снова краль Вылкашин:
«Будь здорова, Момчилова люба!
Принеси мне Момчилову шапку,
Я попробую ее примерить».
Вот надел он Момчилову шапку,
До плечей она его накрыла.
Наконец промолвил краль Вылкашин:
«Накажи тебя бог, злая люба!
Предала ты славного юнака!
Был сильнее всех юнаков Момчил,
Так же и меня сгубить ты можешь».
И сгубил он Момчилову любу,
Полюбил он Момчила сестрицу.
Сторожил ущелье воевода,
Груя-воевода, девять вёсен,
Наступил когда же год десятый,
Одолела Груицу дремота,
А ущелье некому доверить,
Чтоб вздремнуть, чтоб отоспаться вволю.
Порази, господь, жену Груицы,
Порази пребелую Петкану!
Тихо говорит она Груице:
«В добрый час, Груица-воевода;
Дай ты мне юнацкую одежду,
Оседлай ты мне коня лихого,
Дай в придачу твой свисток гайдуцкий,
За тебя постерегу ущелье,
Сам ложись да выспись, воевода».
Невдомек Груице-воеводе:
Дал жене юнацкую одежду,
Оседлал жене коня лихого,
Дал в придачу ей свисток гайдуцкий,
С тем уснул Груица-воевода.
Порази, господь, пребелую Петкану!
Как взяла юнацкую одежду,
Как на конскую вскочила спину,
Как свисток гайдуцкий привязала,
Ласточку-коня она хлестнула,
Да хлестнула шелковою плетью,
Полетел юнацкий конь, как птица,
Полетел он ровною дорогой,
По зеленым проскакал левадам,
В лес густой с Петканою приехал.
Порази, господь, пребелую Петкану!
Как в свисток гайдуцкий засвистала,
Произнес свисток такие речи:
«Слышите ли, одринские турки,[159]
Собирайтесь, одринские турки,
Схватите Груицу-воеводу,
Первый сон сейчас Груица видит!»
Услыхали одринские турки,
На коней повскакивали турки,
Погоняют на свистковый голос.
Как приехали в лесную чащу,
Видят пред собой жену Груицы.
Говорит пребелая Петкана:
«Слышите ли, одринские турки,
Поезжайте-ка за мною, турки,
Схватите Груицу-воеводу.
Первый сон сейчас Груица видит.
А потом к Стамбулу мы поедем,
Премладою стану я пашицей».
Поскакали одринские турки,
Едут, скачут ко двору Груицы.
Как приехали на двор Груицы,
Говорит пребелая Петкана:
«Слышите ли, одринские турки,
Путь открыт в прохладные покои,
Воеводу вы живым вяжите!»
Отворили одринские турки,
Отворили летние покои:
Груя дышит — ветром их сдувает,[160]
Не войти в покои воеводы,
Где уж тут вязать его живого!
Испугались одринские турки
И — бежать от Груи что есть духу!
Глянула пребелая Петкана,
Как бегут от воеводы турки,
Говорит им, бог ее убей:
«Гей, постойте, одринские турки!»
И вошла пребелая Петкана,
Наклонилась к воеводе близко
И взяла шелковые гайтаны,
Крепко руки Группе связала.
Вышла к туркам одринским Петкана
И слова такие им сказала:
«Не пугайтесь, одринские турки,
Но послушайте меня, Петкану:
Подымитесь в верхние покои
И схватите дитятко Михалчо,
Ведь оно ж юнацкого колена,
Как бы нам беды не учинило!»
Поднялися одринские турки
Да схватили дитятко Михалчо.
Входят и в прохладные покои,
Бьют ногами, будят Грую криком:
«Ты вставай, Груица-воевода,
Да ступай в Стамбул за нами следом,
Будешь вечным ты рабом в Стамбуле».
Пробудился Груя-воевода,
Что за диво видит воевода:
Турки в воеводиных покоях
Да на ровном на дворе Груицы,
Между ними дитятко Михалчо.
Разорили турки двор Груицы,
Двух юнаков в плен ведут с собою,
Гонят их в далекую дорогу.
Как вступили в лес они зеленый,
Притомился дитятко Михалчо:
«Слышишь ли, отец мой, воевода,
Я, отец мой милый, притомился,
Не смогу дойти я до Стамбула,
Тут упал бы я и тут бы умер».
Говорит Груица-воевода:
«К милой матушке ступай, Михалчо,
Ведь она же мать твоя родная,
Смилуется мать над милым сыном,
На коня она тебя посадит,
И поедешь во Стамбул во город,
Там мы будем вечными рабами».
И послушал дитятко Михалчо,
Со слезами матушку молил он
Посадить его коню на спину,
Чтоб верхом тяжелый путь продолжить.
Но в ответ пребелая Петкана:
«Сгинь, отстань, Груицыно отродье,
Не могу живым тебя и видеть,
А не то что пособлять ублюдку!»
Отошел Михалчо от Петканы,
Рассказал отцу и повторил он,
Что не вынести ему дороги,
Тут упал бы, тут бы лучше умер.
Говорит Груица-воевода:
«Ты послушай, дитятко Михалчо,
Полезай-ка на отцовы плечи,
Понесу тебя, пока есть силы,
Если ж упаду, умрем мы вместе».
Миновали лес они зеленый,
Росною пошли они левадой,
Там чешма на зелени пестрела.
Устали не ведает Груица.
А у турок кони притомились.
Говорит тогда паша стамбульский:
«Слышите ли, одринские турки,
Сделаем привал, коней отпустим,
Напоим коней своих усталых».
У чешмы они остановились,
Прилегли да тут же захрапели.
И Петкана прилегла с пашою,
Прилегла под деревом высоким,
Поиграли малость и заснули.
И сказал Груица-воевода:
«Ты послушай, дитятко Михалчо,
Подойди-ка к матушке потише,
Сунь за пазуху ей слева руку,
Нож там спрятан с черной рукояткой.
Если б ты освободил мне руки,
Увидал бы дивное ты диво!»
Тихо подошел тогда Михалчо,
Тихо к милой матушке подкрался,
Отыскал, где нож у ней припрятан,
К милому отцу с ножом вернулся.
И сказал Груица-воевода:
«Ах, сыночек, милый мой сыночек,
Перережь-ка шелковы гайтаны,
Правую освободи мне руку».
Начинает дитятко Михалчо
Разрезать шелковые гайтаны:
«Ох, впилися глубоко гайтаны,
Не могу гайтаны перерезать!»
Говорит Груица-воевода:
«Слышишь ли ты, дитятко Михалчо,
Режь по мясу, только жил не трогай,
Вот тогда освободишь мне руку».
Режет с мясом дитятко Михалчо,
Лопнули шелковые гайтаны.
Как увидел Груя-воевода,
Как увидел, что свободны руки,
Молвил так Груица-воевода:
«Слышишь ли ты, дитятко Михалчо,
Выбирай коня себе по нраву».
И пошел Груица-воевода,
Ласточку-коня себе приводит,
У паши увел коня Михалчо.
Груя в руки взял складную саблю,
С посвистом размахивает ею,
Громким голосом кричит Груица:
«Эй, вставайте, одринские турки,
Эй, гоните Грую-воеводу,
До Стамбула вашего гоните,
Чтоб до гроба был рабом турецким!»
Пробудились одринские турки,
Да от страха с разумом не сладят.
Стал рубить их Груя-воевода
Вместе с сыном, дитяткой Михалчо,
Вот когда умылись кровью турки!
Два юнака две скрестили сабли,[161]
И сломались их складные сабли,
Лишь осколки полетели наземь,
Лишь тогда друг друга разглядели.
Закричал Груица-воевода:
«Выходи, пребелая Петкана,
Выходи, домой с тобой поедем».
И связал ей Груя белы руки
И погнал пешком перед конями,
Чтобы кони ноги ей топтали.
Миновали росную долину,
Выбрались на ровную дорогу,
Вот ступили и на двор Груицы,
Видят разоренное подворье.
Кликнул тут Груица-воевода,
Кликнул всех, и молодых и старых,
Чтоб к нему явились на подворье,
Чтоб вина испить, испить ракии,
Вымазал пребелую Петкану[162]
Черною смолой, намазал воском,
Запалил Петкану при народе,
Чтобы пир заздравный освещала.
Рано встала[164] девушка-турчанка,[165]
До зари проснулась, до рассвета,
На Марице холст она белила.
До зари чиста была Марица,
На заре Марица помутилась,
Вся в крови, она побагровела,
Понесла коней она и шапки,
А к полудню — раненых юнаков.
Вот плывет юнак перед турчанкой,
Увлекает храбреца теченье,
По теченью тянет вниз Марицы.
Увидал он девушку-турчанку
И взмолился, богом заклиная:
«Пожалей, сестра моя турчанка,[166]
Дай мне взяться за конец холстины,
Помоги мне выбраться на берег,
Отплачу я щедрою наградой!»
Пожалела девушка юнака,
Бросила ему конец холстины,
Вытащила храбреца на берег.
На юнаке раны, их семнадцать,
На юнаке пышные одежды,
Кованая у колена сабля,
Три златых сияют рукояти,
Каждая сверкает самоцветом,
За три царских города не купишь.
Спрашивает раненый турчанку:
«Девушка, сестра моя турчанка!
С кем живешь ты в этом белом доме?»
Отвечает девушка-турчанка:
«Я живу там с матушкой-старушкой,
С милым братцем, Мустафой-агою».[167]
Говорит юнак ей незнакомый:
«Девушка, сестра моя турчанка!
Сделай милость, поклонись ты брату,
Чтобы взял меня на излеченье.
Есть со мной три пояса червонцев,
В каждом триста золотых дукатов.
Я один дарю тебе, сестрица,
Мустафе-аге другой дарю я,
Третий же себе я оставляю,
Чтоб лечить мне раны и увечья.
Если бог пошлет мне исцеленье,
Отплачу я щедрою наградой
И тебе, и брату дорогому».
Вот пошла домой к себе турчанка,
Мустафе-аге она сказала:
«Мустафа-ага, мой милый братец!
Я спасла юнака на Марице,
Из воды спасла его студеной,
У него три пояса червонцев,
В каждом триста золотых дукатов,
Дать он обещал мне первый пояс,
А другой тебе за избавленье,
Третий же себе он оставляет,
Чтоб лечить увечия и раны.
Сделай милость, братец мой любимый,
Не губи несчастного юнака,
Приведи домой его с Марицы!»
Вышел турок на реку Марицу,
И едва он храбреца увидел,
Выхватил он кованую саблю,
И отсек он голову юнаку.
Снял потом он с мертвого одежду
И домой с добычею вернулся.
Подошла сестра к нему турчанка,
Увидала саблю и одежду
И сказала брату со слезами:
«Милый брат, зачем ты это сделал!
Погубил зачем ты побратима!
И на что позарился ты, бедный,
На одну лишь кованую саблю!
Дай бог, чтоб тебя убили ею!»
Так сказала — в башню убежала.[168]
Пролетело времени немного,
От султана вышло повеленье
Мустафе-аге идти на службу.
Как поехал Мустафа на службу,
Взял с собой он кованую саблю.
При дворе турецкого султана
Все на саблю острую дивятся,
Пробуют и малый и великий,
Да никто не вытащит из ножен.
Долго сабля по рукам ходила,
Взял ее и Королевич Марко,
Глядь — она сама из ножен рвется.
Посмотрел на саблю Королевич,
А на ней три слова христианских:
Первое: «Новак, кузнечный мастер»,
Следующее: «Король Вукашин»,
Третье слово: «Королевич Марко».
Тут предстал юнак пред Мустафою:
«Отвечай мне, молодец турецкий,
Где ты взял, скажи мне, эту саблю?
Может, ты купил ее за деньги?
Иль в бою тебе она досталась?
Иль отец оставил по наследству?
Иль в подарок принял от невесты?»
Мустафа-ага ему ответил:
«Эх, неверный Королевич Марко!
Если хочешь — все тебе открою».
И открыл всю правду без утайки.
Молвил турку Королевич Марко:
«Что ж ты, турок, не лечил юнака?
Выпросил бы я тебе именье
У царя, пресветлого султана».
Мустафа-ага смеется дерзко.
«Ты, гяур, с ума, как видно, спятил!
Если б мог ты получить именья,
Для себя их выпросил бы, верно!
Отдавай-ка саблю мне обратно!»
Тут взмахнул отцовской саблей Марко,
И отсек он голову убийце.
Лишь дошло все это до султана,
Верных слуг послал он за юнаком.
Прибежали слуги за юнаком.
А юнак на турок и не смотрит,
Пьет вино из чаши — и ни с места.
Надоели Марку эти слуги,
Свой кафтан он на плечи накинул,
Взял с собою шестопер тяжелый
И пошел к турецкому султану.
В лютом гневе Королевич Марко,
В сапогах он на ковер уселся,[169]
Злобно смотрит Марко на султана,
Плачет он кровавыми слезами.
Заприметил царь его турецкий,
Шестопер увидел пред собою,
Царь отпрянул, Марко следом прянул,
И прижал султана он к простенку.
Тут султан пошарил по карманам,
Сто дукатов вытащил для Марка:
«Вот тебе, мой Марко, на пирушку!
Кто тебя разгневал понапрасну?»
«Царь-султан, мой названый родитель!
Попусту не спрашивай юнака:
Саблю я отцовскую увидел!
Будь она в твоей, султан, деснице,
И с тобой бы я не посчитался!»
И пошел юнак в свою палатку.
Рано утром в путь собрался Марко,
Рано утром к Косову поехал.
Лишь подъехал он к реке Серване,[171]
Повстречал он Косовку-девицу.
Пожелал ей счастья Королевич:
«Бог на помощь, Косовка-девица!»
До земли девица поклонилась:
«Будь здоров, юнак мой незнакомый!»
Стал юнак беседовать с девицей:
«Дорогая Косовка-девица!
Молода ты с виду, и пригожа,
И стройна, и личиком румяна,
Лишь коса одна тебя не красит,
Оттого, что рано поседела.
Расскажи мне, Косовка-девица,
Ты сама ли счастье потеряла,
Ты сама иль старый твой родитель,
Твой отец иль матушка родная?»
Зарыдала Косовка-девица
И в ответ промолвила юнаку:
«Брат мой милый, витязь незнакомый!
Не сама я счастье потеряла,
Не сама, не старый мой родитель,
Не отец, не матушка родная.
Но недаром счастья я лишилась:
Девять лет,[172] как мы в беде великой,
Злой Арап пришел к нам из-за моря,
Откупил он Косово у турок,
Наложил на жителей поборы,
Чтоб его кормили да поили.
А еще берет Арап на свадьбах
За невест по тридцати дукатов,
С женихов — по тридцать и четыре.
Коль юнак богатого семейства,
Значит, может тот юнак жениться,
А невеста может выйти замуж.
У меня же братья небогаты,
Откупиться нечем от Арапа,
Оттого и в девках я осталась,
Оттого и счастья я лишилась.
Может, я не очень бы тужила,
Что нельзя девице выйти замуж,
А юнаку бедному жениться,
Но придумал худшее злодейство:
Повелел проклятый тот насильник
Приводить девиц к нему на ложе:
Незамужних сам Арап целует,
А замужних слуги обнимают.
Наложил на Косово он подать,
Чтоб девиц давали по порядку,
Нынче вышла очередь за мною
Отправляться вечером к Арапу,
Миловаться с Черным до рассвета.
Вот теперь и думаю я, братец:
«Боже милый! Что теперь мне делать!
Или в воду броситься, несчастной,
Или мне повеситься от горя?
Лучше, брат, покончить мне с собою,
Чем ласкать душителя отчизны!»»
Говорит ей Королевич Марко:
«Дорогая Косовка-девица!
Не шути ты, в воду не бросайся,
Не губи себя своей рукою,
Не бери, сестра, греха на душу!
Ты скажи мне, где дворы Арапа,
Где его Арапово подворье?
Надо мне с Арапом столковаться».
Отвечает девушка юнаку:
«Милый брат мой, витязь незнакомый!
Что тебе в Араповом подворье?
Пропади он пропадом, проклятый!
Может, ты нашел себе невесту
И несешь за девушку дукаты?
Может быть, у матушки один ты?
Берегись! Арап тебя загубит!
Как тогда прокормится старушка?»
Вынул Марко тридцать ей дукатов,
Показал их Косовке-девице:
«Вот тебе, сестра моя, дукаты,
Уходи домой к себе скорее;
Жди, покуда счастье не вернется.
Но скажи мне, Косовка-девица,
Где дворы проклятого Арапа,
Я снесу ему твои дукаты.
Тот Арап губить меня не будет,
У меня достаточно богатства,
Заплатить за Косово мне хватит.
За тебя ж тем более достанет».
Говорила Косовка-девица:
«Не дворы у нашего Арапа,
Но шатры поставлены простые.
Посмотри на Косово отсюда,
Видишь, вьется шелковое знамя?
Там палатка Черного Арапа,
А вокруг шатра и тын зеленый
Головами мертвыми украшен.
За неделю тот Арап проклятый
Семьдесят и семь[173] убил юнаков.
У Арапа сорок слуг на страже,
Сторожат Арапово подворье».
Лишь услышал Марко эти речи,
Поскакал по Косову он низом,
Распалил юнак лихого Шарца:
Из-под ног живой огонь сверкает,
Синий пламень из ноздрей струится.
Марко злится, по Косову мчится,
Льются слезы по лицу юнака:
«Косово, ой, ровное ты поле!
До чего мы дожили с тобою!
Уж теперь не князь наш благородный[174]
Злой Арап тобою управляет!
Не снесу я этого позора,
Не стерплю великой той печали,
Чтоб чинил Арап свои обиды,
Целовал и девушек и женщин.
Я отмщу за вас сегодня, братья,
Отмщу за вас или погибну!»
Стал юнак к арапам приближаться,
Увидали стражи незнакомца,
Побежали к Черному Арапу.
«Господин Арап ты наш заморский!
Дивный витязь скачет по Косову,
Распалил коня он удалого,
Из-под ног живой огонь сверкает,
Синий пламень из ноздрей струится,
Знать, юнак на нас ударить хочет».
Молвил стражам Черный тот Арапин:
«Что вы, дети, сорок верных стражей!
Не посмеет он на нас ударить,
Он, как видно, думает жениться
И везет нам свадебную подать.
Жаль юнаку своего богатства,
Оттого и злится он, наверно.
Выходите вы во двор зеленый,
И юнака встретьте, как пристало.
Поклонитесь вы ему смиренно,
Доброго коня его примите,
И коня примите, и оружье,
И в шатер пустите незнакомца,
Не богатство — голову возьму я
И коня добуду у юнака».
Побежали слуги от Арапа,
Чтоб принять коня у незнакомца,
Но когда подъехал Королевич,
Не посмели слуги подступиться,
Кинулись в шатер они обратно,
Прячутся за Черного Арапа,
Под полой утаивают сабли,
Чтобы Марко сабель не увидел.
На подворье въехал Королевич,
Соскочил он с Шарца боевого,
Доброму наказывает Шарцу:
«Ты гуляй, мой Шарац, по подворью,
Жди, пока я буду у Арапа,
От шатра не отходи далеко,
Помоги, коль туго мне придется».
Тут вошел к Арапу Королевич —
Пьет вино холодное Арапин,
Служит за столом ему девица,
Подает вино ему молодка.
Поклонился Королевич Марко:
«Бог на помощь, господин Арапин!»
Хорошо Арап ему ответил:
«Будь здоров, юнак мой незнакомый!
Подойди, вина со мною выпей,
Расскажи, зачем ко мне явился».
Отвечает Королевич Марко:
«Недосуг мне бражничать с тобою!
С добрым делом я к тебе явился,
С добрым делом, лучше быть не надо.
Я посватал красную девицу,
Да оставил сватов на дороге,
Сам явился с пошлиной за свадьбу,
Чтобы с той девицей обвенчаться,
Чтобы в том мне не было помехи.
Сколько денег ты берешь за свадьбу?»
Хорошо Арап ответил Марку:
«Сколько денег — это всем известно:
За невест по тридцати дукатов,
С женихов по тридцать и четыре.
Ты, как видно, молодец не промах,
Потому с тебя не меньше сотни».
Тут пошарил Марко по карманам,
Три дуката бросил он Арапу:
«Верь, Арап, что нету больше денег,
Подожди, пока вернусь с девицей,
Славный дар мне родичи готовят,
Все тебе отдам, не пожалею,
Дар — тебе, а мне — моя невеста».
Лютым змеем взвизгнул тот Арапин:
«Что ж я, курва, в долг тебе поверю?
Сам не платишь, да еще смеешься!»
Тут взмахнул он тяжким шестопером
И ударил доброго юнака,
И не раз, а три-четыре раза.
Засмеялся Королевич Марко:
«Ой, юнак! Ой, Черный ты Арапин!
Шутишь ты иль бьешь меня без шуток?»
Лютым змеем взизгнул тот Арапин:
«Не шучу я, бью тебя без шуток!»
И тогда промолвил Королевич:
«Я-то думал, ты, несчастный, шутишь,
Ну, а если вправду ты дерешься,
То и я владею шестопером,
Чтобы стукнуть три-четыре раза.
Сколько раз ты здесь меня ударил,
Столько раз и я тебя ударю,
А потом пойдем с тобою в поле,
Снова выйдем там на поединок».
Тут взмахнул он тяжким шестопером
И ударил Черного Арапа.
Полегоньку он его ударил,
Только выбил голову из шеи.
Засмеялся Королевич Марко:
«Боже милый, честь тебе и слава!
Как башка-то скоро отскочила,
Будто на плечах и не сидела!»
Вынул Марко кованую саблю,
Начал сечь Араповых он стражей,
Порубил он сорок лиходеев,
С четырьмя решил не расправляться,
Чтоб они рассказывали людям,
Что случилось с Марком у Арапа.
Тут собрал он головы юнаков
И честному предал погребенью,
Чтоб орлы их больше не клевали,
И украсил тын опустошенный
Головами черных тех арапов,
И казну забрал их без остатка.
Четырех же стражей неубитых
Он на Косово отправил поле,
Чтоб они по Косову ходили
И всему народу объявляли:
«У кого есть девушка-невеста,
Пусть выходит замуж, молодая!
Если хочет где юнак жениться,
Пусть без страха выбирает любу!
Больше нету пошлины на свадьбу,
Расплатился Королевич Марко!»
Тут и старый закричал и малый:
«Дай бог здравья славному юнаку!
Он наш край от бедствия избавил,
Истребил насильника Арапа,
Пусть господь душе его и телу
Ниспошлет свое благословенье!»
Был указ султана Сулеймана[176]
В рамазан[177] не бражничать народу,[178]
Не носить зеленые кафтаны,[179]
Не носить и кованые сабли,
Не кружиться с девушками в коло.[180]
Марко водит с турчанками коло,
Марко носит кованую саблю,
Что ни день — в зеленом он кафтане,
В рамазан винище распивает,
Да еще муллам велит и ходжам,
Чтоб и турки с Марком пировали.
Бьют челом неверные султану:
«Сулейман, отец наш и владыка!
Разве ты не отдал повеленье
В рамазан не бражничать народу,
Не носить зеленые кафтаны,
Не носить и кованые сабли,
Не кружиться с девушками в коло?
Марко водит с турчанками коло,
Марко носит кованую саблю,
Что ни день — в зеленом он кафтане,
В рамазан винище распивает.
Мало что грешит он в одиночку,
Он еще муллам велит и ходжам,
Чтоб мы, турки, с Марком пировали»
Только царь услышал это слово,
Кликнул он двоих чаушей верных:
«Отправляйтесь к Марку, вы, чауши,
Возвестите царское веленье,
Чтобы Марко на диван явился».
Побежали к Марку те чауши
И в шатер к юнаку прибежали.
Марко пьет вино и веселится,
Да не чашей пьет он, а корчагой.
Объявили царские чауши:
«Ты послушай, Королевич Марко!
Царь-султан велит тебе, юнаку,
На совет немедленно явиться».
Рассердился Королевич Марко,
Размахнулся он своей корчагой
И ударил по лбу он чауша,
Треснул лоб, корчага раскололась,
И вино и кровь перемешались.
Вот к царю явился Королевич,
Сел он возле царского колена,
Соболь-шапку на лоб нахлобучил,
Под рукою шестопер приладил,
Приготовил саблю на колене.
Начал царь вести такие речи:
«Сын названый, Королевич Марко!
Мой указ, наверное, ты знаешь,
В рамазан не бражничать народу,
Не носить зеленые кафтаны,
Не носить и кованые сабли,
Не кружиться с девушками в коло.
Мне же люди добрые сказали,
Горемыку Марка обвинили,
Что ты водишь с турчанками коло,
Что ты носишь кованую саблю,
Что всегда в зеленом ты кафтане,
В рамазан винище распиваешь,
Да еще велишь ходжам почтенным,
Чтоб они с тобою пировали!
Что ты шапку на лоб нахлобучил,
Под рукою шестопер приладил,
Приготовил саблю на колене?»
Отвечает Королевич Марко:
«Царь-султан, родитель мой названый!
Коль я пью во время рамазана,
Значит, вера пить мне разрешает.
Коль ходжей почтенных угощаю,
Значит, царь, я вынести не в силах,
Чтоб я пил, а турки лишь глазели,
Пусть в корчму ко мне они не ходят.
Если я ношу кафтан зеленый,
Значит, мне к лицу кафтан, юнаку.
Если подпоясал эту саблю,
Значит, я купил ее за деньги.
Коль вожу я с турчанками коло,
Значит, молод я и неженатый,
Как и ты женат когда-то не был.
Коль я шапку на лоб нахлобучил,
Значит, речь твоя мне не по сердцу.
Коль я шестопер к себе придвинул
И держу я саблю на колене,
Значит, нынче ожидаю ссоры.
Ну, а коль начнется ссора,
Тот, кто ближе всех к Марку, первым сгинет!»
Оглянулся царь-султан турецкий,
Кто стоит тут ближе всех от Марка,
Ан пред Марком никого и нету,
Только он один, султан турецкий.
Царь отпрянул, Марко следом прянул,
И прижал султана он к простенку.
Тут султан пошарил по карманам,
Подает юнаку сто дукатов:
«Вот тебе, мой Королевич Марко!
Ты поди и пей вино хмельное».
Раз охотился визирь турецкий,
Он охотился в лесу зеленом,
С ним двенадцать было делибашей,[182]
А тринадцатый средь них был Марко.
Трое суток были на охоте,
Никакой им дичи не попалось,
Порешили к озеру поехать,
К озеру, в зеленой чаще леса,
Плавали там утки-златоперки.[183]
Сокола визирь с руки подбросил,
Чтоб схватил он утку-златоперку.
Только утка не попалась в когти,
В небо к облакам она взлетела,
Без добычи сел на елку сокол.
Тут промолвил Королевич Марко:
«Разрешишь ли мне, визирь великий,
Сокола и моего подбросить,
Чтоб поймал он утку-златоперку?»
И Мурат-визирь[184] ему ответил:
«Почему бы не позволить, Марко?»
Марко сокола с руки подбросил,
Взвился Марков сокол прямо к небу,
И схватил он утку-златоперку,
Сел с добычей под зеленой елью.
Как увидел то Муратов сокол,
Обозлился, люто разъярился.
Он приучен был к дурной повадке
У другого отнимать добычу.
Подлетел он к соколу под елью,
Отнимать стал утку-златоперку,
А у Марка сокол бы упрямый,
Норовом был, как его хозяин:
Не отдал он утку-златоперку,
Ухватил он сокола чужого,
Сизый пух его пустил по ветру.
Как Мурат-визирь увидел это,
Стало турку горько и досадно.
Сокола о елку он ударил,
Правое крыло расшиб ударом.
Поскакал Мурат в густую чащу,
А за ним двенадцать делибашей.
Сокол Марка запищал свирепо,
Словно лютая змея под камнем.
Сокола взял Королевич Марко,
Обвязал ему крыло больное,
Голосом сердитым он промолвил:
«Нам обоим тяжко, милый сокол,
С турками охотиться без сербов:
Их обычай — отнимать добычу!»
Марко повязал крыло соколье
И вскочил на Шарца боевого
Да помчался через лес дремучий.
Шарац мчится, как лесная вила,
Быстро мчится, вот уж он далеко.
Миновал он скоро лес дремучий,
Средь равнины он настиг Мурата
И Муратовых делий двенадцать.
Обернулся тут Мурат тревожно
И увидел за собою Марка,
Говорит своим он делибашам:
«Делибаши, дети, поглядите,
Видите ль вы сзади облак пыли,
Облак пыли близ черного леса?
Это скачет Королевич Марко.
Поглядите, как он гонит Шарца!
Будет худо, не спасет нас чудо!»
Тут настиг их Королевич Марко,
Выхватил он кованую саблю,
Поскакал наперерез Мурату,
Врассыпную поскакали турки —
Кобчик в тернах воробьев так гонит.
Марко в поле настигает турок.
Голову отсек Мурату Марко,
Надвое рассек двенадцать турок,
Так что стало двадцать и четыре.
Стал тут думать Королевич Марко:
Нужно ль ехать ко двору султана
Или в белый двор свой возвратиться?
Все обдумал Марко и промолвил:
«Лучше ехать мне в Едрен,[185] к султану,
Рассказать о том, что я наделал,
Прежде чем пожалуются турки».
В Едрен прибыл Королевич Марко
И явился на совет к султану.
Очи Марка злобно загорелись,
Так голодный волк глазами блещет:
Марко глянет — молния сверкает.
Спрашивает Марка царь турецкий:
«Сын приемный, Королевич Марко,
Что тебя так сильно разъярило?
Или денег у тебя не стало?»
Тут султану Марко все поведал,
Рассказал, что было на охоте.
Царь турецкий выслушал юнака,
Громким смехом султан рассмеялся,
Милостиво Марку он ответил:
«Молодец, мой сын приемный Марко!
Если б ты не натворил такого,
Сыном бы моим не назывался.
Всякий турок может стать визирем,
А юнаков нет таких, как Марко!»
Руку сунул царь в карман шелковый,
Достает он тысячу дукатов,
Отдает их поскорее Марко:
«Вот возьми, мой сын приемный Марко,
Успокойся и вина напейся».
Королевич Марко взял дукаты,
И покинул он диван турецкий.
Эти деньги дал султан юнаку
Не затем, чтоб он вина напился,
А чтоб с глаз он поскорей убрался:
Больно люто Марко разъярился!
Проезжали двое побратимов,
Проезжали белым Цареградом,[187]
Это ехал Королевич Марко
С побратимом Костадином-бегом.[188]
Молвил слово Королевич Марко:
«Мой Костадин, верный брат названый!
Вот я еду стольным Цареградом,
Да боюсь с бедою повстречаться,
Как бы кто на бой меня не вызвал.
Притворюсь-ка, будто я недужен
Злым недугом, нутряною хворью».
Притворился хворым Королевич,
Да не с горя — с хитрости великой:
Навалился телом он на Шарца,
Всем нутром к седлу его прижался,
Так и ехал вдоль по Цареграду.
Славная ему случилась встреча —
Повстречался он с Алил-агою,[189]
А за тем Алил-агою царским
Едут тридцать грозных янычаров.
Закричал Алил-ага юнаку:
«Эй, юнак мой, Королевич Марко!
Выходи стрелять со мной из лука!
Если бог в бою тебе поможет,
Если ты меня перестреляешь,
Отдаю тебе мое подворье
И с подворьем все мое богатство,
А с богатством — верную супругу.
Если ж я тебя перестреляю,
Не нужны мне дом твой и супруга,
Самого лишь я тебя повешу
Да возьму коня лихого Шарца».
Отвечает Королевич Марко:
«Отвяжись ты, турок распроклятый!
Мне сейчас не до стрельбы с тобою,
Хворь меня сегодня одолела,
Злой недуг, хвороба нутряная.
На коне не в силах я держаться,
А не то что тешиться стрельбою».
Но не хочет турок отвязаться,
За доламу справа он хватает.
Вынул ножик Королевич Марко,
И полу он правую отрезал:
«Уходи и будь ты, турок, проклят!»
Но не хочет турок отвязаться,
За доламу слева он хватает.
Вынул ножик Королевич Марко,
И полу он левую отрезал:
«Уходи, пусть бог тебя накажет!»
Но не хочет турок отвязаться,
Ухватил он Шарца за поводья,
Рвет поводья правою рукою,
Левой Марка тянет за собою.
Вспыхнул Марко, словно лютый пламень,
На лихом он выпрямился Шарце,
Потянул рукою за поводья,
Разъярился Шарац, как безумный,
Перепрыгнул коней и юнаков.
Кличет Марко Костадина-бега:
«Мой Костадин, верный брат названый!
Поезжай ты на мое подворье,
Привези стрелу мне татаранку,[190]
А у той стрелы у татаранки
Девять белых перьев соколиных.
Я пойду к судье с Алил-агою,
Чтоб скрепить наш договор печатью
И потом не спорить понапрасну».
Бег помчался к Маркову подворью,
Турок с Марком в суд поторопились.
Лишь пришел Алил-ага к эфенди,[191]
Туфли снял, с судьей уселся рядом,
Отсчитал он двенадцать дукатов,
Бросил их эфенди под колено.
«О эфенди, вот тебе дукаты,
Не скрепляй наш договор печатью!»
Понял турка Королевич Марко,[192]
Но при нем дукатов не случилось,
Шестопер он вынул золоченый
И сказал судье такое слово:
«Вот мой сказ, эфенди правосудный![193]
Утверди наш договор печатью,
А не то ударю шестопером,
Тут тебе и пластырь не поможет,
Позабудешь ты свое судейство
И дукатов больше не увидишь».
На судью напала лихорадка,
Шестопер судье не приглянулся,
Он печать пытается поставить,
А рука от ужаса трясется.
На стрельбу отправились юнаки,
За агою — тридцать янычаров,
А за Марком нет ни человека,
Лишь зеваки греки да болгары.
Как пришли на ту стрельбу юнаки,
Говорит Алил-ага турецкий:
«Ты, юнак, стреляй сегодня первым,
Это ты собою похвалялся
Пред самим султаном на диване,
Что убьешь орла ты крестового,[194]
Что приводит за собою тучи».[195]
Отвечает Королевич Марко:
«Верно, турок, я стрелок отменный,
Только саном ты меня постарше,
Потому что ваша власть над нами.
И в стрельбе ты старше надо мною,
На стрельбу меня ты первый вызвал,
Потому стрелять ты должен первым».
Вышел турок с первою стрелою,
Выстрелил и меряет аршином,
Выстрелил на сто аршин и двадцать.
Вышел Марко с первою стрелою —
Та стрела две сотни пролетела.
Вышел турок со второй стрелою —
Та стрела три сотни пролетела.
Вышел Марко со второй стрелою —
Та стрела пять сотен пролетела.
Вышел турок с третьего стрелою —
Та стрела шесть сотен пролетела.
Тут к юнаку побратим приходит
И стрелу приносит татаранку,
А у той стрелы у татаранки
Девять белых перьев соколиных.
Как пустил тот Марко татаранку —
В пыль и мглу умчалась татаранка,
До нее и глазом не достанешь,
А не то что смеряешь аршином!
Залился Алил-ага слезами,
Величает Марка побратимом:
«Брат по богу, Королевич Марко,
Брат по богу и его предтече,[196]
Ты мне брат по славной вашей вере!
Отдаю тебе мое подворье,
Отдаю тебе любу-турчанку,
Лишь меня, несчастного, не вешай!»
Отвечает Королевич Марко:
«Знать, ты, турок, бога не боишься!
Окрестил меня ты побратимом,
А даешь жену свою в супруги.[197]
Мне, ага, жены твоей не нужно,
Мы живем не так, как ваши турки,
Мы сноху сестрой своей считаем.
Елица[198]-жена меня ждет дома,
Благородная моя супруга.
Отпустил бы я тебя на волю,
Да испортил ты мою доламу,
Подавай мне три мешка червонцев,
Чтобы полы новые поставить!»
Тут ага вскочил, развеселился,
Обнимает брата и целует,
На господский двор его приводит,
Трое суток дома угощает.
Дал ему он три мешка червонцев,
Да сноха рубашку подарила
И платок с серебряным узором,
Да потом три сотни провожатых
Провожали Марка на подворье.
С той поры они в согласье жили,
Светлому царю хранили землю:
Если шло сраженье на окрайне,
Там Алил сражался вместе с Марком,
Если брали города и села,
Был с агой там Королевич Марко.
Пьет вино албанец лютый Муса,[200]
Пьет в корчме турецкого Стамбула,
А когда он досыта напился,
Во хмелю да в сердцах так промолвил!
«Девять лет с тех пор уж миновало,
Как служу я султану в Стамбуле.
Не выслужил коня, ни оружья
И не жалован новым кафтаном.
Даже мне не бросили обносков!
Но клянусь моею крепкой верой,
Убегу я в ровное Приморье,[201]
Запрещу перевозы морские,
Перекрою дороги к Приморью:
Выстрою на побережье башню,
Перед нею тын вобью с крюками,
Буду вешать ходжей, и имамов,
И других прислужников султана».
Все, чем Муса хмельной похвалялся,
Отрезвев, он сделал и взаправду.
Убежал он в ровное Приморье,
Запретил перевозы морские,
И пути преградил он к Приморью.
Нет дороги царским караванам:
Триста в год там вьюков[202] проходило.
Караваны ограбил разбойник.
Выстроил он башню у прибрежья,
Перед нею тын набил с крюками;
Ходжей вешает и пилигримов.[203]
Жалобы наскучили султану.
Чуприлича он послал, визиря,
А с визирем войско в триста тысяч.
Как спустилось войско в Приморье,
Разгромил его разбойник Муса.
В плен забрал Чуприлича[204]-визиря.
За спиною связал ему руки,
А под брюхом коня — его ноги,
Так послал он султану визиря.
Стал султан бойца искать повсюду.
Обещал он наградить по-царски
За лихую голову албанца.
Только тех, кто в Приморье спускался,
Больше и не видели в Стамбуле.
Опечалился царь, осердился.
Говорит ему ходжа Чуприлич:
«Господин мой, владыка Стамбула,
Если б был здесь Королевич Марко,
Он убил бы разбойника Мусу».
Мрачно царь посмотрел на визиря,
Говорит султан, роняя слезы:
«Отвяжись и не мели пустое!
Понапрасну вспомнил ты о Марке!
Даже кости Марковы истлели.
Вот прошло уже целых три года,
Как я бросил в темницу юнака,[205]
А с тех пор ее не открывали».
Отвечает Чуприлич султану:
«Милостивым будь, о повелитель,
Что ты дашь, скажи, тому юнаку,
Кто живого Марка вновь отыщет?»
Отвечает так султан турецкий:
«Дам ему боснийское визирство,
Девять лет будет Боснией править,
А с него ни гроша не возьму я».
Поспешает Чуприлич проворный,
Открывает ворота темницы,
Королевича Марка выводит
Перед очи ясные султана.
До земли его волосы пали —
Половиной себя покрывает,
Половина стелется по полу;
Мог бы землю пахать он ногтями.
Полумертв от сырости подвальной,
Почернел он, словно камень сизый.
Царь турецкий узника встречает:
«Жив ли ты еще хоть малость, Марко?»
«Жив я, царь, да живется мне плохо!»
Рассказал ему султан турецкий
Все, что Муса учинил в Приморье.
Королевича царь вопрошает:
«Сможешь ли поехать, сын мой Марко,
В ровное, далекое Приморье
И убить там разбойника Мусу?
Ты получишь казны, сколько хочешь».
Отвечает Королевич Марко:
«Ох, мой царь-государь, бог свидетель,
Сыростью темницы я изъеден,
И глаза мои на свет не смотрят.
Как могу я с албанцем сразиться?
Ты в кабак помести меня пьяный
Ты поставь мне вина и ракии,
Дай бараньего жирного мяса,
Караваев пшеничного хлеба.
Пусть пройдет три дня или четыре,
И скажу, готов ли к поединку».
Три цирюльника тут подскочили;
Один моет, другой бреет Марка,
Третий волосы стрижет и ногти.
В новом кабаке пирует Марко.
Слуги носят вино, и ракию,
И баранье жирное мясо,
Караваи пшеничного хлеба.
Так проводит три месяца Марко.
Подкрепился, ожил он немного.
Спрашивает царь его турецкий:
«Чай, теперь к тебе сила вернулась?
Бедняки мне жалуются горько
На насилья проклятого Мусы».
Марко так султану отвечает:
«С чердака пусть кизил принесут[206] мне,
Дерево, что девять лет сушилось,
Чтоб испробовать мог свою силу».
Принесли ему дерево слуги.
Сжал кизил Королевич десницей —
На три части дерево распалось,
Но вода не потекла на землю.
«Царь, еще не наступило время».
В кабаке проводит Марко месяц.
Через месяц поокреп он малость.
Видит Марко — может он сражаться.
Снова просит кизила сухого.
С чердака ему слуги приносят.
Он сжимает дерево десницей —
Разлетелось дерево на части
И две капли воды источило.
Говорит султану Королевич:
«Царь, для битвы наступило время».
Вот идет он к кузнецу Новаку:
«Скуй мне саблю, кузнец, постарайся,
Лучше всех, что сковал ты доселе».
Тридцать золотых дает Новаку.
В новом кабаке опять сидит он.
Пьет вино дня три или четыре.
В кузницу затем идет к Новаку.
«Эй, кузнец Новак, сковал ли саблю?»
Тут кузнец ему выносит саблю.
Спрашивает Королевич Марко:
«Хороша ли, Новак, эта сабля?»
Отвечает кузнец ему тихо:
«Вот и сабля — вот и наковальня.
Королевич Марко, сам попробуй!»
Взмахивает саблей Королевич,
Ударяет он по наковальне
И ее рассек до половины.
Спрашивает кузнеца Новака:
«Ты скажи мне, Новак, да по правде,
Ты сковал ли лучшую, чем эта?»
Марку так Новак отвечает:
«Я скажу, Королевич, по правде,
Раз случилось лучшую сковать мне,
Лучшую, для лучшего юнака.
Я сковал эту саблю для Мусы,
Перед тем, как бежал он в Приморье.
Он ударил саблею стальною —
Наковальню рассек и колоду».
Рассердился Королевич Марко.
Говорит он кузнецу Новаку:
«Протяни-ка мне правую руку,
Заплачу, кузнец, тебе за саблю».
Обманулся кузнец, да жестоко.
Протянул он десницу поспешно.
Саблею взмахнул его заказчик —
До плеча отсек Новаку руку.
«Вот тебе, Новак, кузнец умелый,
Чтоб ни лучшей не ковал, ни худшей.
Сто дукатов я даю в придачу,
Чтобы ты, покуда жив, кормился»
И бросает сто дукатов на пол.
Боевого Шарца оседлал он.
Поскакал он к ровному Приморью.
Мусу ищет, по дорогам рыщет.
Как-то рано утром ехал Марко
По теснине Качаника[207] горной,
А навстречу Муса, злой разбойник
На седле скрестил разбойник ноги.
Палицу под облака бросает
И хватает белою рукою.[208]
Съехались два храбрые юнака.
Тут промолвил Королевич Марко:
«Делибаш, сверни с моей дороги,
Свороти с пути иль поклонись мне».[209]
Так албанец Марку отвечает:
«Проезжай себе с богом, не ссорясь,
Иль поскачем вместе пить хмельное.
Не сверну пред тобою с дороги.
Хоть тебя родила королева
Во дворце и на мягких перинах,
В чистый шелк тебя пеленала,
Золотою тесьмою вязала
И кормила сахаром да медом.
Я рожден был лютою албанкой
Средь отары на камне студеном;
В черный плат меня мать пеленала
И вязала прутом ежевики
И кормила кашею овсяной,
Да к тому же меня заклинала
Никому не уступать дороги».
То услышав, Марко из Прилепа
За копье берется боевое,
Меж ушами направляет Шарца,
Прямо в грудь коварного албанца.
Палицей копье встречает Муса,
Перебрасывает над собою.
Тут свое копье берет разбойник,
Чтоб убить Королевича Марка.
Палицей копье встречает Марко,
Разбивает копье на три части.
Вот хватают кованые сабли,
Мчатся, разъяряся, друг на друга.
Взмахивает саблей Королевич —
Подставляет палицу албанец,
Разбивает саблю на три части.
Взмахивает саблею разбойник,
Чтоб сразить Королевича Марка —
Отражает удар Королевич;
Выбил он клинок из рукояти.
Шестоперами сражаться стали.
И на них обломали все перья.
Бросили на землю шестоперы.
Вот с коней удалых соскочили —
Кость на кость сошлись в борьбе юнацкой.
На траве зеленой, средь лужайки
Встретился юнак с другим юнаком —
Королевич Марко с храбрым Мусой.
Марко повалить не может Мусу.
Муса повалить не может Марка.
Так боролись они до полудня.
Белой пеною исходит Муса,
Белой и кровавой Королевич.
Тут проговорил разбойник Муса:
«Размахнись-ка, Королевич Марко,
Размахнись, иль оземь я ударю!»
Размахнулся Королевич Марко,
Только побороть врага не в силах.
Размахнулся тут Муса-разбойник,
Бросил Марка на траву густую,
Сел на грудь Королевича Марка.
Застонал тут Марко Королевич:
«Где ты скрылась, посестрима-вила,
Чтоб тебе, сестрица, было пусто!
Значит, поклялася ты мне ложно,
Что всегда в несчастье мне поможешь».
Закричала из облака вила:
«Что ты сделал, Марко Королевич,
Разве я тебе не говорила,
Не бранись, не дерись в воскресенье!
Стыдно нам двоим с одним сражаться.
Где твоя змея таится, Марко?»[210]
Посмотрел на облако албанец
И на горы, где скрывалась вила.
Марко вынул острый нож украдкой.
Распорол он разбойника Мусу
От пояса до белого горла.
Мертвый придавил албанец Марка,
И едва из-под пего он вылез;
А когда поворачивал тело,
Видит три в груди у Мусы сердца,
В три ряда богатырские ребра.
Притомилося первое сердце,
А второе яростно трепещет,
В третьем сердце змея притаилась.
Пробудилась лютая гадюка:
Мертвый Муса по лужайке скачет.
Марку так змея проговорила:
«Богу должен быть ты благодарен,
Что спала, покуда вы сражались.
Если бы в живом я пробудилась,
Тяжкая тебя ждала бы участь».
Это слышит Королевич Марко.
По лицу его катятся слезы:
«Горе мне, клянуся вышним богом,
Лучшего, чем я, убил юнака».
Отрубил он голову албанцу,
Бросил в торбу, и вскочил на Шарца,
И поехал к белому Стамбулу.
Выкатил он голову султану.
Подскочил султан, ее увидя.
И тогда промолвил Королевич:
«Ты не бойся, царь и повелитель, —
Как бы ты живого встретил Мусу,
Коль пред мертвой пляшешь головою!»
Получил он три вьюка сокровищ.
Едет Марко к белому Прилепу.
Мертвый Муса лежит обезглавлен
На вершине Качаника снежной.
И пропели разом птица-сокол,
Птица-сокол и птица-кукушка.
В Софии[212] есть новая харчевня,
В той харчевне Королевич Марко,
Он в харчевне вино попивает,
Наливает ему Ангелина,
Ангелина, дева-богатырка,
Наливает в маленькую чашу,
В чаше той пять пудов с половиной.
Выпил Марко, молвил Ангелине:
«Ангелина, милая сестрица,
Напои мне коня Шаркулия,
Напои-ка его вином красным,
Накорми-ка белою пшеницей,
Я поеду с Мусой потягаться.
Если Мусу в битве одолею,
За пятьсот куплю тебе монисто
Да за тыщу золотых колечко».
Ангелина послушалась Марка,
Опускалась в темные подвалы,
Наполняла мех вином трехлетним
И пшеницей торбу наполняла,
Накормила коня Шаркулия,
Накормила белою пшеницей
И полынным вином напоила,
Зануздала уздой золоченой,
Девять крепких подпруг подтянула.
На ноги встал Королевич Марко,
Подвязал он саблю в девять пядей,
Кожушок он маленький накинул,
Скроенный из тридцати медведей,
Нахлобучил маленькую шапку
Из двенадцати волков убитых,
Снарядился, на коня взобрался.
В дом входила дева Ангелина,
Выносила палицу юнаку,
Подала ему вина баклагу,
Говорила Ангелина Марку:
«Ты возьми вина с собою, братец,
Ты в карман свой положи баклагу,
Если встретишь сватов и невесту,
Дай им выпить за твое здоровье».
Принял Марко шестопер тяжелый,
Он баклагу взял у Ангелины
И в карман свой положил баклагу.
И промолвил Ангелине Марко:
«Поцелуй мне руку на прощанье[213]
И прощальный дар прими, сестрица».
Ангелина руку целовала,
Высыпал ей Марко шапку денег,
Полну шапку золотых мадьярских.
И погнал он копя Шаркулия.
Выезжал он из Софии-града,
Миновал он широкое поле
И поехал лесом, темным лесом.
Встретил Марка латинянин юный,
Говорил ему слова такие:
«Ох ты, Марко, Марко Королевич,
Пьешь и пьешь ты во Софии-граде,
Знать не знаешь, что царь тебя кличет,
Чтоб сгубил ты Мусу Кеседжию».
Тут в карман свой сунул Марко руку,
Вынул Марко вино из кармана,
Он латинянину дал баклагу,
Говорил ему слова такие:
«Если хочешь, стань мне побратимом,
Поезжай со мной к царю на свадьбу,
С дочкой царской хочу обвенчаться,
Молодою будет королевой.
Взять хочу я в град Прилеп[214] царевну,
Матери моей была бы помощь».
Согласился молодой латинец
И поехал тут же вслед за Марком,
Повстречался им в пути колодец,
У колодца сидел юнак добрый,
Молодой Михалчо-воевода.
Тихо молвил воевода Марку:
«Ой ты, Марко, Марко Королевич,
Ты не слышал, что царь тебя кличет?
Бражничаешь ты в харчевне новой,
Все целуешь ты белых корчмарок,
Обнимаешь девушек софийских.
Хочет царь, чтоб одолел ты Мусу».
Тут в карман свой Марко сунул руку,
Вынул Марко вино из кармана,
Воеводе протянул баклагу
И сказал ему слова такие:
«Если хочешь, стань мне побратимом,
Поезжай со мной к царю на свадьбу,
С дочкой царской хочу обвенчаться,
Молодою сделать королевой,
Взять хочу я в град Прилеп царевну,
Матери моей была бы помощь».
Согласился удалой Мпхалчо
И поехал тут же вслед за Марком,
Повстречали озеро юнаки,
Арапчонок в озере купался.
Поглядел на арапчонка Марко,
Засмеялся он в усы густые,
Арапчонку говорил негромко:
«Арапчонок, черный дьяволенок,
Твою кожу вода не отмоет,
Не отмоет вода, не промочит,
К молодому ступай живодеру,
Чтоб содрал твою черную кожу».
Арапчонок Марку отвечает:
«Ой ты, Марко, Марко Королевич,
Знать не знаешь, что царь тебя кличет,
Бражничаешь ты в харчевне новой,
Все целуешь ты белых корчмарок,
Обнимаешь девушек софийских
И софийских щупаешь молодок.
Кто повадился в эту харчевню,
Беспробудным пьяницей зовется;
Кто целует девок да молодок,
Смолоду слывет прелюбодеем;
Кто на царский зов идти не хочет,
Тот, видать, страшится поединка».
Тут в карман свой сунул руку Марко,
Вынул Марко вино из кармана,
Протянул баклагу арапчонку
И сказал ему слова такие:
«Если хочешь, стань мне побратимом,
Поезжай со мной к царю на свадьбу,
С дочкой царской хочу обвенчаться,
Молодою сделать королевой,
Взять хочу я в град Прилеп царевну,
Матери моей была бы помощь».
Согласился черный арапчонок
И поехал тут же вслед за Марком.
Луг зеленый вскоре показался,
Вбито в землю боевое знамя,
Конь юнацкий к знамени привязан,
На траве лежит юнак могучий,
Подает вино ему девица,
Угощает жареным барашком.
И воскликнул Королевич Марко:
«Эй, послушай, Муса Кеседжия,
Три юнака прибыли со мною:[215]
Черный — сват, а эти двое — дружки.
В жены взять хочу твою сестрицу,
В град Прилеп хочу ее забрать я,
Молодою сделать королевой,
Матери моей была бы помощь».
Поднимался Муса Кеседжия,
На коня вороного садился,
Закричал он, криком закричал он:
«Ой ты, Марко, Марко Королевич,
Выходи-ка ты на поединок,
Кто осилит, тот возьмет девицу!»
Устремился вперед Королевич,
Налетел на Мусу Кеседжию,
Бились, бились три дня и три ночи,
Изломали и ножи и сабли,
Изломали и стальные копья.
И промолвил Муса Кеседжия:
«Надо, Марко, сделать передышку,
Надо взять нам новое оружье,
Сабли взять у твоих побратимов —
Белых дружек и черного свата».
Обернулся Королевич Марко,
Но сбежали все три побратима,
Оба дружки вместе с черным сватом.
И промолвил Марко Королевич:
«Ой ты, Муса, Муса Кеседжия,
Спешимся и схватимся без сабель,
Кто осилит, тот возьмет девицу».
Спешились юнаки и схватились,
Бились, бились три дня и три ночи,
Королевич Мусу не осилит,
Не осилит Кеседжия Марка.
Схватит Марко рукой супостата —
Там, где схватит, мясо вырывает,
Схватит Марка Муса Кеседжия —
Всякий раз отламывает кости.
На ногах не удержался Марко,
На траву зеленую свалился.
Крикнул Марко, крикнул Королевич,
Закричал он, закричал он криком:
«Эй, сестрица, вила-самодива,
Появись ты, погляди на брата,
Враг ногами его попирает».
И взлетела вила-самодива,
Черно-белой тучей налетела,
Опустилась на лугу зеленом
И проговорила тихо Марку:
«Братец Марко, продержись немного,
Удержи врага рукою левой,
Протяни ко мне свою десницу
И возьми в десницу нож мой острый,
Поражает он людей и змеев».
Королевич протянул десницу,
Острый ножик взял у самодивы,
Распорол он Мусе белы груди.
И промолвил Муса Кеседжия:
«Ой ты, Марко, Марко Королевич,
Погляди-ка, что во мне ты видишь?»
И увидел Королевич Марко:
У противника в груди три сердца,
Первое совсем уже устало,
Пеною покрылося второе,
Третье сердце и не шелохнется.
Встал проворно Королевич Марко,
На коня он посадил девицу
И отправился в Софию-город.
Он дорогой нагнал побратимов,
Тех двух дружек и черного свата,
На скаку он отрубил им руки,
На скаку он выколол им очи.
И промолвил Королевич Марко:
«Эй вы, трое, трое побратимов,
Передайте вы царю Шишману:
Я царевну вызволил из плена,
В град Прилеп забрать хочу девицу,
Молодою сделать королевой».
И поехал он в Софию-город
И нашел там деву Ангелину,
Говорил он ей слова такие:
«Подымайся, к царю отправляйся,
Передай ему мои поклоны
И посватай за меня царевну».
Отправлялась дева Ангелина,
Приходила к царю, говорила:
«Шлет поклоны Марко Королевич,
Просит в жены дочь твою, царевну».
Царь Шишман ей говорил негромко:
«В плен попала дочь моя, царевна,
Похититель — Муса Кеседжия.
Этот Муса вот уж три недели
Пребывает на лугу зеленом,
Подает вино ему царевна.
Я просил Королевича Марка,
Чтобы дочь он вызволил из плена,
Королевич Мусы устрашился,
Этот Муса — юнак из юнаков».
Отвечала дева Ангелина:
«Ой ты, царь, скажу тебе по чести,
Спас царевну Королевич Марко,
Одолел он Мусу Кеседжию».
Царь вскочил и бросился в конюшню,
Сел верхом на коня Вихрегона,
Повстречал Королевича Марка,
Целовал его в черные очи,
Выдал замуж за него Величку.
Сели Марко с матерью вечерять,
Стала мать беседовать с юнаком:
«Сын мой милый, Королевич Марко!
Поседела я и постарела,
Нету сил собрать тебе вечерю,
Нету сил вином наполнить чашу,
Посветить зажженною лучиной.
Ты б женился, мой сынок любимый,
Чтоб при жизни мне была замена!»
Молвит Марко матери-старухе:
«Ты послушай, мать моя старуха!
В девяти бывал я королевствах
Да в десятом был турецком царстве:
Где и есть мне по сердцу невеста,
Та тебе придется не по нраву,
А тебе которая по нраву,
Та в невесты Марку не годится.
Лишь одна есть девушка-невеста
Во дворе у короля Шишмана.[217]
Я ее в земле нашел болгарской,
Увидал девицу у колодца.
Как увидел эту я девицу,
Так трава пошла от счастья кругом:
Это, мать, и для меня невеста,
И тебе помощница по нраву.
Испеки мне, матушка, калачик,[218]
Я поеду свататься к девице».
Лишь о том услышала старуха,
Ждать она не стала до рассвета,
Начала месить калачик сладкий.
Лишь назавтра утро засияло,
Оседлал юнак лихого Шарца,
Мех с вином к седлу повесил сбоку,
А с другого — шестопер повесил.
Сел потом на Шарца он лихого,
Поскакал в далекий край болгарский,
К королю помчался он Шишману.
Издали король его увидел,
Со двора пошел к нему навстречу.
Обнялись они, поцеловались,
О юнацком справились здоровье.
Взяли коней верные их слуги,
Отвели их в нижние конюшни,
К белой башне Марка проводили,
Усадили Марка за трапезу,
Стали пить вино король и Марко.
Лишь вина отведал Королевич,
Привскочил на легкие он ноги,
Шапку снял, Шишману поклонился,
Попросил в невесты королевну,
Отдал дочь король ему без слова.
Вынул Марко яблоко и перстень,[219]
Подал их болгарскому владыке.
Дал наряд невесте подвенечный,
Одарил своячениц и тещу,
Роздал им он три куля дукатов.
Через месяц свадьбу он назначил,
Чтобы съездить в Прилеп, город белый,
Да собрать на пир нарядных сватов.
Говорила матушка невесты:
«Зять мой милый, из Прилепа Марко!
Ты не звал бы сватов чужестранных,
Пригласил бы братцев ты родимых
Иль привел двоюродных с собою,
Больно уж красна у нас невеста,
Как бы грех какой не приключился!»
Кончил дело Королевич Марко,
Ночь провел он в королевской башне,
Рано утром оседлал он Шарца
И помчался в Прилеп, город белый,
Доскакал до Прилепа он града,
Увидала мать его старуха,
Увидала и навстречу вышла,
Обняла, в лицо его целует,
Он ее целует в белу руку.
Спрашивает матушка у Марка:
«Сын мой милый, Королевич Марко!
Хорошо ли ездил ты по свету?
Отыскал ли мне сноху-невестку,
Мне невестку, а себе супругу?»
Говорит ей Королевич Марко:
«Хорошо поездил я по свету,
Удалось мне девушку посватать,
Поистратить три мешка дукатов.
А когда собрался я обратно,
Мне сказала матушка невесты:
«Зять мой милый, Королевич Марко!
Ты не звал бы сватов чужестранных,
Пригласил бы братцев ты родимых
Иль привел двоюродных с собою,
Больно уж красна у нас невеста,
Как бы грех какой не приключился!»
У меня же братца нет родного,
Ни родного нет и ни иного».
Отвечала мать ему старуха:
«Сын мой милый, из Прилепа Марко!
Не тужи о том, не беспокойся,
Напиши ты мелкое посланье[220]
С приглашеньем дожу из Млетака,[221]
Пусть тебе на свадьбе будет кумом
И возьмет пятьсот с собою сватов.
А другое ты пошли посланье
Побратиму Земличу Степану,[222]
Пусть он будет деверем невесты
И возьмет пятьсот с собою сватов.
С ними ты греха, сынок, не бойся!»
Услыхал то слово Королевич
И послушал матушку-старуху,
Стал писать он письма на колене,[223]
Первое в Млетак послал он дожу,
А второе Земличу Степану.
Проходило времени немного,
Глядь — и дож явился из Млетака
И привел пятьсот с собою сватов.
Дож идет на верх высокой башни,
Дорогие сваты — в чисто поле.
Вслед за дожем и Степан явился
И привел пятьсот с собою сватов,
Кумовья на башне повстречались,
Напились вина они досыта.
Снарядились сваты за невестой,
Поспешили в дальний край болгарский,
Ко двору поехали Шишмана.
Тесть-король приветливо их встретил,
Взяли коней в нижние конюшни,
Добрых сватов в башню пригласили,
Трое суток в башне угощали.
Отдохнули кони и юнаки.
На четвертый день перед рассветом
Закричали свадебные дружки:
«Собирайтесь, кумовья и сваты,
Дней немного, а длинна дорога,[224]
Уж давно нас дома ожидают!»
Тут король принес для них подарки.
Тем по плату, этим по халату,[225]
Дал он куму блюдо золотое,
Золотую деверю рубашку.
Дал коня он, вывел дочь-невесту,
И сказал он деверю, прощаясь:
«Вот тебе и конь мой, и девица,
Поезжай ты к Марку в белый Прилеп,
Жениху отдай его невесту,
А себе коня оставь за службу».
Снарядились в путь-дорогу сваты
И поехали болгарским полем.
Там, где счастье, тут же и несчастье!
Дунул ветер по широку полю,
На невесте поднял покрывало,
Приоткрыл лицо ее девичье.
Лишь увидел дож лицо девичье,
Голова от муки закружилась,
Еле ночи он в пути дождался.
Только на ночлег расположились,
Дож приходит к Земличу Степану
И в шатре такое молвит слово:
«Дай мне, деверь, эту деву на ночь,
Пусть женой мне будет до рассвета,
Подарю сапог[226] тебе дукатов.
Мой Степан, дукатами осыплю!»
Говорит Степан, увещевает:
«Дож, опомнись! Брось ты эти шутки!
Или вздумал с жизнью распроститься?»
Дож ни с чем вернулся восвояси,
Промолчал до следующей ночи,
Там опять приходит он к Степану,
Говорит в шатре такие речи:
«Дай, Степан, мне эту деву на ночь,
Пусть женой мне будет до рассвета,
Дам тебе два сапога дукатов,
Доверху дукатами насыплю».
Говорит Степан ему сердито:
«Уходи! Простишься с головою!
Кум с кумой не могут миловаться!»[227]
Снова дож вернулся от Степана,
Промолчал до третьего ночлега,
Там опять в шатер к нему приходит,
Говорит в шатре такие речи:
«Дай мне, деверь, эту деву на ночь,
Пусть женой мне будет до рассвета,
Дам тебе я три сапога дукатов!»
И Степан позарился на деньги,
Отдал дожу милую невестку,
Взял за то три сапога дукатов,
За червонцы продал молодую.
Дож невестку взял за белу руку
И отвел под свой шатер походный:
«Сядь, не бойся, кумушка-голубка,
Обниматься будем, миловаться!»
Отвечает девушка-болгарка:
«Кум несчастный, разве это дело!
Ведь земля провалится под нами,
Небеса обрушатся на землю,
Разве можно с кумом миловаться!»
Говорит ей дож такие речи:
«Вздор все это, кумушка-голубка!
С девятью я кумушками ладил,
Что со мною были на крещенье,
А из тех, кто были на венчанье,
Обольстил я двадцать и четыре,
И земля тогда не провалилась,
Небеса не рушились на землю.
Сядь же рядом, будем миловаться!»
Но невеста куму отвечала:
«Нет, мой кум, не дело нам любиться!
Заклинала мать меня старуха
Удальцов страшиться бородатых.
Мне любезен только безбородый,
Как жених мой Королевич Марко!»
Как услышал дож такие речи,
Кликнул он проворных брадобреев,
Первый мылит, а другой уж бреет.
Поклонилась девушка-болгарка,
Собрала всю бороду в платочек.
Дож побрился, выгнал брадобреев
И куме опять промолвил слово:
«Сядь со мною, кумушка-голубка!»
Но болгарка дожу отвечает:
«Коль узнает Королевич Марко,
Не сносить нам головы обоим!»
Молвил дож красавице девице:
«Да садись же, брось пустые речи!
Вон твой Марко спит давно у сватов,
Бел шатер над сонными раскинут,
Золоченым яблоком украшен,
А на нем два камня дорогие.
Сядь же рядом, будем миловаться!»
Говорит красавица девица:
«Подожди немного, кум любезный,
Из шатра я выйду в чисто поле,
Погляжу, какое нынче небо,
Ожидать нам вёдра иль ненастья».
Вышла в поле девушка-невеста,
Увидала тот шатер высокий,
Между сватами промчалась плясом,
К жениху оленем проскочила.
Марко спал в шатре своем высоком,
Прислонилась дева к изголовью,
Белый лик слезами омывает.
Пробудился Королевич Марко,
И сказал он девушке-болгарке:
«Хороша ж ты, подлая болгарка,
Коль меня не стала дожидаться,
Чтоб со мною ехать на подворье,
Сотворить обряд по-христиански!»
И схватил он кованую саблю.
Поклонилась девушка-болгарка
И сказала Марку со слезами:
«Господин мой, Королевич Марко!
Родом я не подлая мужичка,
Как и ты, господского я рода!
Это ты привел с собою подлых,
Вероломных деверя и кума!
Ты доверил Земличу Степану
Охранять невесту по дороге,
Меня продал он дожу из Млетака,
Продал за три сапога дукатов.
Если ты мне на слово не веришь,
Посмотри на бороду злодея!»
Развернула девушка платочек
И на землю бороду стряхнула.
Как увидел это Королевич,
Говорит он девушке-болгарке:
«Сядь со мной, красавица девица,
Будет утро — будет и расплата».
И заснул на ложе он спокойно.
Только утром солнце засияло,
Привскочил на легкие он ноги,
Свой кафтан накинул наизнанку,
Прихватил и шестопер с собою.
К деверю и куму он приходит,
С добрым утром сватов поздравляет:
«С добрым утром, куманек и деверь!
Ой ты, деверь, где твоя невестка?
Милый кум, куда кума девалась?»
Отшатнулся деверь — и ни слова,
Дож один оправдываться начал:
«Милый кум мой, Королевич Марко!
На смекалку люди туговаты,
Невдомек им, если кто и шутит».
«Злая шутка, — молвил Королевич, —
Борода же бритая — не шутка!
Ты скажи, куда она девалась?»
Снова дож оправдываться начал,
Но взмахнул тут саблей Королевич,
И отсек он голову злодею.
Страх нашел на Землича Степана,
Побежал он в поле от юнака,
Но настигла сабля и Степана,
И упал он, надвое разрублен.
К белому шатру вернулся Марко,
Снарядился с Шарцем в путь-дорогу,
Вслед за ним и сваты дорогие
Поскакали в Прилеп, город белый.
Сел вино пить Королевич Марко
С Евросимой — матерью своею,
И когда они напились вдоволь,
Евросима молвила юнаку:
«О сынок мой, Королевич Марко!
Ты набеги прекрати лихие,
Зло добра вовеки не приносит,
И твои кровавые рубашки
Мне стирать, старухе, надоело.
Лучше б, Марко, ты ходил за плугом
Да пахал бы горы и долины,
Сеял бы кормилицу-пшеницу,
Вот и были б мы с тобою сыты!»
Марко мать послушался родную,
Взял волов и выехал на пашню,
Но ни гор он, ни долин не пашет,
Пашет он султанские дороги.
Едут мимо турки-янычары
И везут на трех возах богатство.
Закричали янычары Марку:
«Эй ты, Марко, не паши дорогу!»
«Эй вы, турки, не топчите пашню!»
«Эй ты, Марко, не паши дорогу!»
«Эй вы, турки, не топчите пашню!»
Надоело это Марку слушать,
Плуг с волами поднял Королевич,
Перебил турецких янычаров,
Три воза отнял у них с богатством
И отнес их матери-старухе:
«Для тебя я выпахал сегодня».
Марко с матушкою вечеряет,
Грудь она пред сыном обнажила,
Стала заклинать она юнака:[230]
«Ой, сынок мой, Королевич Марко!
Заклинаю этим белым млеком,
Заклинаю этой белой грудью,
Что дитятью ты сосал три года:
Твой отец, когда ходил он в церковь,
Не носил юнацкого оружья,
Кровь не проливал он в воскресенье».
Встал на зорьке Марко Королевич,
Рано-рано, на самом рассвете,
Рано встал и закричал супруге:
«Встань, жена, молодая Еленка,
Встань, жена, и принеси водицы,
Встань, жена, и принеси одежду,
Чисто я лицо свое омою,
Чистую надену я одежду
И отправлюсь к заутрене в церковь,
В храм к заутрене и литургии,
Там приму пречистое причастье».
Поднялась его жена Еленка,
Поднялась, юнака вопрошает:
«Ой, супруг мой, Королевич Марко,
Как добра коня я справлю Шарца?
Приторочить ли к нему оружье?»
«Нет, жена, оружья мне не надо.
Когда с матушкой мы вечеряли,
Заклинала она меня грудью,
Как поеду к заутрене в церковь,
Чтоб туда я ехал без оружья!»
И Еленка воду приносила,
Выносила белую одежду.
Приоделся Королевич Марко.
А сама Еленка молодая
Ему Шарца-коня заседлала
И складную саблю положила,
Ее сложишь — и можно упрятать
В небольшую шелковую сумку.
Положила коню под попону,
Под попону в шелковую сумку,
Дважды, трижды в стойло возвращалась
И коню наказывала Шарцу:
«Ай ты, добрый конь юнака Шарец!
Как беду какую-то почуешь,
Марку ты скажи про эту саблю.
Если никакой беды не будет,
Ты и промолчи про эту саблю,
Чтоб не рассерчал он, как вернетесь».
Вышел Марко, Марко Королевич,
Вывела ему жена Еленка
Шарпа, доброго коня юнака.
Подвела его к большому камню;
Сунул ногу он в правое стремя,
А пока совал другую ногу в стремя,
Конь уж миновал широко поле
И поехал через лес зеленый.
Поглядел Королевич Марко,
А в лесу том вся листва повяла.[231]
И тогда промолвил Марко лесу:
«Лес мой, лес, зачем листва повяла,
Иль тебя пожег морозный иней,
Иль тебя посекла секира,
Иль тебя пожар опожарил?»
Лес на это отвечает Марку:
«Ой же ты, Королевич Марко,
Ведь меня не иней заморозил,
Ведь меня не посекла секира,
И меня пожар не опожарил, —
Пленников прошло три вереницы,
Гнали их три черных арапа,
Цепь одна — всё молодые парни,
Что помолвились, а не венчались,
Цепь другая — юные девицы,
Что помолвились, а не венчались,
Третья цепь — всё красные молодки,
А с молодками — малые чада.
Я от жалости большой повянул».
И погнал тут Королевич Марко,
Погнал Шарца в темное ущелье,
И догнал он пленников в ущелье,
И догнал он их, и обогнал их.
Закричала пленная молодка:
«Ой же братец,[232] Королевич Марко,
Или не узнал меня ты, братец?
Я молилась и денно и нощно,
Чтоб ты встретился нам на дороге,
Чтоб догнал нас и мимо проехал!»
Тут остановился Королевич,
Подождал три вереницы пленных,
И спросил он пленную молодку:
«Ты откуда, пленная молодка,
Знаешь, что я Марко Королевич?»
Отвечает пленная молодка:
«Как же это, Марко Королевич,
Как же ты узнать меня не можешь,
Как же это мимо проезжаешь,
Знаешь ли меня или не знаешь?
Помнишь ли, когда мятеж был первый,
То пошли воевать болгары,
И пошел на войну ты, Марко,
Получил там семьдесят ранений,
Семьдесят пулевых ранений,
Восемьдесят ран от острых сабель,
А твой конь был весь исполосован.
Моя матушка была знахаркой,
И тебе она лечила раны,
Перевязывала трижды на день
И развязывала на день трижды.
Я еще тогда была девчонка,
И тебе повязки я стирала».
И промолвил Марко Королевич:
«Ты ли это, Янинка-молодка?»
«Это я, Королевич Марко,
Это я, мой названый братец».
Закричал тут Королевич Марко:
«Слышите ли, три арапа черных,
Я вам дам по две сотни алтынов,
Отпустите пленную молодку».
Отвечают три арапа черных:
«Прочь ступай, свихнувшийся болгарин,
И тебе одно звено найдется,
И тебя средь пленников поставим,
С ними ты в полон пошагаешь,
Как баран-вожак пред стадом ярок».
И сказал им Королевич Марко:
«Слышите ли, три арапа черных,
Я вам дам по три сотни алтынов —
Отпустите пленную молодку».
А ему сказали три арапа:
«Проезжай, свихнувшийся болгарин,
Иль не избежать тебе полону!»
Рассердился Королевич Марко,
Разгорелось юнацкое сердце,
И сперва приотстал он немного,
Начал он с коня нагибаться,
Начал камни собирать и скалы
И метать их в черных трех арапов.
И тогда ему промолвил Шарец:
«Ой, хозяин, Королевич Марко,
Ведь твоя любимая супруга
Положила саблю нам складную,
Положила саблю под попону,
Под попону в шелковую сумку.
Ты возьми-ка саблю, Королевич,
И себя и меня не мучай,
А ударь на трех арапов черных».
И полез он в шелковую сумку,
И достал он складную саблю,
И разбил он три большие цепи,
Дал он пленникам по три алтына,
Дал им деньги с таким наказом:
«Вы ступайте-ка на новый рынок,
Да купите вы себе обувки,
Чтобы всем вам не ходить босыми,
И купите вы себе одежду,
И купите хлебца покушать:
Велик день у нас завтра, праздник».
И поехал Королевич Марко,
И поехал к заутрене Марко,
И в Дечан-монастырь[233] он приехал.
А стоял там старый игумен,
Он смотрел в открытое оконце:
Неужели король не приедет?
Тот и едет к окончанью службы.
Увидал его старый игумен,
Видит — Марко по двору ходит,
Ходит Марко, и коня он водит,
Только в церковь Марко не заходит.
Выходил тут старый игумен,
Спрашивал у Марка, у юнака:
«Ай же ты, пречестный Королевич,
Отчего на нас ты рассердился,
Что во храм святой войти не хочешь?»
И ответил Королевич Марко:
«Не серчаю я, старый игумен,
Вовсе я на вас не рассердился,
Только кровь я пролил в воскресенье,
Порубил я трех арапов черных,
Пленников освободил сегодня.
Дал я каждому по три алтына,
Чтоб они купили, что им надо,
Оттого и не вошел я в церковь,
Не могу я принять причастья.
Я не пролил бы сегодня крови,
Да моя любимая супруга
Положила саблю мне складную,
Ей пришлось мне зарубить арапов,
В храм войти я не имею права».
И сказал ему старый игумен:
«Ой ты, Марко, Королевич Марко,
Ты получишь целых три причастья,[234]
Первое тебе, а матушке второе,
Третье же твоей супруге, Марко,
Что складную саблю положила».
Вот тогда и причастился Марко.
Как затеял пир Филипп Мадьярин,
Чтоб просватать деву Соколину,
Семь десятков королей позвал он,
Восемьдесят пригласил он банов,[236]
Пригласил на трапезу по чести,
Не был зван лишь Королевич Марко:
Коль приедет Королевич Марко,
Он приедет с Груей, малым сыном.
Марко пьет вино неутомимо,
Ну, а Груя много пьет ракии,
От ракии он заводит ссоры,
Как придут они на двор к Филиппу,
Как приедут, вмиг затеют ссору,
Королевский пир они расстроят.
Есть у Марка милая сестрица,
Молодая Лева-самодива,
Прилетела Лева в дом Филиппа,
Услыхала: восемьдесят банов,
Семь десятков королей с Филиппом
Пьют, едят и только молят бога,
Чтоб про то не ведал буйный Марко.
Записала Лева-самодива
Сладкие слова гостей в застолье,
Отослала Марку эти речи.
Белое письмо слетело к Марку
Да легло на правое колено,
Ужинает Марко и читает.
Увидал то Груя, подивился,
Мягко Марку говорит дитятя:
«Что же ты, мил батюшка, читаешь
Белое письмо, а стынет ужин?
Что же в нем написано такое?»
Марко тихо Груе отвечает:
«Ой же, Груя, милое дитятя,
Коль спросил, скажу тебе по правде:
Ведь устроил пир Филипп Мадьярин,
Чтоб просватать деву Соколину,
Семь десятков королей позвал он,
Восемьдесят пригласил он банов,
Не позвал лишь нас с тобою, сыне,
Оттого что мы с тобой охальны,
Только явимся на пир веселый,
Вмиг расстроим царское застолье,
Посрамим Мадьярина Филиппа.
Как о том прослышала сестрица,
Написала белое письмо мне».
Груя тихо батюшке промолвил:
«Что ж, давай незваными поедем!»
И седлать коней они вскочили.
Шарка верного седлает Марко,
Груя же выводит Газибара.
Сели в седла добрых два юнака,
И промолвил Королевич Марко:
«Ой же, Груя, малое дитятя,
Что ж не взял фонарь ты золоченый?
Мы б его на трапезу Филиппу
Привезли, чтоб днем сиял и ночью!»
Повернул коня тут малый Груя,
Чтобы взять светильник золоченый,
Но опять ему промолвил Марко:
«Груя, лучше ты не возвращайся,
Коль вернешься, нам пути не будет».
Ровными дорогами помчались
И подъехали к двору Филиппа,
А самшит-ворота на запоре.
Тут пришпорил Груя Газибара,
Птицей взмыл с конем по-над стеною,
Отворил Филипповы ворота,
Чтобы въехал Королевич Марко.
Гости, видя это, подивились,
Но никто из них не потеснился,
Не пошевельнулся дать им место.
Марка с Груей встретил сам Мадьярин:
«Марко-побратим, будь добрым гостем!»
И хотел вести коней в конюшню,
Но промолвил Королевич мягко:
«Ой же, побратим Филипп Мадьярин,
Ты не тронь коней моих горячих,
Эти кони сами разомнутся,
А скажи, где у тебя светильник,
Чтоб горел на трапезе веселой,
Чтобы тешил семь десятков славных
Королей да восемьдесят банов?»
Не смутился тем Филипп Мадьярин,
И пошел он в новые покои,
Нарядил он деву Соколину,
Разубрал ее во чисто злато.
На ее девичьи белы пальцы
Перстни он надел перевитые,
А в перстнях горели самоцветы,
Дал ей чашу серебра литого
И к гостям во двор невесту вывел,
Чтоб служила королям и банам,
Подносила им вино по чину.
Марко за столом уселся с краю,
Обнял Грую, малого дитятю,
Посадил на правое колено.
Принял Марко чашу Соколины,
Красное вино до донца выпил,
Чашу девушке вернул обратно.
Тут черед и Груе был бы выпить,
Поднесла и Груе Соколина,
Поднесла наполненную чашу,
Но не принял Груя этой чаши,
А схватил он девушку за ручку,
Стиснул белые девичьи пальцы,
Разломал на белых пальцах перстни,
Наземь покатились самоцветы.
Груя их — хватать, в карманы прятать
И увидел то Филипп Мадьярин:
«Ой вы, гости, восемьдесят банов,
Видите ль, с чего ведется ссора?»
Посмотрели восемьдесят банов,
Семь десятков королей взглянули,
Отвечают восемьдесят банов:
«Ой же, славный Королевич Марко,
Разве тот юнак, кто деву мучит,
Кто за правую хватает руку
Да ломает на белых пальцах перстни?
Ну-ка, Груя, коли впрямь юнак ты,
Коль юнак да из юнаков первый,
Три реки переплыви великих,
Одолей и Саву и Мораву,
Одолей Дунай наш тихий, белый,
Поезжай-ка в Кара-Влашску землю,
В царский сад валашский поезжай-ка,
Там увидишь древо кефарично,[237]
Древо светит, словно месяц ясный,
Листья светят, словно ясны звезды,
Золотых три яблока — повыше,
Светят яблоки, что солнце в небе.
Ты сорви три яблока с вершины,
Привези в Филиппово застолье,
Для закуски яблоки разрежем,
Будем есть и запивать ракией,
Ты ж получишь деву Соколину».
Как услышал Груя эти речи,
Отпустил он деву Соколину,
Отпустил и на ноги вскочил он,
Стал седлать поспешно Газибара.
Увидал то Королевич Марко,
Тихо сыну милому промолвил:
«Ой же, Груя, малое дитятя,
Ты бы здесь оставил Газибара,
Больно норовист он, необъезжен,
Да и ты лишь кой-чему обучен, —
Как вам с ним осилить можно реки?
А возьми-ка ты отцова Шарка,
Он-то знает, где на реках броды,
Лишь вчера он прискакал оттуда».
Груя милого отца послушал,
Газибара на дворе оставил,
Шарка оседлал себе в дорогу.
Мигом на коня вскочил дитятя
И по ровным поскакал дорогам,
Три реки великих переплыл он
Да поехал в землю Кара-Влашску,
В царские сады на Шарке въехал.
Там увидел древо кефарично.
Жалко Груе яблоки срывати,
Он поближе к дереву подъехал,
Ухватил его за середину,
Раскачал и вырвал вместе с корнем,
Вскинул на плечо, как будто палку.
А ведь было древо самодивским,
Выскочили из корней древесных,
Выскочили аж три лами-сучки,
Первая из них сказала Груе:
«Ой же, Груя, малое дитятя,
Ты оставь нам древо кефарично,
Дам казну несчетную за древо».
Тихо Груя чудищу промолвил:
«Я и сам такой казной владею,
Древо кефарично — подороже».
А вторая ламя так сказала:
«Ты оставь нам древо кефарично,
Дам тебе бесценных я каменьев».
Тихо Груя чудищу промолвил:
«Ой же ты, вторая ламя-сучка,
У меня каменьев тех — без счету,
Древо кефарично — подороже».
Третья ламя так тогда сказала:
«Ты помедли, малое дитятя,
Дам тебе я деву Соколину».
Был же малый Груя неразумен,
Больно девой завладеть спешил он,
Доброго коня остановил он,
Догнала его тут ламя-сучка,
Проглотила Шарка ламя-сучка.
Конь промолвил Груе по-албански:[238]
«Ой же, Груя, Груя неразумный,
Что глядишь, зачем дивишься чуду?
Посрамили мы с тобою Марка!
Сунь-ка руку в седельную сумку,
Отыщи зубчатые в ней шпоры,
На юнацкие надень их ноги
Да разрежь меня по частым ребрам,
Кожу накромсай мою на лапти,
Чтоб пронять меня до белых легких,
Чтоб заныло ретивое сердце,
Чтоб я вспомнил годы молодые,
Выскочил из пасти лами-сучки.
С доброго коня ты спрыгни, Груя,
Размахнися палицей тяжелой
Да прибей всех трех проклятых чудищ,
К конскому хвосту их привяжи ты!»
Груя верного коня послушал,
Сунул руку в седельную сумку,
Отыскал зубчатые в ней шпоры,
Привязал к ногам своим юнацким,
Резал он коня по частым ребрам,
Накромсал полосочек на лапти,
Больно стало ретивому сердцу,
Вспомнил Шарко годы молодые,
Выскочил-таки из ламьей пасти!
Ухнул Груя палицей тяжелой
Да прибил всех трех проклятых чудищ,
К конскому хвосту их привязал он,
Древо вскинул на крутые плечи,
Переплыл он три реки великих,
А как въехал в ровную долину,
Только пыль взметнулась на дорогах!
Семь десятков королей пируют,
Пьют, едят и восемьдесят банов,
Пьют, над Марком, как один, смеются:
«Разве веришь, Королевич Марко,
Разве веришь, что приедет Груя,
Золотых три яблока положит,
Чтобы взять вам деву Соколину?
Самодивское ведь это древо,
Там в корнях сидят три лами-сучки,
Съели сучки малого дитятю».
Марко Королевич так ответил:
«Ешьте, пейте, короли и баны,
Пейте, ешьте, короли и баны,
Груя, точно, малое дитятя,
Но оно — от Маркового корня,
Груя обязательно вернется,
Золотых три яблока вам бросит,
Увезем мы деву Соколину».
Не успел ту речь закончить Марко,
Груя малый ко двору подъехал.
Говорит тогда Филипп Мадьярин:
«Ты скажи-ка малому дитяти,
Пусть во двор не тащит клятых сучек;
На сносях сидят тут королевы,
Как бы им не выкинуть детишек».[239]
Марко сделал, как сказал Мадьярин,
Встретил Грую, малого дитятю,
И промолвил Королевич Марко:
«Ой же, Груя, малое дитятя,
Ты оставь-ка этих ламей-сучек,
Привяжи снаружи их к воротам,
Да внеси-ка древо кефарично,
Посреди двора его посадишь».
Семь десятков королей взглянули,
Поглядели восемьдесят банов,
Удивились, на ноги схватились,
Добрые слова возговорили:
«Знали мы про древо кефарично,
Ведали, да только не видали,
Дожили — и увидали древо,
Достается дева Соколина,
Достается малому дитяти,
Пусть ее он любит на здоровье!»
Тихо Груя тут промолвил слово:
«Ой же ты, Филипп Мадьярин славный,
Пусть взрастает древо кефарично,
Пусть растет до будущего года.
Если бог пошлет, родит мне дева,
Спородит мне дева Соколина,
Спородит мне доброго сыночка.
Мы тогда приедем к деду в гости,
К древу дивному привяжем люльку,
Покачаем нашего сыночка,
Сядем мы в тени под этим древом,
Сядем мы с Мадьярином Филиппом,
И подаст нам дева Соколина,
И подаст вина нам и ракии».
Пир пируют тридцать капитанов[241]
В Карловце,[242] высоком белом граде.
Между ними был Филипп Мадьярин,
Был и Вук Змей-деспот[243] между ними,
Напились вина они досыта,
От вина они повеселели,
Похваляться стали капитаны,
Сколько взяли пленников в неволю,
Сколько им голов поотрубали.
И сказал тогда Филипп Мадьярин:
«Ой вы, братья, тридцать капитанов!
Видите ли Карловац вы белый,
Тридцать три его высоких башни?
Каждую из этих белых башен
Я украсил вражьей головою,[244]
Лишь одну из башен не украсил —
Городскую башню мостовую.
Встретится мне Королевич Марко,
Оборву башку его для башни!»
Похвалялся тот Филипп Мадьярин,
Думал, что никто его не слышит
Из друзей и побратимов Марка.
Ан услышал деспот Вук Филиппа,
Был он Марка верным побратимом.
И вскочил на легкие он ноги,
Раздобыл чернила и бумагу,
Написал он белое посланье
В Прилеп-град прославленному Марку,
Написал тот деспот Вук юнаку:
«Побратим мой, Королевич Марко!
Объявился недруг твой заклятый,
А зовут его Филипп Мадьярин.
Он намедни в Карловце поклялся,
Что тебе он голову отрубит,
Ею башню в городе украсит.
Берегись же, побратим, Филиппа,
Опасайся от него обмана».
Получил посланье Королевич,
Прочитал, о чем Вук-деспот пишет,
Привскочил на легкие он ноги,
В белой башне к бою снарядился:
Препоясал кованую саблю,
Волчью шубу на плечи накинул.
Вслед за тем спустился он в конюшни
Оседлать коня лихого Шарца.
Он покрыл коня медвежьей шкурой,
Зануздал уздой его стальною,
Шестопер к седлу повесил сбоку,
А с другого — кованую саблю.
Сел на Шарца Королевич Марко,
На плечо копье свое закинул
И по полю Косову поехал.[245]
От Пазара каменистым Влахом[246]
Он спустился в Валевскую область,
Через Мачву ровную промчался
И приехал к Дмитровице-граду.
Тут он вброд проехал через Саву,
Миновал и Сремскую равнину,
А когда до Карловца добрался,
Поскакал на площадь городскую,
Ко двору Мадьярина Филиппа.
Разогнал он Шарца по каменьям,
Осадил его перед подворьем.
Но Филиппа дома не случилось,
Он уехал в горы на охоту,
А стоит пред Марком Анджелия,
Статная Мадьярина супруга,
Рядом с нею четверо служанок
Рукава ей держат и подолы.
Лишь подъехал Королевич Марко,
Пожелал ей доброго здоровья:
«Будь здорова, милая невестка!
Побратим мой дома ли, Мадьярин?»
Говорит ему жена Филиппа:
«Вон отсюда, голый оборванец!
Не тебе с Мадьярином брататься!»
Как услышал Марко эти речи,
Закатил ей тотчас оплеуху,
Золотым кольцом своим ударил,
Оцарапал белый лик до крови,
Разом вышиб три здоровых зуба.
А потом сорвал он с Анджелии
Ожерелье из тройных дукатов,[247]
Сунул их в шелковые карманы
И сказал Филипповой супруге:
«Кланяйся хозяину от Марка,
Лишь домой вернется он с охоты!
Пусть в корчму он новую заедет,
Пусть вина он красного пригубит,[248]
Мы на том пиру не обеднеем,
Мы твоим заплатим ожерельем!»
Повернул тут Шарца Королевич,
И в корчму он новую поехал,
Привязал коня перед корчмою,
Начал пить вино и угощаться.
Рано ль, поздно ль, а настало время,
Возвратился тот Филипп с охоты.
Анджелия встретила Филиппа,
Белый лик слезами омывает,
А в руках платок кровавый держит.
Стал пытать ее Филипп Мадьярин:
«Что с тобою, верная супруга?
Отчего ты слезы проливаешь,
А в руках платок кровавый держишь?»
Тут ему ответила супруга:
«Господин мой, муж Филипп Мадьярин!
Только ты уехал на охоту,
Я стояла перед белой башней,
Вдруг принес нечистый оборванца
В волчьей шубе, с кованою саблей,
Конь его каурой пестрой масти,
На плече копье висит стальное.
Подогнал коня он к белой башне,
Пожелал мне доброго здоровья:
«Будь здорова, милая невестка!
Побратим мой дома ли, Мадьярин?»
Тут я с ним здороваться не стала.
Молвила ему такое слово:
«Вон отсюда, голый оборванец!
Не тебе с Мадьярином брататься!»
Только он слова мои услышал,
Закатил мне тотчас оплеуху,
Золотым кольцом меня ударил,
Оцарапал белый лик до крови,
Разом вышиб три здоровых зуба.
Снял с меня тройное ожерелье,
И в корчму он новую поехал,
А тебе велел он поклониться,
Чтоб и ты вина его отведал,
Говорил, что он не обеднеет,
За вино заплатит ожерельем».
Как услышал те слова Мадьярин,
Молвил он супруге Анджелии:
«Успокойся, верная супруга!
Не уйти злодею от Филиппа,
Привезу на белое подворье,
Пусть он нянчит сына в колыбели!»
Повернул он серую кобылу,
Поскакал на площадь городскую,
Возле той корчмы остановился,
Видит — Шарац у ворот привязан.
Разогнал он серую кобылу,
Чтоб в корчму на белый двор ворваться,[249]
Только Шарац не дает дороги,
Бьет кобылу серую по ребрам.
Рассердился тут Филипп Мадьярин
И взмахнул тяжелым шестопером,
Начал Шарца бить перед корчмою,
И вскричал перед корчмою Шарац:
«Боже милый! Горе мне, несчастье!
Погибаю я перед корчмою
От того ль Мадьярина Филиппа,
На глазах у Марка-господина!»
Из корчмы коню ответил Марко:
«Верный Шарац, дай ему дорогу!»
И послушал Шарац господина,
Пропустил Филиппа на подворье.[250]
Лишь Мадьярин въехал на подворье,
Не спросил он Марка о здоровье,
Размахнулся тяжким шестопером
И ударил Марка меж лопаток.
Пьет юнак, не хочет оглянуться,
Говорит Мадьярину Филиппу:
«Мир тебе, мадьярское отродье!
Не буди ты блох в юнацкой шубе!
Слезь с коня, вина со мной отведай,
Нам с тобой еще не время драться!»
Но Мадьярин Марка не послушал
И его ударил по деснице,
И расшиб он чашу золотую,
Расплескал вино его из чаши.
Как увидел это Королевич,
Привскочил на легкие он ноги,
Выхватил он саблю у Филиппа[251]
И в седле рассек его с размаха.
Разрубила сабля та злодея,
По ступени мраморной черкнула,
Надвое тот камень расколола.
Посмотрел на саблю Королевич,
И такое вымолвил он слово:
«Боже милый, великое чудо![252]
Дрянь юнак, а сабля — загляденье!»
Тут отсек он голову Филиппу,
Бросил в торбу конскую для сена,
Поскакал к Филиппову подворью,
Разметал с казною кладовую.
Взял юнак Филиппово богатство
И поехал с песней от Филиппа,
Пусть ногами землю он копает,
А жена над мертвым причитает!
Ой ты, господи, пресветлый боже!
Ты творишь нам знаменья и чуда,
Чтобы удивлялись все христьяне,
Славили твое святое имя,
Чтоб внимали присно и вовеки!
Исполать тебе, господь, за чудо,
Это чудо мы теперь увидим.
Ездил-ездил Марко Прилепчанец,
Ездил по земли местам украйным.
Ездил на своем коне на пегом,
На коне на пегом, на дебелом,
На дебелом коне Ломилесе.
На себя надел соболью шапку,
А на шапке целых три зерцала,
Над зерцалами — павлиньи перья.
Подкрутил он черные усища,
Каждый ус величиной в три руна.
Хмурил он соколиные очи,
А над ними пиявицы-брови,
Черные, как ласточкины крылья.
Опоясался складною саблей,
Что двенадцать раз могла сложиться,
А везется она в конской гриве,
Рубит сабля деревья и камни.
А к седлу — боже мой! — приторочил,
Палицу пребольшую приторочил,
Весом палица в шесть сотен ока.
Грозное копье в руке он держит,
Тоньше и стройнее, чем осинка,
На плечах его пастушья бурка,
Что, как туча черная, чернеет.
Где ни ступит Шарец, конь юнака,
Будь то скалы или плоский камень,
Погружается конь по колени.
Такова же сила у юнака,
Такова, что матери-землице
На груди носить юнака тяжко,
Аж гудит несчастная землица,
И колеблется она от гуда.
Видит чудо звезда Вечерница,
Зрит она невиданное чудо,
Как тут скачет Марко Королевич.
Аж вспотел он от избытка силы,
А не ведает, что с нею делать,
Ибо нет против него юнака,
Ни юнака нету, ни напасти,
Ни ламии, ни лютого змея,
Нету вилы, нету самовилы,
Юда злобная не попадется.
Ездит Марко по украйным землям,
А вокруг печальная пустыня,
Не с кем в той пустыне повстречаться,
Не с кем там перемолвиться словом.
Поглядел он вверх, в ночное небо
И звезду увидел Вечерницу,
Как сияет и ясно смеется.
Говорит ей Марко Королевич:
«Ой, звезда ты, ой ты, Вечерница,
Я спрошу, а ты ответствуй прямо.
Езжу я по всем украйным землям,
И объездил я все королевства,
Нет нигде против меня юнака,
Ни юнака, ни какой напасти,
Ни ламии нет, ни злобной юды,
Нет ни змея, нет ни самовилы.
Светишь ты, на высоте сияешь,
Все подряд далеко озираешь,
Не видала ли ты где юнака?»
Отвечает звезда Вечерница:
«Ой же Марко, Королевич Марко,
Спрашиваешь — я тебе отвечу.
Я свечу, на высоте сияю,
Землю я далёко озираю,
Нет юнака, что тебе подобен,
Не было такого и не будет».
Накажи бог Марка Прилепчанца,
Опрометчиво он молвил слово,
Совершил большое сумасбродство,
Погубил он свое богатырство.
Снова молвит Марко Королевич:
«Ой, звезда ты, ой ты, Вечерница,
Ты меня как следует не знаешь,
Ты меня послушай, Вечерница.
Если бы господь спустился с неба,
Я бы с ним на поединок вышел!
Если б я за край земли схватился,
Я б ее одной рукой приподнял!»[254]
Слушает юнака Вечерница,
Ничего звезда не отвечает,
Лишь лицо ее потемнело,
Затуманилось оно на небе;
Поскорей за тучу забежала,
И от этого ей горько стало,
Проронила слезы из-за тучи,
И упали эти слезы с неба,
Как роса студеная, на землю.
Едет Марко, немного проехал,
Почему-то Марку тяжко стало,
Конь его от езды утомился,
Ибо шел по камню и по кремню,
Марко понукал его уздою,
Палицей своею бил он Шарца.
Разъярился конь, разыгрался,
Черная земля затрепетала,
Загудела бедная землица,
Буйные ветра над ней подули,
Взволновались реки и озера,
Раскачалося Черное море,
С ним и дивное Белое море,
Море синее заклокотало,
Буйные планины затрещали.
Испугались люди в городищах,
Испугалися звери в пещерах,
Испугались все малые птахи,
Запищали, заверещали.
Так кричали, что господь услышал,
Исполать ему, что их услышал.
Поглядел тогда он вниз на землю,
Он всю землю бедную увидел,
Как она гудит и как трясется.
Стало жалко господу всю землю,
Ибо видит, что земле нет мочи
На себе носить такую силу.
И тогда господь спустился с неба,
Обернулся он убогим старцем,
Взял с собой он маленькую торбу
И землею торбу ту наполнил.
Торбу он благословил два раза,
И сравнялась по тяжести торба
С матерью — со черною землею.
Сел тогда господь на перекрестке,
Там, где должен был проехать Марко.
Вот он едет, Марко Королевич,
Он с планины скачет на планину,
Перед ним и мгла и пыль клубятся,
Позади него — градом каменья,
Что разбрасывает конь копытом.
Когда дышит конь богатырский —
Из ноздрей его выходит пламя,
На устах его белеет пена,
Перемешанная с алой кровью.
Пригляделся Марко Королевич,
Видит: поле, белые дороги,
А по ним старик какой-то ходит,
На спине своей несет он торбу.
И доходит дед до перекрестка
И садится отдохнуть немного.
Догоняет деда Королевич Марко,
И кричит он деду издалёка:
«Добрый вечер, дедко, старый дедко,
Что тебе за надобность такая
Ковылять не вовремя, не в пору
По пустынным украйным землям
С эдакою маленькою торбой?»
Старый дед на это отвечает:
«Дай господь добра тебе, змеюка,
Спрашиваешь — я тебе отвечу:
Я брожу по всем украйным землям
С этой малой да нелегкой торбой,
Для меня тяжела она весом,
Приподнять ее не стало силы.
Я тебя прошу, юнак незнамый,
Ты приподними мне эту торбу,
Помоги взвалить ее на спину».
Засмеялся Марко Королевич,
Как увидел маленькую торбу,
Ту, что старый дед поднять не может.
Протянул он копье боевое,
Чтобы сдвинуть маленькую торбу,
Подцепил, а торба та ни с места,
Взял копье обеими руками,
И, когда поднять его старался,
Боевое копье разломилось,
Разломилось на две половины.
Видит чудо Марко Королевич,
Видит и очам своим не верит.
Подгоняет он поближе Шарца,
Приближается он к малой торбе,
Протянул он к ней правую руку,
Прихватил он маленькую торбу,
Прихватил ее одним мизинцем,
Как рванул он ее вверх, как дернул,
Шарец, конь юнацкий, задохнулся,
Из последних сил он молвит Марку,
«Ой, хозяин Марко Королевич,
Ты сломал мне все конские кости,
Ты порвал мне все крепкие жилы,
Погубил ты всю мою силу».
Тут и видит Марко Королевич,
Видит он невиданное чудо:
В землю конь ушел по колени,
Ну а торба не пошевелилась.
Рассердился Марко Королевич,
Соскочил скорей с коня на землю,
Пнул ногою маленькую торбу,
Со всей силой правою ногою,
Аж нога у Марка заболела,
Торба даже не пошевелилась.
Еще больше распалился Марко,
Торбу взял обеими руками,
Со всей силой тянет ее кверху.
Тонут его ноги в крепких кремнях.
Пот кровавый с лица струится,
От натуги выкатились очи,
Вот-вот вылетят они из впадин.
Зубы стиснул Марко от усилья,
И уста наполнилися кровью.
Торба же чуть-чуть пошевелилась.
И еще сильней напрягся Марко,
И поднял он торбу на две пяди,
От земли всего лишь на две пяди.
Затрещали все кости юнака,
Что-то в сердце вдруг оборвалося,
Весь затрясся Марко Королевич,
Выпустил он торбу, та упала.
На себя глядит — ушел он в камин,
Провалился в камни по колено.
Старый дед тогда юнаку молвит:
«Ой же Марко, Марко Королевич,
Знаешь ли ты, что это за тяжесть?»
Отвечает Марко Королевич:
«Ой же дедко, ой же старый дедко,
Объясни, что значит это чудо,
Что за тяжесть в этой малой торбе?»
И ему старый дед отвечает:
«Ой же Марко, Марко Королевич,
Ты приподнял всю черную землю,
Хватит ли теперь юнацкой силы,
Чтоб тебе со мною побороться,
Побороться с господом всевышним?»
Отвечает Марко Королевич:
«Исполать, господь, тебе за чудо,
Ибо был я глупец неразумный.
Коль не смог поднять я эту торбу,
Как могу на поединок выйти
И тягаться с господом всевышним?!»
Старый дед ему на это молвит:
«Ой же Марко, Марко Королевич,
Как копьем приподнимал ты торбу,
Потерял ты половину силы.
А когда перстом поддел ты торбу —
Потерял вторую половину.
А когда руками землю поднял,
Потерял и эту половину,
А когда слегка ты торбу поднял —
Потерял ты всю прежнюю силу.
Я даю тебе благословенье,
Снова будешь первым из юнаков,
Но коль есть юнак тебя сильнее,
Ты одним юначеством не сможешь
Побеждать незнаемых юнаков.
А отныне побеждать их будешь
Только хитростями и обманом!»[255]
Так промолвил дед и потерялся.
Удивился Марко Прилепчанец
И поехал по белым дорогам,
И уже не полетел он змеем,
А поехал кротко и потиху,
Слезы он горючие роняет,
Руки он усталые ломает,
Жалко ему очень прежней силы,
Жалко, что юначество утратил.
Воротился Марко в Прилеп-город.
Там он еще смолоду женился,
Стал держать он свое королевство
И беречь своей земли границы.
С той поры Королевич Марко
Только с хитростью вступал в сраженья.
Так все было. Время миновало,
И осталась песня, чтобы пели
И друг другу чтоб передавали,
Чтобы славилося божье имя,
Чтобы слушали все христиане.
Если б не было — тогда б не пелось,
Пусть кто слушает — возвеселится.
Ездил Марко по делам геройским,
Ездил Марко в Анадол[257] проклятый
Против турок-янычар сражаться,
Где сражался — побеждал повсюду.
Вот болгарин Марко воротился
К Морю Белому на побережье;
Марко лег и сон худой увидел:
Будто свод небесный раскололся
И на землю все упали звезды.
Очень сильно всполошился Марко,
Сел на Шарка, скакуна лихого,
Да помчался прямо в Прилеп-город,
Да воскликнул на дворе отцовском:
«Выйди мать ко мне моя родная,
Ведь худой мне нынче сон приснился;
Что сулит он — горе иль удачу?
Снилось мне, что небо раскололось
И на землю все упали звезды».
Вышла к Марку мать его родная,
До очей платок свой опускала,
До сырой земли роняла слезы
И печально отвечала Марку:
«Ой ты, Марко, мой сынок любимый!
Вот ты ездишь по делам геройским,
А про наши беды знать не знаешь.
Объявились турки-янычары
И землей Болгарской завладели.
Все юнаки им ключи вручили
И Болгарскую им сдали землю,
И тебя повсюду турки ищут,
Чтоб ты сдал ключи и Прилеп-город».
Как заслышал Марко мать родную,
До очей он шапку нахлобучил,
Шарка повернул, коня лихого,
И помчался на Косово поле
Против турок-янычар сражаться;
И на берегу реки Ситницы
Догоняла Марка мать родная,
Издали кричала мать родная:
«Ой ты, Марко, мой сынок любимый!
Дай при жизни мы с тобой простимся,
Знает бог — вернешься ли ты снова!»
Марко же назад не обернулся,
Поскакал вдоль берега Ситницы,
Поднялся в ущелье Качаника,
Тут ему три турка повстречались,
Встретились три турка-янычара.
И сказал им по-турецки Марко:
«Ой же вы, три турка, — молвил Марко,
Ой же вы, три турка-янычара!
По присловью: вы куда спешите?»
И три турка отвечают Марку:
«Ай же ты, удалый незнакомец!
Завладели мы землей Болгарской.
Все юнаки нам ключи вручили
И Болгарскую нам сдали землю;
Нет лишь только прилепского Марка,
Нет его, дабы ключи нам отдал,
Сдал бы нам ключи и Прилеп-город.
И теперь мы едем в Прилеп-город,
Чтоб болгарин Марко отыскался,
Сдал бы нам ключи и Прилеп-город.
Если сдать ключи не согласится,
С плеч мы голову у Марка снимем,
Молодую Марковицу схватим,
В Анадол турецкий наш отправим
И содеем белою турчанкой».
Вот помедлил Марко, вот подумал,
И негромко Марко им ответил.
«Ой же вы, три турка, — молвил Марко,
Ой же вы, три турка-янычара!
Я из Прилепа, тот самый Марко,
Но вручить ключи вам не согласен
И не передам вам Прилеп-город.
Ежели падет болгарин Марко
И падет скакун ретивый Шарко,
Лишь тогда ключи вручу я туркам,
Сдам тогда ключи и Прилеп-город».
Отвернули от него три турка,
Отошли три турка-янычара,
Тяжкие три сабли обнажили,
Чтобы Марка зарубить на месте.
Тут разгневался болгарин Марко,
Шарка разъярил, коня лихого,
Саблю выхватил дамасской стали;
Саблю ту сковал кузнец Димитрий,
Лютою змеей та сабля гнется,
Рубит сабля дерево и камень.
Марко саблей погубил трех турок,
Он трех турок-янычар покончил,
Поднялся в ущелье Качаника,
Глянул сверху на Косово поле
И увидел турок-анадольцев.
Не дивился Марко, что их много,
Но дивился — как земля их держит.
Смотрит Марко: может, он увидит,
Может, узрит строй болгарских стягов,[258]
Строй болгарских, строй зеленых стягов.
Но не видит он болгарских стягов, —
Нет болгарских, нет зеленых стягов,
Множество лишь белых и червленых.
Тут прогневался болгарин Марко,
Шарка уязвил, коня лихого,
Шпорами зубчатыми ударил.
Шарко, конь лихой, разлютовался,
Кинулся в толпу могучих турок.
Марко выхватил клинок дамасский,
Стал рубить он турок-анадольцев,
Их рубил три дня, рубил три ночи;
Погрузился Шарко по колени,
В черной потонул крови турецкой.
Сам святой Илия тут явился,
С ним три ангела в одеждах белых,
И святой Илия тихо молвил:
«Ой же ты, юнак, болгарин Марко,
Приостанови коня и саблю,
Был болгарским край, а стал турецким,
Турок будет в Прилепе владычить!»
Вздрогнул Марко, ото сна очнулся,
Не уверовал болгарин Марко,
Не уверовал, что это правда,
Турок-анадольцев рубит снова,
Он взмахнет рукой — рука трясется,
Не тверда рука, не рубит турок.
И смекнул тогда болгарин Марко,
Понял он, что это божье дело,
Шарка повернул, коня лихого,
И помчался Марко в Прилеп-город,
Молодую Марковицу встретил,
Задавал ей хитрые вопросы:
«Ты, жена, от сабли смерти хочешь
Или хочешь стать рабой турецкой,
Хочешь в Анадол попасть проклятый,
Стать в неволе бедою турчанкой?»
Молвит Марковица молодая:
«Ой же, первая любовь, мой Марко!
Лучше смерть приму от сабли острой,
Лишь бы не попасть в полон турецкий
И не стать в проклятом Анадоле
Полонянкой, белою турчанкой!»
Тут взмахнул дамасской саблей Марко,
Голову срубил ей горевую
И схватил свое дитя Богдана,
Голову срубил он горевую,
Погубил и мать свою старуху.
Он опять взмахнул дамасской саблей,
Шарка зарубил, коня лихого, —
Не служил бы туркам в их вторженье, —
И невесть куда сокрылся Марко.[259]
В воскресенье Королевич Марко
Рано утром ехал возле моря,
Путь держал он на гору Урвину.[261]
Только он взобрался на Урвину,
Начал конь под Марком спотыкаться,
Обливаться горькими слезами.
Огорчился Королевич Марко,
И промолвил Шарцу он с упреком:
«Что ж ты, Шарац, верный мой товарищ!
Сотню лет служил ты мне исправно,[262]
Шестьдесят еще ты был мне верен,
И ни разу ты не спотыкался,
Лишь сегодня начал спотыкаться,
Обливаться горькими слезами.
Что случится — то известно богу,
Только, знать, хорошего не будет;
Может, я, а может, ты сегодня
Навсегда простимся с головою».
Лишь промолвил Марко это слово,
Кличет вила горная с Урвины,
Призывает доброго юнака:
«Побратим мой, Королевич Марко!
Знаешь ли, о чем твой Шарац тужит?
Он тебя, хозяина, жалеет,
Потому что скоро вам разлука!»
Отвечает виле Королевич:
«Чтоб ты, вила белая, пропала!
Как могу я с Шарцем разлучиться,
Если мы объехали всю землю,
Целый мир с восхода до заката!
Лучше Шарца нет коня на свете,
Лучше Марка нет юнака в мире.
До тех пор я с Шарцем не расстанусь,
Головы пока не потеряю!»
Кличет вила белая юнака:
«Побратим мой, Королевич Марко!
Шарац твой врагу не попадется,
Да и сам погибнуть ты не можешь
От юнака или острой сабли,
От копья иль палицы тяжелой:
На земле никто тебе не страшен.
Поразит тебя, несчастный Марко,
Старый мститель бог, и час твой близок.
Если ты словам моим не веришь,
Подымись на горную вершину,
Посмотри направо и налево
И увидишь две зеленых ели.
Поднялись те ели по-над лесом,
И его ветвями осенили,
А внизу под елями — источник.
У источника ты спешись, Марко,
Привяжи коня к зеленой ели,
Наклонись над светлою водою,
Чтоб в воде лицо свое увидеть;
И увидишь, как ты жизнь покончишь».
И послушал вилу Королевич,
Въехал он на горную вершину,
Посмотрел направо и налево
И увидел две зеленых ели.
Поднялись те ели по-над лесом
И его ветвями осенили,
А внизу под елями — источник.
Спешился там Марко Королевич,
Привязал коня к зеленой ели,
Над водою светлой наклонился
И в воде лицо свое увидел.[263]
Только он лицо свое увидел,
Там увидел, как примет кончину.
И сказал он, слезы проливая:
«Мир обманный, цвет благоуханный!
Был ты сладок, только жил я мало,
Жил я мало, триста лет, не боле,
Срок пришел, пора мне в жизнь иную»
Выхватил тут саблю Королевич,
Выхватил он острую из ножен,
Подошел он к Шарцу со слезами,
И отсек он голову бедняге,[264]
Чтобы Шарац туркам не достался,
Чтобы враг над Шарцем не глумился,
Не возил ни сор на нем, ни воду.
Распростился с Шарцем Королевич,
Схоронил старательней, чем брата,
Удалого юнака Андрея.[265]
И сломал тут острую он саблю
И четыре раскидал обломка,
Чтобы сабля туркам не досталась,
Чтобы турки саблей не хвалились,
Что достали саблю у юнака,
Чтоб не кляли Марка христиане.
И копье сломал он боевое
И обломки кинул в ельник частый,
Взял он шестопер рукою правой
И метнул его с горы Урвины,
В море синее его забросил,
И промолвил Марко шестоперу:
«Лишь когда ты выплывешь на сушу,
Новый Марко на земле родится».
Только он с оружием покончил,
Вынул он чернильницу с бумагой,
Написал такое завещанье:
«Кто поедет по горе Урвине
Мимо этих елей, где источник,
И увидит Марка на дороге,
Пусть он знает, что скончался Марко,
Что на нем три пояса дукатов,
Первый пояс Марко завещает
Тем, кто Марку выроет могилу,
А другой — на украшенье храмов,
Третий пояс — нищим и незрячим,
Пусть слепые по свету блуждают,
Пусть поют и вспоминают Марка».
Кончил завещанье Королевич,
Прикрепил его на ель высоко,
Чтоб с дороги можно было видеть,
И швырнул чернильницу в источник.
Скинул Марко свой кафтан зеленый,
Разостлал под елью, где источник,
Осенил крестом себя широким,
И прикрыл глаза собольей шапкой,
И затих, и больше не поднялся.
Так лежал юнак усопший Марко
День за днем, пока прошла неделя.
Кто проедет мимо по дороге
И заметит Марка над водою,
Всякий мыслит: Марко отдыхает, —
И объедет Марка стороною,
Чтобы сон юнака не тревожить.
Там, где счастье, тут же и несчастье,
Где несчастье, тут и счастье рядом.
Занесло то счастье на Урвину
Святогорца[266] проигумна Васу,
Он из белой церкви Вилиндара
Проезжал тут с дьяконом Исайей.
Лишь увидел Марка проигумен,
Стал махать на дьякона руками.
«Тише, сын мой, не буди юнака,
Он со сна бывает очень грозен,
Он нас может погубить обоих!»
Тут письмо заметил он на елке,
Прочитал, что умер славный Марко,
Слез с коня, рукой его потрогал,
А юнак давно уже скончался.
Пролил слезы проигумен Васо,
Стало жаль святителю юнака.
Снял с него три пояса дукатов,
С Марка снял, себе их препоясал,
Начал думать проигумен Васо,
Где предать юнака погребенью.
Долго думал, наконец придумал,
Положил он мертвого на лошадь
И повез его на берег моря.
Мертвого взял Марка на галеру
И доставил на Святую гору
Ко святому храму Вилиндару,
Внес игумен Марка в храм господний,
Совершил над мертвым отпеванье,
Схоронил юнака святогорец
Посредине церкви Вилиндара.[267]
Не поставил надпись над могилой,
Чтоб враги не знали о могиле,
Чтоб не мстили мертвому злодеи,
Тихо спала Милица-царица.
Тихо спала, и сон ей приснился.
Сон приснился, что твердь раскололась,
Звезды мелкие с неба упали
И луна закатилась во Влашко.
Только одна звезда-вечерница
Не померкла, а стала кровавой.
Пробудилась Милица-царица,
Испугалась, к царю побежала:
«О, хвала тебе, царь мой великий.
Я спала, и сон мне приснился,
Сон приснился, что твердь раскололась,
Звезды мелкие с неба упали
И луна закатилась во Влашко.
Только одна звезда-вечерница
Не померкла, а стала кровавой».
Говорит ей царь омраченный:
«Будь славна, Милица-царица.
Мне твой странный сон непонятен.
Отправляйся к монахам черным,
Чернецы твой сон растолкуют».
И пошла Милица-царица,
В божьи храмы пошла к монахам.
Зажигала желтые свечи
Перед каждой святой иконой.
Говорила Милица-царица:
«О игумены, божьи люди,
Вы мой странный сон растолкуйте!»
И она свой сон рассказала.
Отвечают игумены тихо:
«Честь и слава тебе, царица.
Вещий сон ты увидела ныне.
Что небесная твердь раскололась,
Означает — расколется царство.
То, что звезды упали на землю, —
Значит, войско наше погибнет.
Что луна закатилась во Влашко —
Предрекает: царь наш болгарский
Убежит во влашскую землю.
Что на небе звезда-вечерница
Не померкла, а стала кровавой —
Это значит, вашего сына
Порешат проклятые турки».
Поспешила назад царица.
Но едва до дворца добежала,
Как примчался гонец с посланьем
Костенецкого воеводы:
«Бьем челом тебе, царь болгарский,
Собирай великое войско,
Приходи в Костенец на подмогу,
Потому что проклятые турки
Город наш кольцом обложили.
Сил Шишману-царю не хватает».
Царь болгарский прочел посланье,
Снарядил великое войско
И пришел к стенам костенецким.
Он увидел: Искыр багровый
Вдаль несет кровавые воды.
И плывут по теченью шапки,
И рука отсеченная чья-то —
На руке отсеченной перстень
И царя Шишмана печатка.
Крикнул войску царь христианский:
«Горе нам, мое храброе войско.
Нет Шишмана — турки убили,
Пропадает болгарское царство!»
Царь Мурат[271] на Косово[272] собрался.
Вот пришел и князю сербов пишет,
В Крушевац[273] посланье посылает
Прямо в руки Лазарю-владыке:[274]
«Лазарь, сербский князь и повелитель,
Не бывало, да и быть не может,[275]
Что в одной стране — два господина,
Чтобы двум налог[276] платила райя.[277]
Править мы с тобой вдвоем не можем.
Присылай ключи, плати мне подать:
Городов твоих ключи златые,
За семь лет подушную с народа.
Если же послать мне не захочешь,
Выходи на Косово с войсками.
Эту землю мы мечом поделим».
Лазарь-князь прочел письмо султана,
На посланье он роняет слезы.
Вот послушайте, старый да малый,
Лазарь-князь так заклинал пред боем:
«Ничего от рук тех не родится,
Кто на бой на Косово не выйдет, —
Ни на поле белая пшеница,
Ни на склонах лозы винограда».
«Ты скажи мне, брат Иван Косанчич,[279]
Хорошо ль разведал силу вражью?
Много ль войска собралось у турок?
Можем ли с погаными сразиться?
Можно ль турок одолеть проклятых?»
Говорит ему Иван Косанчич:
«Милош Обилич,[280] мой брат любимый,
Я разведал войско нечестивых,
Полчища врагов неисчислимы.
Если б стало наше войско солью,
Плов турецкий был бы недосолен.
Вот уже пятнадцать дней бесстрашно
Я брожу по вражескому стану,
Не нашел я ни конца, ни края:
От Мрамора[281] до песков Явора,[282]
От Явора, брат мой, до Сазлии,
От Сазлии до Чемер-Чуприи,
От Чуприи до Звечана-града,
От Звечана, брат мой, до Чечана,
От Чечана до вершины горной —
Все покрылось войском басурманским,
Конь к коню[283] и воины рядами,
Черный лес — их копья боевые,
Стяги их летучи, словно тучи,
А шатры снегов белее горных.
Если дождь густой польется с неба,
То нигде не упадет на землю,
На юнаков и коней прольется.
Стал султан Мурат на Мазгит-поле,[284]
Захватил и Лаб и Ситницу».
Милош Обилич спросил Ивана:
«Ой, Иван, мой побратим любимый,
Где шатер могучего Мурата?
Обещал я властелину-князю
Заколоть турецкого султана,
Придавить ему ногою горло».
Но в ответ сказал Иван Косанчич:
«Не теряй рассудка, брат любимый!
Где шатер могучего Мурата?
В середине вражеского войска.
Если бы умел летать, как сокол,
И на турка пал бы с поднебесья,
Ты не мог бы улететь обратно».
Начал Милош заклинать Ивана:
«Ой, Иван, мой побратим любимый,
Ты не брат мне, но родного ближе.
Обещай, что так не скажешь князю,
Он тревогой может омрачиться,
И от страха наше войско дрогнет.
Лучше ты скажи другое князю:
Велика врагов проклятых сила,
Но не трудно с ними нам сразиться;
В жаркой сече одолеем турок,
Нет у них воителей искусных,
Много старцев и ходжей почтенных,[285]
Есть ремесленники и торговцы,
Никогда не видевшие битвы,
Воевать пошли наживы ради.
Есть и воины в турецком стане,
Но они внезапно все свалились
От тяжелой нутряной болезни.
Вместе с ними заболели кони,
Заболели сапом лошадиным».
Вечером за стол садится Лазарь,
Ужинает царь[287] с царицей сербов.
Говорит Милица[288] государю:
«Царь наш милый, повелитель сербов,
Золотая сербская корона!
Ты уходишь на Косово завтра,
За тобой — воеводы и слуги.
Никого со мной не остается.
Нет мужчин во дворе моем белом,
Кто бы мог мое письмо доставить,
С Косова ко мне назад вернуться.
Ты с собой моих уводишь братьев,
Девять братьев — Юговичей милых.[289]
Брата хоть единого оставь мне,
Чтоб могла его именем клясться».
Лазарь так царице отвечает:
«Госпожа и царица Милица,
Ты кого хотела бы из братьев
На подворье на моем оставить?»
«Ты оставь мне Юговича Бошка».
Сербский князь Милице отвечает:
«Госпожа и царица Милица!
Над землей лишь белый день настанет,
Только в небе солнце засияет,
И как только ворота откроют, —
Выходи ты к городским воротам.
Проходить там будет наше войско
На конях и с копьями стальными.
Впереди их милый брат твой Бошко,
А в его руках хоругвь с крестами;
Пусть он даст, кому захочет, знамя,
Ты скажи ему, что я позволил.
Пусть с тобой во дворце остается».
А как утро в небе засияло,
Вышла рано к воротам Милица.
У ворот она остановилась.
Вот и войско выступает строем,
На конях и с копьями стальными.
Перед ними брат царицы Бошко.
На коне гнедом он выезжает.
Золотом украшены доспехи.
Осеняет Юговича знамя[290] —
До седла концы его спадают;
Яблоко на знамени златое,
Крест златой над яблоком сияет.
От креста висят златые кисти,
По плечам раскинулися Бошка.
Бросилась к его коню царица
И схватила узду золотую.
Обняла она брата за шею,
Говорить начала ему тихо:
«Бошко Югович, мой брат любимый,
Царь тебя мне подарил, оставил.
Не иди ты на Косово поле.
Лазарь-царь тебе, мой брат, позволил —
Передай, кому захочешь, знамя.
В Крушевце со мною оставайся,
Чтобы брат хоть один мне остался,
Чтоб могла его именем клясться».
Но Милице Бошко отвечает:
«Уходи, сестра, в свой белый терем,
Я назад с тобой не ворочуся
И хоругвь не передам другому,
Если б царь мне дал за то Крушевац.
Не хочу, чтоб дружина сказала —
Бошко Югович трус и предатель!
Не поехал на Косово поле,
Чтобы кровь пролить достойно в битве,
Умереть за веру и за правду».
И погнал он в ворота гнедого.
Следом едет Юг-Богдан могучий,
А за ним семь Юговичей храбрых.
На Милицу никто и не смотрит.
Воин Югович тут появился.
Запасных коней царя ведет он.
Чепраки их золотом расшиты.
К Юговичу бросилась Милица,
За узду буланого схватила,
Обняла рукою и сказала:
«Воин Югович, мой брат родимый,
Царь тебя мне подарил, оставил.
Можешь ты отдать коней любому
И остаться в Крушевце со мною,
Чтобы брат хоть один мне остался,
Чтобы мне его именем клясться».
Так Милице Воин отвечает:
«Воротись, сестра, в свой белый терем,
Я назад с тобой не ворочуся
И коней не передам другому,
Если б даже знал я, что погибну.
Я иду на Косово, Милица,
Кровь свою пролить за нашу веру,
С братьями за крест честной сражаться»[291]
И погнал буланого в ворота.
Это слыша, упала Милица
На студеный камень без сознанья.
Вот к воротам Лазарь подъезжает.
Он увидел госпожу царицу,
Залился горючими слезами.
Посмотрел он направо, налево.
Подозвал он слугу Голубана:
«Слушай, Голубан, слуга мой верный!
Ты с коня сойди, возьми царицу,
Отнеси ее в высокий терем.
Бог тебе простит, и я прощаю, —
Не поедешь на Косово биться,
Во дворе останешься с царицей».
Эти речи Голубан услышал,
Облился горючими слезами
И отнес ее в высокий терем.
Но он сердце одолеть не может —
Рвется сердце на Косово поле.
Он бежит во двор, коня седлает;
Быстро скачет на Косово поле.
Рано утром при восходе солнца
Прилетели два ворона черных[292]
И спустились на белую башню.
Каркает один, другой же молвит:
«Эта ль башня сербского владыки,
Князя Лазаря терем высокий?
Что же в нем души живой не видно?»
Воронов никто не слышал в доме,
Лишь одна царица услыхала,
Появилась пред белою башней,
Обратилася к воронам черным:
«Мне скажите, два ворона-врана,
Ради бога вышнего, скажите,
Вы сюда откуда прилетели?
Не летите ль вы с Косова поля?
Не видали ль там две сильных рати?
Между ними было ли сраженье?
И какое войско победило?»
Отвечают два ворона черных:
«О Милица, сербская царица,
Прилетели мы с Косова поля.
Там два войска мы видели сильных,
А вчера они утром сразились,
И погибли оба государя.
Там не много турок уцелело.
А в живых оставшиеся сербы
Тяжко ранены, кровью исходят».
Не успели речь окончить птицы,
Подоспел к двору слуга Милутин:
В левой держит он правую руку,
А на нем семнадцать ран зияют;
Весь в крови его конь богатырский.
Говорит Милутину царица:
«Что случилось с тобою, несчастный?
Иль на Косове царя ты предал?»
Отвечает ей слуга Милутин:
«Помоги мне слезть с коня на землю,
Освежи меня водой студеной
И залей вином на теле раны:
Я от тяжких ран изнемогаю».
Слезть царица помогла юнаку,
Милутина омыла водою,
Залила вином на теле раны.
А когда в себя пришел Милутин,
Начала расспрашивать Милица:
«Что случилось на Косовом поле,
Где царь Лазарь погиб, мне поведай,
Где погиб Юг-Богдан престарелый?
Девять Юговичей где погибли?
Где погиб наш воевода Милош,[293]
Где погиб Бук Бранкович,[294] скажи мне,
Где погиб наш Банович Страхиня?»[295]
Отвечает ей слуга Милутин:
«Все они на Косове погибли.
Там, где Лазарь-князь погиб в сраженье,[296]
Много копий сломано турецких
И немало сербских длинных копий,
Все же больше сербских, чем турецких.
Защищали сербы государя,
Госпожа моя, дрались до смерти.
Старый Юг убит в начале битвы.
И погибли Юговичи вместе.
Брат не выдал брата в тяжкой битве.
До последнего они рубились.
Храбрый Бошко был убит последним.
Он с хоругвью по полю носился,
Разгонял турецкие отряды, —
Голубей так сокол разгоняет.
Где стояло крови по колено,
Там убит был Банович Страхиня,
А погиб наш воевода Милош
У Ситницы, у реки студеной.
Там немало перебил он турок:
Милош поразил царя Мурата
И еще двенадцать тысяч турок.[297]
Бог его родителей помилуй!
Будут сербы вспоминать юнака,
Будут сказывать о нем сказанья,
Сербы Милоша не позабудут,
Сербы Косова не позабудут.
А зачем о Вуке ты спросила?
На родителях его проклятье,
Будь он проклят и все его племя!
Изменил он на Косове князю[298]
И увел с собой двенадцать тысяч
Лютых латников с поля сраженья».
Правый боже, чудо совершилось!
Как на Косово сходилось войско,
Было в войске Юговичей девять
И отец их, Юг-Богдан, десятый.
Юговичей мать взывает к богу,
Просит дать орлиные зеницы
И широкие лебяжьи крылья,[300]
Чтоб взлететь над Косовым ей полем
И увидеть Юговичей девять
И десятого Богдана Юга.
То, о чем молила, получила:
Дал ей бог орлиные зеницы
И широкие лебяжьи крылья.
Вот летит она над полем ровным,
Видит девять Юговичей мертвых
И десятого Богдана Юга.
В головах у мертвых девять копий,
Девять соколов сидят на копьях,[301]
Тут же девять скакунов ретивых,
Рядом с ними девять псов свирепых.
Громко кони добрые заржали,
Огласилось поле лютым лаем,
Встал над полем клекот соколиный.
Сердце матери железным стало,
Не вопила мать и не рыдала.
Увела она коней ретивых,
Рядом с ними девять псов свирепых,
Девять соколов взяла с собою
И вернулась в дом свой белостенный.
Снохи издали ее узнали
И с поклоном старую встречали.
К небу вдовьи понеслись рыданья,
Огласили воздух причитанья.
Вслед за ними застонали кони,
Девять псов свирепых зарычали,
И раздался клекот соколиный.
Сердце матери железным стало,
Не вопила мать и не рыдала.
Наступила ночь, и ровно в полночь
Застонал гривастый конь Дамяна.
Мать жену Дамянову спросила:
«Ты скажи, сноха, жена Дамяна,
Что там стонет конь Дамяна верный,
Может быть, он захотел пшеницы
Иль воды студеной от Звечана?»
И жена Дамяна отвечает:
«Нет, свекровь моя и мать Дамяна,
Конь не хочет ни пшеницы белой,
Ни воды студеной от Звечана,[302]
Был Дамяном этот конь приучен
До полуночи овсом кормиться,
Ровно в полночь в дальний путь пускаться.
Конь скорбит о смерти господина,
Без которого домой вернулся».
Сердце матери железным стало,
Не вопила мать и не рыдала.
Лишь лучами утро озарилось,[303]
Прилетели два зловещих врана.
Кровью лоснятся вороньи крылья,
Клювы пеной белою покрыты,
В клювах воронов — рука юнака,
На руке колечко золотое.
Вот рука у матери в объятьях,[304]
Юговичей мать схватила руку,
Повертела, зорко осмотрела
И жене Дамяновой сказала:
«Отвечай, сноха, жена Дамяна,
Не видала ль ты такую руку?»
Отвечает ей жена Дамяна:
«Мать Дамяна и свекровь, ты видишь
Руку сына своего, Дамяна.
Я узнала перстень обручальный,
То кольцо, что при венчанье было».
Мать Дамянова схватила руку,
Осмотрела зорко, повертела
И, к руке приникнув, прошепталаз
«Молодая яблонька родная,
Где росла ты, где тебя сорвали?
Ты росла в объятьях материнских,[305]
Сорвана на Косове равнинном».
Мать печально головой поникла,
И от горя разорвалось сердце,
От печали по сынам родимым
И по старому Богдану Югу.
Рано встала девица-сестрица
Из Косова, из широка поля,
В воскресенье,[307] до восхода солнца.
Засучила рукава рубахи,
До локтей до белых засучила;
Носит хлеб пшеничный за плечами,
А в руках кувшины золотые.
Алое вино в одном играет,
А в другом — холодная водица.
Так проходит по Косову полю,
Молодая, по бранному полю,
Там, где Лазарь, князь честной, сражался,
Трогает бойцов окровавленных.
А кого в живых она застанет,
Умывает студеной водою,
Причащает вином его алым,
Белым хлебом раненого кормит.
Набрела девица на юнака,
Орловича Павла[308] молодого,
Знаменосца государя сербов.
Жив был Павел, да едва дышал он,
Отсекли ему правую руку,
Отсекли ему левую ногу,
Отсекли до самого колена.
Переломаны ребра витые,
Легкие сквозь раны проступают.
Умывает девушка юнака,
Умывает студеной водицей,
Причащает вином его алым
И дает ему белого хлеба.
Оживилось юнацкое сердце,
И сказал ей княжий знаменосец:
«Косовская девушка, сестрица,
Расскажи мне о своем несчастье,
Ты кого на бранном поле ищешь?
Брата, или родственников близких,
Или по греху отца родного?»
Отвечает девушка юнаку:
«Брат мой милый, витязь неизвестный,
Никого из рода не ищу я,
Брата в битве я не потеряла,
Ни отца, чья плоть меня зачала,
Может быть, тебе, юнак, известно:
Князь велел, чтоб триста черноризцев
У прекрасной церкви Самодрежи
Три недели войско причащали.
Причастилось все сербское войско,
А последними — три воеводы:
Славный Милош, храбрый воевода,
И Косанчич Иван — воевода,
Топлица Милан[309] был вместе с ними.
Я стояла у ворот церковных,
Тут выходит Милош-воевода,
Он красавец всем людям на диво.
Волочится, гремит его сабля,[310]
А на шапке кованые перья,
На юнаке пестрый плащ богатый,
Длинный и с узором поперечным.
Плат шелковый повязан вкруг шеи.[311]
Оглянулся — и меня увидел.
Он снимает плащ свой полосатый,
С плеч снимает, мне дает в подарок.
«На, девица, пестрый плащ с узором,
Глядя на него, меня ты вспомнишь.
Я на смерть иду, душа-девица,
В государево славное войско.
За мою ты душу помолися,
Чтоб из битвы живым я вернулся,
А вернусь, я тебя осчастливлю:
Выдам замуж тебя за Милана.
Перед богом я с ним побратался,
Перед богом и святым Иваном.
Буду я твоим, девица, сватом».
Вот Иван Косанчич появился,
Он красавец всем людям на диво.
Волочится, гремит его сабля,
А на шапке кованые перья.
На юнаке пестрый плащ богатый;
Длинный и с узором поперечным.
Плат шелковый повязан вкруг шеи,
А на пальце кольцо золотое.
Оглянулся — и меня увидел.
Он снимает кольцо золотое,
Снял кольцо и его подарил мне:
«На, девица, кольцо золотое,
Глядя на него, меня ты вспомнишь.
Я на смерть иду, душа-девица,
В государево славное войско.
За мою ты душу помолися,
Чтоб из битвы живым я вернулся.
А вернусь, тебя я осчастливлю:
Выдам замуж тебя за Милана.
Перед богом я с ним побратался,
Перед богом и святым Иваном.
Дружкою твоим, девица, буду».
Топлица Милан за ним выходит,
Он красавец всем людям на диво,
Волочится, гремит его сабля,
А на шапке кованые перья.
На юнаке пестрый плащ богатый,
Плат шелковый на шее юнака,
Вкруг руки его платок повязан.
Он снимает платок златотканый
И дает мне с такими словами:
«На, девица, платок златотканый,
Глядя на него, меня ты вспомнишь.
Я на смерть иду, душа-девица,
В государево славное войско.
За меня ты богу помолися,
Чтоб из битвы я живым вернулся.
А вернуся, будем жить счастливо,
Ты мне станешь верною женою».
И уехали три воеводы.
Их ищу я на поле кровавом».
Отвечает ей Орлович Павел:
«Косовская девушка, сестрица,
Видишь ли ты копья боевые,
Что всех выше, что смешались густо.
Там пролилась кровь юнаков храбрых.
До стремян она коням доходит,
До шелковых поясов юнакам.
Там в бою все три они погибли.
В белый дом твой скорей возвращайся,
Не кровавь рукавов твоих белых,
Подола в крови не волочи ты».
Так сказал он девушке несчастной.
Белое лицо слезой омыла,
В белый дом свой идет без оглядки.
Причитает и рыдает горько:
«Бедная, мне нет на свете счастья.
Если ухвачусь за ветку ели,
Тотчас же зеленая засохнет».
Кто там стонет в городе Стамбуле:
Не змея ли, белая ли вила?
Не змея, не белая то вила,
Это Янко Юришич[313] там стонет.
Стонет Янко от неволи тяжкой:
Вот уже три года миновало,
Как томится он во тьме темницы
У жестокого царя-тирана,
У султана злого Сулеймана.
Невтерпеж сидеть в темнице стало,
Целый день с утра все стонет Янко,
Надоел он и камням холодным,
А не то что царю Сулейману.
Захотел султан его увидеть,
Подошел он к воротам темницы,
Окликает Юришича Янко:
«Эй, ублюдок Янко, что с тобою,
Иль беда какая приключилась,
Что ты стонешь у меня в темнице?
Голоден ли ты, иль пить ты жаждешь?
Или ты так сильно стосковался,
Стосковался по гяурке юной?»
Молвит Янко Юришич султану:
«Волен, царь, ты говорить, что хочешь.
Я не голоден и пить не жажду,
Я по воле только стосковался,
Как попал к тебе в полон в темницу,
Невтерпеж сидеть в темнице стало,
Царь-султан, коль ты боишься бога,
То в награду все бери, что хочешь,
Только кости выпусти на волю!»
Сулейман-султан ему ответил:
«Эй ты, курвин сын, ублюдок Янко,
Не возьму ни пара,[314] ни динара.
Я хочу, чтоб ты сказал мне правду,
Как зовут трех воевод отважных,
Что мое все войско погубили,
Через поле Косово погнали?»
Янко Юришич ему ответил:
«Волен, царь, ты спрашивать, что хочешь.
Коль спросил, скажу тебе по правде:
Первый самый славный воевода,
Что на Косове погнал всех турок
И загнал их в Лаб и Ситницу,
Это был сам Королевич Марко.[315]
А второй за ним был воевода,
Порубил он саблей много турок,
Это был ребенок малый Огнян,
По сестре племянник милый Марка.[316]
А еще был третий воевода,
Что сломал свою стальную саблю,
На копье насаживал он турок,
В Лаб он гнал перед собою турок,
Загонял их в Лаб и Ситницу.
Янко Юришич — тот воевода,
Вот, султан, он у тебя в темнице,
Можешь с ним ты сделать, что захочешь!»
Сулейман-султан ему ответил:
«Эй ты, курвин сын, ублюдок Янко!
Выбирай себе ты казнь любую,
Этой казнью тебе душу выну.
Если хочешь, плавать в море будешь,[317]
Если хочешь, то гореть ты станешь,
Если хочешь, то к хвостам привяжем
И конями разорвем на части?»
Молвит Янко Юришич султану:
«Волен, царь, ты говорить, что хочешь:
Только мне не милы эти казни,
Эти казни все не для юнака.
Я не рыба, чтобы в море плавать,
Не полено, чтоб в огне сжигали,
И не курва, чтоб к хвостам вязали
И конями разрывали в поле,
Но юнак я первый из юнаков.
Дай ты мне, султан, коня плохого,
Что был тридцать лет никем не езжен,
Был не езжен и отвык от боя;
Дай ты мне еще тупую саблю,
Ту, что тридцать лет не наводили,
Не точили, в бой с собой не брали,
Что от ржавчины негодной стала,
Трудно ее вытащить из ножен.
Дай на волю выехать мне в поле,
Выпусти вслед двести янычаров,
Саблями меня пускай изрубят,
Пусть в бою я как юнак погибну».
Сулейман-султан его послушал,
Дал ему султан коня плохого,
Что был тридцать лет никем не езжен,
Был не езжен и отвык от боя;
Дал ему султан тупую саблю,
Ту, что тридцать лет не наводили,
Не точили, в бой с собой не брали,
Что от ржавчины негодной стала,
Трудно вытащить ее из ножен.
Янко в поле выпустил на волю
И пустил вслед двести янычаров.
На коня вскочил проворно Янко,
Сильно разогнал коня плохого,
Побежал что было сил коняга,
По широкому понесся полю.
Поскакали двести янычаров.
Вырвался вперед один из турок,
Голову хотел отсечь у Янко,
Получить награду от султана,
И догнал он Юришича Янко.
Янко увидал беду большую,
Помянул он истинного бога,
Выхватил свою тупую саблю,
Будто новую со сталью острой,
Он дождался молодого турка,
Вскинул руку правую и саблю,
Турка в пояс шелковый ударил,
Рухнул турок, надвое разрублен.
Турок грянул, Янко тут нагрянул,
Конь усталый для него — помеха,
На коне турецком он поехал.
Не тупую — острую взял саблю
И с турецкой саблей встретил турок,
Половину порубил он саблей,
Половину их погнал к султану,
И на воле он поехал в поле
К дому своему, здоров и весел.
За одним письмом летит другое.
Кто их пишет, кто их получает?
Пишет письма царь Мехмед[319] турецкий,
Получает — в Сталаче[320] Приезда.[321]
«О Приезда, града воевода,
Ты пошли мне три бесценных дара:
Ты пошли мне дамасскую саблю,
Что сечет и дерево и камень,
Крепкий камень, хладное железо;
Ты пошли мне коня сивой масти:
Две стены твой Серко перескочит
И две башни высокого замка;
И пошли мне верную супругу».
Мрачно смотрит на письмо Приезда,
Мрачно смотрит, а другое пишет:
«Ополчайся, царь Мехмед турецкий,
Сколько хочешь собери ты войска
У Сталача, когда пожелаешь.
Не получишь от меня подарков.
Эту саблю для себя сковал я,
Для себя вскормил коня-журавку,[322]
А невесту для себя привез я.
Ничего от меня не получишь».
Собирает войско царь турецкий,
Собирает и ведет к Сталачу.
Под Сталачем стоит он три года:
Не отбил ни дерева, ни камня,
Крепкий город покорить не может
И не может домой возвратиться.
Рано утром случилось в субботу:
Поднялася супруга Приезды
На высокие стены Сталача,
Долго смотрит на воды Моравы.
Замутилась у града Морава.
И сказала супруга Приезды:
«О Приезда, господин любимый,
Я боюсь, мой господин любимый,
Что подкопы пророют к нам турки».
Отвечает супруге Приезда:
«Замолчи, не говори пустое,
Под Моравой подкоп им не вырыть».
Воскресенье святое настало,
Молится Приезда в белой церкви.
Отстоял он всю службу с женою.
Помоляся, выходит из церкви.
Говорит воевода Приезда:
«О юнаки, храброй рати крылья!
Полечу на турок вместе с вами.
Мы кровавой битвою упьемся,
Мы откроем города ворота
И ударим всей силой на турок.
Бог поможет, счастье не изменит».
Обратился Приезда к супруге:
«Принеси из погребов глубоких
Для юнаков вина и ракии».
Взяла Ела кувшины златые
И спустилась в погреба под башней.
Лишь спустилась она, обомлела —
Полон погреб злобных янычаров.
Наполняют сапоги ракией,
Пьют за здравье госпожи Блицы,
Пьют за упокой души Приезды.
Кувшины Елица уронила,
Зазвенели кувшины на камне.
Побежала во двор, восклицая:
«Не к добру и вино и ракия!
В погребах пируют янычары,
Сапогами пьют вино хмельное.
За мое здоровье пьют, смеются,
А тебя живого погребают».
Вскакивает храбрый воевода,
Отворяет градские ворота.
Обнажает он саблю стальную,
Бьется-рубится с турками люто.
Шестьдесят воевод пало в битве.
Больше тысячи турок погибло.
Воротился в город воевода,
За собою запер он ворота.
Вынимает саблю воевода.
Голову коню-журавке рубит[323] —
«Конь мой серый, конь мой самый лучший,
На тебя турецкий царь не вскочит!»
Разбивает дамасскую саблю:
«Ты была мне правою рукою.
Царь турецкий тебя не наденет!»
Вот в хоромы входит воевода.
За руку берет жену и молвит:
«О, скажи, разумная Елица,
Хочешь ли со мною ты погибнуть
Или быть наложницей турецкой?»
По лицу ее слезы струятся,
Отвечает госпожа Елица:
«Лучше честно погибнуть с тобою,
Чем срамиться в турецком гареме.
Не продам я отцовскую веру,
Попирать я крест честной не буду».
И взялися за белые руки,
Поднялися на стены Сталача.
Так сказала госпожа Елица:
«О Приезда, господин любимый,
Нас вскормила быстрая Морава,
Пусть Моравы воды нас поглотят».
И в речные бросилися волны.
Так Сталач был взят царем Мехмедом,
Но добычей он не поживился.
Проклинает город царь турецкий:
«Бог единый пусть Сталач накажет.
Подступил я с трехтысячным войском,
А пять сотен осталось со мною!»
Сон приснился банице[325] влахине[326]
Во столице[327] влашской, во Белграде,
Сон такой приснился ей в постели:
Опоясала змея весь город,
На ворота голову положила;
Вылетает сокол из Стамбула,
С золоченными до плеч крылами,[328]
С вызолоченными до колен ногами,
С клювом, золоченным до подглазья.
Девять соколов за ним летели,
Девять лебедей за ним летели,
Птицы стаями за ним летели,
Разные за ним летели птицы,
Пролетели урусскую землю,[329]
И вся сила собралась на Челмене,
На Челмене над Вучитрном;
Снится, будто небо раскололось,[330]
Пал на землю кровавый месяц,
Звезды по углам поразбежались
И осталась кровавая денница
Со своими детками двоими.
На ноги со сна она вскочила,
Забежала в белые покои,
Где в ту пору бан ее разлегся,
И не будит, чтобы не старел он,
А ногами попросту толкает:
«Чтоб ты дома своего не видел!
Сон-то мне какой приснился ночью!»
Все по правде бану рассказала.
Бан белградский говорит на это:
«Бог убей такое сновиденье!
Я его немедля разгадаю.
Что Белград опоясан змеею —
Это турки по нам ударят.
Что стамбульский сокол летает —
Это царский хранитель печати.
Девять соколов летят вдогонку —
Это царские паши с визирями.
Девять лебедей летят за ними —
Это царь с его знаменами.
Птицы летают, летят за ними,
Разные летают стаи птичьи —
Это царские большие орды.
Раскололося чистое небо —
Это значит — нам войну навяжут.
Звезды по углам поразбежались —
Это побегут мои солдаты.
Месяц пал на землю кровавый —
Это голова моя скатилась.
Остается кровавая денница
И две звездочки вместе с ними —
Это ты — вдова молодая,
Ты с двумя сиротками своими».
Времени с тех пор прошло немного,
Закричала нагорная вила,
Позвала белградского бана:
«Чтоб ты дома своего не видел!
Убегай, идут походом турки,
На тебя идет Ходжа Чуприлич
И Турчин Махмудбегович,
И Осман Татарханович,
Их войскам конца и края нету».
Бан белградский отвечает виде:
«Прочь поди, нагорная вила!
Не боюсь я ни Ходжи Чуприлича,
Ни Турчина Махмудбеговича,
Ни Османа Татархановича,
Ни их сил, ни их орд не боюсь я.
У меня есть на Косове лагерь,
В этом лагере сто тысяч войска
Во главе с Хайвазом-генералом,
У меня близ моря есть Семендра,
А в Семендре семеро отрядов,
Во главе их семь капитанов».
Отвечает нагорная вила:
«Горе лагерю, что на Косове,
И беда твоей Семендре белой!
На Косово ударили турки,
Разгромили они твое войско,
Захватили Хайваза-генерала
И его посадили на кол.
На Семендру ударили турки,
Каждый камень перевернули,
Утопили в Дунае войско,
Захватили семь капитанов,
Посадили их всех турки на кол.
Если, бан, ты мне верить не хочешь,
Поднимись на надвратную башню
Со своей подзорной трубою,
Погляди на поле Врачари
И увидишь то, что не видел,
И тогда ты мне, бан, поверишь».
На ноги вскочил бан белградский,
Взял трубу подзорную в руки,
И взошел на надвратную башню,
И глядит на поле Врачари.
А едва он глянул на поле,
Как немедля обоз увидел,
Что шатры полотняные возит.
Те шатры начинают ставить
На зеленом поле Врачари.
Со стены их бан окликает:
«Прочь отсюда, шатры не ставьте!
А не то я выстрелю из пушки,
Разорву все ваши веревки,
Раздеру я шатры полотняные!»
«Чтоб ты дома своего не увидел!
Погнала нас такая сила,
Вся орда Ходжи Чуприлича.
Вот теперь, как придет сюда Ходжа,
Можешь, бан, с ним сам рассчитаться!»
После этого очень скоро
Вдруг нахлынули царские орды,
И корзин понаделали турки,
Их набили черною землею,
На корзины поставили пушки,
Начали стрелять по Белграду.
Снизу доверху город шатался,
Так по нем били пушки сильно,
Но не могут отбить ни камня
И ни белой известки от камня.
Целую неделю стреляли.
Рассвело девятое утро,
И стали совещаться турки.
И сказал Ходжа Чуприлич:
«Что ж теперь, дорогие братья,
Как Белград брать мы с вами будем?»
«Если бог даст, все обойдется,
Пусть четыре глашатая, Ходжа,
Денег целый вьюк обещают.
Может быть, такой юнак найдется,
Чтоб Дунай переплыл и Саву
И добрался до стен Белграда,
Захватил языка у влахов,
Чтобы тот рассказал про ворота».
И послал глашатаев Ходжа,
Чтобы крикнули царскому войску,
И три белых дня они кричали.
«Нету, брат, никакого юнака».
Рассвело четвертое утро,
Помогли им поиск и счастье —
Видят, парень сидит на камне
С изукрашенной тамбурицей,[331]
Еще тише поет, чем играет:
«Тамбурица, времени трата,
Сколько дней потерял я с тобою,
Всех портняжек игрою замучил!»
Он ударил тамбурой о землю
И вскричал глашатаям громко:
«Чтоб вы дома своего не видали!
Очень вы меня разозлили.
И Дунай переплыву и Саву!»
Вот в шатер его белый приводят,
В шатер Ходжи Чуприлича.
Он селям турецкий Ходже крикнул,
Ходжа на селям его ответил.
Громко он спросил у Ходжи:
«Правду ли глашатаи молвят?
Ходжа, я себя не поя; алею
И Дунай переплыву и Саву
Ради бога и иного мира
И во имя нашего султана
И чтоб денег целый вьюк мне дали».
Ходжа Чуприлич ему ответил:
«Граничар,[332] откуда ты взялся?
Кто сидит у твоего огнища?
Если смертный час твой настанет,
Как читать по тебе мне хатму?»[333]
Граничар ему отвечает:
«Ходжа, я из Герцеговины,
Не слыхал ли ты в Герцеговине
Город Влагай на реке Буне?
А зовусь я Фазли-булюкбаша.
Я, Ходжа, огнищем владею
И жену законную имею,
Двух сынов-близнецов имею,
Что покуда летами не вышли,
Двух сестер молодых имею,
Молодых, еще незамужних».
И сказал ему Ходжа Чуприлич:
«Если смертный час твой настанет
И в реке Дунае ты утонешь,
Сыновей твоих отвезу я
В Стамбул, к своей матери-старухе,
Твою мать призрю, словно родную,
А сестер молодых твоих выдам
За моих полководцев — визирей,
А жена твоя замуж не выйдет,
Пока двух сыновей не поднимет.
А как вырастут дети, положу им
Каждый месяц по сотне дукатов».
Граничар от Ходжи уходит,
Начинает искать побратима,
Побратима Беговца Халила,
Халила с поля Невесина.[334]
Как нашел своего побратима,
Так сказал ему очень тихо:
«Мог бы ты пожертвовать собою
Ради бога и иного мира
И во имя нашего султана
И за денег целый вьюк в придачу?
Можешь ты воспомянуть былое,
Когда жил ты во Благае белом?
Мы б разделись у кипящей Буны,
Кинулись бы тотчас в Буиу оба,
Плыли бы по студеной Буне
До слияния Буны и Неретвы, —
Не страшней того Дунай и Сава!»
Не успели сумерки спуститься,
Как сошли на берег побратимы.
Ходжи им молитву прочитали
И верблюда в жертву закололи.[335]
В воду побратимы прыгнули.
Бог помог им, выручило счастье.
В непогоду, в день Святого Савы,[336]
Когда дерево к камню примерзает,
А рубашка к юнацкому телу,
Переплыть Дунай смогли и Саву.
Только перед самою зарею
Беговец Халил был так измучен,
Что сказал своему побратиму:
«Погибаю, Фазли-булюкбаша!
Лучше изломаем наши ружья
И костер разложим из прикладов!»
Фазли-булюкбаша отвечает:
«Потерпи, брат Беговец Халил,
Скоро солнце выйдет из-за лесу,
Мы согреемся на жарком солнце».
Вышла в небо утренняя зорька,
А за нею показалось солнце,
И согрелись побратимы солнцем,
И укрылись в камышах приречных.
Мимо проезжали двое влахов,
И один из влахов был безногий.
Взяли в сторону они с дороги,
Спешились, попивали пиво,
Завели между собой беседу,
Что кто более всего желает.
И сказал здоровый очень тихо:
«Мне бы более всего хотелось
Превратиться в крылатую виду.
Я бы пролетел Дунай и Саву,
Прилетел бы на поле Врачарье
И в шатре Ходжи Чуприлича
Голову отсек бы Ходже напрочь
И отвез бы белградскому бану.
То-то наградил бы бан за это!»
А безногий тихо отвечает:
«Помолчи, свинья ты перерубленная,
Мне бы более всего хотелось
Превратиться в крылатую виду.
Я бы пролетел Дунай и Саву
В войско из Герцеговины,
Я нашел бы аг из Мостара,
Поболтал бы о здоровье с ними».
На ноги вскочили побратимы,
Прыгнули всадникам на плечи,
Здорового сразу зарубили,
С безногим кинулись в воду.
Со стены заметили их влахи,
Начали стрелять по ним из пушок,
Но с Врачарья прикрывают турки.
Бог им дал, и выручило счастье,
Переплыли и Дунай и Саву,
Притащили языка Велемира,
Привели к Ходже Чуприличу,
И спросил его Чуприлич тихо:
«Ну, безногий, ты откуда взялся?»
А безногий тихо ответил:
«Ходжа, я из Герцеговины,
Из самого города Мостара,
Пекарем работал я в Мостаре.
Но аги затеяли забаву,
Устроили конские скачки[337]
И скакали от Благая белого,
От Благая до Софы ходжийской,
Я же пеший был, а не конный,
Обогнал их, выиграл скачку.
Раз у бега затеяли скачку,
Поскакали от Благая белого,
Я же пеший был, а не конный.
Еще кони на Марковце были,
Я же, Ходжа, на Софе ходжийской
Раздобылся сукном веницейским
И пошел на базар, на рынок.
Только вышел на гору большую —
Завистливы аги в Мостаре —
Задымилась в городе ломбарда,
Отбило мне ногу по колено.
Убежал я тогда оттуда
В Белград, в наш город стольный».
Ходжа Чуприлич ему крикнул:
«Укажи нам в Белграде ворота!»
«Подари мне жизнь, Чуприлич,
Укажу в Белграде ворота.
Посмотри на рассвете стену —
Что сначала осветит солнце,
Там и будут ворота Белграда.
Над воротами высокая башня,
В этой башне пороховой погреб.
Заряди бомбой главную пушку
И прицелься в небо, повыше.
Эта бомба в башню ударит,
И взорвется в погребе порох!»
Утром, лишь засияло солнце,
Приметили высокую башню,
Зарядили главную пушку,
Нацелили в небо, повыше.
Бомба стену перелетела
И попала в высокую башню.
Загорелся в погребе порох —
Милый боже, славься за это!
Кто ходил, не смог ходить больше,
Кто стоял, не смог стоять больше,
Все в траву повалились навзничь.
Сразу бан запросил пощады:
«Пощади меня, Ходжа Чуприлич,
Воткни саблю в городские ворота,
Чтобы дети прошли под саблей!»
Вот несутся бисерные письма
Через всю турецкую краину.
И в диван пришли турецкий письма
Муезиту, грозному султану,
Это письма из Москвы обширной,
А с посланьем дары дорогие.
Для султана — золотое блюдо,
А на блюде — мечеть золотая,
Обвилась змея вокруг мечети;
На ее голове алый яхонт.
Самоцвет и темной ночью светит.
Можно с ним и в полночь в путь-дорогу,
Словно в полдень при солнечном свете.
Для царского сына Ибрагима
Посылают две острые сабли,
Перевязи из чистого злата,
А на них два драгоценных камня.
Получила старшая султанша
Колыбель из золота литого;
Крылья распростер над нею сокол.
Полюбились султану подарки.
Только мысли его беспокоят —
Как ему достойно отдариться.
Думает, придумать он не может.
Перед всеми своими гостями
Похваляется султан дарами
Из Московии, от государя!
Сам рассчитывает, может статься,
Кто-нибудь его и надоумит,
Что послать в Москву, чем отдариться.
Тут паша Соколович приходит.
Похвалился царь ему дарами.
За пашою ходжа и кадия
Поклонилися царю смиренно,
Целовали руку и колено.
Вновь султан дарами похвалялся
И такие им слова промолвил:
«Мои слуги, ходжа и кадия,
Вы скажите вашему султану,
Что послать мне в Московскую землю.
За подарки чем мне отдариться?»
Отвечают смиренные слуги:
«Добрый царь, государь наш любимый,
Мудростью с тобой нам не сравниться,
И тебя мы поучать не можем.
Позови ты старца патриарха.
Старый, верно, тебя надоумит,
Что послать в Москву, какой подарок
Великому царю-государю».
Эти речи слуг своих услыша,
Царь-султан гаваза[338] посылает,
И зовет он старца патриарха.
Пред султаном старец появился,
И ему султан подарки хвалит.
А затем говорит патриарху:
«Мой слуга, патриарх престарелый,
Может быть, слуга, меня научишь,
Что послать в Московскую мне землю».
Отвечает патриарх смиренно:
«Царь-султан, солнце ясное в небе,
Мудростью с тобой мне не сравниться.
Богом ты научен. И твое ведь
Изобильно и богато царство.
Можешь ты достойно отдариться.
Дай не нужное тебе нисколько,
То, что им наверно будет мило:
Старый посох Неманича Саввы,[339]
И корону царя Константина,[340]
И одежды Ивана Предтечи,[341]
Князя Лазаря знамя с крестами.
Это всё, султан, тебе не нужно,
А в Москве твои дары оценят».
Внял султан советам патриарха,
Приготовил царские подарки,
Дал приезжим московским юнакам.
Патриарх их спешно провожает
И дает такое наставленье:
«С богом в путь, московские юнаки!
Не идите вы царской дорогой,
Царскою дорогой прямоезжей,
Но скачите окольной дорогой,
По лесу да по горам скалистым.
Ждите вслед за собою погоню,
Чтоб отнять христианские святыни.
Не сносить мне головы, я знаю,
Это грешное тело погибнет,
Но душа не погибнет, о боже!»
Так сказал он и с ними расстался.
Царь-султан турецкий доволен,
Что Москву отдарил он как должно.
Вот паша Соколович приходит.
Говорит султан слова такие:
«Знаешь ли, паша, слуга мой верный,
Что послал в Московскую я землю?
Старый посох Неманича Саввы
И царя Константина корону,
Князя Лазаря знамя с крестами
И одежды Ивана Предтечи.
Мне все это, слуга мой, не нужно,
А Москва обрадуется дару».
Тут спросил Соколович султана:
«Царь-султан, солнце ясное в небе,
Кто тебя научил это сделать?»
Царь ответил по правде, как было:
«Научил патриарх меня старый».
Отвечает Соколович тихо:
«Царь-султан, солнце ясное в небе,
Коль отдал ты святыни Царьграда,
Почему не послал с ними вместе
Золотые ключи от Стамбула?
Их с позором у тебя отнимут!
Ведь на этих святынях стояло
И держалось турецкое царство».
Понял царь, что Соколович молвил,
Говорит паше султан турецкий:
«Поспеши, паша, слуга мой верный,
Собери янычар поскорее,
Догони московское посольство,
Отними христианские святыни
И московских перебей юнаков!»
Исполняет паша приказанье.
Он скликает янычар турецких.
Мчатся по дороге прямоезжей,
Чтоб настичь московское посольство.
Но юнаков они не догнали.
И ни с чем возвратилась погоня.
И поклялся паша султану,
Что не видел юнаков московских.
И сказал на то султан турецкий:
«Поспеши, паша, слуга мой верный,
И прикончи старца патриарха».
Исполняет паша приказанье,
Он немедля схватил патриарха.
Соколовичу старик промолвил:
«Ты помилуй, паша, и помедли,
Не губи меня на твердой суше,
Коль убьешь, землица вся иссохнет
И три года не даст урожая».
Тут паша послушал патриарха
И повел его к синему морю.
Снова старец его умоляет:
«Ты помилуй, паша, и помедли,
Не губи меня у синя моря,
Коль убьешь, погода изменится,
Подымутся моря и озера
И поглотят ладьи и галеры.
С четырех сторон нагрянут волны
И зальют и потопят всю землю».
Обмануть хотел пашу владыка,[342]
Но паша не поддался обману.
Он взмахнул своей острою саблей
И убил старика патриарха.
Дай, господь, ему в раю блаженство,
Нам же, братья, здоровья и счастья.
Пьют вино у кнеза Богосава[344]
Радивой[345] со Стариной Новаком[346]
Над рекой студеною, над Босной,
А когда подвыпили юнаки,
Спрашивает Богосав Новака:
«Старина Новак, мой брат по богу,
Мне скажи правдиво — что за диво,
Почему ты, брат, ушел в гайдуки?
Иль беда заставила какая
По лесам да по горам скитаться,
Ремеслом гайдуцким заниматься,
Да под старость, да в такие годы?»
Старина Новак ему ответил:
«Побратим, ты спрашивал по правде,
Я тебе по правде и отвечу.
Я ушел в гайдуки поневоле.
Может, помнишь ты еще и знаешь, —
Смедерево[347] строила Ирина[348]
И меня заставила работать.
Я три года строил этот город,
На своих волах возил три года
Камни и деревья для Ирины.
И за эти полные три года
Ни гроша она не заплатила,
На ноги не выслужил опанки![349]
Я простил бы этот грех Ирине;
Но как Смедерево-град воздвигла,
Стала строить крепостные башни,
Золотила окна и ворота,
Вилайет[350] налогом был обложен,
По три литры[351] золота налогу,
Триста, побратим, дукатов с дома!
Кто богаты, отдали дукаты,
Заплатили и спокойно жили.
Я же, кнез, был бедным человеком,
У меня дукатов не водилось.
Взял тогда я свой тяжелый заступ,
Взял я заступ и ушел в гайдуки.
Мне не захотелось оставаться
В государстве проклятой Ирины.
Я добрался до студеной Дрины,[352]
Перебрался в каменную Босну,
А когда дошел до Романии,[353]
Повстречал я там турецких сватов,
Что с невестой ехали турчанкой.
Вся-то свадьба с миром проезжала,
А жених турецкий задержался,
Видно, не хотел проехать с миром.
Жеребца гнедого он направил,
Выхватил трехвостую нагайку,
А на ней латунные три бляхи,
И меня он по плечам ударил.
Трижды турка заклинал я богом:
«Я прошу тебя, жених турецкий,
В удальстве своем ты будь удачлив,
Веселись ты на счастливой свадьбе,
Проезжай своей дорогой с миром,
Видишь сам, что человек я бедный»
Не желает отвязаться турок,
И меня он снова хлещет плеткой.
Хоть ударил он меня не сильно,
Но зато я сильно рассердился,
Размахнулся заступом тяжёлым
И легонечко ударил турка.
Так тихонько я его ударил,
Что с коня жених свалился наземь.
Я тогда его ударил дважды,
А потом еще ударил трижды,
Бил, пока с душой он не расстался.
Я обшарил у него карманы,
Три кисы с деньгами там нащупал
И к себе за пазуху засунул.
Отпоясал я у турка саблю
И к себе покрепче припоясал,
В головах его поставил заступ,
Чтобы турки тело закопали,
Сел я на коня его гнедого
И к горе поехал Романии.
Видели все это сваты-турки,
Но догнать меня не захотели,
Не хотели, видно, не посмели.
Сорок лет с того дня миновало,
Я к горе привыкнул Романии
Больше, брат мой, чем к родному дому.
Знаю я все горные дороги.
Жду купцов сараевских в засаде,
Отбираю серебро и злато,
Бархат и красивые одежды,
Одеваю я себя с дружиной.
Научился я сидеть в засаде,
Гнаться и обманывать погоню,
Мне никто не страшен, кроме бога».
Зорюшка еще не забелела,
Утречко лица не показало,
Как ворота отворились в Сене,
Вышла в поле небольшая чета,
В чете тридцать и четыре друга,
И ведет их Тадия Сенянин,[355]
А при знамени Комнен-знаменщик,
И юнаки поспешили в горы,
Подошли под Красные Утесы.[356]
Говорит им Тадия Сенянин:
«Ой, мои вы братья и дружина!
Разве мать не родила юнака,
Что пошел бы к чабану в отару,
Взял девятилетнего барана,
Взял бы семилетнего козлища,
Чтоб была у нас на ужин пища».
Все юнаки головой поникли,
В землю черную глаза уперли,
Не смутился лишь Котарец Йован,
А вскочил он на легкие ноги,
И пошел он к чабану в отару,
Взял девятилетнего барана,
Взял он семилетнего козлища
И принес Сенянину добычу.
Тот живьем содрал с животных шкуры
И пустил ободранными в ельник.
Ветвь заденет — закричит козлище,
А баран — тот даже не заблеет.
Говорит тогда Котарец Йован:
«Тадия, начальник нашей четы,
Для чего ты ободрал скотину?»
Отвечает Тадия Сенянин:
«Видите ли, братья дорогие,
Видите ли, какова их мука,
Но еще страшнее будет мука,
Если турки полонят юнака;
Кто стерпеть такую муку сможет,
Тот, подобно этому барану,
Пусть отправится со мною в горы;
Ну, а тот, кто убоится муки,
Да простит ему всевышний это,
Пусть вернется к Сеню восвояси».
Тут вскочил он на легкие ноги,
Взял ружье за середину ложи
И пошел на Красные Утесы.
Оглянулся тут Котарец Йован,
Десять человек домой уходят.
Говорит Сенянину Котарец:
«Для чего ты напугал дружину?
Десять человек от нас сбежали».
Отвечает Тадия Сенянин:
«И пускай бегут, Котарец Йован,
Если так бедняги оплошали,
Драного козла перепугались,
Что же будет, если встретим завтра
Тридцать человек рубежной стражи
Во главе с Хасан-агою Куной?[357]
Как живой огонь его дружина!»
Подошли они к Утесам Красным,
Оглянулся вновь Котарец Йован,
Снова десять человек сбежало,
И опять сказал Котарец Йован:
«Для чего, начальник нашей четы,
Для чего ты напугал юнаков?
Оглянись — еще сбежало десять».
Отвечает Тадия Сенянин:
«И пускай бегут, Котарец Йован!
Если так бедняги оплошали,
Драного козла перепугались,
Как же будет, если встретим завтра
Тридцать человек рубежной стражи
Во главе с Хасан-агою Куной?
Как живой огонь его дружина!»
Поднялись на Красные Утесы,
Оглянулся вновь Котарец Йован,
С ними лишь один Комнен-знаменщик.
И тогда он Тадии промолвил:
«О, Тадия! Нас осталось трое!»
Отвечает Тадия Сенянин:
«Вы не бойтесь, братья дорогие!
Если будет добрая удача,
То, что совершили б тридцать храбрых,
Совершат три добрые юнака!»
В это время их и ночь застала.
Впереди, сквозь ельник, побратимам
Показалось вдруг живое пламя.
Говорит им Тадия Сенянин:
«Разве мать не родила юнака,
Чтоб пошел туда да поразведал,
Кто там — турки или же ускоки?»
Комнен тут вскочил с земли на ноги,
Взял ружье за середину ложи
И ушел сквозь ельник на разведку.
Как дошел он до огня живого,
Притаился он за тонкой елью:
А сидят там турки-удбиняне,
Между ними Хасан-ага Куна,
Пьют вино и чистую ракию.
Как дошла до Хасан-аги чаша,
Произнес он здравицу дружине:
«Будьте здравы, братья дорогие!
За здоровье тридесяти турок,
Да погибнет Тадия Сенянин,
Да погибнут тридцать с ним гайдуков,
Даст господь, мы всех их изничтожим!»
Темного вина они напились,
Головы от хмеля помутились,
Как убитые они заснули,
Прислонили ружья к тонким елям.
Тут подкрался к ним знаменщик Комнен,
Он собрал их светлое оружье,
Хорошенько в заросли попрятал,
Но не может взять он саблю Куны,
Куна спит, на саблю навалившись.
И тогда он перевязь разрезал,
Вытащил из-под Хасана саблю
И отнес к Сенянину ту саблю.
Вопрошает Тадия Сенянин:
«Что ты видел там, знаменщик Комнен,
Кто там возле пламени живого?»
Говорит ему знаменщик Комнен:
«Тадия, начальник нашей четы!
Там ночует Хасан-ага Куна,
С ним дружина — турки-удбиняне.
Темного вина они напились,
Головы от хмеля помутились;
Я собрал их светлое оружье
И поглубже в заросли запрятал».
Не поверил Тадия Сенянин,
Но потом увидел саблю Куны,
И тогда узнал он саблю Куны,
Двинулся скорей к огню живому.
У огня спят турки-удбиняне,
С трех сторон друзья их обложили,
С первой стороны зашел Сенянин,
А с другой зашел знаменщик Комнен,
С третьей стороны — Котарец Йован;
Вынули захваченные ружья,
А Сенянин подбегает к Куне,
Сильно в зад ногой его пинает
И кричит над ухом горлом белым:
«Эй ты, падаль, Хасан-ага Куна!
Пред тобою Тадия Сенянин,
С ним пришли тридцать четыре друга
Вас проведать у огня живого!»
Вскакивает Куна, как безумный,
Ищет Куна кованую саблю,
Нету на боку проклятой сабли,
Поглядел он на свою дружину,
Та бы рада за ружье схватиться —
Нету ружей возле тонких елей.
И воскликнул Тадия Сенянин:
«Встань-ка, падаль, Хасан-ага Куна!
Взял я ваше светлое оружье,
Сам вяжи своих всех тридцать турок,
А иначе даю тебе клятву,
Выстрелят все эти тридцать ружей,
И на месте вас они уложат».
Как увидел Куна, что случилось,
Вскакивает он с земли на ноги,
Сам он руки удбинянам вяжет,
Куна вяжет, Комнен проверяет;
Повязал рубежную он стражу,
А его связал знаменщик Комнен.
А потом они заходят в ельник,
Вынимают светлое оружье
И на турок вешают оружье.
Так они погнали — три ускока,
Так они погнали тридцать турок,
Так погнали на границу к Сеню.
А когда пришли к воротам Сеня,
Стар и млад на них дается диву.
Говорят между собой сенянки:
«Боже милый, великое чудо!
Как связали добрых три юнака,
Три юнака три десятка турок
Без единой раны, без потери!»
Отвечает Тадия Сенянин:
«Не дивитесь, девушки-сенянки,
Счастье повстречалося с бедою,
Наше счастье — с ихнею бедою,
И с бедою счастье совладало».
Тут они подходят к белой башне,
Тридцать турок бросили в темницу
И назначили за турок выкуп:
За тридесять — три мешка с деньгами.
И за них прислали вскоре выкуп,
Но тогда выходит мать-старуха,
Тадии такое слово молвит:
«Ведаешь ли, Тадия Сенянин,
Что родитель твой погублен Куной?»
Как услышал Тадия Сенянин,
Взял он выкуп — три мешка с деньгами —
И пустил на волю тридцать турок,
Каждому велел пройти под саблей,
А как проходил под саблей Куна,
Взмахнул саблей, голова слетела.[358]
Мать говорила Татунчо:
«Татунчо, сынок мой милый,
Единственный сын, спасибо,
Что мать пришел ты проведать!
Оставь-ка лучше, сыночек,
Проклятое дело хайдучье,
Нельзя быть долго хайдуком,
Хайдуки живут недолго,
Хайдук за домом не смотрит,
Хайдук свою мать не кормит!
Продай ружье боевое,
Кривую острую саблю,
Впряги ты буйволов русых,[360]
Вспаши ты поле под паром,
Засей золотой пшеницей,
Чтоб мать свою кормить честно!»
Татунчо ее послушал,
Запряг он буйволов русых,
Провел расписной сохою
Одну борозду, другую,
Вдруг пыль вдалеке увидел.
Татунчо тут удивился,
Какая тому причина:
Табун ли коней там гонят,
Скота ль рогатого стадо?
А был не табун там конский,
А был там не скот рогатый.
Шагали, пыль поднимая,
Сеймены, слуги султана,
Султан их послал с приказом —
Скорей изловить Татунчо.
Срубить с плеч голову тут же,
Ее отвезти к султану.
Они подошли к Татунчо,
Они Татунчо спросили:
«Эй, молодой оратай,
Видим — ты пашешь и сеешь,
Не знаешь ли ты Татунчо,
Где пашет он, где он сеет,
Желтую сеет пшеницу,
Чтоб мать свою кормить честно?»
Татунчо так им ответил:
«Нет, я не знаю Татунчо,
Не знаю, с ним не знаком я».
А следом шел цыганенок,
Уродливый и плюгавый,
Сказал ему цыганенок:
«Татунчо, эх ты, Татунчо,
А что, как тебя я выдам?»
Ответил он цыганенку:
«Коль выдашь меня, то кожу
Сдеру я с тебя живого!»
Его цыганенок выдал,
Стража идет, подступает,
Сказал Татунчо стрекалу:
«Стрекало, моя сестрица,
Если от смерти избавишь,
Ручку твою позлащу я,
А пятку посеребрю я!»
Быстро схватил он стрекало,
Тут завертелся Татунчо,[361]
Бил он налево, направо,
А как назад обернулся —
Валялись головы турок,
Как в огороде капуста,
И фески на них алели,
Как перец красный на грядках,
Трупы их в поле валялись,
Словно снопы пшеницы.
Татунчо домой вернулся
И матери так промолвил:
«Вспахал я поле, засеял,
Как бог дал, так и случилось!
Ясное солнце пригрело,
Все, что посеял, созрело.
Весь урожай мною собран!»
Мать отвечала Татунчо:
«Мать обманул ты, сыночек,
Тем согрешил перед богом!»
«Если ты сыну не веришь,
В поле тебя поведу я!»
Привел он мать свою в поле:
Головы турок валялись,
Как в огороде капуста,
И фески на них алели,
Как перец красный на грядках,
Трупы их в поле валялись,
Словно снопы пшеницы.
Снял с мертвецов он одежду,
Собрал пояса, что были
Набиты золотом туго,
И матери отдал в руки:
«Возьми, мать, это богатство!
Ты правильно мне сказала:
«Хайдук за домом не смотрит!»»
«Милый Стоян, мой сыночек,
Разве юнаку пристало
Буйволов в плуг запрягати
Или волов златорогих,
Черную пашню пахати,
Желтую сеять пшеницу?
Любо мне, милый сыночек,
Чтобы ты стал воеводой,
Чтобы ходил ты с дружиной
Храбрых, как сам ты, юнаков,
С тонким ружьем за плечами,
За кушаком две пистоли,
Острая сабля в ладони».
«Матушка, мама родная,
В жизни всего мне милее
То, что отец мне оставил:
Пашня его и скотина,
В утренних росах левада,
Желтой пшеницы амбары».
«Милый Стоян, мой сыночек,
Орлы пусть клюют скотину,
А черви травят пшеницу,
Если ты доблестью ратной
Имя свое не прославишь.
Стань же, сынок, воеводой!»
Собрался отряд юнаков,
Юнаков самых отборных,
И семьдесят семь их было,
Да нет у них воеводы.
И в город Шумен[364] пришлось им
Послать за девушкой Недкой:
«Пускай к нам Недка приходит,
У нас воеводой будет,
Пускай в походы нас водит,
Всех семьдесят семь юнаков!»
Услышала это Недка
И матери так сказала:
«Ой, матушка, моя мама,
Зовут меня, мама, просят
Все семьдесят семь юнаков,
Чтоб стала их воеводой».
А мать ответила Недке:
«Иди и будь воеводой,
Пока тебя ноги держат,
Пока тебе руки служат,
Пока глаза твои видят».
Ушла тогда Недка в горы,
Приходит она к юнакам,
Обрадовались юнаки,
Они всплеснули руками,
Сказали они друг другу:
«Давайте-ка мы отмерим
В тридцать шагов расстоянье,
Поставим саблю мишенью:
А кто попадет в ту саблю,
Расколет надвое пулю,
Тот будет наш воевода».
Юнаки поочередно
Стреляли, не попадали,
Стреляли все мимо сабли.
«А ну-ка стреляй ты, Недка!»
Стояла Недка в сторонке
И молча ружье держала
Да на стрельбу их смотрела.
Вперед тогда вышла Недка,
Уперлась коленом в землю,
Прицелилась в саблю метко,
На тридцать шагов стрельнула,
Рассекла надвое пулю.
«Ой же ты, Ангел, гей, воевода,
Скажи, где твой высокий дом?»
«Гей вы, юнаки, ой ты, дружина,
Родной мой дом — зеленый бук».
«Ой же ты, Ангел, гей, воевода,
Где же твоя старая мать?»
«Гей вы, юнаки, ой ты, дружина,
Мне зелена дубрава — мать»
«Ой же ты, Ангел, гей воевода,
Где же твоя млада жена?»
«Гей вы, юнаки, ой ты, дружина,
Женою мне — моя пищаль».
«Ой же ты, Ангел, гей, воевода,
Где же, скажи, дети твои?»
«Гей вы, юнаки, ой ты, дружина,
Дети мои — пули мой.
Гей вы, юнаки, ой ты, дружина,
Пули летят, куда пошлю.
Гей вы, юнаки, ой ты, дружина,
Я их пошлю, назад не жду».
Пир пирует, пьет Новак Дебелич[367]
На горе зеленой Романии;
Пьет вино он с братом Радивоем,
Возле Раде — чадушко Груица,
Рядом с Груей — Татомир[368] отважный,
И гайдуков с ними три десятка.
Вот вином все усладились вдосталь, —
Стали тешить всяк свою причуду;
Тут и молвил Радивой бесстрашный:
«Ты послушай, брат Новак Дебелич!
Порешил, брат, я тебя покинуть:
Постарел ты, братец, стал нам в тягость,
Ты гайдучить уж не можешь больше,
Не выходишь с нами на дорогу,
Чтоб заморских поджидать торговцев».
Так промолвил Радивой бесстрашный,
Поднялся он на ноги, веселый,
Посередке ухватил дубинку,
Кликнул тридцать молодцов-гайдуков
И за черным лесом с ними скрылся;
Брат остался под зеленой елью
Со своими слабыми сынами.
Но гляди-ка ты на Радивоя!
Счастье Раде выпало плохое:
Только вышел Раде к раздорожью —
Повстречался он с Мехмед Арапом;
Вел Арап там тридцать делибашей,
Вез Арап там три богатых клади.
Как увидел молодцов-гайдуков, —
На своих он удальцов прикрикнул,
Турки сабли обнажили разом,
Вскинуть ружья не дали гайдукам,
Головы им всем поотрубали.
Радивоя самого схватили,
Крепко руки за спиной скрутили,
Через горы повели с собою,
Петь им песни Раде приказали.
Начал песню Радивой бесстрашный:
«Лучше б ты пропала, Романия!
Уж не ты ли сокола скрываешь?
Пролетели голуби над лесом,
Перед ними — черный ворон-птица,
Белого там лебедя поймали,
А на крыльях пронесли богатство».
Встрепенулся чадушко Груица,
Услыхал он песню Радивоя,
Как услышал — из-под ели вышел,
И сказал он Старине Новаку:
«Ой, отец мой, ой, Новак Дебелич!
Распевает кто-то на дороге,
Сокола все сизого он кличет,
Поминает гору Романию.
Уж не наш ли Радивой бесстрашный?
Может, дядя раздобыл богатство?
Может, Раде наш попал в несчастье,
Ждет подмоги на большой дороге?»
Взял Груица джевердан[369] свой легкий,
Вниз по склону он пошел в засаду,
Вслед за Груей- Татомир отважный,
За сынами — сам Новак Дебелич.
Вот к широкой подошли дороге,
У дороги стал Новак в засаду,
Рядом стали оба слабых сына.
Прокатилось вдоль дороги эхо,
Показались три десятка турок,
Над плечами турок — тридцать копий,
А на копьях — головы гайдуков.
Перед ними сам Мехмед шагает,
Связанного тянет Радивоя,
Гонит в горы три богатых клади,
По дороге прямиком шагает,
Попадает в крепкую засаду.
Тут прикрикнул на сынов Дебелич,
И Мехмеда выстрелом он встретил,
Встретил добро — пулею под ребра,
Выстрел грохнул — ворог и не охнул,
Где стоял он, там свое и отжил,
Неживым уж грянулся он оземь.
А Новак уж около Мехмеда:
Просвистела над Арапом сабля —
Отлетела голова Арапа.
А Новак уж к Раде подбегает,
За спиною путы разрубает,
Саблю вражью подает он брату.
Боже правый, славно твое имя!
Как на турок тут они напали,
Да с налета строй их разорвали,
Да погнали их — один к другому:
Кто из турок Радивоя минет —
Тех встречает Татомир отважный;
Кто проскочит мимо Татомира —
Тех встречает чадушко Груица;
Кто от Груи недобит уходит —
Тем не минуть Старины Новака.
Порубили тридцать делибашей,
Захватили всю добычу турок,
Всю добычу — три богатых клади,
Вином красным сели услаждаться.
И промолвил тут Новак Дебелич:
«Брат мой Раде, дай ответ по чести:
Кто сильнее, кто тебе нужнее —
Или тридцать молодцов-гайдуков,
Или старый твой Новак Дебелич?»
И ответил Радивой бесстрашный:
«Ладно, брат мой, я скажу по правде:
Жаль мне тридцать верных побратимов,
И не в радость мне твоя удача».
Ой, юнаки, трудно вам на свете,
Коль вы старших слушать не хотите!
Написал письмо паша загорский,[371]
Посылает в Грахово[372] с посланцем,
В белы руки кнезу Милутину:[373]
«Милутин мой, граховский владыка!
Я к тебе приеду на ночевку,
Приготовь же тридцать мне покоев,
Будут спать в них тридцать делибашей,
Каждому из этих делибашей
Ты достань по девушке-красотке,
Сам я лягу в башне белостенной,
Пусть там будет дочь твоя родная,
Дочь твоя, красотка Икония,
Чтоб с пашой загорским миловаться».
По рукам посланье то ходило,
Добралось до Грахова покуда,
В белы руки кнезу Милутину.
Лишь прочел Милутин то посланье,
Залился он горькими слезами.
Видит это дочка Икония,
Говорит родителю смиренно:
«Милутин, любезный мой родитель!
Брось письмо ты, чтоб оно сгорело!
Со слезами ты его читаешь,
О каком тебе несчастье пишут?»
Милутин девице отвечает:
«Дочь моя, красотка Икония!
То письмо из ровного Загорья,
От паши, турецкого владыки.
К нам паша приедет на ночевку,
Приказал он тридцать дать покоев,
В те покои тридцать дать красавиц
Тридцати турецким делибашам,
А тебя к себе зовет он в башню,
Чтобы ты с пашою миловалась,
Вот зачем я слезы проливаю!»
Говорит красотка Икония:
«Милутин, любезный мой родитель!
Приготовь ты тридцать им покоев,
Угости господскою вечерей,
О красотках ты не беспокойся,
Раздобуду тридцать я подружек,
А сама я буду в белой башне».
Лишь девица кнеза научила,
Принесла чернила и бумагу,
Написала грамотку поспешно[374]
Побратиму милому Груице:
«Побратим, Новакович Груица!
Только эту грамотку получишь,
Ты из вашей выбери дружины
Ровно тридцать молодых юнаков,
Что на красных девушек похожи,
Приведи их в Грахово немедля,
К Милутину-кнезу на подворье».
Написала грамотку девица,
Тем же часом Груе отослала.
Получил гайдук ее посланье,
Тотчас кликнул верную дружину,
Отобрал он тридцать тех юнаков,
Что на красных девушек похожи.
Тут вскочил на легки ноги Груя,
Легкое ружье он взял с собою
И помчался в Грахово с дружиной,
Прискакал он в Грахово под вечер,
К белой башне кнеза Милутина,
Икония братца поджидает,
Обнимает, в белый лик целует,
А его дружину — в белу руку.
Повела их в башню Икония,
Сундуки тяжелые[375] открыла,
Вытащила платьица девичьи,
Тех гайдуков в платьица одела,
Чтоб вести по тридцати покоям.
Говорит им чадушко Груица:
«Тридцать братьев, славные гайдуки!
Вы сидите всяк в своем покое,
А когда приедут делибаши,
Вы целуйте в полу их и в руку,
Отбирайте светлые их сабли,[376]
Подавайте ракию и вина,
Ожидайте моего приказа.[377]
Как пальну из гданской я пистоли,
Так и знайте, что пашу убил я,
Вы ж кончайте всяк по делибашу
И бегите в башню всей дружиной,
Чтоб увидеть, что с пашою стало».
Повела юнаков Икония,
Развела по тридцати покоям,
Воротилась в каменную башню,
Вынула чудесную одежду,
Нарядила девушкой Груицу:[378]
Тонкую дала ему рубашку,
Вышитую золотом червонным,
А на ноги — женские шальвары,
А на плечи — желтые три кофты,
А на них три пояса червонных.
Принесла она три ожерелья,[379]
Жемчуга на Грую нацепила
И в чулки и в туфли приобула,
А чулки-то золотом расшиты,
А на туфлях серебро-подковки!
Лишь одела девушка юнака,
Золотой закутала фатою,
Так сама на Грую загляделась,
И сказала Груе молодая:
«Побратим, какой же ты красивый!
Ты меня, красавицы, прекрасней!»
Лишь она сказала это слово,
Зазвенели мраморные плиты,
Это едет к ним паша загорский!
Увидала турок Икония,
Заперлась от турок в кладовую,
Груя в башне каменной остался
Поджидать загорского вельможу.
Много ль, мало ль времени проходит,
Глядь, паша и сам явился в башню,
Милутин идет перед пашою,
Перед ним фонарь несет и свечку,
За пашою — тридцать делибашей.
Встретил их Новакович Груица,
Чмок пашу и в полу он и в руку,
А паша Груицу — меж очами.
Говорит тот турок Милутину:
«Кнез, веди в покои делибашей,
Угости господской их вечерей,
Я вечерять у тебя не буду».
Воротился кнез из белой башни,
И развел он тридцать этих турок
По своим по тридцати покоям,
Угостил господской их вечерей.
Но смотри ты на пашу, на горца!
Сразу стал он в башне раздеваться,
Стал и Груя стлать ему перины.
Как разделся тот паша турецкий,
Повалился сразу на перины,
Говорит Новаковичу Груе:
«Сядь со мной, красотка Икония,
Переспи со мною на постели,
Будешь ты мне милою женою!»
Опустился Груя на перины,
Ты смотри, что сделалось с пашою!
Тотчас стал он баловаться с Груей,
Норовит под кофту сунуть руку.
Но гайдук того не понимает,
Привскочил на легкие он ноги,
Взял пашу за бороду седую,
Говорит вполголоса злодею:
«Тише, курва! Стой, паша загорский![380]
Я тебе не краля Икония,
Я тебе Новакович Груица!»
Тут кинжал он выхватил булатный,
Заколол пашу он в белой башне,
Подбежал к железному окошку,
Выпалил из гданских двух пистолей,
Подал знак тогда своей дружине.
Услыхали Грую все гайдуки,
Выхватили кованые сабли,
Порубили тридцать делибашей,
Всю казну их разом захватили,
Побежали в башню к атаману
Посмотреть, что делается в башне,
Посмотреть, что с тем пашою сталось.
А Груица справился с пашою,
И сидит он в этой белой башне,
Пьет вино он красное из чаши,
Икония служит побратиму.
Как пришли гайдуки к воеводе,
Поснимали девичьи наряды,
Всяк в свое опять оделись платье,
Сели за господскую вечерю.[381]
Тут открылась дверь пред Милутином.
Кнез выносит им шестьсот дукатов,
Отдает Новаковичу Груе:[382]
«Вот тебе, сынок названый Груя,
Раздели их поровну с дружиной,
Что меня избавила от горя!»
Вслед за ним выходит Икония
И выносит тридцать им рубашек,
Подает Новаковичу Груе
Дорогое платье золотое
Да перо[383] такое же в придачу.
С честью их девица проводила,
К Старине отправила Новаку,[384]
Яблоко она ему послала,
В яблоке послала сто дукатов,
А гайдуку дяде Радивою
Подарила княжескую саблю.[385]
Молодая так им говорила:
«Вот, мой брат, прими мои подарки,
Ты помог мне в горести великой!»
Тут юнак с сестрой поцеловался,
И вернулся он на Романию,
А девица — в каменную башню.
Пир пируют Радивой с Новаком
На горе зеленой Романии,
Служкой служит чадушко Груица.
Лишь вином насытились юнаки,
Радивой сказал такое слово:
«Старина Новак, мой милый братец!
Все вино мы выпили с тобою.
Весь табак до крошки искурили,
Нет в кармане больше ни динара».
Старина Новак ему ответил:
«Не печалься, Радивой отважный!
Не беда, что нет вина в запасе,
Что табак до крошки искурили,
Что казной мы тоже оскудели,
С нами сын мой, чадушко Груица,
Он красивей девушки-красотки!
Мы с тобой оденемся купцами,
Грую в платье рваное нарядим,
Поведем мы чадушку Груицу,
Продадим в Сараеве на рынке,
Убежит наш Груя, коль захочет,
Мы ж казною снова разживемся
И вина и табаку достанем».
Тем словам обрадовался Раде,
Побратимы на ноги вскочили,
Нарядились пришлыми купцами,
Грую в платье рваное одели,
Повели в Сараево на рынок,
Чтоб продать там чадушку Груицу.
Увидала Грую там девица,[387]
Обещала три куля червонцев,
Побежала к дому за деньгами.
В это время черт принес старуху,
Джафер-бега старую вдовицу,
Три куля дает вдовица денег,
Трех коней, везти домой червонцы.
Проклинает ту вдову девица:
«Уводи, вдова, Дорогокупа!
Пусть тот раб тебе недолго служит,
Может, ночь, а может, две, не боле!»
Повела вдова Дорогокупа,
Привела на белое подворье,
Принесла ему воды и мыла,
Искупала чадушку Груицу,
Нарядила в чистую одежду,
Принесла господскую вечерю.
Сел вечерять чадушко Груица,
А вдове не терпится до ночи —
Все глядит на чадушку Груицу.
Только на дворе завечерело,
Постлала вдова ему постелю,
Полегла с Груицей на перины.
Лишь назавтра утро засияло,
Рано встала бегова вдовица,
Принесла богатые одежды,
Приодела чадушку Груицу.
Нарядился чадушко в рубашку —
Вся она из золота по пояс,[388]
А внизу от пояса — из шелка.
И поверх зеленая долама,
На доламе тридцать штук застежек,
В каждой штуке золота по литре,
В самой верхней — литры три и боле,
На застежки петли надевались,
Каждая — с кувшинчик для ракии.
На доламе золотые токи,[389]
В каждой токе по четыре оки.
На ноги — шальвары и сапожки, —
По колено ноги пожелтели,[390]
Стал похож на сокола Груица;
На голову — шапку с опереньем,
Девять перьев нацепил на шапку
Да крыло, десятое по счету,[391]
Из крыла челенки три спускались,
Что Груице по плечам стучали,
А цена им — тысяча дукатов.
Принесла вдова шелковый пояс,
А за пояс — гданских две пистоли,
Обе в чистой золотой оправе,
Вместе с ними — два ножа огнистых
С дорогим алмазом в рукоятке;
Подарила кованую саблю
С золотой тройною рукоятью,
В рукояти — камень драгоценный,
Стоит сабля три царевых града.
Нарядился чадушко Груица
И сошел с высокой белой башни,
Стал гулять по белому подворью,
Заложив под мышками ладони.
На него любуется вдовица,
С белой башни смотрит из окошка,
Подзывает чадушку Груицу,
Говорит ему такое слово:
«Господин мой,[392] раб Дорогокупый!
Что ты нынче ходишь невеселый?
Иль жалеешь три куля червонцев,
Что дала я за тебя на рынке,
Иль коней, везти домой червонцы?
У меня полна червонцев башня,
У меня полна коней конюшня,
Три десятка там арабских коней,
Да простых там коней три десятка.
Послужили кони Джафер-бегу,
А теперь тебе пускай послужат!»
Отвечает чадушко Груица:
«Госпожа ты, бегова вдовица!
Мне богатства твоего не жалко,
О другом, вдовица, я жалею.
Жалко мне родимого подворья,[393]
Там ходил я в горы на охоту,
У тебя ж я никого не знаю».[394]
Отвечает бегова вдовица:
«Не печалься, раб Дорогокупый!
Тридцать мне сараевцев знакомы,
Что ходили с бегом на охоту.
Прикажу слуге я Ибрагиму,
Пусть слуга идет на белый рынок,
Пусть он кликнет тридцать тех юнаков,
Отправляйся с ними на охоту.
Здесь в лесу гора есть Романия,
На горе косули и олени.
Прикажу слуге я Хусеину,
Пусть он пару коней оседлает».
Оседлал двух коней тот конюший,[395]
С площади сараевцы приспели.
На раба любуется вдовица,[396]
В белой башне Грую собирает.
Молвит Груе бегова вдовица:
«Ты послушай, раб Дорогокупый!
Отвори ты в башне кладовую,
Захвати дукатов на дорогу,
Одели сараевцев деньгами,
Как начнут носить тебе добычу».
Отворил Груица кладовую,
Лаком был Груица на дукаты,
Понабрал их полные карманы,
Да еще в сапог себе засунул.
Говорит сараевцам вдовица:
«Тридцать вас, сараевцев-юнаков!
Берегите мне Дорогокупа,
Берегите пуще Джафер-бега!»
Тут спустился Груя с тонкой башни,
Сел верхом на серого лихого,
Поскакал на площадь городскую.
Вот бы вы на Грую посмотрели,
Как помчался этот черт на черте,
Так на сером тот гайдук помчался![397]
Только камни из-под ног летели,
Да трещали там корчмы и камни!
Говорят сараевцы друг другу:
«Боже милый, что за небылица!
Вот вдовице привалило счастье!
Удалось сыскать ей господина,
Не чета он старцу Джафер-бегу!»
И помчались все на Романию.
На горе зеленой Романии
Вдруг олень зарыкал и косуля.
Говорят сараевцы-юнаки:
«Господин наш, раб Дорогокупый!
Вот олень зарыкал и косуля!»
Но ответил чадушко Груица:
«Полно вам, сараевцы-юнаки!
Не олень тут рычет, не косуля,
То Новак гуляет с Радивоем,
А вот это — чадушко Груица!»
Тут ударил стременем Груица,
Полетел на сером через поле,
Далеко сараевцы отстали,[398]
Хусеин один за ним несется,
Белым горлом кличет тот конюший:
«Стой ты, курва, чадушко Груица!
От меня с конем ты не ускачешь,
Не уйдешь в нарядах Джафер-бега!»
Вскок пустил он своего гнедого,
Вынимает кованую саблю,
В самом деле Грую догоняет.
Но и Груя уходить не хочет,
Повернул он серого обратно,
Вынимает саблю Джафер-бега,
Поджидает с саблей Хусеина.
Вот дождался Груя Хусеина,
По плечу по правому ударил,
Разрубил слугу он на две части,
Раздвоил седло одним ударом,
Под седлом рассек он и гнедого,
Да еще и землю поцарапал.
Тут Новак из чащи подал голос:
«Здравствуй, сын мой, чадушко Груица![399]
Не плошал и я в былые годы,[400]
Мог не хуже твоего ударить!»
Хусо землю пятками копает,
Груя едет в горы, распевает.
Как подъехал к Старине Новаку,
Дядю Груя в белый лик целует,
А отца целует в белу руку,
Отпустил коня он в лес зеленый,
Ухватил ружье свое под мышку,
И пошел Груица в лес зеленый.
Остался Димчо сироткой,
Без матери, без отца он,
Нанялся Димчо батрачить
У кади[402] в городе Плевне[403]
И ровно девять годочков
Там прослужил, проработал.
Потребовал Димчо платы,
А кади ему ответил:
«Эх, Димчо, глупый ты парень,
И кто же тебя надоумил
За службу требовать денег?»
Сказал хозяину Димчо:
«А кто меня надоумил?
Меня научила служба,
Учила меня работа,
Учили мои мученья.
Уж девять лет я батрачу,
Служу у тебя здесь в доме.
Ты должен мне девять сотен,
Плати же мне мои деньги!»
Ответил кади со смехом:
«Иди-ка, Димчо, работай!
Пока еще глуп ты, молод,
И кто это видел-слышал,
Чтоб кади платили деньги?»
Обидно тут стало Димчо,
Он встал и ушел далеко,
Ушел в Троянские горы[404]
И там во весь голос крикнул:
«Ой, где ты, Страшил, мой дядя,
Страшил, воевода страшный,
И где мне тебя увидеть,
Обиду мою поведать?»
Услышал Страшил-воевода
И молвил своей дружине:
«Эй вы, дружинники-други!
Скорей разыщите Димчо.
Его ко мне приведите!»
И сразу ушли юнаки,
По лесу долго ходили,
В долине встретили Димчо,
Его привели к Страшилу.
Спросил тогда воевода:
«Ты, сын сестры моей, Димчо,
Зачем по лесам ты бродишь
И дядю родного ищешь?»
Ответил Димчо Страшилу:
«Ой, грозный Страшил, мой дядя,
Пожаловаться пришел я:
Я девять лет пробатрачил
У кади в городе Плевне,
Он за девять лет работы
Не дал девяти грошей мне».
Тогда Страшил вопрошает:
«Ты знаешь, Димчо, ты скажешь,
Как отмыкается дверь
На том подворье у кади?»
И Димчо ему ответил:
«Я девять лет был в доме».
Страшил говорит дружине:
«Эй вы, дружинники-други,
Вы пояса затяните,
Готовьте ружья-кремневки,
Стяните лапти-царвули,
Идем мы все в город Плевну,
Там турок громить мы будем,
И там мы изловим кади».
Пошли они в город Плевну
И там изловили кади,
Тяжелой палицей били,
Ножами его кололи.
Страшил говорил дружине:
«Берите, парни-юнаки,
Горстями себе червонцы
И полной мерой сыпьте:
Кровавые это деньги,
Награблены, силой взяты
У вдов, у сирот несчастных!»
Тут кади взмолился слезно:
«Страшил, воевода грозный,
Костей моих не ломайте,
А лучше возьмите деньги!»
Страшил ему так ответил:
«Коль ты останешься бедным,
Людей снова грабить будешь».
На месте кади казнили,
А голову в горы взяли.
Мать растила сыновей двух малых,
В злое время, в трудный год голодный,
Веретенцем хлеб им добывала,
Имена хорошие давала:
Предраг[406] — одному, другому — Ненад.[407]
А как Предраг на коне смог ездить,
На коне держать копье стальное,
Он покинул мать свою старуху
Да уехал в горный лес к гайдукам.
Ненад дома с матерью остался,
И не знал он ничего о брате.
Вырос Ненад, на коне смог ездить,
На коне держать копье стальное,
И покинул мать свою старуху
Да уехал в горный лес к гайдукам.
Там три года Ненад прогайдучил.
Был юнак он мудрый и разумный,
Был удачлив в каждом поединке,
Атаманом стал в дружине храброй.
Пробыл Ненад главарем три года,
Захотел старуху мать проведать.
Он сказал своей дружине братской:
«Ой, дружина, братья дорогие!
Навестить хочу я мать родную,
Так разделим все добро по-братски,
Навестим свой дом и мать родную».
С радостью послушалась дружина,
Вот добычу каждый вынимает
И клянется клятвою великой,
Кто клянется братом, кто сестрицей.
Вынул Ненад и свою добычу,
И сказал он так своей дружине:
«Ой, дружина, братья дорогие!
У меня нет брата, нет сестрицы,
Мой свидетель только бог единый!
Правая рука моя отсохни,
Потеряй мой конь густую гриву,
Заржавей моя стальная сабля,
Если утаил я хоть немного!»
А когда добро все поделили,
Ненад на коня вскочил проворно
И поехал к матери-старухе.
Мать радушно принимала сына,
Лакомые яства подавала,
А когда они за ужин сели,
Ненад тихо матери промолвил:
«Ой, старушка, мать моя родная!
Если б пред людьми не постыдился,
Если б я не согрешил пред богом,
Не сказал бы, что ты мать родная:
Почему мне брата не родила,
Брата или милую сестрицу?
Как с дружиной я делил добычу,
Каждый клялся клятвою великой:
Клялся братцем иль сестрицей милой,
Только я собой, своим оружьем
Да конем надежным под собою».
Засмеялась мать его старуха:
«Говоришь ты неразумно, Ненад!
Я давно тебе родила брата,
Брат родной и у тебя есть — Предраг.
Нынче утром я о нем узнала,
Что теперь с дружиной он гайдучит
На горе зеленой Гаревице,
Атаманом в чете у гайдуков».
Юный Ненад матери ответил:
«Ой, старушка, мать моя родная!
Приготовь мне новую одежду,
Из сукна зеленого дай платье,
Чтоб под цвет была с горой зеленой,
Еду я искать родного брата,
Да исполнится мое желанье».
Мать-старуха отвечала сыну:
«Неразумно говоришь ты, Ненад!
Голову свою зря потеряешь!»
Юный Ненад матери не слушал;
Делает он так, как сердцу мило,
Надевает на себя он платье,
Из сукна зеленого одежду,
Чтоб под цвет была с горой зеленой,
И на доброго коня садится,
Едет он искать родного брата,
Чтоб исполнилось его желанье.
Голоса не подал он дорогой,
Он не гикнул, на коня не крикнул.
А когда подъехал к Гаревице,
Крикнул Ненад, словно сокол сизый:
«Гаревица, кто в лесу таится,
Ты не прячешь ли в себе юнака,
Он родной мой брат, зовется Предраг?
Не хранишь ли ты в лесу юнака,
Кто бы с братом мог соединиться?»
Предраг, брат его, сидел под елью,
Пил вино под елкою зеленой,
Он услышал громкий голос брата
И сказал своей дружине братской:
«Ой, дружина, братья дорогие!
У дороги встаньте вы в засаду,
Поджидайте этого юнака,
Не губите вы его, не грабьте,
Но живым его ко мне ведите,
Кто бы ни был, моего он рода».
Встали тридцать юношей здоровых,
В трех местах по десятеро стали.
Как наехал он на десять первых,
Не посмел никто навстречу выйти,
Выйти, задержать среди дороги,
Только стрелы издали пускали.
Крикнул Ненад молодой гайдукам:
«Не стреляйте, братья, с Гаревицы,
Чтоб по брату вы не горевали,
Как горюю я о милом брате,
Я его найти сюда приехал!»
Ненада все пропустили с миром.
Как наехал на второй десяток,
Стрелы и они в него пускали,
Крикнул Ненад молодой гайдукам:
«Не стреляйте, братья, с Гаревицы,
Чтоб по брату вы не горевали,
Как горюю я о милом брате,
Я его найти сюда приехал!»
Ненада все пропустили с миром.
Как с десятком третьим поравнялся,
Стрелы и они в него пускали,
Ненад молодой тут рассердился
И напал на тридцать всех юнаков,
Первых десять порубил он саблей,
Потоптал конем второй десяток,
А десяток третий разбежался,
Кто к вершине, кто к воде студеной.
Весть дошла до Предрага-юнака:
«Не к добру сидишь, главарь наш Предраг,
На тебя юнак какой-то едет,
Порубил он на горе дружину».
Предраг быстро на ноги поднялся,
Да схватил свой лук тугой и стрелы,
Да к дороге вышел для засады,
Да засел под елкою зеленой
И стрелою поразил юнака,
В злое место та стрела попала,
В злое место под юнацким сердцем.
Вскрикнул Ненад, словно сокол сизый,
Громко вскрикнул и в седле поникнул:
«Ой, юнак с зеленой Гаревицы!
Пусть живым тебя господь накажет.
Правая рука твоя отсохнет,
Что стрелу из тетивы пустила,
Пусть ослепнет, лопнет глаз твой правый,
Что в меня стрелу нацелил метко!
Пусть о брате ты своем горюешь,
Как горюю я о милом брате.
Я его найти сюда приехал,
Даже если поплачусь я жизнью!»
Как услышал Предраг речь такую,
Из-за ели Ненаду он молвил:
«Кто, юнак, ты, из какого рода?»
Ненад раненый ему ответил:
«Что меня о роде вопрошаешь?
Ведь меня женить вам не придется.
Молодой юнак я, юный Ненад,
Одинока мать моя старуха,
У меня есть брат родной постарше,
Предрагом родной мой брат зовется,
Я искать его сюда приехал,
Чтоб исполнилось мое желанье,
Даже если поплачусь я жизнью!»
Как услышал Предраг речь такую,
Выронил с испугу злые стрелы,
К раненому подбежал поспешно,
Снял с коня и положил на землю:
«Ты ли это, брат родной мой Ненад!
Это я твой брат родной, твой Предраг!
Заживить ты в силах злую рану,
Если тонкую порву рубашку,
Осмотрю, перевяжу я рану?»
Ненад раненый ответил брату:
«Ты ли это, брат родной мой Предраг!
Слава богу, что тебя увидел,
Так исполнилось мое желанье.
Заживить не в силах злую рану.
Кровь моя, бог даст, тебе простится!»
Так промолвил, да и душу отдал.
Брат над братом горестно горюет:
«Ой ты, солнце ясное, мой Ненад!
Рано ты взошло и засияло,
Да зато и рано закатилось!
Василечек мой в саду зеленом,
Рано на заре ты распустился,
Да зато и рано ты увянул!»
Предраг выхватил кинжал из ножен.
Поразил себя кинжалом в сердце,
И упал он мертвый подле брата.
Горько плачут сербы-воеводы
У паши скадарского в полоне,
А за дело? Нет ведь, не за дело!
За налог с камней бесплодных Брда,[409]
Загордились горные юнаки
И султану податей не платят.
Обманул их всех паша скадарский,
Заманил к себе их честным словом,
Бросил сербских воевод в темницу,
А один был Вуксан из Роваца,[410]
А другой был Лиеш из Пипера,[411]
Третий же был Селак Васоевич.[412]
Горько стонут пленники в темнице,
Опротивела неволя сербам,
Спрашивает Вуксан из Роваца:
«Братья дорогие, воеводы!
Верно, нам придется здесь погибнуть,
Что кому из нас всего дороже?»
Отвечает Лиеш из Пипера:
«Братья, вот что мне всего дороже:
Я сыграл совсем недавно свадьбу,
Дома у меня жена осталась,
Не бранились мы, не целовались,
Не ругались мы, не миловались,
Это горше мне всего другого».
Отвечает Селак Васоевич:
«Братья, вот что мне всего дороже;
Дома у меня казна осталась,
И дворы, и всякие угодья,
И стада овечьи по нагорьям;
Мать осталась без любви сыновней,
А сестрица — без заботы братской,
И кукуют обе, как кукушки,
Во дворе моем широком, белом».
Отвечает Вуксан из Роваца:
«Братья, так не говорят юнаки.
Белый двор и у меня остался,
И моя старуха мать горюет.
Верную жену я взял недавно,
Милую сестру не выдал замуж,
Но жалеть об этом я не буду.
Я жалею, что я здесь погибну,
Что погибну, не оставив сына».
А пока юнаки говорили,
Палача прислал паша Скадарский,
Вот кричит он у дверей темницы:
«Кто тут будет Лиеш из Пипера?
Пусть выходит из тюрьмы проклятой
Выкупили Лиеша пиперцы,
Злата-серебра без счета дали,
Все стада пиперские овечьи
И рабыню-девушку в придачу».
Обманулся Лиеш-воевода,
Вышел Лиеш к воротам темницы,
А палач из-под полы взял саблю,
Размахнулся — голова слетела,
Туловище оттащил в сторонку
И назад к темнице воротился,
Выкликает снова у темницы,
Селака зовет он воеводу:
«Кто тут будет Селак Васоевич?
Пусть выходит из тюрьмы проклятой,
Ожидает сына мать-старуха,
Выкупила у паши юнака,
Привела паше коров с волами,
И овец, и беленьких ягняток,
Принесла ему казны без счета».
Обманулся Селак-воевода,
Вышел Селак к воротам темницы,
А палач из-под полы взял саблю,
Размахнулся — голова слетела,
Туловище оттащил в сторонку
И назад к темнице воротился.
Выкликает снова у темницы,
Вуксана зовет он воеводу:
«Выходи-ка, Вуксан из Роваца,
Выкуп привезли паше ровчане,
Дали за тебя две бочки денег,
Все венецианские дукаты,
И овец с ягнятами пригнали,
И рабыню-девушку в придачу».
Но Вуксан был лютою змеею.
Обмануть себя он не дал турку.
Подошел он к воротам темницы,
Палачу турецкому промолвил:
«Смилуйся, палач, ты напоследок,
Руки мои белые распутай,
Чтоб я снял одежды дорогие,
Скинул с плеч зеленую доламу,
Под доламой токи на три ока,
Токи те в Млетаке отковали,
Плачено за них пятьсот дукатов.
А внизу рубашка золотая,
А ее не пряли, и не ткали,
И узорами не расшивали,
Ту рубашку подарила вила,
Кровью бы ее не испоганить».
Как польстился турок на рубашку,
Руки белые распутал сербу,
Но не стал снимать одежду пленник,
Выхватил у палача он саблю,
Голову срубил ему с размаху,
Побежал по городу Скадару.
Бросились навстречу воеводе
Тридцать горцев, тридцать малисорцев.[413]
Вуксан не дается туркам в руки,
Как махнул направо и налево,
Отрубил он головы всем туркам,
Без оглядки мчится воевода,
Подбежал к мосту через Бонну,
Там увидел он судью с ходжою,
Воеводе так они сказали:
«Стой, ни с места, Вуксан-воевода,
А не станешь — головы лишишься!»
Отвечает Вуксан-воевода:
«Слушайте меня, судья с ходжою,
Некуда вперед мне подаваться,
Некуда назад мне возвращаться».
Размахнулся — головы слетели,
Бросил он обоих турок в реку,
Побежал еще быстрее дальше,
Вслед за ним в погоню мчатся турки,
Конные Вуксана еле видят,
Пешие и услыхать не могут.
Прибежал домой живым-здоровым,
Старой матери своей на радость
И на счастье всей дружине нашей.
Как забрали турки ровные Котары,[415]
Дворы Янковича[416] разорили,
Взяли в плен Смилянича Илию,[417]
Со Стояном Янковичем взяли.
У Илии в доме молодайка,
Дней пятнадцать, как он оженился,
У Стояна в доме молодайка,[418]
Лишь неделя, как он оженился;
Во Стамбул юнаков взяли турки,
Подарили славному султану.
Девять лет они пробыли[419] в рабстве
И семь месяцев на год десятый;
Потурчиться их султан заставил,[420]
Близ себя для них дворы поставил.
Раз Илия говорит Стояну:
«Ой, Стоян, ты мой любезный братец,
Завтра пятница — турецкий праздник
Выйдет царь со свитой на прогулку,
И царица выйдет на прогулку.
Укради ключи от царских ризниц,
Я ключи достану от конюшен,
Вместе мы казны себе награбим,
Добрых двух коней себе достанем,
Убежим с тобою в ровные Котары;
Неплененных родичей увидим,
Нецелованных жен поцелуем».
И на том договорились братья.
Пятница пришла — турецкий праздник
Вышел царь со свитой на прогулку,
И царица вышла на прогулку.
Взял Стоян ключи от царских ризниц,
Взял ключи Илия от конюшен,
Царскую казну они забрали,
Добрых двух коней себе достали,
И помчались братья в ровные Котары.
Как они приехали к Котарам,
Янкович Стоян сказал Илии:
«О Илия, мой любезный братец!
Ты в свой белый двор ступай скорее,
Я ж пойду скорее к винограду,
К винограду, к зеленому саду,
Погляжу я на свой виноградник,
Кто-то вяжет, кто его лелеет,
В чьи-то руки этот сад достался».
К белому двору пошел Илия,
А Стоян пошел в свой виноградник.
Матушку свою Стоян увидел,
С матушкой в саду он повстречался.
Косы режет матушка-старуха,
Косы режет, виноградник вяжет
И слезами лозы поливает,
Поминает своего Стояна:
«Ой, Стоян мой, яблочко златое,
Матушка твоя тебя забыла,
А невестку позабыть не может,
Нашу Елу, перстень ненадетый».
Поздоровался Стоян со старой:
«Бог на помощь, сирая старушка!
Никого нет, что ли, помоложе,
Чтоб ходить за этим виноградом,
Ты-то ноги ведь едва волочишь?»
Горестно старуха отвечает:
«Здравствуй и живи, юнак незнамый!
Никого здесь нету помоложе,
У меня был сын Стоян когда-то,
И того угнали в рабство турки,
Вместе с ним двоюродного брата,
Моего племянника Илию.
У Илии в доме молодайка,
Дней пятнадцать, как он оженился.
У Стояна в доме молодайка,
Лишь неделя, как он оженился.
А сноха — адамово колено —
Девять лет Стояна дожидалась
И семь месяцев на год десятый,
А теперь она выходит замуж;
Не глядят глаза мои на это,
Оттого и в сад я убежала».
Как Стоян услышал эти речи,
К белому двору поторопился,
Застает он там нарядных сватов,
И Стояна сваты привечают
И с коня за трапезу сажают.
Как вина Стоян напился вдосталь,
Тихие Стоян заводит речи:
«Ой вы, братья, нарядные сваты,
Не дозволите ли спеть мне песню?»
Отвечают нарядные сваты:
«Отчего же нет, юнак незнамый.
Отчего же не попеть немного?»
И запел Стоян высоко, звонко:
«Птица ластовица хлопотала,
Девять лет она гнездо свивала,
А сегодня гнездо развивает.
Прилетел к ней сив-зеленый сокол
От престола славного султана,
И развить гнездо он помешает».
Ничего не понимают сваты,
А жена Стоянова смекнула,
Убежала от старшого свата,
В верхней горнице она укрылась
И сестру Стояна призывает:
«Ой, золовка, милая сестрица,
Господин мой, братец твой, вернулся!»
Как сестра про это услыхала,
Вниз из верхней горницы сбежала,
Трижды стол очами оглядела,
Наконец она признала брата,
А когда она признала брата,
Обнялись они, поцеловались,
Два потока слез перемешались,
Плачут оба с радости и с горя,
Но тут молвят нарядные сваты:
«Как же, Янкович, с нами-то будет,
Кто теперь нам за добро уплатит?
Ведь покуда сватали мы Елу,
Поистратили добра немало».
Янкович Стоян им отвечает:
«Погодите, нарядные сваты,
Дайте на сестрицу наглядеться,
За добро вам заплачу с лихвою,
Человек сочтется с человеком!»
Нагляделся Стоян на сестрицу,
Стал одаривать нарядных сватов —
Тем платок, тем тонкую рубашку,
Жениху родную дал сестрицу.
С тем и отбыли из дома сваты.
А как время вечерять настало,
Матушка идет домой, рыдая,
Стонет горько серою кукушкой,
Своего Стояна поминает:
«Ой, Стоян мой, яблочко златое,
Матушка твоя тебя забыла,
А невестку позабыть не может,
Нашу Елу, перстень ненадетый!
Кто-то ждать теперь старуху будет?
Кто-то выйдет матери навстречу?
Кто-то у меня сегодня спросит:
«Матушка, не слишком ли устала?»»
Услыхала то жена Стояна,
Встала перед белыми дворами,
Матушку в объятья принимала,
Слово доброе ей говорила:
«Не горюй ты, матушка, напрасно!
Солнце наконец тебя пригрело,
Вот он, сын Стоян, перед тобою!»
Как увидела старуха сына,
Как увидела она Стояна,
Так и наземь замертво упала.
И Стоян похоронил старуху,
Как положено по царской чести.
Шлет ага из Рибника посланье,
Посылает Сенковичу Джюре:
«Ты внемли мне, Сенкович Джюра!
Слышал я, мне говорят и ныне,
Что юнак ты добрый в поединке,
Хвалит и меня за то дружина.
Если впрямь юнак ты в поединке,
В поединке, с кованою саблей,
Приезжай ко мне под белый Рибник,
Приезжай — померяемся силой!
Если ж ты на бой идти не хочешь,
Шей тогда штаны мне и рубаху,
Чтобы знал я, что ты мне покорен».
Взял посланье то Сенкович Джюра,
Взял посланье, слезы полилися.
А его сын Иво вопрошает:
«Что ты плачешь, мой отец родимый?
Сколько писем раньше приходило,
Через твои руки проходило,
И ни разу ты еще не плакал!»
Отвечал ему Сенкович Джюра:
«Иво, Иво, чадо дорогое!
Много писем раньше приходило,
Но такого в жизни не бывало.
Если же такое и случалось,
Твой отец тогда был помоложе
И ничьих посланий не боялся,
Это — вызов аги из Рибника,
На борьбу меня он вызывает,
А куда против него я, старый?
Я с трудом и на коне держуся,
Не под силу с турками бороться!
Шить штаны пока не научился,
Прясть и ткать на турок не согласен».
Говорит отцу на это Иво:
«Мой отец родной, Сенкович Джюра!
Если ты и постарел годами,
Не годишься ты для поединка,
Так меня ты вымолил у бога,
Бог тебе послал в подмогу сына:
Я пойду против аги, родитель.
Заменю тебя на поединке».
Отвечал ему на это Джюра:
«Иво, Иво, чадо дорогое!
Ты на бой, сынок мой, выйти можешь,
Да обратно с бою не вернешься:
Молод ты, сынок, и неразумен,
Нет тебе шестнадцати годочков,
Ну, а турок — богатырь известный,
Нет ему и равных в нашем крае!
Поглядел бы ты его одежду:[422]
Чистый мех все — рысий да соболий,
Да медвежья на коне попона,
Да копье покрыто волчьей шкурой.
Он одной одеждой страх нагонит,
А как крикнет турок да прикрикнет,
Как заржет под турком конь бывалый,
Так с коня и свалишься ты, Иво,
Голову свою ты потеряешь!
Что тогда отец твой станет делать?
Кто его накормит и напоит,
После смерти тело похоронит?»
Отвечал отцу на это Иво:
«А зачем одежды мне пугаться?
Не боюсь я и живого волка,
А уж мертвой шкуры и подавно!
Если турок крикнет и прикрикнет,
Так и я ведь крикну и прикрикну.
Дай-ка лучше мне благословенье
С турком выйти на единоборство,
А пока твой Иво жив на свете,
Ткать и прясть на турок ты не будешь!»
Ничего не мог старик поделать:
Оседлал коня ему гнедого,
Гладит шею и целует гриву:
«Конь ты мой гнедой, неоценимый!
Вдоволь мы с тобой повоевали
И от турок пленных отбивали,
Головы турецкие крушили![423]
Постарел теперь я, друг мой верный,
Воевать, как раньше, силы нету,
С головой тебя шлю неразумной,
С Иво шлю, с единственным сыночком,
Иво мал еще и неразумен,
Береги ты моего сыночка!»
Снарядил Сенкович Джюра сына,
Дал ему надеть свою одежду,
Дал ему свою для боя саблю,
На дорогу поучал словами:
«Иво, Иво, чадо дорогое!
В добрый час! Со счастьем и удачей:
Да хранит господь тебя от раны,
Защитит тебя от басурмана,
От руки и раны басурманской!
Пусть не дрогнет у тебя десница,
А в деснице сабля не изменит,
Пусть на турка очи смотрят смело!
Как под Рибник подойдешь под белый,
Не страшись, сынок, и не пугайся,
Смело ты смотри, скажи ты смело,
Смело вызывай агу на битву.
А как выйдешь с ним на поединок,
Не тяни за повод ты гнедого,
Потому что это конь ученый,
Знает сам и бой и поединок,
Он тебя собою и прикроет,
И от сабли кованой укроет».
Принял Иво тут благословенье,
Руку, полу у отца целует,
Под отцовскими ногами землю
И у матери целует руку.
«Ну, мои родители, простите!»
На коня ученого сел Иво,
С песней он на поединок скачет,
А отец и мать глядят и плачут.
Прискакал он к Рибницкому полю,
На поле шатер он видит белый.
У шатра воткнуты в землю копья,
И привязаны к тем копьям кони.
Под шатром сидит ага турецкий,
Попивает мальвазию важно,
Сына два наши сидят с ним рядом.
Тут гнедой, едва коней увидел,
То заржал он громко под юнаком.
Гости говорят аге с усмешкой:
«Господин наш, ага из Рибника![424]
То к тебе прибыл Сенкович Джюра;
Голове твоей не удержаться,
Видно, нам судьба с тобой расстаться!»
Присмотрелся ага хорошенько,
Увидал он Сенковича Иво:
«Вы не бойтесь, гости дорогие!
То Сенкович Иво перед нами.
Зря послал к нам старый Джюра сына,
Ведь в бою погибнет он сегодня!
Но убить его мне чести мало —
Не дорос и неразумен Иво.
Лучше я живым его поймаю:
У отца всего, что хочешь, много.
Денег много даст мне откупного».[425]
Тут сам Иво к их шатру подходит,
Кланяется, как велит обычай:
«Бог вам в помощь, турки-рибничане!»
Турки Иво приняли радушно:
«Добрый день, юнак Сенкович Иво!
С чем приехал ты, Сенкович Иво,
С чем приехал и чего ты хочешь?»
Отвечает туркам смело Иво:
«Кто ага из Рибника меж вами?
Пусть выходит на единоборство!
Надоели мне его посланья,
Все зовет отца на поединок.
Для борьбы родитель постарел мой,
Не годится он для поединка,
Вышел я родителю в замену».
Отвечает ага из Рибника:
«Брось ты, Иво, к дьяволу затею!
Ты во сне не видел поединка,
А не то что наяву сражаться!
Сядь-ка лучше, Иво, да и выпей.
Грех тебя мне погубить напрасно, —
Ты еще ведь только оперился.
Лучше, Иво, сдайся ты без боя
С головою целой и без раны!
Я готов и честью поручиться —
Ничего с тобою не случится!
Твой отец всего имеет много:
Я дам жизнь, а он мне — откупного».
Отвечал ему на это Иво:
«Эй ты, турок, ага из Рибника!
Я пришел под Рибник не сдаваться,
Я пришел помериться с тобою
И сразиться честно, по-юнацки!
Выходи, ага, коль ты не баба,
Мне на месте долго не стоится!»
Зашипел ага змеею лютой,
На юнацкие вскочил он ноги,
За коня схватился вороного,
Вызывает Сенковича Иво:
«Эй, юнак, эй ты, Сенкович Иво!
Разъяри коня скорей для боя».
Говорит ему на это Иво:
«Слушай, турок, ага из Рибника!
Я коня поутомил немного:
Ехал долго из краев далеких,
Так взъярить коня мне несподручно.
На черте я встану неподвижно,
Разъяри коня, скачи на Иво:
Я не сдвинусь даже на полшага,
И тебя приму я по-юнацки!»
Это турку по душе пришлося,
Разыграл коня он в чистом поле,
За копье схватился боевое,
Закричал, как змей с вершины, Иво:
«Ну держись теперь, Сенкович Иво,
Не скажи потом, что был обманут!»
Полетел что силы он на Иво,
Бьет копьем юнаку прямо в сердце.
Конь гнедой припал к траве зеленой,
Высоко прошло копье над Иво,
Даже шапки черной не задело,
А не то что ранило юнака!
Взялся Иво Сенкович за саблю,
Пересек копье у рукояти!
Как увидел ага из Рибника,
Что из дела ничего не вышло,
Повернул коня он восвояси,
Поскакал скорее в белый Рибник,
Поскакал за ним и Иво следом.
Быстрым скоком конь коня настигнул,
Головой на агу навалился,[426]
У аги рвет пояс с бахромою.
Говорит тут ага из Рибника:
«Боже мой, неужто смерть приходит?
Полбеды, когда бы от юнака,
Для меня б то было не позорно,
Срам — погибнуть от коня юнака!»
Неразумный Иво так задумал:
Он не бьет по турку острой саблей,
Не сечет головушку наотмашь,
Хочет он забрать агу живого,
Привести отцу его в подарок.
Вспомнил турок тут свою кремневку,
Повернулся да скорей стреляет,
Не попал, как целился он, в Иво,
А попал коню между глазами.
Конь гнедой на землю повалился,
Иво соскочил и стал на ноги.
Как увидел ага из Рибника,
Что он Иво без коня оставил,
Повернул коня на Иво снова:
«Что ты скажешь мне, Сенкович Иво?
Что ты скажешь, на что уповаешь?
От коня тебя освободил я,
Так уж лучше, Иво, ты сдавайся,
Лучше в рабство, чем навек в могилу!»
Иво зашипел змеею лютой:
«Ой ты, турок, ага из Рибника!
Я тебе, покуда жив, не сдамся.
Не оставил ты меня без сабли!
Вот она, отцовская та сабля,
Что была на многих поединках,
Отсекла голов турецких много,
Бог поможет, и твою отрубит!»
Турок зашипел змеею лютой.
Вороного он пустил на Иво,
Но не дрогнул Иво в поединке,
Уступить дорогу не желает,
Покориться турку он не хочет,
А стоит и ждет его на месте;
Размахнулся он рукою правой,
Вороному голову отсек он:
Конь упал, к земле агу притиснул,
В свой черед тут усмехнулся Иво:
«Что ты скажешь, на что уповаешь?»
Ага начал умолять юнака:
«Брат по богу, мой Сенкович Иво!
Не губи головушку напрасно,
Дам тебе я много откупного!»
Говорит ему на это Иво:
«Мне твоя головушка дороже
Всех богатств султановых на свете».
Голову аги отсек тут Иво,
Бросил голову в мешок дорожный,
Быстро снял с аги одежду Иво,
Снял с аги, а на себя напялил.
Сына два паши тут увидали
Смерть и гибель аги из Рибника,
Говорят между собою злобно:
«Мы его живого не отпустим,
Мы за нашего агу отплатим!»
На коней скорее повскакали
И погнали по полю юнака.
Мчится Иво, словно зверъ травимый,
С поля в лес дремучий забегает.
Туркам в лес верхами несподручно,
Знают, не догнать им в чаще Иво,
Спрыгнули они с коней ретивых,
Привязали их к зеленой ели
И пешком погнались за юнаком.
Только Иво был юнак разумный,
Он и так и этак след меняет,[427]
И лишь турки мимо пробежали,
Он к коням привязанным вернулся,
Отвязал от ели их обоих,
Едет на одном, ведет другого,
Едет Иво лугом, распевает:
«Ой вы, турки, вы, паши два сына!
За подарок дорогой спасибо!»
Услыхали то паши два сына,
Побежали лесом на дорогу,
На дорогу выходить боятся,
А из лесу говорят так Иво:
«Брат по богу, наш Сенкович Иво!
Вороти нам коней наших добрых,
Мы тебе дадим шестьсот дукатов!»
Говорит на это туркам Иво:
«Не глупите вы, паши два сына!
Ведь коня два добрых мне дороже,
Чем весь Рибник, город ваш богатый!
Если бы в лесу вы мне попались,[428]
Вам бы не понадобились кони;
Вот вам ваши кони, забирайте,
Это — кони лучшие на свете!»
Иво с песней в край родимый скачет,
А два турка в чистом поле плачут.
Лишь юнак подъехал ближе к дому,
Мать-старуха увидала Иво,
Но узнать юнака не узнала:
На юнаке новая одежда,
Под юнаком конь чужой играет.
Застонала, как лесная вила,[429]
Закричала, в голос зарыдала,
К мужу старому в дом побежала:
«О мой Джюра, дорогой хозяин!
В час недобрый разрешил ты Иво
Заменить тебя на поединке!
Потеряли мы с тобою сына!
Вот ага из Рибника подъехал,
Разорит сейчас наш дом, ограбит,
Нас с тобою, стариков, захватит,
Станем мы турецкими рабами!»
Как услышал плач старухи Джюра,
Сам заплакал горькими слезами,
На ноги юнацкие вскочил он,
Привязал он кованую саблю,[430]
Побежал скорей на луг зеленый
И поймал там старую кобылу,
Второпях и оседлать не может,
А на спину голую садится,
Вылетает прямо он на Иво,[431]
Но узнать и он не может сына:
На юнаке новая одежда,
Под юнаком конь чужой играет.
Закричал тогда Сенкович Джюра:
«Стой ты, сука, ага из Рибника!
Не хитро с юнцом тебе сражаться,
Ему нет шестнадцати годочков!
Поборись-ка ты, ага, со старым!»
Говорит ему на это Иво:
«Бог с тобою, мой отец родимый!
Я — не рибникский ага, не турок,
Я — твой Иво, сын родной твой Иво!»
Но старик от горя и не слышит,
Что ему кричит несчастный Иво:
Он летит прямехонько на турка,
Чтоб убить проклятого злодея.
Тут-то Иво тяжело пришлося:
Смерть принять приходится юнаку
От отца родного, не чужого!
Видит Иво — дело не до шуток,
Повернул, давай бог ноги в поле,
Следом скачет Джюра на коняге:
«Стой, не убежишь, ага проклятый!»
Джюра быстро сына догоняет,
Хочет голову отсечь юнаку.
Видит Иво, дело не до шуток:
Руку сунул он в мешок дорожный,
Голову аги он вынимает
И отцу ее бросает в ноги.
«Бог с тобою, мой отец родимый!
Иль аги ты голову не видишь?»
Голову увидел старый Джюра,
Меч в траву зеленую он бросил,
Соскочил со старой он кобылы,
За коней он Ивиных схватился,
Принимает на руки сыночка,
Обнимает и в лицо целует:
«Ну, спасибо, дорогой сыночек,
Постоял ты за отца родного,
Поддержал ты честь свою и славу,
Честь господы и родного края!
А зачем ты вырядился турком?
Чуть не взял отец греха на душу,
Чуть тебя совсем я не прикончил!»
Говорит ему на это Иво:
«Мой отец родной, Сенкович Джюра!
По чему б меня узнали люди,
Когда выйду с ними на беседу,
Что я был на этом поединке?
На слова господа не поверит,
Что я был на этом поединке,
Если нет и знака никакого!»
Аги в Удбине[433] пили, гуляли,
Тридцать аг и еще четыре,
Старина Чейван-ага был с ними.
Только лишь успели аги выпить,
Головы оборотились к окнам,
Поле все затмилось от пылищи,
А в пыли детина показался,
Серебром и золотом блистает.
Он все ближе, аги смотрят, смотрят,
А признать его никак не могут.
Старый дедушка признал детину:
«Хрничин Халил[434] к нам самолично1
Вот уже целых четыре года
Влахи серого его забрали,
И ему путь в Турцию заказан.
У Краины[435] обломились крылья,
Муйо причинен большой убыток,
Четовать не может больше Муйо.
Выставлю я выблядка за двери,
Пусть только в корчму зайдет он выпить!
А придет из Кладуши сам Муйо —
Русу голову он брату срубит».
Встал в дверях корчмы Халил Хрничин
И селям турецкий агам крикнул.
Аги все ответили Халилу,
Не ответил Чейван-ага старый,
Только косо глянул на Халила:
«Что, мошенник? Уж четыре года,
Как коня Хрничина ты отдал,
Мой Халил, в мадьярскую державу
И у Краины сломал ты крылья,
А Хрнице причинил убыток —
Четовать[436] теперь не может Муйо».
Снова хлопнули входные двери,
Стало быть, в корчму заходит Муйо.
Искоса он глянул на Халила
И с бедра потягивает саблю,
Зарубить родного брата хочет.
Тотчас тридцать удбинян вскочили,
Не дали ему убить Халила,
Только из корчмы того прогнали.
Муйо пьет вино со всеми.
Сел Халил у мраморного входа,
Громко крикнул корчмарю Омеру:
«Принеси-ка на дукат вина мне!»
И Омер вина Халилу вынес.
Только лишь Халил вино то выпил,
Потекли по лицу его слезы,
Заскрипел он белыми зубами,
Выкатил юнацкие очи:
«Срам, Чейван-ага, твоим сединам,
За что ты меня опозорил?
Разве силой коня взяли влахи?
Я заснул, юнак разнесчастный,
Близ Кунары,[437] зеленой планины,
Там-то серого коня и украли.
Я ищу его четыре года,
Дедушка Чейван, в земле гяурской,
Голоса его нигде не слышно,
Сотню городов уже объехал!»
На ноги вскочил Халил с крылечка,
Побежал по зеленому полю.
На Кунару, зеленую планину.
Здесь Халил в ущелье спустился
И нашел дуплистую елку,
Вытащил мадьярскую одежду,
Снял свое, в мадьярское оделся.
После на плечо ружье закинул.
И по Шибенику и во Задару[438]
Ходит, серого коня он ишет,
А когда он пришел в Сень каменный
К башне Сенянина Ивана
Й как раз прошел под белой башней,
Серый конь заржал из подземелья.[439]
Сел Халил на холодный камень,
Проливает горючие слезы.
Иван-капитан его увидел
И племяннику Тадии крикнул:
«О Тадия, дитя дорогое,
Приведи ко мне мадьярипа,
Что горючие слезы проливает!»
Нету отговорок у Тадии,
Вниз на улицу сошел немедля
И Халилу говорит такое:
«Мадьярин из земли Мадьярской,
Иван-капитан тебя кличет!»
На ноги вскочил Халил, брат Муйо,
И как только взобрался на башню,
Шапку снял, до пояса склонился
И, целуя руки капитану,
Оступился и протягивал руки.
Иван-капитан в него всмотрелся:
«Что ты плачешь, мадьярин, так горько?
Может, хочешь белого хлеба,
Может, красного вина ты жаждешь,
Может, желтых маджариев[440] нужно?»
Стал Халил отвечать капитану:
«О Иван-капитан могучий,
Желтых маджариев мне хватает,
Белого хлеба не хочу я,
Красного вина я не жажду,
Но прошло уже четыре года,
Как хожу я по земле мадьярской)
Серый конь у меня украден,
Добрый серый булюкбаши Муйо.
Муйо в плен забрал меня когда-то,
И отца-старика со мною вместе,
И еще меньшого брата Янка
Вместе с доброй матушкой моею.
Нас увел он в Малую Кладушу.
Хорошо жилось у Хрницы Муйо,
Я ходил за Муйовым серым,
Но, к несчастью, был украден серый,
И не смею в Кладушу вернуться —
Булюкбаша голову отрубит.
Я б, юнак, в Мадьярию подался,
Но отца не могу я оставить,
Не могу и свою матушку бросить,
Также Янка, брата меньшого.
Горючие слезы проливаю,
Потому что серого услышал».
«А узнал бы ты серого дебелого?»
«Я узнал бы, клянусь нашей верой!»
«О, Тадия, отведи мадьярина,
Пусть увидит серого большого!»
Как ступил Халил в подземелье,
Так увидел серого дебелого,
Засиял он весь, словно сосулька.
Иво тотчас Халилу молвил:
«Видно, добр твой кладушинский Муйо.
Смог бы ты на коне этом ездить?
До сих пор никому не удавалось!»
«Я смогу, клянусь нашей верой!»
Зануздал Халил серого большого,
Вывел из душного подземелья
И поехал полем широким.
Боже милый, что делает серый!
Напрямик, без дороги он скачет.
Хрничин Халил думает думу:
«Я бы мог ускакать, конечно,
И добраться до Малой Кладуши,
Но я вред причиню капитану,
А ведь я поклялся перед богом,
Что вреда ему чинить не буду».
Повернул Халил к белой башне,
И отвел коня в подземелье,
И поднялся к Ивану на башню,
И вино стали пить они вместе.
Распахнулись в горницу двери,
И вбежал письмоносец влашский,
Скинул шляпу, до земли склонился,
Руку поцеловал капитану
И письмо положил в ту руку,
Писанное на бумаге тонкой.
Посмеялся над ним Иван Сенянин.
Вот что бан из Задара пишет:
«Прочти мое пестрое посланье!
Ты, Иван, посватал мою дочку,
Ты прекрасную Ефимию посватал.
Я тогда письмом тебе ответил:
«Замуж дочка пока не выходит».
По прошествии этого года
Написал я письмо другое:
«Нет еще приданого у дочки».
А теперь ей досаждают сваты —
Которский[441] бан и колошварский,[442]
Также семеро приморских капитанов.
Никому я отказать не смею,
Потому устраиваю скачки,[443]
Разослал всем тонкие письма:
Кто конем подходящим владеет,
Пусть приедет на задарское поле.
Всех коней мы здесь порасставим.
За того Ефимия выйдет,
Чей скакун всех скакунов обгонит».
Присмотрелся капитан к Халилу:
«Мядьярин из земли мадьярской,
Ты скажи мне, как твое имя?»
«Виде-барьяктар мое имя,
Я из влашского града Балтулина!»
«Хочешь, Виде, на сером состязаться?
Вот тебе пять сотен дукатов.
Если ты обгонишь всех на сером
И поженишь Ивана-капитана
На прекрасной Ефимии бана —
На плечах твоих голову оставлю
И твоим турецкий серый станет!»
«Нашей верой клянусь, хочу я.
От меня вреда не будет бану!»
Крикнул капитан что было силы:
«О мой сын, племянник мой Тадия,
Выстрелите со стены из пушек!»
Нету отговорок у Тадии,
Тотчас побежал Тадия к пушкам,
Выстрелил из двенадцати пушек,
Остальные пятьсот не трогал.
Выводят кобылу капитану,
Он поехал на стройной арабской,
Знаменосец, племянник Тадия,
Золотом блещет на рыжей,
А Халил поехал на сером.
Боже милый, что делает серый,
Только поля задарского достигли!
Посмотрел то Сенянин Иван:
«Добрый конь под добрым юнаком,
И юнак доброй выучки тоже».
Как подъехали к задарским воротам,
Множество людей там было
На породистых и беспородных
И на стройных конях арабских.
Высмотреть Халил Хрничин хочет,
Где покажется бешеная лошадь.
Поглядел по сторонам Халил Хрничин
И арабскую куцую увидел
Из богатого влашского Колошвара.
За четыре пары поводьев
Четверо мадьяр ее держали.
Шея у ее плечей не уже,
Чем два локтя мужских самых сильных,
А сияет лошадь, как сосулька.
Ровно триста коней было в списке,
Когда их записывать стали
И на сером закрыли список.
Провожает Халила Сенянин:
«Виде-знаменщик, если веришь в бога,
То, гляди, не сделай мне худого!»
«Кет, не сделаю, клянусь нашей верой!»
Привели коней на побережье.
Ровно на четыре часа скачка.
Устроили все справедливо,
По полю веревку протянули,
Поставили здесь же две пушки,
И едва веревка упала,
Полетели по полю кони,
А над ними выстрелили пушки,
Чтобы в Задаре каменном знали,
Что к нему полетели кони.
Как во первом часу той скачки
Серый обогнал всех отставших,
Во втором часу той скачки
И других коней обогнал он.
Видит добрый Халил Хрничин,
Перед ним коней уже нету.
Но вскричала вила с планины:
«Серого гони побыстрее,
Шестеро жеребцов перед тобою:
Двое белых дюка из Млетака,
Двое рыжих могучего Леховича,
Вороные Бортулича-старца
Из Котора, каменного града,
И кобыла колошварского бана!»
Обогнал коней Халил Хрничин,
Но арабскую кобылу не может.
Полчаса они скакали рядом.
Вдруг со стороны вскричала вила:
«Горе твоей матери, Хрничин.
У кобылы — две посестримы,
А у серого только одна я.
Прогнала я от серого виду,
Но другая надела ему путы,
Задержать коня она хочет.
Вытащи-ка пару пистолетов,
Выстрели коню перед ногами,
Может быть, отгонишь этим вилу,
А не то она серого погубит!»
Бедный Халил схватил пистолеты,
Рядом с серым выстрел раздался,
Нагонять начал бедный серый.
Полчаса он скачет, братцы,
То арабская кобыла обгонит,
То серый булюкбаши Муйо,
То рядом обе лошади скачут.
Закричала вила в сторонке:
«О Халил, твоей матери горе!
Ты закрой оба черных глаза,
Растопырь сапоги со шпорами,
Разверну я пошире крылья
И под серого коня подлягу,
Может, он обгонит кобылу!»
Распустила вила свои крылья
И согнулась под конем, под серым,
Тотчас серый обошел кобылу.
Он настолько обогнал кобылу,
Что и длинное ружье не дострелит,
Пистолетный выстрел не услышишь.
А под городом золоченая карета,
А в карете прекрасная Ефимия.
Только серый домчался до кареты,
Перепрыгнул золоченую карету.
Пасть свою он до того разинул,
Выкатил свои глаза настолько,
Что смотреть без страху невозможно.
Так доехал Халил холеный.
Вот коня он серого водит.
Тут их бан остановил обоих,
Отдых и еду им предоставил.
А когда рассвело, наутро
Задарские пушки застреляли.
Повезли прекрасную Ефимию.
Покатила золоченая карета,
В ней была прекрасная Ефимия.
Доехали до чистого поля,
И Халил на серого прикрикнул,
Из кареты выхватил Ефимию,
Кинул на коня за собою.
В Турцию Халил убегает,
Но Иван-капитан ему крикнул:
«Кто ты? Турок из земли турецкой?»
Отвечает с коня ему Хрничин:
«Да, я турок из земли турецкой,
Я солгал, не сказал тебе правды,
Не слуга я булюкбаши Муйо,
Я Халил Хрничин самолично!»
Закричал ему с кобылы Иван:
«О Халил, голова твоя дурная,
Ты же мне побратим по богу —
Побратим я кладушинского Муйо,
Побратим я Мустай-бега из Лики![444]
Ты не должен увозить девицу,
А не то письмецо напишу я
Побратиму Мустай-бегу из Лики,
Побратиму булюкбаше Муйо.
Они с тебя голову снимут,
Возвратят мне Ефимию снова».
Только это Халил услышал,
Ефимию с серого скинул:
«Ефимия, моя посестрима,
Зла держать на меня не надо!»
Усадил ее в карету Халко,
В лоб поцеловал капитана,
Поехали в Сень все вместе,
Все до Сеня, каменного града!
Много пива у Ивана было,
На пятнадцать дней Халилу вдосталь
Как только пятнадцать дней минуло,
Иван вошел к нему в светлицу:
Золотое яблоко[445] — Мустай-бегу,
Булюкбаше — пятьсот дукатов,
А Халилу — серого большого,
Покрытого золоченой попоной,
Дал ему племянника Тадию
С двадцатью солдатами вместе,
Чтобы проводили через горы.
Уехал Халил в Малую Кладушу,
А Тадия в Сень возвратился.
Как гяуры[447] Ливно[448] разорили,
У Атлагича[449] двор захватили
И двух дочерей забрали —
Султанию с молодой Мейремой.
Иван-капитан их взял с собою,
В Задар каменный увез с собою.
Мейру он послал в подарок бану,
За море на ровную Мальту,
С Мальты нету пленникам возврата,
Турок не ступал туда ни разу.
Султанию он себе оставил.
С нею жил гяур целых три года,
С нею жил, и сын у них родился.
Грамота приходит капитану,
Чтобы в войско царское собрался,
Иван плачет горькими слезами.
Он войны нисколько не боится,
Плачет, как оставить Султанию.
Иван в войско царское собрался,
Тихо говорит он Султании:
«Султания, глаз моих услада,
Все тебе — и двор и управленье,
Ты приказываешь, тебе служат!»
И отправился в царское войско.
Целый год воевал, не меньше.
Как с войны капитан вернулся,
Он вошел во двор свой белый,
Мать на этом дворе увидел,
Не спросил ее: «Как здоровье?»
А спросил: «Как Султания?»
Ивану мать отвечала:
«Хоть бы не было ее вовсе,
Слуг твоих готова потурчить».
Поднимается он на башню,
Там она намаз[450] совершает,
В руках его красная гвоздика,
Бьет ее по лицу он гвоздикой:
«Что ж, молись, ты очей дороже!»
Совершила намаз Султания
И сказала Ивану-капитану:
«Все с тобою было в порядке?»
«Все со мною было в порядке,
Коли я застал тебя дома».
Времени прошло совсем немного,
Султания письмо написала
И послала за море на Мальту:
«Слушай, Мейра, милая сестрица,
Чтоб тебя не обманули, молодую,
Не меняй ты, молодая, веры,
Веру не отдай ты за неверу,
Из турчанки ты не стань гяуркой».
Отвечает Мейра ей на это:
«Султания, сестра дорогая,
Нынче веру я, бедная, сменила,
Три раза я в церковь ходила,
Трем попам целовала руки».
Султания письмо прочитала,
Поняла, о чем сестрица пишет,
Омочила письмо слезами,
И другое письмо написала,
И послала отцу Атлагичу:
«Ах, отец мой, бег Атлагич-бег,
Обо мне ты подумать не хочешь,
Пленников давно отпустили,
Тех, что после меня пригнали,
Я одна в земле гяурской,
Выкупи, отец, меня скорее».
Прочитал письмо Атлагич,
И закапал письмо слезами,
И немедленно пишет другое:
«Султания, дочь дорогая,
Султания, дитя дорогое,
Как тебя выкупить из плена?»
Султания письмо прочитала,
Тотчас же ответ написала:
«Ах, отец мой, бег Атлагич,
Купи ладью из самшита,[451]
Загрузи ладью зеркалами
И отсчитывай дни за днями.
Только сорок дней насчитаешь,
Как столкнешь ладью эту в море.
В праздник вербного воскресенья
Каждый влах направляется в церковь,
Все уйдут в монастырскую церковь,
Дома я, молодая, останусь
И приду к ладье твоей к морю
Покупать блестящее зеркало.
Только я взойду на судно,
Сталкивай судно в море».
Прочитал письмо Атлагич,
Купил ладью из самшита,
Загрузил ладью зеркалами
И считает дни за днями.
Только сорок дней миновало,
Он столкнул ладью свою в море,
Доплыл до каменного Задара,
Поставил ладью у Задара.
Увидала Султания молодая,
Послала Кумрию[452]-служанку:
«Пойди к Ивану-капитану
И скажи Ивану-капитану,
Что стоит у берега судно.
Я хочу пойти на море к судну,
Пусть пришлет ключи от укладки».
Иван-капитан так и сделал:
«Пусть берет, сколько хочет, денег,
Что ей мило — пусть все покупает».
Отворила сундук высокий,
Насыпала в карман дукатов,
Ключи оставила Ивану,
Забрала сына Матияша,
Пошла она к морю на судно,
Понесла сына Матияша.
Турки в море столкнули судно.
Посреди синего моря
Дочери говорит Атлагич:
«Брось дитя в это синее море!»
Султания отцу отвечала:
«Если брошу сына Матияша,
То сама прыгну вслед за сыном!»
Слух за слухом, весть за вестью,
Весть пришла к Ивану-капитану:
«Убежала Султания молодая,
Унесла твоего сына Матияша».
Как Иван-капитан то услышал,
На душе его стало тяжко.
Долго думал и вот что придумал,
Написал письмо небольшое
И послал его в каменный Ливно:
«Султания, ты очей дороже,
Замучила тебя какая мука,
Зачем в Ливно каменный ушла ты?»
Султания ему отвечала:
«Иван-капитан, послушай,
Отсчитывай дни за днями,
Только сорок дней насчитаешь,
Выходи на городские стены
И послушай каменный Ливно.
В этом городе стреляют пушки
И вьются праздничные флаги:
Я обрежу сына Матияша».[453]
Письмо пришло Ивану-капитану,
Читает и слезы проливает.
Он отсчитывает дни за днями,
И как сорок дней миновало,
Вышел на городские стены —
Ой, стреляют из Ливно пушки.
В белый двор свой Иван уходит,
И высокий сундук открывает,
И дукаты в карманы сыплет,
И яблоко берет золотое,
А в нем триста маджариев,
И сует себе за пазуху,
И в Ливно каменный едет.
Как приехал в каменный Ливно —
Прямо едет во двор к Али-бегу.
А Кумрия у дверей сидела,
Матияша на коленях держала.
Он полез за пазуху рукою,
Вытащил золотое яблоко.
«На, Кумрия, золотое яблоко,
Отнеси молодой Султании».
Отнесла Кумрия-служанка,
Отнесла золотое яблоко,
Подала молодой Султании.
Только увидала Султания,
Сразу это яблоко узнала.
Входит Али-бег Атлагич.
«Что за турок во двор мой приехал,
Не умеет совершить абдеста,[454]
Лицо мокрое, руки сухие?»
Султания отвечает:
«Ах, отец мой, бег Атлагич,
Иван-капитан приехал.
Словно солнце идет за луною,
Так Иван за своею женою.
Ты спроси Ивана-капитана,
Может, он потурчиться согласен,
Агалук принять[455] в Удбине хочет
И меня оставить женою?»
Спросил Ивана Атлагич,
А Иван того едва дождался:
«Я хочу потурчиться, Атлагич,
Агалук хочу принять я в Удбине
Ради дочери твоей, Султании».
Боже милый, великое чудо!
Кто там стонет у Верхней Баняны?[457]
То змея там стонет или вила?
Если б вила — то бы выше было,
Если бы змея — под камнем было.
То не лютая змея, не вила,
Это Батрич Перович[458] так стонет,
Он в руках у Чорович[459] Османа.
Богом молит Перович Османа:
«Чорович Осман, мой брат по богу,
Пощади и отпусти на волю,
Вот тебе за это сто дукатов.
Семеро нас Перовичей-братьев,
Дать согласны семь дамасских ружей,
Семь невесток — семь венцов богатых,[460]
А невестка — Радулова Цвета —
И венец и серьги золотые,
Мать-старуха — цуцкишо-рабыню
И сундук с одеждою в приданое,[461]
А отец мой, Вучичевич Перо,
Своего коня тебе дарует
И дает в придачу сто дукатов».
Отпустил бы Чорович юнака,
Только черт принес Тупана Панто.[462]
Тупан Панто говорит Осману:
«Турок Чорович Осман, послушай!
Не пускай ты Батрича на волю:
Он дает тебе большие деньги —
Эти деньги он забрал у турок.
Семь дамасских ружей ты получишь —
Эти ружья сняты с мертвых турок.
Он дает тебе венцы и серьги —
Он ведь полонил снох наших,
И сорвал с них венцы и серьги.
Обещает цуцкиню-рабыню,
Та рабыня — дочь моя родная.
Вот какой ты выкуп получаешь.
Обещает он коня большого —
Раньше этот конь ходил под турком».
Высказал Осману это Панто,
Высказал и выстрелил в юнака.
Пуля в пояс Батричу попала,
Он склонился и души лишился,
На зеленую траву пал Батрич,
Турок голову срубил юнаку.
Весть доходит до села Залюты,
К милому отцу его доходит.
Застонала синяя кукушка
Посреди зимы, совсем не в пору,
В дальнем, небольшом селе Залютах.
То была не синяя кукушка,
Это Перо Вучичевич старый,
То отец о Батриче заплакал:
«Боже милый, великое горе,
Нет у Батрича такого брата,
Чтоб за брата отомстил он турку!»
Утешал отца тут братец Радул:
«Не горюй, не плачь, отец мой милый!
В Юрьев день я отомщу за брата.
Пусть леса оденутся листвою,
А земля травою и цветами,
Соберу я храбрую дружину
И пойду с юнаками в Баняну,
Чтобы мстить за Батрича Осману».
Это время скоро наступило,
Юрьев день уж был не за горами,
Черная земля травой покрылась,
Лес листвой зеленою оделся,
Перович собрал свою дружину
И пошел с юнаками в Баняну.
До Утес-горы дошла дружина
И три белых дня там простояла,
Радул Перович глядел на Гацко,[463]
Все выглядывал Османа, турка.
Как увидел, то признал он сразу:
Самолично Чорович там едет.
Радул говорит своей дружине:
«Братья милые, моя дружина!
Это Чорович Осман там едет,
Вы в траве зеленой спрячьтесь, братья,
Я же лягу посреди дороги.
Подождем мы Чорович Османа,
Вы в него из ружей не стреляйте,
В злого турка Чорович Османа,
Может, бог и счастье мне помогут,
И живым я захвачу Османа.
Если же не захвачу я турка,
Пусть тогда стреляет, кто захочет!»
Залегла в густой траве дружина,
Радул лег посереди дороги,
В это время Чорович подъехал.
Радул Перович вскочил внезапно,
И схватил он Чорович Османа.
Он одной рукой поводья держит,
А другою валит турка наземь.
Повалил в траву Османа Радул,
Подбежали к Чоровичу сербы
И живым Османа захватили.
Чорович Осман их умоляет:
«Радул Перович, мой брат по богу,
Не губи меня ты понапрасну,
Дам тебе я тысячу дукатов,
Двадцать Чоровичей, двадцать братьев,
Двадцать ружей дать тебе желают,
А у братьев двадцать жен-турчанок,
И любая снимет ожерелье,
На котором жемчуг и дукаты,
И убор отдаст из пестрых перьев.
Я же дам тебе коня большого,
В Боснии ты лучшего не сыщешь,
В Боснии, во всей Герцеговине.
Дам седло из серебра литого,
До копыт коня сукном покрою,
Рысий мех поверх сукна наброшу,
Серебром и золотом расшитый!»
Только Раде и заботы мало,
Говорит врагу слова такие:
«Чорович Осман, ох, злой ты турок!
Брат мой, Батрич, тоже откупался,
Ты его не отпустил на волю,
Голову срубил ему с размаху».
Из-за пояса нож вынул Радул,
И отсек он голову Осману.
Голову забрал он и оружье,
Взял себе коня его большого
И домой счастливо воротился.
Только в Черногорию приехал,
В небольшом селении Залютах
Вучичевич Перо встретил сына,
Обнимает и целует в щеки.
Радул у него — полу и руку,
Подал Радул голову Османа,
И промолвил Вучичевич Перо:
«Благо мне сегодня и навеки,
Что дождался я еще при жизни,
Как мой Радул отомстил за брата!»
Попрощался и с душой расстался.
Умер он, душа его спокойна,
Бог в раю ему дал новоселье,
Остальным здоровье и веселье!
Заехал Дамян однажды
В зеленый дремучий ельник,
В ельник, в густой можжевельник.
С Дамяном триста юнаков,
Семеро лютых боснийцев,
Семь белых юнацких стягов
И три гайдука в дозоре.
Софры[465] разложили юнаки,
Покрыли скатертью белой,
Ставили блюда златые,
Резали белые хлебы,
Сивых кололи барашков,
Жарили мясо баранье,
Красные вина студили,
Уселись поесть да выпить.
Ели они до отвала,
Пили они, сколько влезет.
Вдруг прибыл первый дозорный
И обратился к Дамяну:
«Дамян ты наш, воевода,
Султан снарядил погоню,
Грозный султан пандаклийский:[466]
В поле траву сосчитаешь, —
Султанская рать без счета».
Дамян отвечал юнаку:
«Ступай на место, дозорный,
Ступай, охраняй палатки».
И снова Дамян пирует.
Вдруг прибыл второй дозорный
И обратился к Дамяну:
«Вставай, Дамян, поднимайся,
Совсем уж близка погоня:
Листья в лесу сосчитаешь, —
Султанская рать без счета».
Дамян отвечал юнаку:
«На место ступай, дозорный,
Ступай, охраняй палатки».
И снова Дамян пирует,
Печали забыл, тревоги.
Вдруг прибыл третий дозорный
И обратился к Дамяну:
«Не время, Дамян, для пира,
Вставай, Дамян, поднимайся,
Совсем уж близка погоня:
В море песок сосчитаешь, —
Султанская рать без счета,
Живьем нас турки захватят».
Вставал Дамян, поднимался,
Плясать начинал он хоро,
Выхватил тонкую саблю,
Взмахнул он саблей зеркальной,
И закружился с нею,
И закричал он громко:
«Что мне печаль и тревога,
Что мне султан пандаклийский,
Разбойник, пес шелудивый!»
Едва он молвил такое,
Совсем уж близко погоня.
Дамян быстрей закружился,
Налево махнул — полвойска,
Направо — все войско прикончил,
Один лишь султан остался.
И молвил султан Дамяну:
«Дамян, воевода грозный,
Молю я тебя, прошу я,
Голову не отсекай мне,
Одно лишь выколи око,
Одну отруби мне руку,
Одну отсеки мне ногу,
Ходить я по миру стану,
Буду рассказывать людям,
Какой воевода ты страшный».
Боже милый, великое чудо!
Гром гремит или земля трясется?
Или море рушится на скалы?
Или вилы бьются на Попине?[468]
Нет, не гром тут, не земля трясется,
И не море рушится на скалы,
И не вилы бьются на Попине,
Это в Задаре[469] бьет ага из пушек.
Рад злодей Бечир-ага проклятый,
Что поймал он малого Радойцу,
Бросил гнить в глубокую темницу!
Двадцать бедных пленников в темнице,
Плачут все, один лишь распевает,
Утешает пленников несчастных:
«Вы не бойтесь, братья дорогие!
Бог пошлет на помощь нам юнака,
Тот юнак нас выведет на волю!»
А когда к ним бросили Радойцу,
Вся темница горько зарыдала,
Проклинали пленники юнака:
«Пропади ты пропадом, Радойца!
На тебя одна была надежда,
Что избавишь нас ты от неволи,
Ты же сам в темницу к нам попался
Как теперь нам выйти из темницы?»
Говорит им малый тот Радойца:
«Не печальтесь, братья дорогие!
Завтра утром, только день настанет,
Пусть Бечир-ага придет в темницу,
Вы скажите, что скончался Раде,
Он меня, быть может, похоронит».
Лишь наутро белый день занялся,
Закричали двадцать горемычных:
«Чтоб ты сдох, проклятый Бечир-ага!
Ты зачем подкинул нам Радойцу?
Лучше б ты, ага, его повесил!
Нынче ночью он у нас скончался,
Мы от смрада чуть не задохнулись!»
Отворили турки дверь в темницу,
Выволокли пленника на волю.
Говорит турецкий Бечир-ага:
«Унесите труп и закопайте!»
Но жена Бечир-аги сказала:
«Бог с тобой, не умер этот Раде,
Он не умер, только притворился.
Бросьте вы ему огонь на тело,
Может, курва, он пошевелится».
Бросили огонь ему на тело,
Но юнацкое у Раде сердце,
Не дрожит юнак, не шевелится.
Вновь жена Бечир-аги сказала-.
«Бог ты мой, не умер этот Раде,
Он не умер, только притворился.
Принесите, турки, вы гадюку
Да ему за пазуху засуньте,
Побоится Раде той гадюки,
Может, курва, он пошевелится».
Отыскали турки ту гадюку,
Сунули за пазуху юнаку,
Но юнацкое у Раде сердце,
Не дрожит юнак, не шевелится.
Тут жена Бечир-аги сказала:
«Бог ты мой, не умер этот Раде,
Он не умер, только притворился.
Вы гвоздей штук двадцать принесите
Да забейте пленнику под ногти,
Тут и мертвый дрогнет от мучений».
Вышли турки с двадцатью гвоздями,
Забивают пленнику под ногти,
Но юнацкое у Раде сердце,
Не дрожит юнак, не шевелится.
Вновь жена Бечир-аги сказала:
«Бог ты мой, не умер этот Раде,
Он не умер, только притворился.
Соберите девушек вы в коло,
Пусть придет красавица Хайкуна,
Ей юнак, быть может, улыбнется».
Заманили в коло тех красавиц,
Привели прекрасную Хайкуну,
Вкруг него красотка заходила,
Перед ним ногами заиграла.
Ну и девка, господи ты боже!
Всех она и выше и прекрасней,
Красотой все коло помрачила,
Статным видом коло удивила,
Только звон стоит от ожерелий
Да шумят узорные шальвары!
Как услышал этот шум Радойца,
Левым оком глянул на красотку,
Правой бровью подмигнул девице.
Увидала смех его Хайкуна,
Мигом с шеи сдернула платочек,
На глаза набросила юнаку,
Чтоб другие турки не видали.
Говорит родителю Хайкуна:
«Не бери, отец, греха на душу,
Прикажи предать земле юнака!»
Тут жена Бечир-аги сказала:
«Не копайте пленнику могилу,
Лучше бросьте прямо в сине море,
Накормите рыб гайдучьим мясом».
Взял его Бечир-ага турецкий
И швырнул юнака в сине море,
Но нехудо плавал в море Раде,
Далеко уплыл он от Бечира.
Вышел он на берег синя моря,
Белым горлом крикнул на свободе:
«Ой вы, зубы, белые вы зубы,
Из ногтей мне вытащите гвозди!»
Сел юнак, скрестил у моря ноги,
Двадцать он гвоздей зубами вынул,
Их себе за пазуху припрятал,
Только нет и тут ему покоя.
Только ночка темная настала,
Он к аге пробрался на подворье,
Притаился около окошка.
Сел ага с супругой за вечерю,
Говорит жене своей любимой:
«Ты послушай, верная супруга!
Вот уж девять лет прошло и боле
С той поры, как Раде стал гайдуком,
Не могу спокойно я вечерять,
Опасаюсь малого Радойцы.
Слава богу, что его тут нету,
Что его мы нынче загубили!
Я тех двадцать пленников повешу,
Только дай дождаться до рассвета».
Малый Раде слушает и смотрит,
Глядь — уже стоит он перед агой!
Ухватил Бечира он за горло,
Голову из плеч он вырвал турку.
Ухватил Бечирову супругу,
Двадцать ей гвоздей загнал под ногти,
И пока загнал их половину,
Эта сука душу испустила.
И сказал ей малый тот Радойца:
«Помни, сука, что это за мука!»
Тут Радойца кинулся к Хайкуне:
«Ой, Хайкуна, душенька-красотка!
Ты найди ключи мне от темницы,
Отпущу я пленников на волю!»
Принесла ключи ему Хайкуна,
Вывел Раде пленников на волю.
Говорит Радойца той Хайкуне:
«Ой, Хайкуна, душенька-красотка!
Принеси ключи мне от подвала,
Поищу я золота немного,
Не близка мне до дому дорога,
Надо будет чем-нибудь кормиться».
Отперла сундук ему Хайкуна,
Где горою талеры[470] лежали,
Но сказал ей малый тот Радойца:
«Для чего мне, девушка, железки?
Ведь коня я нынче не имею,
Чтоб коню ковать из них подковы».
Отперла сундук ему Хайкуна,
Где лежали желтые дукаты,
Кликнул двадцать пленников Радойца,
Оделил их поровну деньгами,
Сам же обнял девушку Хайкуну,
В Сербию отвез ее с собою,
И повел ее креститься в церковь,
Окрестил Хайкуну Анджелией
И нарек ее своей женою.
Девушка свои глаза ругала:
«Черны очи, а чтоб вы ослепли!
Все видали, нынче не видали,
Как прошли тут турки-лиевняне,
Гнали с гор захваченных хайдуков,
Вуядина со двумя сынами,
А на них богатая одежда:
Как на первом, старом Вуядине,
Плащ, червонным золотом расшитый,
На совет паши в таких выходят.
Сын-то Милич свет Вуядинович,
Он еще богаче одевался;
А у Вулича, у Миличева брата,
На головке шапочка-челенка,
Та челенка о двенадцать перьев,
Каждое перо — полтора фунта
Чистого ли золота литого».
Как пришли под белое Лиевно,
Клятое Лиевно увидали,
Увидали белую там башню, —
То проговорил тогда Вуядин:
«О сыны, вы, соколы лихие!
Видите проклятое Лиевно,
Видите ли в ней вы белу башню.
Там нас будут бить и будут мучить,
Руки-ноги нам переломают,
Выколют нам наши черны очи.
Пусть у вас не будет сердце вдовье,
Пусть юнацкое забьется сердце.
Вы не выдавайте верна друга,
Вы не выдайте, кто укрывал нас,
У кого мы зиму зимовали,
Зимовали, деньги оставляли.
Вы не выдавайте тех шинкарок,
У которых сладки вина пили,
Сладки вина пили потаенно».
Вот уж входят в ровное Лиевно.
Бросили их турки всех в темницу.
Ровно три дня белых просидели,
Пока турки все совет держали:
Как их бить и как их горько мучить.
А когда три белых дня минули,
Вывели из башни Вуядина,
Ноги-руки старому ломали.
А как очи черные кололи,
Говорили турки Вуядину:
«Выдай, курва, старый Вуядине,
Выдай, курва, всю свою дружину.
Выдай тех, кто укрывал хайдуков,
У кого вы зиму зимовали,
Зимовали, деньги оставляли,
Выдай, курва, ты молодых шинкарок,
У которых пили сладки вина,
Сладки вина пили потаенно».
Им на то сказал старик Вуядин:
«Дураки вы, турки-лиевняне!
Если быстрых ног не пожалел я,
Что коня лихого обгоняли,
Если не жалел я рук юнацких,
Что ломали копья посредине,
Голые на сабли нападали, —
Никого не выдал, не сказал я,
Так лукавые ли пожалею очи,
Что меня на злое наводили,
Глядючи с горы высокой самой
Как на ту ли на широкую дорогу,
Где проходят турки и торговцы».
«Эй, скажи, гайдук, отвечай мне,
Где твоя дружина,
А иначе отрублю я
Твои белы руки!»
«Ой, руби, руби, билюкбаша,
Будь они неладны,
Коль с ружьем моим, как надо,
Сладить не сумели!»
«Эй, скажи, гайдук, отвечай мне,
Где твоя дружина,
Либо выколю тебе я
Твои черны очи!»
«Ой, коли, коли, билюкбаша,
Будь они неладны,
Коль ружье мое, как надо,
Навести не могут!»
«Эй, скажи, гайдук, отвечай мне,
Где твоя дружина,
А не то, гайдук, простишься
С буйной головою!»
«Ой, руби, руби, билюкбаша,
Будь она неладна,
Коль ума ей недостало
Справиться с тобою!»
Гулял хайдук Стоян долго
И с юных лет все хайдучил,
Никто не знал и не ведал,
Что он с хайдуками ходит.
Пронюхали то, узнали
Тетевенские сеймены[474]
И стали искать Стояна
В горах и лесах зеленых.
Нашли наконец Стояна
Под буком большим зеленым,
Где он барашка зажарил
И ел, вином запивая.
Они схватили Стояна
И руки назад скрутили.
Когда вели его лесом,
Стоян стал с лесом прощаться:
«Послушай, ой, лес зеленый!
Гулял по тебе я вволю,
Носил багряное знамя,
Ягнят черноглазых жарил,
Обламывал твои ветви,
Высушивал твою воду.
Прощай же, ой, лес зеленый,
Уводят меня сеймены,
Уводят меня насильно —
Женить на одной молодке:
Веревка мне будет кумом,
Орлы мне сватами будут,
Дружками вороны будут,
Свахами будут сороки!»
Снизу идут сеймены,
Сеймены, бюлюкбаши,
Гайдуцкую голову тащат.
А то не башка злодея,
Разбойника, лиходея,
То голова юнака.
Приходят старый и малый,
Они на голову смотрят,
Знакома иль не знакома.
Глядели и не признали.
А всех позади старушка,
На голову поглядела,
Заплакала, закричала:
«Иванчо, сынок Иванчо,
Когда тебя мать рожала,
Когда тебя мать кормила,
Такое могла ль подумать!»
Старушке молвят сеймены:
«Не плачь, не горюй, старуха!
Еще бы вскормить такого
Тебе довелось, старуха!
Пока мы его поймали,
Девять планин исходили;
Пока ему руки вязали,
Душ шестьдесят погибло;
Пока его голову брали,
Сам погиб бюлюкбаши.
Слава тебе, старуха,
Взрасти-ка еще такого!»
Пировали трое побратимов
На горах под елкою зеленой:
Первым был там Раде из Сокола,
Был вторым там Савва из Посавья,[477]
Третий — Павле, из ровного Срема,
Вместе с ними девяносто братьев.
Напились вина они досыта,
И промолвил Раде из Сокола:
«Ой вы, братья, двое побратимов!
Лето гинет — вся округа стынет,
Лист спадает — чаща облетает,
Уж нельзя скитаться нам по лесу,
Где же зиму мы перезимуем?
Где искать приюта нам и крова?»
Молвит Павле из ровного Срема:
«Побратим мой, Раде из Сокола!
Нынче буду зимовать я зиму
В белостенном городе Ириге,[478]
В доме брата Драшко-капитана.
Семь я зим провел уже у брата
И восьмую там перезимую,
Шестьдесят друзей возьму с собою».
Отвечает Савва из Посавья:
«Зимовать отправлюсь я в Посавье,
Буду жить в отцовском старом доме,
У отца, в большом его подвале,
Тридцать братьев я возьму с собою.
Побратим мой, Раде из Сокола!
Сам ты зиму где перезимуешь?
Приютят ли где тебя родные?»
Говорит им Раде из Сокола:
«Ой вы, братья, двое побратимов!
У меня родных на свете нету,
Есть один лишь побратим в Соколе,
Ашин-бег, старинный мой приятель.
Девять зим провел я у Ашина,
Девять зим скрывал меня он, братья,
Не откажет он мне и в десятой.
Только знайте, двое побратимов:
Лишь зима суровая минует,
Только, братья, Юрьев день настанет,
И леса оденутся листвою,
А земля — травою и цветами,
И засвищет жаворонок-птица
Подле Савы в зарослях из терна,
А в горах опять завоют волки, —
Снова, братья, все мы соберемся
Тут, где нынче с вами расстаемся!
Тех людей, кто дома запоздает,
Ожидайте целую неделю.
Тех, кого не будет и неделю,
Ожидайте все пятнадцать суток.
Тех же, кто через пятнадцать суток
Не придет в условленное место,
Вы ищите, братья, на зимовке!»
Так сказали братья и вскочили,
На прощанье обняли друг друга,
Взяли они ружья-джеверданы,
Поспешили всяк в свою округу:
Храбрый Павле — к городу Иригу,
Шестьдесят за ним пошло гайдуков,
Храбрый Савва — к ровному Посавыо,
Тридцать с ним отправились гайдуков,
Храбрый Раде двинулся к Соколу.
Вечером в Сокол явился Раде,
Подошел он к дому Ашин-бега,
Постучал кольцом в его ворота.
Ашин-бег дремал в высокой белой башне,
Он в постели крепко спал с женою,
Но жена супруга разбудила:
«Господин мой, Ашин-бег могучий!
Кто-то там стучит кольцом в ворота!
Чует сердце: то рука гайдука,
Твоего, супруг мой, побратима,
Побратима Раде из Сокола».
Бег вскочил, спустился с белой башни.
Отворил тяжелые ворота —
И увидел турок побратима.
Обняли друг друга побратимы,
В добром ли здоровии, спросили
И пошли в жилище Ашин-бега.
Повстречала женщина гайдука,
Руку у него поцеловала,
Приняла ружье на сохраненье.
Сел гайдук на мягкие подушки,
Подала им женщина вечерю,
Стал гайдук вечерять с побратимом,
За вечерей пить вино из чаши.
Лишь вина немного он отведал,
Снял с себя три пояса с деньгами,
В каждом триста золотых дукатов.
Подарил два пояса он бегу:
«До весны кормить меня ты будешь.
Вот тебе за это мой подарок!»
Третий пояс спрятал под подушку.
А потом он вынул из доламы
Три больших червонных ожерелья,
Подарил супруге Ашин-бега:
«Вот тебе, сноха моя, невестка!
Уж давно к тебе не приходил я,
Не дарил тебе моих подарков!»
Дал ей Раде сетку из жемчужин:
«Вот тебе, сноха моя, невестка!
До весны за мной смотреть ты будешь.
Мыть белье и пищу мне готовить!»
Бросил он доламу в изголовье,
Вместе с нею два меча зеленых
При себе оставил у постели.
Был гайдук измучен, обессилен,
Он заснул, как молодой ягненок,
Ашин-бег заснул в постели рядом.
Но жена супруга разбудила,
Молодая так ему сказала:
«Господин мой, Ашин-бег могучий!
Ты послушай, что скажу тебе я,
Будут турки лаять нас с тобою,
Что скрываем беглого гайдука.
Погубил бы ты его, злодея!»
И послушал женщину неверный,
Обманулся бабьими речами,
Взял с постели острый меч блестящий,
Заколол им Раде-побратима,
Заколол, да взять из-под подушки
Позабыл он токи и доламу.
И приподнял мертвое он тело,
И швырнул с высокой белой башни,
Чтоб орлы да вороны клевали.
Пролетело времени немного,
Дело к лету, стужи больше нету,
Все леса листвою приоделись,
А земля — травою и цветами.
Засвистала жаворонок-птица
Подле Савы в зарослях из терна,
И в Поцерье[479] волки вновь завыли.
Снова в лес отправились гайдуки
И пришли в условленное место,
Первым — Павле, из ровного Срема,
Вслед за Павле — Савва из Посавья,
Девяносто с ними побратимов,
Только нету Раде из Сокола.
Ждали Раде все пятнадцать суток,
А потом все разом ополчились
И помчались к городу Соколу,
Поспешили к дому Ашин-бега.
Стукнул Павле тем кольцом в ворота,
Бег сидел в высокой белой башне,
И вечерял он с женой вечерю.
Вдруг жена промолвила супругу:
«Кто-то там стучит кольцом в ворота,
Ты сойди с высокой нашей башни,
Отвори ворота, если надо».
Ашин-бег спустился с белой башни,
Отворил тяжелые ворота,
Отворил ворота, испугался,
Увидал двух смелых атаманов,
А за ними девяносто братьев.
Опрометью бросился он к башне,
Но от Павле не успел он скрыться,
Вмиг настиг тот Павле Ашин-бега,
Стал его допрашивать у входа:
«Что ты, бег, людей перепугался?
Вот пришли мы, Радова дружина,
Мы желаем видеть побратима,
Увидаться с Раде из Сокола».
Ашин-бег такое молвил слово:
«Ради бога, двое харамбашей![480]
Раде умер этою зимою,
Отдал душу в день святого Саввы.
Сам я Раде выкопал могилу,
Сам казну его я поистратил,
Одарил слепых я и убогих».
И сказал тут Савва из Посавья:
«Коль казну его ты поистратил,
Где же его токи и долама,
Два меча зеленых побратима?»
Тут гайдук схватил свою трехвостку,
Стал хлестать жену он Ашин-бега.
Не стерпела женщина побоев,
В горенку она открыла дверцу,
Принесла одежду и оружье.
Посмотрели братья на доламу —
Вся долама кровью пропиталась!
Ухватили братья Ашин-бега,
Потащили турка с белой башни,
Привели на двор они злодея,
На куски убийцу изрубили,
Отомстили честью за собрата,
Разорили башню Ашин-бега,
Возвратились, веселы и здравы.
Сулят и еще набавляют
Едирненский сам владыка[482]
С дьяконами молодыми,
Султан Селим[483] из Стамбула
С визирями и с пашами,
Сулит владыка Бачково,[484]
Бачково с монастырями,
Сулит патриарх Влахерну[485]
С аязмом, ключом священным,
Сулит султан, да с прибавкой,
Верхний и нижний Лозене,[486]
В Софии темну чаршию[487] —
Торговый ряд да с портными —
Тому, кто схватит Радула,
Того ль воеводу Радула,
Живым Радула доставит
В Софию, великий город.
Никто не берется за это,
Ни турок и ни албанец,
Ни етропольский болгарин[488]
И ни цыган цареградский.
Берется Лало кровавый,
Лало, Радулов родич,
Поймать, привести Радула.
Пошел он, Радулов шурин,
На темну чаршию в Софию.
Купил он в лавке баклажку
И красным вином наполнил.
Наполнив, пошел он в горы
И весело крикнул оттуда:
«Радул, эй, Радул, мой братец!
Где ты, мой братец, выйди,
Тебя я зову на свадьбу.
Пятница, братец, нынче,
Завтра — святая суббота,
Воскресный день — послезавтра,
Свадьба моя — в воскресенье.
Приди да надень рубашку,
Праздничную, льняную,
С расшитыми рукавами,
С узорчатою каймою».
Собрался Радул, приходит
В великий город Софию,
Чтоб там погулять на свадьбе,
Принять дары новобрачным
И быть отцом посаженым.
Но только ночь опустилась,
Как Лало дверь открывает,
Впускает он стражников злобных
С Кулой, начальником лютым.
Схватили они Радула,
Молодца-воеводу,
За спину руки скрутили
И кандалы надели.
Сажают его в темницу,
Грозят воеводе Радулу:
«Помни, что пятница нынче,
Завтра — святая суббота,
Воскресный день послезавтра, —
Тебя в воскресенье повесим
На верхнем балконе управы».
Матушка плачет о сыне,
Горькие слезы роняет,
К сыну Радулу приходит,
Молвит Радулу слово:
«Радул ты, Радул, сыночек,
Один мой сынок, единый,
Ведь скоро тебя повесят».
Радул отвечает родимой:
«Ой, старая матушка, мама,
Ступай на Мургаш ты, мама,
И крикни голосом громким:
«Дружина, верная клятве,
Сидит твой Радул в темнице!»»
Послушалась матушка сына,
Пошла, не мешкая, в горы
И крикнула громко дружину.
И быстро сошлась дружина
И в городе древнем Софии
Пашу самого схватила.
А Лало висит на воротах,
Чтоб знал и запомнил каждый,
Как предавать воеводу,
Как предавать своих близких,
Как выдавать хайдука!
Растила мать да хранила
Двух сыновей, двух юнаков,
Двух близнецов, родных братьев,
Братьев Манолчо, Дамянчо.
Сказал раз брату Манолчо:
«Дамянчо, братец мой младший,
Ты знаешь или не знаешь?
Сестра, что живет в Котеле,[490]
Недавно там вышла замуж,
Сестра родила сыночка
И в честь меня окрестила,
Назвала его Манолчо.
Схожу-ка в Котел я в город,
Ее мальчонку увижу,
Ему отнесу подарок.
Вставай-ка, братец Дамянчо,
Сними ты пеструю торбу,
Ее золотыми наполни,
Снесу я ему гостинец
Повесить на колыбельку,
Когда качать ее станут,
Золотым будут звоном
Монеты его баюкать».
Встал, чрез плечо перекинул
Манол тяжелую торбу,
Рано-ранехонько вышел,
Утром в Котел пришел он,
Прямо к сестре, к ее дому.
В ворота он постучался,
И громко сестре он крикнул:
«Сестра, отвори ворота!»
Никто ему не ответил.
Прислушавшись, он услышал —
Сестра напевала тихо:
«Баюшки-баю, Манолчо,
Расти, подрастай, сыночек,
Таким, как дядя, ты станешь,
Пятьсот юнаков возглавишь,
Полсотни знамен поднимешь!»
Услышал песню Манолчо,
Прыгнул он через ворота.
Тут вышла сестра навстречу,
Он молча ей торбу подал.
Манолу сестра сказала:
«Манолчо ты, мой Манолчо,
Манолчо, братец мой младший!
Не думай здесь объявиться,
Тут про тебя говорили,
Что скоро тебя изловят.
Ой, братец, тебя повесят,
Как только тебя поймают!»
Манолчо сестре ответил:
«Сестра моя, ой, сестрица,
Меня не изловят турки!»
И только он это молвил,
Как турки его схватили
И руки назад скрутили,
Скрутили руки, связали
И вывели прямо в город
На площадь, на середину.
Манол обратился с просьбой:
«Ой вы, турецкие беи!
Руку одну развяжите,
Тогда я вас всех потешу
Игрой на медовом кавале!»
Беи хитры и коварны,
Но все ж недогадливы беи.
Руку ему развязали,
Он заиграл на кавале.
«Где ты, мой братец, ой, где ты!
Спеши на помощь мне, братец!
Неси мне острую саблю,
На бегство турок посмотрим!»
Услышал брата Дамянчо,
Несет он острую саблю
И саблей издали машет:
«Ой вы, турецкие беи!
Ну-ка назад отступите,
Ему башку отрублю я,
Жену мою заколол он».
Беи хитры и коварны,
Все ж недогадливы беи.
Назад они отступили,
Чтоб голову он отрезал.
Дамянчо брата не тронул,
А дал ему в руку саблю
И сам отошел в сторонку.
Манол взмахнул своей саблей —
И триста турок упало,
Покуда он повернулся,
Не стало в Котеле турок,
Да нет их там и поныне.
Сказал воевода Наню:
«Ой, Герче, храбрый дозорный,
Скорее в путь снаряжайся
И в город Разград[492] иди ты,
Послушай, что говорит там
Про нас народ и начальство».
Герче в дорогу собрался,
Повязал правую руку,
Обвязал голову тонким
Шелковым полотенцем,
Да и пошел в Разград-город.
Ходил он там три недели, —
Никто ни слова не молвил
О Наню, о воеводе,
О Герче, его дозорном.
Тогда отправился Герче
К Али-старшине в кофейню.
Сидел там Али с эмиром,
И оба табак курили,
Курили и кофе пили.
Эмир старшине промолвил:
«Эх, если бы мы сумели
Схватить дозорного Герче
И с ним воеводу Наню,
Велел бы я отвести их
Тогда на курган высокий
И там на траве зеленой
Рядком посадить их на кол!
Потом в их тени усесться
Да пир богатый устроить!»
Эмир так сказал надменно.
Встал тогда Герче и вышел;
Вернувшись, Наню поведал
О том, что там говорили
О Наню, о воеводе,
О Герче, его дозорном.
Тогда нарядился Наню,
Одел всех своих юнаков,
Одел дозорного Герче
В одежду из белой ткани,
А сам потом нарядился
В одежду из красного шелка,
Перо к чалме прицепил он.
Пошли они всей дружиной,
Пошли они в Разград-город.
Тогда к дружине навстречу
Все жители вышли вместе
С эмиром и старшиною,
Добрый прием оказали.
Сказал воевода грозно:
«Эй, старшина, горожане!
Три дня даю я вам срока,
Чтобы собрать семь оброков,
Собрать и все мне доставить!»
В три дня оброк весь собрали,
Казну всю Наню вручили.
Наню собрал дружину,
Чтобы к султану вернуться.
Тогда на проводы Наню
Толпой все жители вышли,
С эмиром и старшиною.
Сказал провожатым Наню:
«Эй, старшина, горожане,
Дальше нас не провожайте!
Пускай нас дальше проводит
Один эмир-воевода».
Услышав слова такие,
Эмир был очень доволен,
Что он один удостоен
Послов провожать султанских,
И в путь отправился дальше.
Долго ли шли, коротко ли,
Взошли на курган высокий,
Покрытый травой зеленой,
Тут Наню молвил дружине:
«Эй, мое верное войско,
Мы заманили барана,
Его за собой угнали.
Хватайте его, колите,
Дрова рубите скорее,
Костер хороший разложим,
Барана на нем поджарим,
Потом под знаменем сядем
И пир богатый устроим!»
Тогда эмир догадался,
Что то не послы султана,
А Наню — млад-воевода
И Герче, его дозорный,
И громко эмир воскликнул:
«Кто зло другому готовит,
Тот сам в беду попадает!
Болгары — всегда юнаки,
Их победить невозможно!»
Где это видано, люди,
Девица — чтоб воеводой,
В бой чтобы шла, как Бонна?
Она девять лет водила
Дружину храбрых юнаков,
Пошел десятый годочек —
Мирчо Бояну просватал,
Юнак, воевода Мирчо.
В приданое ей давали
Двенадцать ниток червонцев,
Меди тринадцать ниток,
Да пуд без малого шелку.
Как стали готовить свадьбу,
Жених одарил Бояну
Тонкой серебряной прялкой
И золотым веретенцем:
Тонких даров[494] напряла бы,
Всех одарила б юнаков.
Села Бонна за пряжу,
Шелк села прясть для подарков,
А Мирчо в лес удалился.
Турки схватили юнака,
За спину руки скрутили,
Цепь повязали на шею,
Ноги забили в колодки,
К Тырново Мирчо погнали.
Им повстречался торговец,
Мирчо торговцу промолвил:
«Эй, базиргенче, торговец!
В мой дом поезжай скорее,
Ты расскажи Бонне,
Что турки меня схватили,
Что голову мне отрубят»,
Погнал скакуна торговец,
Мигом приехал на место,
И говорил он Бонне:
«Эй, молодая Бояна,
Твой Мирчо турками схвачен,
В Тырново гонят юнака,
Голову Мирчо отрубят.
Иди же навстречу туркам,
Вызволи Мирчо из плена».
Услышала весть Бояна,
Бросила тонкую прялку
И веретено золотое,
Схватила саблю-френгию,
Большое ружье схватила,
За пояс — два пистолета.
Встретила турок Бояна,
Издали им поклонилась,
Вблизи им «селям» сказала.
Молвили турки Бонне:
«Эй, молодая Бояна,
Садись-ка, Бояна, с нами,
Выпьем с тобой и закусим».
Молвила туркам Бояна:
«Ой же вы, турки-сердары,
Приехала я не в гости,
Приехала биться насмерть».
Турки мигнуть не успели,
Всех зарубила Бояна,
Спасла от гибели Мирчо,
Сняла с него тяжкие цепи,
Сняла железные цепи,
Тяжкие сбила колодки.
Молвил Бояне Мирчо:
«Эй, молодая Бояна,
К счастью тебе воеводство,
К счастью супружество наше!
Спасла ты меня, Бояна,
Спасла от врагов заклятых».
Ой, зашумел печально
Лес на горе зеленой:
«Минули зима и лето,
Молодцы в лес не вернулись.
Под каждым кустом терновым
Гайдук скрывался, бывало,
На каждой моей полянке
Скакун стреноженный пасся.
Под каждой моею веткой
Ружье, прислонясь, стояло.
Под каждым кустом терновым
Ныне пастух отдыхает.
На каждой моей полянке
Сейчас овечки пасутся.
Под каждой зеленой веткой
Лежит пастушеский посох».
Услышал жалобу леса
Лихой воевода Индже
И молвил юнаку Колё:
«А ну-ка, Колё мой верный,
Развей зеленое знамя
И семьдесят семь гайдуков
В мою собери дружину.
Отправимся в лес зеленый,
Чтоб он не плакал печально».
И Колё собрал дружину —
Семьдесят семь юнаков.
Пошли они в лес зеленый,
Но сразу раздался выстрел,
И пуля пронзила Индже.
«О Коле, мой знаменосец, —
Индже сказал, умирая, —
Где пал я, меня заройте[496]
И над моей головою
В могилу воткните знамя.
Коня привяжите к древку,
В ногах мне чешму поставьте,
На сером ее граните
Мое напишите имя».
«Ой, Росица молодая!
Отчего так рано встала,
Раньше петела в два раза,
Втрое раньше ясной зорьки?»
«Оттого я рано встала, —
Раньше петела в два раза,
Втрое раньше ясной зорьки, —
Что проведала, прознала —
Милый мой лежит недужен,
На верху горы высокой,
У ключей студеных, чистых».
«Что ему постелью было?»
«Мурава была постелью,
Зелена трава росиста».
«А что было изголовьем?»
«Изголовьем — белый камень,
Белого мрамора глыба».
«А что было одеялом?»
«Одеялом — черна туча».
«А что ему было тенью?»
«Два орла да черный ворон».
Говорил Стоян с орлами:
«Два орла да черный ворон,
Вейтесь надо мной, доколе
Не ушла душа из тела.
А тогда спускайтесь наземь,
Мясо белое расклюйте
Да напейтесь черной крови.
Руку правую не ешьте,
Я ношу на ней злат перстень.
В крепкий клюв ее возьмите
Да взлетите в поднебесье!
Огляните ширь земную —
Двор увидите мощеный,
Посредине тонкий тополь,
Возле тополя колодец,
Выложен мрамором белым.
Рядом с мраморным колодцем
Милая в зеленых травах
Шелком шьет узор на пяльцах.
Там мою десницу бросьте!
Пусть жена моя узнает,
Что ее Стоян скончался
На верху горы высокой,
У ключей студеных, чистых».
Ворон каркнул на высокой ели,
Волк завыл да на горе высокой,
Ворон каркнул, ворон крикнул волку:
«Ой ты, волк, ой, побратим любезный,
Опускайся вниз, к высокой ели,
Здесь лежит юнак с тяжелой раной,
Ты наешься вволю белым телом,
Утолю я жажду черной кровью».
Крикнул ворон, опустился с ели,
Опустился прямо на юнака,
Но очнулся вмиг юнак сраженный,
И схватил он ворона рукою,
Хочет крылья ворону отрезать,
Хочет резать вороново тело.
Ворон каркнул, стал просить юнака:
«Ой же ты, юнак с тяжелой раной,
Ты не режь мне, не секи мне крылья,
Воронята малые заплачут,
Станут каркать, слать тебе проклятья».
Отвечал юнак с тяжелой раной:
«Если мать моя по мне заплачет,
Милая сестра и девять братьев,
Пусть уж лучше плачут воронята».
Ворон каркнул, закричал юнаку:
«Отпусти меня, юнак, на волю,
Полечу я к белому Дунаю,
Полечу я в белый Будин-город,
Наберу я там воды целебной».
Отпустил юнак на волю птицу,
Черный ворон скоро возвратился,
Он водицы дал испить юнаку,
Тот испил и на ноги поднялся.
Пустыня Старой Планины
Полна и зимой и летом,
Отар здесь полно зимою,
А летом полно юнаков:
Под каждым деревом — воин,
У каждого камня — знамя.
Идет, шагает планиной
Стефан Караджа из Тульчи,
С другом отважным шагает —
Сливенским Хаджи Димитром,
А третий с ними шагает
Филипп Бабаджан-воевода.
И молвил Димитру Стефан:
«Хаджи Димитр, милый братец,
Сон мне намедни приснился:
Пес укусил меня черный,
Красная кровь заструилась.
К худу ли это, к добру ли,
А может, к неурожаю?»
Хаджи Димитр отвечает:
«Стефан ты наш, воевода,
Твой сон был к добру, пожалуй».
Едва он промолвил слово,
Турки юнаков настигли,
И крикнул булюкбашия:
«Сеймены, младые турки,
Вернее цельтесь, вернее,
Стефана пулей сразите!»
Разом все турки стреляли,
Стефана ранили пулей.
И крикнул Стефан дружине:
«Верная моя дружина.
Стойте, юнаки, не бойтесь,
Лютым врагам не сдавайтесь,
Знамя свое поднимите,
Головы с турок снимите!»
И загорелись юнаки,
И наскочили на турок,
Схватили булюкбашию
И в лес увели зеленый.
Ходила Стойна бездетной,
Детей она не рожала.
Встала в субботу рано,
Пошла она в новый терем,
В новые те покои,
Села к ткацкому стану
Ткать полотно из шелку.
Тут дрема ее одолела,
И над полотном уснула,
И дивный сон увидала.
От сна пробудилась Стойна
И говорит свекрови:
«Матушка, вот что было:
Когда ткала я у стана,
Дрема меня одолела.
Я на полотне уснула
И дивный сон увидала:
Что встала я рано утром,
Взяла белые ведра,
Пошла на Дунай за водою,
Вошла бы в Дунай по пояс,
Взяла бы мраморный камень,
В платок его запеленала,
За пазуху бы положила,
За пазуху слева, у сердца;
Как сердце мое задышит,
Камешек потеплеет,
И как придет ему время,
Станет он малым сыном».
Свекровь отвечала Стойне:
«Сноха ты моя, Стойна,
Все пробовала ты, Стойна,
Сделай теперь и это,
Авось и сон будет в руку».
Рано проснулась Стойна,
Спустилась она к Дунаю,
Налила студеной водицы,
Вступила в Дунай по пояс,
Выбрала мраморный камень,
В платок его запеленала,
За пазуху положила,
Слева поближе к сердцу.
Девять месяцев миновало,
И как пришло ему время,
Стойна вынула камень,
Его в пелены повила
С золоченым повоем,
В люльку клала золотую
И говорила мужу:
«Вставай, мой муж, поскорее,
Ступай на середку деревни,
Ступай в корчму на деревню
И там, супруг мой, побрейся,
А я замешу караваи,
У нас появился мальчик.
А ты позови кума,
Пускай идет, поспешает
И мальчика нам окрестит».
Пошел Стоян поскорее
На середину деревни,
Там он в корчме побрился
И домой воротился.
Стойна берет караваи,
Кладет их в новую торбу,
Взял Стоян караваи,[501]
Привел своего кума.
Явились Стоян с кумом,
Вдвоем за трапезу сели,
Кум говорит Стойне:
«Стойна, кума молодая,
Давай-ка сюда младенца,
Мы крестить его будем».
Куму молвила Стойна:
«Постой, погости немного,
Я только дитя искупала,
Потом его укачала,
Дождемся, пока проснется!»
Три дня они ели и пили,
Кум вновь говорит Стойне:
«Вставай-ка, Стойна, вставай-ка
И принеси младенца,
Теперь крестить его будем».
Стойна ответствует куму:
«Постой, погости немного,
Уже я дитя разбудила,
Теперь повить его надо».
Встала, пошла Стойна
В новые те покои
И над колыбелью склонилась.
Горько плакала Стойна,
Горячие слезы ронила,
Сама с собой говорила:
«Боже, господи боже,
Кума я обманула,[502]
Камень, как есть — все камень»,
Когда горевала Стойна,
Голос слышался в небе,
Сам господь удивился,
Кто это так сильно плачет.
Позвал он ангелов божьих:
«Ангелы, божьи чада,
Скорей на землю спускайтесь,
Увидите дивное диво:
Кто это громко плачет,
То ль это год голодный,
То ль это мор страшный?
И на Дунай пройдите,
Нету ли там потопа,
Не потопились ли лодки?»
Ангелы быстро спустились,
Землю они исходили,
Прошли они вдоль Дуная,
И Стойну они увидали,
Что родила она камень,
С Дуная мраморный камень.
Ни ног, ни рук нет у камня,
Ни рта, ни очей у камня,
Нету божьего лика.
Вернулись ангелы к богу,
И так они богу сказали:
«Боже, господь всевышний,
Это не год голодный,
Это не мор страшный,
И на Дунае все тихо,
Лодки плывут по Дунаю —
То родила Стойна,
Родила мраморный камень!»
Ангелам бог промолвил:
«Скорей на землю спуститесь,
И душу в камень вдохните».
Как ангелы удалились,
Покои просияли,
Пелены зашевелились,
Скрипнула люлька златая,
Заплакал малый ребенок.
Стойна взяла свое чадо
И отнесла его куму,
Вместе пошли они в церковь;
Покуда дитя крестили,
Рубашку обшила Стойна
Чистым бисером белым.
Как воротились из церкви,
Кум передал ей младенца.
От радости плакала Стойна,
Куму она поклонилась,
Рубашку ему подарила.[503]
Три дня они ели-пили,
И начал ходить младенец,
Стойна сказала куму:
«Постой, погости немного,
Ты нам пострижешь сына».[504]
Яств наготовила Стойна,
Соседей к себе созывала,
Три бочки вина подавала,
Четвертую — чистой ракии.
Яню матушка в шутку укоряла:
«Чадо Яня, не дери одежу,
Как дерут ее твои подружки».
Оттого обидно стало Яне,
Все ходила, господа молила:
«Сотвори меня, господи, березой,
Тело белое — стволом березы,
Белы ручки — ветками березы,
Черны очи — речными струями,
Косы русые — светлой левадой».
Что молила — то и намолила,
Сотворил ее господь березой,
Тело белое — стволом березы,
Белы ручки — ветками березы,
Черны очи — речными струями,
Косы русые — светлой левадой.
Говорила матушкина Яня:
«Солнце жаркое, приветствуй братьев,
Пусть не рубят белую березу —
Перерубят белое тело.
Солнце жаркое, приветствуй братьев,
Пусть не рубят березовые ветки —
Руки белые они отрубят,
Пусть не пьют студеную водицу —
Не то выпьют черные очи.
Солнце жаркое, приветствуй братьев,
Пусть не косят светлую леваду —
Не то скосят русые косы».
Мимо той березы шла дорожка,
Шел дорожкою пастух овечий,
И отсек он у березы ветку,
Из нее свирель себе он сделал,
Услыхала ее матушка Яни,
Услыхала и говорила:
«Что за чудная свирель, мой боже!
Словно это нашей Яни голос!»
Любилися, любилися
Двое юных, двое глупых,
И никто про то не ведал,
Только ведали, эх, знали
В зеленом лесу — листочки,
Во поле — густые травы,
На море — песок сыпучий.
Но откуда-то узнала
Девушкина мать про это,
Девушку она зарыла
Под горой, пониже церкви,
Посадила на могиле
Виноградную лозу.
И откуда-то проведал
Молодца отец про это,
Молодца зарыл он в землю
На горе, повыше церкви,
Посадил он на могиле
Плющ зеленый лебединый.
Вился плющ и подымался,
Доверху увил он церковь,
С молодой лозой обнялся.
Но откуда-то узнала
Девушкина мать про это,
И лозу она срубила.
И откуда-то проведал
Молодца отец про это,
И срубил он плющ зеленый.
Потекли тогда у церкви
Две реки, реки кровавых.
Собралися, собралися
Книжники, попы с округи,
Всё читали, всё гадали,
Что за диво приключилось,
Что за две реки кровавых,
Чья в тех реках кровь струится?
А была то кровь влюбленных.
Тот, кто им судил разлуку,
Эх, грехов он не замолит
Ни до гроба, ни в могиле.
Двое юных, двое глупых
От любви своей погибли,
Ведь любовь — плохое дело!
По соседству двое подрастали,
Годовалыми они сдружились,
Мальчик Омер, девочка Мейрима.
Было время Омеру жениться,
А Мейриме собираться замуж,
Но сказала сыну мать родная:
«Ах, мой Омер, матери кормилец!
Отыскала я тебе невесту,
Словно злато, Атлагича Фата».
Юный Омер матери ответил:
«Не хочу к ней свататься, родная,
Верность слову не хочу нарушить».
Отвечает мать ему на это:
«О мой Омер, матери кормилец,
О мой Омер, голубь белокрылый,
О мой Омер, есть тебе невеста —
Словно злато, Атлагича Фата.
Птицей в клетке выросла девица,
Знать не знает, как растет пшеница,
Знать не знает, где деревьев корни,
Знать не знает, в чем мужская сила».
Юный Омер матери ответил:
«Не хочу я, матушка, жениться!
Крепкой клятвой я Мейриме клялся,
Будет верность слову крепче камня».
И ушел он в горницу под крышу,
Чтоб прекрасным сном себя утешить.
Собрала мать всех нарядных сватов,
Собрала их тысячу, не меньше,
И пустилась с ними за невестой.
Лишь Атлагича достигли дома,
Тотчас же их Фата увидала
И навстречу им из дома вышла,
Жениховой матери сказала,
С уваженьем ей целуя руку:
«О, скажи мне, мудрая старушка,
Что за полдень, коль не видно солнца,
Что за полночь, коль не виден месяц,
Что за сваты, коль не прибыл с ними
Юный Омер, мой жених прекрасный?»
А старуха отвечает Фате:
«Золото Атлагича, послушай!
Ты слыхала ль о лесах зеленых,
О живущей в чащах горной виле,
Что стреляет молодых красавцев?
За родного сына я боялась,
И его я дома задержала».
От зари до самого полудня
Там на славу сваты пировали,
А потом отправились обратно,
Взяли Фату Атлагича, злато.
А подъехав к дому, у порога,
Спешились вернувшиеся сваты,
Лишь невеста на коне осталась.
Говорит ей ласково старуха:
«Слезь на землю, доченька родная».
Отвечает золото-невеста:
«Не сойду я, мать моя, ей-богу,
Если Омер сам меня не примет
И на землю черную не снимет».
К Омеру старуха побежала,
Будит сына своего родного:
«Милый Омер, вниз сойди скорее
И прими там на руки невесту».
Юный Омер матери ответил:
«Не хочу я, матушка, жениться!
Крепкой клятвой я Мейриме клялся,
Будет верность слову крепче камня».
Сокрушенно сыну мать сказала:
«Ах, мой Омер, матери кормилец,
Если слушать мать свою не хочешь,
Прокляну я молоко из груди!»
Жалко стало Омеру старуху,
На ноги он встал и вниз спустился,
Золото он взял с седла руками,
Нежно принял и поставил наземь.
Полный ужин сваты получили,
Повенчали жениха с невестой
И свели их в горницу пустую.
На подушках растянулась Фата,
Омер в угол на сундук уселся,
Сам снимает он с себя одежду,
Сам на стену вешает оружье.
Застонала Атлагича злато,
Проклинает сватовство старухи:
«Старая, пусть бог тебя накажет:
С нелюбимым милое сдружила,
Разлучила милое с любимым!»
Отвечает юный парень Омер:
«Ты послушай, золото-невеста!
До рассвета помолчи, не дольше,
Пусть напьются до упаду сваты,
Пусть сестрицы водят хороводы!
Дай чернила и кусок бумаги,
Напишу я белое посланье».
Написал он белое посланье,
И сказал он золоту-невесте:
«Завтра утром, чтоб остаться правой,
Ты старухе дай мое посланье».
Лишь наутро утро засияло,
Новобрачных мать будить явилась,
Постучала в дверь опочивальни.
Плачет, кличет золото-невеста,
Проклинает замыслы старухи,
Но старуха удивленно молвит:
«О мой Омер, матери кормилец,
Что ты сделал? Быть тебе безродным!»
Дверь открыла и остолбенела,
Недвижимым видит тело сына.
Люто воет в горести старуха,
Проклинает золото-невесту.
«Что ты с милым сыном натворила?
Как сгубила? Быть тебе безродной!»
Отвечает золото-невеста:
«Проклинаешь ты меня напрасно!
Он оставил белое посланье,
Чтоб ты знала правоту невесты!»
Мать читает белое посланье,
Горько слезы льет она, читая.
Ей посланье так проговорило:
«Облачите в тонкую рубаху,
Что Мейрима в знак любви дала мне!
Повяжите шелковый платочек,
Что Мейрима в знак любви связала!
Положите на меня бессмертник,
Украшала им меня Мейрима.
Соберите парней неженатых,
Соберите девок незамужних,
Чтобы парни гроб несли к могиле,
Чтобы девки громко причитали.
Через город пронесите тело,
Мимо дома белого Мейримы.
Пусть целует мертвого Мейрима,
Ведь любить ей не пришлось живого».
А как мимо тело проносили,
Вышивала девушка Мейрима,
У окна открытого сидела.
Вдруг две розы на нее упали,
А иголка выпала из пяльцев.
К ней меньшая подошла сестрица,
Говорит ей девушка Мейрима:
«Бог помилуй, милая сестрица!
Дал бы бог нам, чтоб не стало худо.
Мне на пяльцы две упали розы,
А иголка выпала из пяльцев».
Тихо отвечает ей сестрица:
«Дорогая, пусть господь поможет,
Чтобы вечно не было худого.
Нынче ночью твой жених женился;
Он другую любит, клятв не помнит».
Застонала девушка Мейрима
И хрустальную иглу сломала,
Золотые нити свились в узел.
Быстро встала на ноги Мейрима,
Побежала, бедная, к воротам,
Из ворот на улицу взглянула,
Омера несут там на носилках.
Мимо дома гроб несли неспешно,
Попросила девушка Мейрима:
«Ради бога, други молодые,
Плакальщицы, юные девицы,
Опустите мертвого на землю,
Обниму его и поцелую,
Ведь любить мне не пришлось живого!»
Согласились парни молодые,
Опустили мертвого на землю.
Только трижды крикнула Мейрима
И из тела душу отпустила.
А пока ему могилу рыли,
Гроб Мейриме тут же сколотили,
Их в одной могиле схоронили,
Руки им в земле соединили,
Яблоко им положили в руки.
Лишь немного времени минуло,
Поднялся высоким дубом Омер,
Тоненькою сосенкой — Мейрима.
Сосенка обвила дуб высокий,
Как бессмертник шелковая нитка.
Туман над землей сгустился,
Ни зги не видно в тумане,
Виден один только явор,
Под ним — молодой портняжка.
Божана своей дорогой
Идет, портняжку встречает
И кланяется любезно:
«Портной, соседушка милый,
Скрои мне, сшей безрукавку.
Но сшей ее без иголки,
Скрои без ножа и ножниц,
Примерь ее без примерки».
Портной говорит Божане:
«Сошью тебе безрукавку,
Глазами скрою, примерю,
Сукно прострочу глазами.
А ты приготовь мне хлебы,
Мучицу просей без сита,
Тесто поставь без водицы,
Спеки без огня и печи».
«Ну что ж, — говорит Божана, —
Я за твою безрукавку
Хлеб приготовлю свежий,
Через ресницы просею,
Муку замешу слезами
И на груди своей жаркой
Тебе испеку я хлебы».
Кричал Стоян своей матушке:
«Скорей невесту мне высватай!»
«Нельзя, сынок, нынче свататься,
Нынче худая година,
Мера пшеницы — за тыщу,
Ока ракии — за сотню,
Кувшин вина — за монету».
Больно стало Стояну,
Больно стало и горько,
И он у господа просит:
«Сделай ты меня, боже,
Оберни олененком серым,
Пойду я в лесную чащу,
Там я пастися стану».
Услышал господь молитву,
Сделал его оленем.
И убежал он в чащу,
И тут как раз собралися
Стоянова соседка
И матушка Стояна.
Они отправились в чащу
Сухой собирать хворост.
Навстречу им олененок,
Рогами ломает сушину,
Ртом собирает в кучи.
Как мать домой воротилась,
Соседям она закричала:
«Соседи мои, крестьяне,
Слушайте, что скажу вам,
Вот что я в лесу увидала:
В той тенистой чащобе,
Ходит там олененок,
Рогами сушняк наломает,
Ртом собирает в кучи».
Тогда собрались соседи,
Соседи Стояна, крестьяне,
Отправились в лес и в чащу,
И в этом лесу тенистом
Нашли они олененка.
Тонкое ружье прогремело,
Ударило олененка
Между очей черных,
Прямо в белое сердце.
И закричал олененок:
«Рубите меня, рубите
На четыре части,
Матери — белое сердце,
Пусть она ест, пусть наестся
Она Стояновым сердцем».
Как у матушки родимой
Дочь одним-одна Яница
Красоты была отменной.
Стал Яницу сватать Милен.
Девять городов проехал —
Высватал ее в десятом,
И ему согласье дали.
Мать плела Янице косы.
Вдруг Яница задремала,
Прилегла к ней на колени,
Да мгновенно пробудилась.
Матери она сказала:
«Разорви помолвку, мама!
Видела я сон зловещий:
Как хоромы ставил Милен,
На хоромах вывел башню.
Сел на башню серый сокол.
Стали рушиться хоромы,
Камни там о камни бились.
Глядь, на Миленовых ножнах
Мертвая лежит косуля».
Мать Янице говорила:
«Ничего не бойся, дочка!
Про себя ты сон видала.
Что обрушились палаты —
Это сваты наши, дочка!
А на башне серый сокол —
Молодой юнак твой, Милен».
Лишь успела слово молвить —
Сваты двор заполонили,
Спешились, вошли в покои,
Там за трапезу уселись,
Да не долго пили-ели.
Кум, отец-то посаженый,
Выводить велел невесту:
«Куму пусть целует руку,
Да и всем подряд в застолье,
И поскачем поскорее!
До дому нам — свет не ближний
Девять городов проедем,
Спешимся с коней в десятом».
И тогда, по слову кума,
В горницу вошла невеста.
Куму руку целовала
И подряд всему застолью.
Выходили молча сваты,
На коней они садились.
А как вывели Яницу,
Говорила мать невесты, —
Деверям наказ давала:
«Два деверя, два павлина,
Вы Яницу берегите!
На коне сидеть ей внове!»
Увезли невесту сваты.
Вот и поле миновали,
И в зеленый лес въезжают.
Тут случись олень рогатый.
И пустились без оглядки
Сваты за бегущим зверем.
И одна в лесу зеленом
Очутилась вдруг Яница.
Птица в чаще прошуршала.
Конь шарахнулся пугливый,
Стремя зацепил за ветку
Стройной и зеленой ели.
И кричит Яница в голос:
«Боже, милостивый боже!
Есть ли где душа живая,
Чтобы стремя отцепить мне
От зеленой, стройной ели?»
Услыхал Яницу Милен,
И подъехал он к невесте —
Стремя отцепить от ели.
Целовать он стал Яницу.
Нож его из ножен выпал.
Угодил ей прямо в сердце
И облился кровью черной.
Сметлива была Яница.
Из-за пазухи достала
Умница платок свой белый,
Рану им заткнула крепко.
Собрались на место сваты
И поехали гурьбою.
Им свекровь спешит навстречу,
Чтоб фату скорей откинуть,
Увидать в лицо невестку.
Говорит она Янице:
«Ой же ты, сноха Яница!
Больно мне тебя хвалили:
Белолица, мол, румяна…
Не бела ты, не румяна,
А бледна, желта и схожа
С недозрелою айвою!»
Не ответила Яница.
Отвели ее в покои.
Белый свой платок из раны
Вырвала Яница с силой,
Черной кровью облилася
И с душой навек рассталась.
А когда увидел Милен,
Что она с душой рассталась,
Выхватил свой нож из ножен
И себе всадил он в сердце.
Вылку учила матушка:
«Чадушко, Вылко, чадушко,
Не бери ты Раду Попову,
А бери ты Анку-красавицу,
Потому что она тебе ровня».
Вылко мать не послушал,
И взял он Раду Попову.
И Вылку матушка прокляла)
«Чадо Вылко, ты чадушко,
Будь ты клято и проклято».
Миновало немного времени,
Мать отыскала цыганку
И говорит цыганке:
«Будь мне, цыганка, сестрою,
Давай с тобой поколдуем,
Чтоб погубить Раду,
Тебе за то подарю я
С шеи мое монисто,
С рук витые браслеты,
С пальца злаченый перстень».
Цыганка сунула руку,
Сунула руку за пазуху,
Вынула вялые травы —
Фиалку да горечавку,
И мать-и-мачеху тоже.
И говорит свекрови:
«Возьми чародейные травы
И у себя дома
Найди решето простое,
Потом среди ночи, в полночь,
Костер разведи у дома,
Ставь новую сковородку,
Кидай на нее травы,
А решетом прикрой их.
Так и вари те травы,
Пока не закличет кочет,
Тогда ты возьми базилик
И замочи в отваре,
Обуй желтые туфли,
Накройся белою шалью,
В дом войди и зажмурься,
Смотреть никуда не пробуй,
Окропи только белую Раду».
Настало раннее утро,
Рада взяла кувшины,
К колодцу пошла Рада,
Чтоб принести водицы,
Свежей воды для свекрови.
Как шла она по дороге,
Видит — навстречу цыганка,
И та ее увидала,
И сердце ее заболело.
Когда сошлись они близко,
Сказала Раде цыганка:
«Рада ты, молодица,
Кто видит тебя, жалеет,
Кто видит тебя, милеет,
Свекровь тебе первый недруг,
Готовит тебе чары;
Когда домой воротишься,
Когда рядом с Вылко ляжешь,
То не ложися справа,
Ложися слева от мужа».
Рада назад повернула,
И возвратилась к дому,
И говорит Вылке:
«Муж мой, супруг мой, Вылко,
Нынче я лягу справа,
На правой твоей ручке».
А Вылко ей отвечает:
«Жена моя, милая Рада,
С тех пор как мы поженились,
Полсотни дней миновало,
А ты не ложилась ни разу
Рядом со мною справа».
Когда они улеглися,
Когда легли и уснули,
Свекровь прокралась в покои
Посреди ночи, в полночь,
Взяла зеленый базилик
И покропила отваром,
Не покропила Раду,
А покропила сына.
Настало раннее утро,
Рада Вылку будила,
На Вылку она поглядела,
До пояса был он Вылкой,
От пояса змеем зеленым.
Увидела мать змея,
И говорит она Раде:
«Бери-ка Вылку на плечи,
Неси его за селенье,
На край селенья в леваду,
Чтоб не пугал мне наседок».
Взяла его Рада на плечи,
Его отнесла за селенье,
За край селенья, в леваду.
Сидит близ него и плачет.
Пока красавица плачет,
К ней вновь подходит цыганка
И так говорит Раде:
«Рада, белая Рада,
Вот тебе этот камень,
Ударь этим камнем Вылку,
Когда пропоет кочет!»
Как только запел кочет,
Рада ударила Вылку,
Встал Вылка, сделался прежним.
И с Радой они убежали
За девять сел оттуда,
За девять чащ зеленых,
Чтоб мать его не увидала.
С вечера, как солнце заходило,
Иво мать за ужин засадила,
А жена лучиной им светила
И невольно уронила искру.
Пала искра Иво на рубашку,
На шелку та искра дырку выжгла.
Иво не сказал жене ни слова.
Мать Иванова заговорила:
«Видно, не к добру, сноха, пришла к нам,
Ты зажечь огнем нас всех готова».
Иво не сказал жене ни слова.
Снова Иво мать за стол садила,
А жена лучиной им светила
И невольно уронила искру.
Искра пала Иво на колено,
На штанах та искра дырку выжгла.
Иво не сказал жене ни слова,
Мать Иванова заговорила:
«Ой, невестка, хоть бы ты утопла,
Наш порог ты перешла к несчастью,
Ты зажечь огнем нас всех готова».
Иво не стерпел второго раза,
На ноги на легкие вскочил он
И жену молодую ударил.
Вроде бы несильно он ударил,
Только три ей белых зуба выбил,
Отворил ей три ручья кровавых.
Замертво жена на землю пала,
Чадо малое в ней закричало.
Кованый булатный нож взял Иво,
И легко вспорол ей тонкий пояс,
И достал невиданное чудо:
Вызолочен у дитяти волос,
Золотятся у дитяти руки,
Серебрятся до коленей ноги.
Иво взял младенца молодого,
Милой матери подал младенца:
«Яблоко зеленое возьми-ка,
Что в моем цветнике росло спокойно,
А в твоем дворе его сорвали,
Это ты дозреть ему мешала.
Рядом с домом яблоня сухая,
Галка черная сидит на ветке.
Даст та яблоня побег зеленый
И у галки побелеют перья —
Вот когда к тебе твой сын вернется».
Яблоня дала побег зеленый
И у галки побелели перья,
К матери же Иво не вернулся.
Два дубочка вырастали рядом,
Между ими тонковерхая елка.
Не два дуба рядом вырастали,
Жили вместе два брата родные:
Один Павел, а другой Радула,
А меж ими сестра их Елица.
Сестру братья любили всем сердцем,
Всякую ей оказывали милость;
Напоследок ей нож подарили
Золоченый в серебряной оправе.
Огорчилась молодая Павлиха
На золовку, стало ей завидно;
Говорит она Радуловой любе:
«Невестушка, по богу сестрица!
Не знаешь ли ты зелия такого,
Чтоб сестра омерзела братьям?»
Отвечает Радулова люба:
«По богу сестра моя, невестка,
Я не знаю зелия такого;
Хоть бы знала, тебе б не сказала;
И меня братья мои любили,
И мне всякую оказывали милость».
Вот пошла Павлиха к водопою
Да зарезала коня вороного
И сказала своему господину:
«Сам себе на зло сестру ты любишь,
На беду даришь ей подарки:
Извела она коня вороного».
Стал Елицу допытывать Павел:
«За что это? Скажи, бога ради».
Сестра брату с плачем отвечает:
«Не я, братец, клянусь тебе жизнью,
Клянусь жизнью твоей и моею!»
В ту пору брат сестре поверил.
Вот Павлиха пошла в сад зеленый,
Сивого сокола там заколола
И сказала своему господину:
«Сам себе на зло сестру ты любишь,
На беду даришь ты ей подарки:
Ведь она сокола заколола».
Стал Елицу допытывать Павел:
«За что это? Скажи, бога ради».
Сестра брату с плачем отвечает:
«Не я, братец, клянусь тебе жизнью,
Клянусь жизнью твоей и моею!»
И в ту пору брат сестре поверил.
Вот Павлиха по вечеру поздно
Нож украла у своей золовки,
И ребенка своего заколола
В колыбельке его золоченой.
Рано утром к мужу прибежала,
Громко воя и лицо терзая.
«Сам себе на зло сестру ты любишь,
На беду даришь ты ей подарки:
Заколола у нас она ребенка.
А когда еще ты мне не веришь,
Осмотри ты нож ее злаченый».
Вскочил Павел, как услышал это,
Побежал к Елице во светлицу:
На перине Елица почивала,
В головах нож висел злаченый.
Из ножен вынул его Павел, —
Нож злаченый весь был окровавлен.
Дернул он сестру за белу руку:
«Ой, сестра, убей тебя боже!
Извела ты коня вороного
И в саду сокола заколола,
Да за что ты зарезала ребенка?»
Сестра брату с плачем отвечает:
«Не я, братец, клянусь тебе жизнью,
Клянусь жизнью твоей и моею!
Коли ж ты не веришь моей клятве,
Выведи меня в чистое поле,
Привяжи к хвостам коней борзых,
Пусть они мое белое тело
Разорвут на четыре части».
В ту пору брат сестре не поверил;
Вывел он ее в чистое поле,
Привязал ко хвостам коней борзых
И погнал их по чистому полю.
Где попала капля ее крови,
Выросли там алые цветочки;
Где осталось ее белое тело,
Церковь там над ней соорудилась.
Прошло малое после того время,
Захворала молодая Павлиха.
Девять лет Павлиха всё хворает, —
Выросла трава сквозь ее кости,
В той траве лютый змей гнездится,
Пьет ей очи, сам уходит к ночи.
Люто страждет молода Павлиха;
Говорит она своему господину:
«Слышишь ли, господин ты мой, Павел,
Сведи меня к золовкиной церкви,
У той церкви авось исцелюся».
Он повел ее к сестриной церкви,
И как были они уже близко,
Вдруг из церкви услышали голос:
«Не входи, молодая Павлиха,
Здесь не будет тебе исцеленья».
Как услышала то молодая Павлиха,
Она молвила своему господину:
«Господин ты мой! Прошу тебя богом,
Не веди меня к белому дому,
А вяжи меня к хвостам твоих коней
И пусти их по чистому полю».
Своей любы послушался Павел.
Привязал ее к хвостам своих коней
И погнал их по чистому полю.
Где попала капля ее крови,
Выросло там тернье да крапива;
Где осталось ее белое тело,
На том месте озеро провалило.
Ворон конь по озеру выплывает,
За конем золоченая люлька,
На той люльке сидит сокол-птица.
Лежит в люльке маленький мальчик:
Рука матери у него под горлом,
В той руке теткин нож золоченый.
Стережет овец пастушка Мара,
Стережет овец в лесу зеленом,
Стережет овец и горько плачет.
Два удалых молодца проходят,
Спрашивают молодцы у Мары:
«Что, пастушка молодая, плачешь?»
Отвечает им на то пастушка:
«Молодцы удалые, поверьте,
Если плачу, значит, горе хочет.
Были у меня и муж и братец,
Оба на войну пошли когда-то,
С той поры семь лет уже минуло,
И не знаю, живы ли, мертвы ли».
Два удалых молодца сказали:
«Верь же нам, пастушка молодая,
Оба, волею судьбы, погибли.
А кого ты более жалеешь,
Мужа ты жалеешь или брата?»
Отвечает им пастушка Мара:
«Молодцы удалые, поверьте,
Мужа бы три года я жалела,
Брата — пока буду жить на свете,
Раз уже погибли они оба.
Если с братом по лесу пойду я,
Я сыщу себе другого мужа:
С мужем хоть всю землю обойду я,
А другого брата не найду я!»
Как услышал Иван, юнак добрый,
Тотчас потянул с бедра он саблю,
Голову срубить жене он хочет.
За руку брат его хватает:
«Шурин милый, этого не делай —
Так сестра б моя не поступила».
Растила мама, растила,
Растила сына Стояна,
Вырастила, воспитала,
Стал восемнадцатилетним,
Все думает мать, гадает.
Куда бы послать Стояна,
Где бы сына пристроить к месту:
Послать в Валахию можно —
Туда уезжало немало,
Но кто оттуда вернулся?
В Стамбул отправить Стояна?
В Стамбуле чума лютует.
Мать отправляла Стояна
С юнаками удалыми.
Он первый год был гайдуком,
Стал во второй знаменосцем,
На третий стал воеводой.
Собрал он себе дружину,
Набрал молодых юнаков,
Пошел он с ними в дорогу,
С юнаками молодыми.
Поле они миновали,
Встретили шумную свадьбу.
Дали юнакам подарки,
Стояну лишь не хватило.
Вина поднесли юнакам,
Стояну лишь не досталось.
Свадьба поехала дальше,
Отправились в путь юнаки,
Стали в пути смеяться:
«Стоян, воевода грозный,
Да что же это такое?
Нам всем дарили подарки,
Тебе одному не дали,
Нам всем вино подносили,
Тебе вина не досталось».
Обида взяла Стояна,
Вдогон он пошел за свадьбой,
Настиг он шумную свадьбу,
Выхватил саблю-френгию[516]
И порубил он всех сватов,
И погубил он всех дружек,
Лишь молодых он оставил —
И жениха и невесту,
Схватил жениха с невестой,
Веревкой вязал к двум букам,
Чтоб друг на друга глядели,
Но не могли дотянуться.
Пошел он своей дорогой,
Догнал он свою дружину,
И девять лет по дорогам
Бродили они, бродили,
Но не было им добычи,
Грошей девяти не достали.
Стоян говорил юнакам:
«Верная моя дружина,
Мы девять лет неразлучно
Блуждаем в лесах зеленых,
Но не было нам добычи,
Грошей девяти не достали,
Быть может, на нас заклятье,
Быть может, нам нет удачи?
Расстанемся ж без обиды
И по домам разойдемся».
Дружина с ним согласилась,
Пошли по домам юнаки,
И он пошел восвояси,
В знакомое место прибыл,
Где погубил он когда-то
И жениха и невесту.
Там две лозы виноградных
Побегами переплетались,
Выросли черные грозди.
Хотел утолить он жажду,
Рукой к лозе потянулся,
Но вверх поднялись побеги,
И не достать их рукою.
Он выхватил мигом саблю,
Под корень срубил он лозы.
Когда он подсек их саблей,
Черная кровь заструилась,
Трясет лихорадка Стояна,
И голова разболелась.
Едва домой дотащился,
Он слег и не мог подняться,
И девять лет пролежал он.
Мать вопрошала Стояна:
«Стоян мой, милый сыночек,
Ну что же это такое?
Уже девять лет хвораешь,
Лежишь, не можешь подняться,
Лежишь — не живой, не мертвый.
Какой же грех совершил ты,
Когда ты бродил с дружиной?»
В ответ ей Стоян промолвил:
«Ах, матушка дорогая,
Пошли мы как-то в дорогу,
Прошли широкое поле,
Встретили шумную свадьбу;
Дружине дали подарки,
Мне одному не хватило,
Вина поднесли юнакам,
Мне одному не досталось.
Свадьба поехала дальше,
И мы пошли в путь-дорогу,
Дружина стала смеяться:
«Стоян, воевода грозный,
Да что же это такое?
Нам всем дарили подарки,
Тебе одному не дали,
Нам всем вино подносили,
Тебе вина не досталось».
Взяла тут меня обида,
Вдогон я пошел за свадьбой,
Настиг я шумную свадьбу,
Выхватил саблю-френгию,
И порубил я всех сватов,
И порубил я всех дружек,
Лишь молодых я оставил —
И жениха и невесту,
Схватил жениха с невестой,
Веревкой вязал к двум букам,
Чтоб друг на друга глядели,
Но не могли дотянуться.
Пошел я своей дорогой,
Догнал я свою дружину,
И девять лет по дорогам
Бродили мы, всё бродили,
Но не было нам добычи,
Грошей девяти не достали.
И я говорил юнакам:
«Верная моя дружина,
Мы девять лет неразлучно
Блуждаем в лесах зеленых,
Но не было нам добычи,
Грошей девяти не достали,
Быть может, на нас заклятье,
Быть может, нам нет удачи?
Расстанемся ж без обиды
И по домам разойдемся».
Дружина вся согласилась,
Пошли по домам юнаки,
И я пошел восвояси,
В знакомое место прибыл,
Где погубил я когда-то
И жениха и невесту.
Там две лозы виноградных
Побегами переплетались,
Выросли черные грозди.
Хотел утолить я жажду,
Рукой к лозе потянулся,
Но вверх поднялись побеги,
И не достать их рукою.
Я выхватил мигом саблю,
Под корень срубил я лозы,
Когда я подсек их саблей,
Черная кровь заструилась,
Меня затрясло ознобом,
И голова разболелась».
Заплакала мать Стояна,
Заплакала и сказала:
«Стоян мой, милый сыночек,
Уже девять лет болеешь,
Еще девять лет будь хворым!
Сестру свою загубил ты,
Сестру загубил и зятя:
Вот и не дали подарка,[517]
Вот и вина не досталось».
Стоян услышал такое
И разом с душой расстался.
Где видано-слыхано было,
Чтоб женщина трижды рожала,
Трижды в раз по три сына?
Стало их девять братьев,
Девять братьев-тройняшек,
А дочка одна — Петкана.
Всех их мать поженила,
Поженила и отделила,
Осталась одна Петкана.
Ходят к матери сваты,
Высватывают Петкану
За девять сел оттуда,
Мать не дает Петкану,
Дескать, слишком далеко,
Мать в гости не соберется,
Не выберется Петкана.
А старший из братьев Лазар
Так он матери молвил:
«Отдай ее, мама, замуж,
Нас девятеро братьев,
По разу тебя проводим
К Петкане-дочери в гости,
Так девять раз наберется!»
Послушала матушка сына
И отдала Петкану
За девять сел оттуда.
Когда приехали сваты
Забрать с собой молодую,
Плакала сильно Петкана,
Ехать она не хотела
За девять сел отсюда.
Когда увезли Петкану,
Весь дом заболел чумою,
Морила чума, уморила
Всех близнецов-братьев
И девять снох-молодок,
Оставила девять внуков.
Когда настала суббота,
Мать воду лила на могилы.[519]
Воду лила, поминала,
А Лазара не поминала,
Не лила на могилу воду,
А сына мать проклинала:
«Чтоб ты провалился, Лазар,
Меня ты лишил Петканы,
До нее дойти не сумею,
И она ко мне не приходит».
Лазар в могиле просит:
«Слышишь ли, господи боже,
Как мать меня проклинает,
Дай же мне, господи боже,
Из почвы легкое тело,
Из гроба коня лихого,
С креста — легкую флягу.[520]
Поеду я, господи боже,
И приглашу Петкану,
Пусть к матери в гости едет,
Тяжко мне от проклятий».
Бог его просьбу услышал,
Сделал господь ему, сделал
Из почвы легкое тело,
Из гроба — коня лихого,
С креста — желтую фляжку.
И Лазар встал и поехал.
Когда у ворот постучался,
Петкана ему отворила,
Его увидала Петкана,
Взяла она за руку брата
И руку поцеловала.
Рука землицею пахнет,
Плесенью, черной землею.
Молвит Петкана брату:
«Братец старший мой, Лазар,
Ты словно плесенью пахнешь…»
А Лазар хитрит с сестрою:
«Сестра, Петкана-Петкана,
Когда ты ушла из дому,
Матушка нас разделила,
Мы девять домов воздвигали,
Землю мы поднимали,
Вот я и плесенью пахну.
Скорей собирайся, Петкана,
Ведь матушка помирает,
Застанем в живых — не знаю».
И собралась Петкана,
В путь отправилась с братом.
Долго ли, коротко ль едут,
Лазару молвит Петкана:
«Братец, братец мой, Лазар,
Что ж ты плесенью пахнешь,
Плесенью, черной землею?
Уж твой кафтан не прогнил ли?»
Лазар в ответ Петкане:
«Сестра, Петкана-Петкана,
Когда я в путь отправлялся,
Упали летние росы
И мне кафтан намочили,
И он не успел просушиться,
Вот и прогнил кафтан мой».
Долго ль, коротко ль едут,
Заехали в лес зеленый,
И там одна птица запела:
«Боже, господи боже,
Где видано-слыхано было,
Чтоб мертвый с живым ехал?»
Петкана Лазару молвит:
«Старший братец мой, Лазар,
Про что это птица пела?
Где видано-слыхано было,
Чтоб мертвый с живым ехал?»
Лазар в ответ Петкане:
«Едем, сестрица Петкана,
Здесь зеленая чаща,
Водится всякая птица,
Всякий язык понимает!»
Долго ли, коротко ль едут,
Нивы кругом сжаты,
А нивы братьев не сжаты.
Лазару молвит Петкана:
«Братец мой, братец Лазар,
Что это — нивы сжаты,
А ваши нивы не сжаты?»
«Едем, сестрица, едем.
Строились мы, сестрица,
Нивы сжать не успели».
Как к селу подъезжали,
Лазар сказал Петкане:
«Иди-ка в наш дом, сестрица.
Когда тебя матушка спросит:
«Кто привез тебя, дочка?» —
Ты отвечай ей прямо:
«Старший братец мой, Лазар».
Если она не поверит,
Вот, сестра, тебе перстень,
Вот серебряный перстень,
Ты покажи ей перстень, —
Сама его мать купила,
Когда я с женой обручался, —
Тогда тебе мать поверит.
А я поеду, сестрица,
К тому большому кургану,
Где у нас нива большая —
Жали ее, недожали,
Вот я ее и объеду».
Петкана в дом постучалась.
Плакали девять внуков,
Матушка их утешала.
Петкана кричит снаружи:
«Матушка, дверь отвори мне!»
Мать ей кричит из дома:
«Чума, моровая язва,
Неужто тебе все мало?
Ведь ты, чума, уморила
Всех девять сынов-тройняшек,
И девять снох уморила.
Неужто опять пришла ты,
Чтобы отнять девять внуков?»
Петкана матери молвит:
«Вставай, отвори мне, мама,
Не чума я, не язва,
А дочка твоя, Петкана».
Мать тогда ей отворила
И дочери говорила:
«Кто же привез тебя, дочка?
Девять лет миновало,
Как ты в гостях не бывала».
Петкана ей отвечает:
«Привез меня братец Лазар».
Мать говорит Петкане:
«Обманывай кого хочешь,
А мать свою не обманешь.
Братец твой старший, Лазар,
Вот уже год девятый,
Как от чумы скончался».
Ей отвечает Петкана:
«Если ты мне не веришь,
Вот тебе, мама, колечко,
Кольцо — серебряный перстень!»
Едва увидала старуха,
Едва увидела перстень,
Тотчас поверила дочке.
Плакали мать и Петкана,
Пока не умерли обе.
Майдаленка букет вязала,
На букет наговор шептала:
«Слушай, Анзел, мой наговор ты,
Приходи живой или мертвый,
Приходи живой или мертвый!»
Майдаленка в постель ложится,
Только-только она задремала,
Закричал под окошком Анзел:
«Ты вставай, вставай, Майдаленка,
Собирайся скорее в дорогу!»
Майдаленка молчит, не дышит,
Будто зова она не слышит,
Будто зова она не слышит.
Второй раз позвал ее Анзел:
«Ты вставай, вставай, Майдаленка,
Собирайся скорее в дорогу!»
Майдаленка молчит, не дышит,
Будто зова она не слышит,
Будто зова она не слышит.
Третий раз позвал ее Анзел:
«Ты вставай, вставай, Майдаленка,
А не встанешь — найду другую!»
Майдаленка тут испугалась,
Она скоро с постели вскочила,
Она скоро с постели вскочила,
Дверь одною рукой отпирала,
Обнимала Анзела другою.
Взял он ее за белую руку,
Посадил на коня за собою,
Посадил на коня за собою,
А как только они поскакали,
Говорит Майдаленке Анзел:
«То ли звезды, то ль это месяц
Хорошо нам и ясно светит,
А ведь мертвые ездят быстро.
Не боишься ли ты, Майдаленка,
Не боишься ли ты, Майдаленка?»
«Упокой, боже, души усопших,
Ты ж оставь, Анзел, мертвых в покое,
Ты ж оставь, Анзел, мертвых в покое!»
И опять они дальше скачут,
И опять говорит ей Анзел:
«То ли звезды, то ль это месяц
Хорошо нам и ясно светит,
А ведь мертвые ездят быстро.
Не боишься ли ты, Майдаленка,
Не боишься ли ты, Майдаленка?»
«Упокой, боже, души усопших,
Ты ж оставь, Анзел, мертвых в покое,
Ты ж оставь, Анзел, мертвых в покое!»
И опять они дальше скачут
И на всем скаку подлетают
Прямо к каменной белой церкви,
Ко широким дверям церковным,
Ко широким дверям церковным.
Тут с коня долой спрыгнул Анзел
Посредине немого кладбища,
Посредине немого кладбища.
Закричал тогда громко Анзел:
«Вы вставайте-ка, мои братья,
Вы встречайте мою невесту,
Вы встречайте мою невесту!»
Майдаленка тут испугалась,
И с коня она наземь упала
У широких дверей церковных.
Вдруг часы стали бить двенадцать,
Петухи стали петь в округе,
Петухи стали петь в округе.
«Это счастье твое, Майдаленка,
Что часы стали бить двенадцать,
Петухи запели в округе,
Петухи запели в округе.
Коль часы не ударили б в полночь,
Петухи не запели б в округе,
Петухи не запели б в округе,
Так тебя б мертвецы растерзали,
Как зерно жернова терзают.
Кто пришел бы с утра на кладбище,
Увидал лишь твои одежды,
По куску на каждой могиле!»
Строят город три родные брата,
Три родных Мрлявчевича[523]-брата:
Вукашин-король — из братьев старший,
Воевода Углеша — брат средний,
Третий, младший — Мрлявчевич Гойко.[524]
Строят город Скадар на Бояне.
Строят город вот уже три года,
Мастеров им триста помогают,
Основанье возвести не могут,
А уж целый город и подавно:
Что им за день мастера построят,
Все им вила за ночь раскидает.
Как настал четвертый год работе,
Слышно, кличет им с планины вила:
«Ты не мучься, Вукашин, напрасно,
Сам не мучься, не теряй богатства!
Основанье возвести не сможешь,
А уж целый город и подавно,
До тех пор, пока имен не сыщешь
Двух похожих — Стою и Стояна;
Да чтоб были братец и сестрица.
Ты их в стену башни замуруешь,
Будет крепко основанье башни,
Вот тогда и город ты построишь».
Как услышал Вукашин вещанье,
То слугу зовет он Десимира:
«Десимир мой, чадо дорогое!
До сегодня был ты мне слугою,
Впредь же будешь чадо дорогое!
Запрягай, сынок, коней в повозки,
Шесть мешков грузи на них с деньгами.
Поезжай, сынок, по белу свету,
Поищи два имени похожих,
Разыщи нам Стою и Стояна,
Да чтоб были братец и сестрица,
Укради ты их или купи их,
Привези их в Скадар на Бонне.
Мы их в стену башни замуруем,
Чтобы крепко было основанье,
Вот тогда и город мы построим».
Как услышал Десимир ту просьбу,
Вывел он коней, запряг повозки,
Нагрузил и шесть мешков с деньгами,
И поехал он по белу свету
Поискать два имени похожих.
Ищет, ищет Стою и Стояна,
Ищет их без малого три года, —
Не сыскал два имени похожих,
Не сыскал он Стои и Стояна.
И вернулся в Скадар на Бояне.
Возвращает он коней, повозки,
Возвращает шесть мешков с деньгами:
«Получай, король, коней, повозки,
Получай и шесть мешков с деньгами —
Не сыскал я двух имен похожих,
Не сыскал я Стои и Стояна!»
Как услышал Вукашин известье,
Закричал на зодчего он Раду,
Тот на триста мастеров прикрикнул,
Строят дальше Скадар на Бояне.
Что король построит — вила рушит,
Не дает построить основанье,
А уж целый город и подавно!
Вновь кричит с горы высокой вила:
«Эй, король! Ты слышал иль не слышал?
Сам не мучься, не теряй богатства:
Основанье возвести не сможешь,
А уж целый город и подавно!
Слушай лучше: вас тут трое братьев,
Каждый любу верную имеет.
Чья придет к Бояне завтра люба
И обед для мастеров доставит,
Ту вы в стену башни замуруйте,
Будет крепко основанье башни,
Вот тогда построите и город».
Как услышал Вукашин вещанье,
Призывает он родных двух братьев
«Вы слыхали, братья дорогие,
Что кричала нам с планины вила?
Понапрасну мучаемся с вами,
Не дает построить основанье,
Ну а целый город и подавно!
А еще кричит с планины вила,
Говорит, что здесь нас трое братьев,
Каждый любу верную имеет.
Чья придет к Бояне завтра люба
И обед для мастеров доставит,
Мы ее и замуруем в башню:
Будет крепко основанье башни,
Вот тогда и город мы построим!
Поклянемся же сейчас друг другу,
Что никто про то не скажет любе;
Предоставим счастью и удаче,
Кто из них придет к Бояне завтра!»
Тут друг другу братья поклялися,
Что никто про то не скажет любе,
И на том их ночка и застала.
Возвратились в белые хоромы,
Там поужинали, ели-пили,
Каждый почивать пошел с женою.
Тут и быть неслыханному чуду!
Вукашин-король нарушил клятву,
И сказал он первый своей любе:
«Моя люба верная, послушай!
Не ходи ты завтра на Бояну,
Не носи ты мастерам обеда:
Зло с тобою может приключиться,
Замуруем мы тебя там в башне».
Не сдержал и Углеша той клятвы,
Он про все поведал верной любе:
«Берегись, не ошибись ты, люба!
Не ходи ты завтра на Бояну,
Не носи ты мастерам обеда,
Потому что молодой погибнешь —
Замуруем мы тебя там в башне».
Только Гойко клятвы не нарушил,
Не сказал ни слова своей любе.
А как только утро наступило,
Встали три Мрлявчевича-брата,
Поспешили на реку Бояну.
Час пришел нести обедать людям,
А черед нести был королеве, —
Королева с просьбою к золовке,
К золовушке, Углешиной любе:
«Ох, золовушка милая, слушай!
Голова у меня разболелась…
Худо мне! Не поправлюсь я, видно,
К мастерам ты пойди уж с обедом!»
Отвечает Углешина люба:
«Ох, золовушка, свет-королева!
Что-то правую рученьку ломит…
Худо мне! не поправлюсь я, видно,
Попроси молодую золовку».
Королева к золовушке младшей:
«Ох, золовушка, Гойкина люба!
Голова у меня разболелась…
Худо мне! не поправлюсь я, видно,
К мастерам ты пойди уж с обедом!»
Отвечает Гойковица тихо:
«Не взыщи с меня, свет-королева!
Я б тебя послушала без слова,
Да сыночек мой еще не купан,
Белый холст не выстиран остался».
Говорит на это королева:
«Ты иди, золовушка, не бойся:
И снеси уж мастерам обед-то!
Полотно-холсты я постираю,
А сынка золовка искупает».
Что тут было Гойковице делать?
Понесла обед она на реку.
А когда пришла она к Бояне —
Там стоит и ждет Мрлявчевич Гойко!
Разыгралось сердце у юнака,
Жаль ему свою родную любу,
Жаль ему и чадо в колыбели —
От роду младенцу только месяц…
Покатились горячие слезы,
Видит Гойко: жена молодая
Тихо ходит, медленно подходит,
Тихо ходит, разговор заводит:
«Что с тобою, господин мой добрый,
Что ты слезы горько проливаешь?»
Ей промолвил Мрлявчевич Гойко:
«Зло стряслось большое, моя люба!
Золотое яблоко имел я,
Уронил его сегодня в реку,
Жаль его мне, позабыть не в силах».
Люба стройная тут без раздумья
Отвечает мужу-господину:
«Ты проси у господа здоровья,
Отольешь второе, еще лучше».
Стал еще печальней юнак Гойко,
Отвернулся, голову понурил
И смотреть не хочет он на любу.
Тут подходят деверя к ней оба,
Два других Мрлявчевича-брата,
Берут любу за белые руки
И ведут замуровывать в башню,
Закричали на зодчего Раду,
Рада-зодчий мастерам прикрикнул,
Но смеется молодая люба:
Ей сдается — с нею просто шутят.
Стали город городить над нею:
Рубят триста мастеров поставы,
Рубят срубы, камнем засыпают,
До колен уж бедную закрыли, —
Все смеется молодая люба:
Ей сдается — с нею просто шутят.
Рубят триста мастеров поставы,
Рубят срубы, камнем засыпают,
Уж по пояс бедную закрыли…
А как камни тело придавили,
Поняла тут страшную судьбину,
Как змея озлилась, зашипела,
Умоляет деверей любезных:
«Не давайте, коль боитесь бога,
Чтоб меня замуровали в башне!»
Просит, молит — нет, не помогает,
Братья даже на нее не смотрят.
Как ни стыдно и как ни зазорно,
А взмолилась к мужу-господину,
«Господин мой! Не давай меня ты,
Чтоб меня замуровали в башне!
Шли меня ты к матери-старухе,
Есть у ней достаток и богатство,
Пусть раба или рабыню купит,
Чтобы в башне их замуровать!»
Просит, молит — нет, не помогает…
Увидала молодая люба,
Что ничто уже не помогает,
Она к Раде-зодчему с мольбою:
«Брат по вере христианской, Рада!
Ты оставь окно для белой груди,
Чтобы я, как принесут мне Йову,
Покормить могла своею грудью!»
Поступил по-братски зодчий Рада,
Он окно оставил ей для груди
И сосцы извлек ее наружу,
Чтоб она, как принесут ей Йову,
Покормить могла своею грудью.
И опять зовет и просит люба:
«Брат по вере христианской, Рада!
Ты оставь мне для очей окошко,
Чтоб глядеть на белые хоромы,
Чтоб глядеть, как Йову мне приносят
И в хоромы от меня уносят!»
Поступил по-братски зодчий Рада:
Для очей оставил ей окошко,
Чтоб глядеть на белые хоромы,
Чтоб глядеть, как Йову к ней приносят
И в хоромы от нее уносят.
Так ее замуровали в стену.
Вот кормить приносят к ней ребенка,
Кормит чадо первую неделю,
На вторую потеряла голос,
Но ребенка молоком и дальше
Целый год кормила и — вскормила!
Что случилось — не переменилось:
Камень точит молоко доныне,[525]
Ради чуда точит[526] понемногу
Безмолочным матерям в подмогу.
Кончена мечеть Дервиш-пашою,
За семь лет паша ее построил
И высокий минарет поставил.
Тридцать мастеров ему служили.
И когда был минарет закончен,
Прочь пошли все мастера оттуда.
Дунул ветер среди ночи темной,
Наземь минарет паши обрушил.
И когда с рассветом встало солнце,
То паша Дервиш-паша[528] увидел,
Что высокий минарет повален.
Очень тяжко тогда ему стало,
Тридцать мастеров он созывает,
Говорит он мастерам такое:
«Тридцать мастеров, дери вас дьявол,
Где, скажите, старый старший мастер?
Пусть он даст ответ и мне и богу,
Отчего так минарет построил,
Что от ветра тот свалиться может».
Тридцать мастеров в ответ сказали:
«Господин паша, о милый боже,
Старый старший мастер будет тотчас.
Спрашивай его, о чем захочешь,
Но послушай, что тебе мы скажем.
В этом старший мастер не виновен,
Нет вины на старике нисколько,
Грех паша Дервиш-паша содеял».
Мастер нам вчера сказал такое:
«Минарет паши разбить не смогут
Пушки, даже самые большие.
Богу захотелось — и обрушил.
Мастеров нельзя винить нисколько».
Отвечает им паша на это:
«Стройте минарет точно таким же».
Подошел тут старый старший мастер,
Минарет обрушенный увидел,
И перекрестился мастер[529] трижды,
И сказал Дервиш-паше такое:
«О паша Дервиш-паша, ей-богу,
Вилы минарет свалили ночью,
То ли вилы, то ли, может, дивы.
Господин паша, могу поклясться,
С той поры, как начал я их строить,
Крепче этого не мог построить».
И паша опять уговорился
С мастерами минарет построить.
Мастера закончили постройку,
И опять ее обрушил ветер.
Так семь раз заканчивали башню,
И семь раз валил постройку ветер,
Но паше все это надоело.
Он решает сотворить молитву,
Попросить великого Аллаха,
Чтоб во сне открыл ему причину
Многих обрушений минарета.
Только совершил паша молитву,
Лег на свой молитвенный коврик,
И как лег паша, уснул немедля.
Добрый дух в двери во сне заходит,
Окликает его Дервиш-пашою:
«Ты, Дервиш-паша, хотел дознаться,
Отчего твой минарет обрушен?
Ты заклать не хотел барана,
Минарет сей начиная строить,
Паша Дервиш-паша, слушай вот что!
У тебя, Дервиш-паша, три сына.
Одного из них заклать придется.
Если снова минарет построишь,
Больше не обрушится он наземь».
Услыхал Дервиш-паша все это,
Словно раненый, во сне он крикнул
И по той причине пробудился.
И пошел в комнату другую,
Чтобы рассказать жене все это.
И жена паше сказала тихо:
«Господин паша, прошу пощады.
Прекрати постройку минарета.
Сын для нас дороже минарета!»
Паша Дервиш-паша ей ответил:
«Верная моя жена, послушай,
Всех троих готов принесть я в жертву,
Лишь бы только минарет не рухнул».
В комнату свою паша вернулся,
Бедная жена осталась плакать,
Плакать, на детей бросая взоры.
Белый день едва рассвел наутро,
В комнату к жене паша приходит,
Тихо говорит жене такое:
«Верная жена, тебе придется
Выбрать одного из трех для жертвы!»
Очень тихо жена отвечает:
«Заклинаю обоими мирами,
Я их мать, всех троих рожала,
Все они равны в моем сердце.
Я клянусь великому богу,
Пережить не смогу ни одного я».
Разгневался паша Дервиш-паша,
И схватил он младшего сына,
И унес из парадных комнат.
Как увидела жена молодая,
Закричала так, что дом весь дрогнул,
С горя начала она бегать
По комнате из угла в угол,
Запнулась о молитвенный коврик
И в парадной комнате упала,
Как упала, дух тотчас испустила.
А паша пришел к своей мечети,
Тридцать мастеров призвал он тотчас,
И сказал он мастерам такое:
«Еще раз минарет мне постройте.
Если он обрушится наземь,
Больше строить его не буду.
Оболью его стены маслом
И жестокий пожар устрою.
Все, что было, на него истратил
И дитя заколю дорогое,
Ибо сон такой увидел ночью».
И заклал на фундаменте сына,
А строители начали строить.
А когда они кончили строить,
Разошлись они все оттуда.
Минарет паши был воздвигнут.
До сих пор он стоит, как прежде.
Закопал паша под минаретом
Верную жену молодую,
Вместе с нею — младшего сына.
Что белеет средь зеленой чащи?
Снег ли это, лебедей ли стая?
Был бы снег, он давно бы стаял,
Лебеди бы в небо улетели;
Нет, не снег там, не лебяжья стая:
Хасан-ага там лежит в палатке.
Там страдает он от ран жестоких;
Навещают мать его с сестрою,
А любимой стыдно показалось.
Затянулись раны и закрылись,
И тогда он передал любимой:
«В белом доме ждать меня не нужно,
Ты в семье моей не оставайся».
Услыхала люба речь такую,
Горьких мыслей отогнать пе может.
Топот конский слышен возле дома;
Побежала женщина на башню,
И прильнула там она к окошку;
Вслед за нею бросились две дочки!
«Что ты, наша матушка родная,
Не отец наш на коне приехал,
А приехал дядя Пинторович».
Воротилась женщина на землю,
Крепко брата обняла и плачет:
«Ой, мой братец, срамота какая!
Прогоняют от пяти малюток!»
Бег спокоен, не сказал ни слова,
Лишь в кармане шелковом пошарил
И дает ей запись о разводе,
Чтобы все свое взяла с собою,
Чтоб немедля к матери вернулась,
Прочитала женщина посланье,
Двух сыночков в лоб поцеловала,
А двух дочек в розовые щеки,
Но с меньшим сынком, что в колыбельке,
Слишком трудно было расставаться.
За руки ее взял брат суровый,
И едва лишь оттащил от сына,
Посадил он на коня сестрицу
И поехал в белое подворье.
Долго дома жить не удалось ей,
Лишь неделю побыла спокойно.
Род хороший, женщина красива,
А такую сразу едут сватать.
Всех упорней был имотский кадий.
Просит брата женщина, тоскует:
«Милый братец, пожалей сестрицу,
Новой свадьбы мне совсем не надо,
Чтобы сердце с горя не разбилось
От разлуки с детками моими».
Бег спокоен, ничему не внемлет,
Принимает кадиевых сватов.
Просит брата женщина вторично,
Чтоб послал он белое посланье,
Написал бы просьбу от невесты:
«Поздравленье шлет тебе невеста,
Только просьбу выполни такую:
Как поедешь к ней ты на подворье
С господами, сватами своими,
Привези ей длинную накидку,
Чтоб она свои закрыла очи,
Не видала бедных сиротинок».
Кадий принял белое посланье,
Собирает он нарядных сватов,
Едет с ними за своей невестой.
Сваты ладно встретили невесту
И счастливо возвращались с нею,
Проезжали мимо башни аги,
Увидали девочек в оконце,
А два сына вышли им навстречу
И сказали матери с поклоном:
«Дорогая матушка, зайди к нам,
Вместе с нами нынче пообедай».
Услыхала Хасанагиница,
Обратилась к старшему из сватов:
«Старший сват, прошу я, ради бога,
Возле дома сделай остановку,
Чтоб смогла я одарить сироток».
Кони встали у подворья аги,
Матушка одаривает деток:
Двум сыночкам — с золотом кинжалы,
Милым дочкам — дорогие сукна,
А дитяти малому послала
Одеяльце — колыбель закутать.[531]
Это видит храбрый Хасан-ага,
И зовет он сыновей обратно:
«Возвратитесь, милые сиротки!
Злая мать не сжалится над вами,
Сердце у нее подобно камню».
Услыхала Хасанагиница,
Белой грудью на землю упала
И рассталась со своей душою
От печали по своим сиротам.
Как решил жениться влашич Радул,[533]
Высватал красавицу невесту,
Дал ей перстень и назначил свадьбу:
«Будет свадьба через две недели,
А пока на белый двор свой съезжу,
Соберу там благородных сватов».
Вот приехал он во двор свой белый,
И собрал он там немало сватов,
И собрал он сватов там три сотни,
И собрал, а сам не едет с ними,
Посылает он коня невесте,
Посылает он родных двух братьев,
А двух братьев, деверей двух милых.
Выехали сваты за невестой,
Хорошо их встретили, на славу,
Дали каждому платок расшитый.
Дали жениху коня гнедого,
Сокола и красную девицу.
Дружка кличет, музыка играет:
«Подымайтесь, нарядные сваты!
Подымайтесь, сваты и невеста!
Время отправляться нам в дорогу!»
Поднялись нарядные тут сваты,
В тот же день отправились в дорогу.
Только сваты в темный лес въезжают,
А в лесу стоит Банянин Диняр,[534]
На копье оперся боевое.
Пропустил всех сватов по порядку,
А когда подъехала невеста,
За узду ее коня схватил он,
Девери, как только увидали,
Так за сабли острые схватились,
Диняру снять голову хотели.
Но сказала девушка-невеста:
«Ради бога, девери-юнаки!
Вы его, юнаки, не губите,
Вы его ответа подождите,
Голову рубить не торопитесь».
Поклонился Банянин невесте,
Землю черную поцеловал он:
«Девица-краса, сестра по богу!
Будешь Радуловой ты женою,
Знай, томятся там моих два брата,
Держит их в темнице влашич Радул,
Может быть, хоть ты освободишь нх!»
Он пошарил в шелковом кармане,
Вынимает дюжину дукатов,
Дарит их сестре своей по богу,
А она ему рубашку дарит.
Как приехали на двор свой белый,
Сразу с седел сваты соскочили,
Только девушка слезать не хочет.
Вышла к ней мать Радула навстречу.
Вынесла ей столик золоченый,
По краям змеею оплетенный,
Та змея из серебра и злата,
Вместо жала — драгоценный камень.
Говорит мать Радула невесте:
«Слезь с коня ты, милая невеста!
Погляди на столик золоченый,
По краям змеею оплетенный,
Та змея из серебра и злата,
Вместо жала — драгоценный камепь.
Можно с ним, сноха, вязать и в полночь,
В полночь с ним светло, как в ясный полдень»,
Ей сноха смиренно поклонилась,
Но с коня сойти не согласилась.
Выходили Радуловы сестры,
Выносили золотые перстни:
«Слезь с коня ты, милая невеста!
Погляди на перстни золотые,
Ты носи их, будь невесткой нашей».
Им она смиренно поклонилась,
Но с коня сойти не согласилась.
В дом они сердитые вернулись,
Зло взглянули, зло проговорили:
«Брат ты наш, любимый Радул-влашич!
Не желает слезть с коня невеста,
Хочет видеть, за кого выходит».
Рассердился Радул не на шутку,
Вышел хмурый, с обнаженной саблей:
«Слезь с коня, не девушка ты, сука!
Слезь с коня иль с головой простишься!
Ты коня не привела из дому,
Моего коня ты заморила».
Отвечала Радулу невеста:
«Ой ты, господин мой Радул-влашич!
Не сердись ты, не на что сердиться,
С твоего коня не слезу, Радул,
Коль не дашь ключей мне от темницы».
Рассмеялся Радул во все горло,
Дал ключи ей от своей темницы,
И тогда с коня сошла невеста,
Деверей двух милых подозвала:
«Вы идите, девери, со мною,
Покажите двери мне темницы».
И пошли с ней девери к темнице,
Отворили мрачную темницу,
Говорит красавица невеста:
«Кто тут братья Диняр Банянина?
Выходите оба из темницы!»
Вышли тут два ослабевших брата,
Вышли из сырого подземелья,
Волосы у них — хоть покрывайся,
Ногти — хоть копай ты ими землю.
Тут все тридцать узников вскричали:
«Ой, красавица, сестра по богу,
Выпусти и нас ты из темницы!»
Говорит красавица невеста:
«Выходите, узники, на волю!»
Вышли тут все узники на волю,
Говорит красавица невеста:
«Разбегайтесь, узники, скорее!»
И взяла она двух побратимов,
Повела на белый двор обоих,
Позвала двух ловких брадобреев,
Мылят, бреют, даже лбы потеют,
Грязные им ногти обрезают,
Два платка дала им полотняных
И дала им чистую одежду,
А когда домой их отправляла,
Яблоко дала им золотое:
«Моего поздравьте побратима,
Диняра поздравьте Банянина,
Золотое яблоко отдайте».
Радул молодой в поход собрался,
Во дворе с женой своей прощался,
Радулу жена тут говорила:
«Ой, мой Радул, ясное ты солнце,
Я пойду в поход с тобою, Радул,
Или к матушке вернусь родимой».
Говорил жене на это Радул:
«Жен с собою не берут в походы,
Во дворах их белых оставляют.
Береги ты белый двор мой, Ела,
Честь мою и честь свою храни ты».
Спрашивала у Радула Ела:
«Ты когда вернешься из похода?»
Говорил на это Еле Радул:
«Только черный ворон побелеет,
Расцветет на мраморе куст розы,
И к тебе вернусь я из похода».
Речи мужа выслушала Ела,
Яблоко дала ему златое
И платок, служанкою расшитый.
И тогда свой двор оставил Радул.
Только заперли за ним ворота,
Ела черна ворона поймала,
Розу алую она достала,
На холодный мрамор посадила.
Не белеют вороновы перья,
Не цветет на мраморе куст розы.
Уж ее и мылом моет Ела,
Молоком из грудей поливает,
Поливает вечером, и утром,
И во время зноя в жаркий полдень.
Вот уж целых девять лет минуло,
Говорит своей служанке Ела:
«Ты, моя служанка молодая,
Вот уж целых девять лет минуло,
Как в поход мы Радо проводили,
Но ни Радо нет, ни доброй вести!
Мы не видим ни луны, ни солнца,
Ни зари, ни Радула-юнака!
Пусть меня не осуждает Радо,
Поплясать хочу я в хороводе,
Может, вести добрые услышу
Я о муже о моем любимом».
«Госпожа, сходи сегодня в коло,
Вот уж целых девять лет минуло,
А о Радо ничего не слышно».
И послушалась служанки Ела,
Нарядилась пышно и богато:
Вся по пояс золотом и шелком,
А к подолу — золотом червонным,
Поясок серебряный надела,
Золотой кушак надела сверху,
А за кушаком тысячецветник,
Чтоб от солнца жаркого закрыться,
Васильков букет взяла с собою,
У цветов серебряные стебли,
А листочки золотом прошиты.
Нарядилась и пошла из дома
Прямо в чисто поле к хороводу.
Как пришла на поле к хороводу,
Тут же всем здоровья пожелала,
Ей еще радушней отвечали,
До сырой земли ей поклонились:
«Здравствуй, млада Радулова Ела!
Попляши с юнаком в хороводе,
Выбери сама, кого желаешь».
Но она их поблагодарила:
«Вам спасибо, плясуны лихие,
Не плясать пришла я в хороводе,
А весть добрую пришла услышать,
Весть о Радуле моем любимом».
Не прошло тут времени и часа,
Как юнак к ним на коне подъехал,
Пожелал всем доброго здоровья,
Услыхал ответ еще радушней:
«Здравствуй, добрый молодец проезжий!
Оставайся в нашем хороводе,
Попляши ты с девушкой любою,
Только не с красавицею Елой,
Не плясать пришла сюда к нам Ела,
А весть добрую пришла услышать,
Весть о Радуле своем любимом».
Как услышал это незнакомец,
Подошел он к Радуловой Еле:
«Ты, душа моя, голубка Ела,
Попляши со мною в хороводе,
Я весть добрую тебе открою,
Весть о Радуле твоем любимом;
Красное вино вчера мы пили,
И сказал мне господин твой Радул,
Что приедет через год, не раньше».
Выслушала Ела незнакомца
И пошла плясать с ним в хороводе.
Только встала Ела с гостем в пару,
Обнимает он ее за пояс,
Жмет ей руку в перстнях и браслетах,
Рассыпает жемчуг с белой шеи,
Наступает ей ногой на туфли.
Говорила Ела незнакомцу:
«Не держи, юнак, меня за пояс,
Не твоя ведь мать меня вскормила,
Жемчуг мой не рассыпай на плечи,
Не твоя ведь мать его низала,
А моя пускай почиет в мире,
И не жми ты руки мои в перстнях,
Ведь не ты дарил мне эти перстни,
А мой муж, дай бог ему здоровья!»
И на этом кончился их танец,
Незнакомец обратился к Еле:
«Подожди ты тут меня немного,
Я пойду с тобой во двор твой белый,
Я весть добрую тебе открою,
Весть о Радуле твоем любимом».
А она и слушать не желает,
Подобрала рукава и полы,
Ласточкою быстрой полетела,
Так, что не догнали б даже вилы,
А куда уж конному юнаку.
Как она к воротам подбежала,
Кликнула служанку молодую:
«Ты открой мне двор, моя служанка!
Вот уж целых девять лет минуло,
Как живем здесь во дворе мы белом,
Как в плену мы не были ни разу,
Но, клянусь, сегодня будем обе!»
Быстро ей служанка отворила
И еще быстрей за ней закрыла.
Тут юнак подъехал незнакомый,
И зовет он Радулову Елу:
«Ты открой мне, Радулова Ела,
Добрые тебе принес я вести
О супруге, Радуле-юнаке».
Молодая будто и не слышит,
Но ему тихонько отвечает:
«Как возьму я Радула оружье,
Не уйдешь и ног не унесешь ты!»
Понял Елу всадник незнакомый,
Только он ничуть не испугался,
Яблоко ей бросил золотое,
Что дала ему когда-то Ела,
Как его в дорогу провожала,
И платок, служанкою расшитый.
Тут ворота отворила Ела,
Господина Радула узнала.
И сказал он: «Верь мне, моя люба,
Верь мне, верная моя супруга,
Если б ты мне раньше отворила,
Чем я бросил яблоко златое,
Тут же снял бы голову тебе я,
А служанке выколол бы очи!»
Оженился Янко, взял свою он любу,
Взял свою он любу за правую ручку,
Привел свою любу к матери-старухе.
«Поглядите, мамо, это ваша дочка.
Дорогая люба, должен я уехать
К королю на службу.
Коль меня не будет
Один, два, три года, будешь ты свободна
С другим сговориться, за другого выйти».
Ночью темной Янку вещий сон приснился
«Ой ты, госпожа ты, моя королева!
Мне сегодня ночью вещий сон приснился:
Моя мила люба с другим сговорена,
С другим сговорена, за другого вышла».
«Ой ты, храбрый Янко, садись на коня ты,
Что в моей конюшне изо всех резвейший!»
Приезжает Янко к матери-старухе:
«Бог вам в помощь будет, моя стара мати!»
«И тебе бог в помощь, незнакомый путник!»
«Прошу у вас, мамо, путнику ночлега,
Путнику ночлега, у огня согреться».
«Нет, нельзя, не можем, незнакомый путник,
Полон дом сегодня, собралися гости».
«Одно слово молвить вы позвольте, мамо,
Моя стара мамо, молодой невесте,
Вы ее пошлите, пускай сюда выйдет,
Я скажу: «бог в помощь, молода невеста!»»
«И тебе бог в помощь, незнакомый путник!
Войди, войди в избу, незнакомый путник.
Дайте человеку почетную чару!»
«Благодать почиет пусть на этом доме.
Можно ль незнакомцу выпить эту чару?»
«Можно, пей во здравье, незнакомый путник!»
«Будь благословенным, дом ты мой родимый,
Дом ты мой родимый, мать моя родная,
Моя верна люба с другим сговорена,
С другим сговорена, за другого вышла».
Взяла люба чару, чару пригубила,
Чару пригубила, от стола вскочила,
От стола вскочила, Янко усадила.
«Ой ты, милый Янко, суженый мой первый,
Суженый мой первый, сердечно любимый!»
Гости тут вскочили и все разбежались.
Сон недобрый девушке приснился,
Никому его не рассказала
До рассвета, до восхода солнца.
На рассвете, на восходе солнца
Суженому девушка сказала:
«Ах, мой милый, ах, мой светлый месяц,
Нынче ночью страшный сон мне снился:
Речка Вербас берег затопила,
Твой скакун был приведен на площадь,
«Твоя сабля пополам сломалась,
Твоя шапка покатилась к речке,
Мостовую мой усыпал бисер».
Милая умолкла, молвил милый:
«Солнце жаркое, моя подруга,
Хочешь, сон твой мигом разгадаю?
Речка Вербас берег затопила,
Моя сабля — на две половины,
Покатилась шапка прямо к речке,
Это значит — скоро будет битва,
Это значит — я в поход поеду,
Это значит — голову сложу я.
Покатился по дороге бисер,
Значит — будем лить с тобою слезы».
Миновало только две недели,
И юнаков на войну призвали,
Как явились в цесарское войско,
Полетела каурская пуля,
Угодила в Челебича Меху,
Сразу Меху с конем разлучила,
И лежит Мехмед в траве зеленой,
Говорит своей дружине верной:
«Моего коня вы изловите,
У седельца — доломан зеленый,
В доломане — яблоко и перстень,
Отнесите их моей невесте.
Коль невеста высокого рода,
Будет плакать ровно год по милом,
Коли роду невеста простого,
Погорюет двадцать дней, не больше».
Весть услышала краса-девица,
Девять лет проплакала по Мехе,
А когда же год пошел десятый,
Отправлялась в верхние покои,
Наряжалась в праздничное платье,
Наряжалась, как перед Мехмедом.
Зеркало брала невеста в руки,
Поглядела и проговорила:
«Боже милый, я лицом красива,
Но Мехмед мой был еще красивей!»
Подходила к светлому оружью,
Выбирала кинжал поострее,
И вонзила его прямо в сердце,
И упала мертвая на землю.
Ворона два черных пролетали,
Оба черные, кровь на обоих,
Пролетали близ Брника-града,
Их над городом никто не видел,
Видела одна жена Янкулы,
Так она их хорошо спросила:
«Вы летели близ Брника-града,
Цело ли под Брником войско,
Вьются ли шелковые знамена,
Пляшут ли там девушки и парни
И гремят ли бубны и свирели?»
Вороны ей оба отвечали:
«Ты поверь-ка нам, жена Янкулы,
Нет под Брником-городом войска,
Там врага оно не одолело,
Как вчера на землю ночь упала —
Янко твой с душою распростился,
Если нам, молодка, ты не веришь,
Вот тебе шелковая рубашка,
Вот тебе — гляди — рука юнака,
Вот на ней два перстня золотые,
Каждый в десять городов ценою,
Если ты нам все еще не веришь,
Вот тебе и голова юнака».
Как увидела жена Янкулы,
Закричала, залилась слезами,
Увидала ее мать Янкулы,
Спрашивает у жены старуха:
«Ты чего кричишь, жена Стояна?
Молви, что кричать тебя неволит?»
Отвечает ей жена Янкулы:
«Как мне, бедной, не кричать — не плакать,
Матушка, вот голова Янкулы,
Мертвая она, будь ей неладно!»
Тут увидела и мать Янкулы,
Голову в уста она целует,
И в уста и в мертвые очи.
Слезы потекли из глаз от горя,
А сердечко ее разорвалось,
Пала рядом с мертвой головою.
Что белеет у синего моря?
Иль морская там белеет пена?
Или белы лебеди белеют?
Или овцы бродят по долине?
Не морская там белеет пена,
И не белы лебеди белеют,
И не овцы бродят по долине.
На траве лежит раненый витязь,
Молодой юнак в рубашке белой.
Дождь ее стирает, солнце сушит.
В головах торчит копья обломок,
Добрый конь к тому копью привязан
Ржет конек, хозяина он будит:
«Поднимайся, дорогой хозяин.
Я уже траву до корня выел,
Я и землю выбил по колени,
Воду выпил до самого камня».
А из ближней рощи кличет вила:
«Конь, ищи хозяина другого!»
Плачет конь, заслышав голос вилы.
Вила на коня глядит и плачет.
Что белеет там, на синем море?
Или то весенние сугробы?
Или пена белая морская?
Или голубь, что отстал от стаи?
Или белых овец отара?
Если б это был снег весенний,
Он давно бы на солнце растаял,
Если б пена синего моря —
Раскидало б ее море,
Если б голубь отстал от стаи —
Он давно бы нагнал свою стаю,
Если б белых овец отара —
Их давно б чабаны угнали.
А было это Пере Ковачевич
Середь дола, середь Садиковца,
От удара Юриши Буторца.
И пришла к нему белая вила,
Собирала в лесу она травы,
Чтоб ему залечить раны,
Но ей молвил Пере Ковачевич:
«Не сбирай, не трать напрасно время,
Позови мне лучше побратима,
Побратима Юру Рукавину,
Пусть он на листке письмо напишет,
Пусть пошлет его матери и супруге,
Матери, чтобы меня не ждала,
А жене — чтоб замуж выходила,
Ибо Пере-юнак поженился
Под Велетом, под белым градом,
На земле на черной, на траве зеленой.»
Что белеет, кипенеет
На вершине Белашицы?[542]
Или нагорные снеги,
Или же лебедей стая?
Нет, не нагорные снеги,
Не белых лебедей стая,
Белый шатер там раскинут
Для молодого Стояна.
Стояна болезнь мучит,
Он говорит сестрице:
«Сестрица, белая Яна,
Пойди принеси мне, Яна,
С Дуная студеной водицы».
Яна ему отвечает:
«Стоян, молодой мой братец,
Я ведь дороги не знаю,
Чтобы пойти к Дунаю,
Чтобы пойти и вернуться».
Стоян говорит ей снова:
«Сестрица, скорбная Яна,
Разрежь себе меньший палец,
Разрежь ты его до крови.
Когда ты пойдешь по лесу,
Меть деревья и камни,
А как подойдешь к Дунаю,
Нальешь студеной водицы,
Чтобы назад воротиться,
По меткам свой путь отыщешь».
Яна послушала брата,
Разрезала меньший палец,
Пошла по темному лесу,
Отмечала деревья и камни,
Спустилась она к Дунаю,
Там набрала водицы
И заспешила обратно.
Но Яна, бедная Яна,
Заморосил мелкий дождик,
И смыл он все ее знаки,
Смыл кровь с деревьев и камней.
И Яна, скорбная Яна,
Скоро в лесу заплуталась
И стала блуждать по чаще.
Три дня ходила-бродила,
На след она не напала,
Чтобы дойти до брата,
До брата, больного Стояна.
И Яна, скорбная Яна,
Жалостно к богу взмолилась;
«Ой боже, господи боже,
Обрати ты меня в птицу,
Буду летать по букам,
Буду искать брата,
Брата, больного Стояна».
Послушал господь Яну
И сделал синею птицей,
Синей птицей — кукушкой,
Она до сих пор кукует.
Что же в той стороне белеет?
Белый туман, или белая туча,
Или овчар с тонкорунным стадом?
Не было там ни тумана, ни тучи,
Не было там овчара со стадом.
Был там только хворый Стоян.
Сокол принес ему три подарка:
В клюве принес студеную воду,
Яблоко — под крылом своим правым,
А под левым — виноград сушеный.
Хворый Стоян пытает птицу:
«Ай же ты, птица, птица соколик,
Что за добро ты помнишь за мною?»
«Ай же ты, хворый Стоян, я помню,
Помню добро, что ты мне сделал.
По лесу шло могучее войско,
Сильный пожар бушевал в чащобе;
Кто ни пройдет — все меня минуют,
Ты мне помог в тяжелое время.
Ехал тогда ты по дикому лесу,
Крылья мои уже обгорели,
Выдернул ты из стремени ногу,
Вытащил ты меня из пожара.
Это добро за тобою я помню».
Прослышались, появились
Татары,[545] девять их тысяч,
Людей секут, села палят.
Прослышали это в селах,
Прослышали — побежали.
Большое село Прахово
Не слышало, не бежало,
Там только ночью узнали,
Как поняли, так побежали.
Лайчица одна, сиротка,
Нигде никого не имела,
Шила без родителей Лайка,
Никто ей вести не подал,
Не слышала, не побежала.
Встала она в воскресенье,
И заплакала Лайка:
«Олиле, боже, олиле,
Бежать — мне не домчаться,
Кричать — не докричаться.
Сидеть — не досидеться».
До бога голос донесся,
Святая Неделя сказала:
«Лайчица ты, сиротина,
Тому ли тебя наставить,
Того ли еще не знаешь?
Сожги ржаную солому,
Белое лицо запачкай,
Расплети русую косу,
Возьми жесткую торбу
С белой ореховой палкой,
Навстречу татарам выйди.
Татары тебя спросят:
«Эй, босая цыганка,
Ты ведь ходишь по селам,
Ходила ли ты в Прахово,
Слыхало ль оно, бежало ль?»
А ты им ответь, Лайчица:
«Я не босая цыганка,
Зовусь я черною чумою,[546]
Девять лет я гуляю,
Вас отыскать стараюсь.
Теперь помог мне всевышний:
Искала я вас — отыскала»».
И поднялась Лайчица,
Солому сожгла ржаную,
Лицо свое зачернила,
Расплела русую косу,
Взяла жесткую торбу
С белой ореховой палкой,
Навстречу татарам вышла.
Татары молвят цыганке:
«Эй, босая цыганка,
Ходила ли ты в Прахово,
Слыхало ль оно, побежало ль?»
Лайчица в ответ татарам:
«Я не босая цыганка,
Зовусь я черной чумою,
Девять лет я бродила,
Вас девять лет искала.
Теперь мне помог всевышний:
Искала я вас — отыскала!»
Татары чуме молвят:
«Чума, моровая язва!
Пощади ты нас, не губи нас!
Тебе мы, чума, подарим
Наших коней с добычей!»
Лайчица им отвечает:
«Татары вы, девять тысяч,
Я человек не торговый,
Чтоб торговать конями,
Зовусь я черной чумою,
Девять лет я бродила,
Девять лет вас искала!»
Попятилися татары,
Попятились и побежали,
Своих коней побросали,
Коней с богатой добычей.
А люди в село вернулись,
И диву давались люди,
Как это сделала Лайка,
Чтоб испугались татары.
«Отдашь, отдашь ли, горец Йово,
Красотку Яну в турецкую веру?»
«Эй, воевода, голову дам вам,
Яну не дам в турецкую веру!»
Руки по локоть ему отрубили,
Снова о том же спрашивать стали:
«Отдашь, отдашь ли, горец Йово,
Красотку Яну в турецкую веру?»
«Эй, воевода, голову дам вам,
Яну не дам в турецкую веру!»
Обе ноги ему отрубили,
Снова о том же спрашивать стали:
«Отдашь, отдашь ли, горец Йово,
Красотку Яну в турецкую веру?»
«Эй, воевода, голову дам вам,
Яну не дам вам в турецкую веру!»
Тогда Йово выдрали очи,
Спрашивать больше его не стали.
Схватили турки красотку Яну
И посадили на вороного,
Угнать решили полем-низиной,
Полем-низиной в село к татарам.
Яна Йовану тихо сказала:
«Прощай, Йован мой, брат мой родимый!»
«Будь же здорова, сестрица Яна!
Нет глаз у Йово, чтобы взглянул он,
Нет рук у Йово, чтоб мог обнять он,
Нет ног у Йово, чтоб проводил он!»
Пастух беседовал с лесом:
«Лес ты мой, лес ты зеленый!
Вчера ты, лес, был зеленый,
А нынче ты, лес, весь высох.
Пожары ль тебя спалили?
Морозы ли остудили?»
И лес пастуху ответил:
«Пастух, молодой пастух мой!
Пожары меня не палили,
Морозы не застудили,
Но тут вчера проходили
Невольников вереницы.
Как в первой-то веренице
Всё молодые девчата.
Только девчата заплачут —
Лес наклоняет верхушки,
Широкий путь подметает.
Девчата плачут и стонут:
«Боже мой, господи боже!
Где наши холсты льняные?
Ткали мы их — не доткали,
Белили — не добелили.
Кто наши холсты доткет нам?
Кто их доткет и добелит?
Кто их узорами вышьет?
Кто обошьет бахромою?»
Как во второй веренице
Всё молодые молодки.
Только молодки заплачут —
В лесу опадают листья.
Молодки плачут и стонут:
«Боже мой, господи боже!
Где ж наши малые детки?..
Встанут, а матери нету.
Заплачут они да спросят:
«Где мама? Доит корову?»
Доила б мама корову,
Телята бы не мычали.
«Где мама? По воду ходит?»
Ходила б по воду мама,
Тогда бы ведра бренчали.»
Как в третьей-то веренице
Всё молодые юнаки.
Только юнаки заплачут —
Ветки в лесу засыхают.
Юнаки плачут и стонут:
«Боже мой, господи боже!
Где ж они, буйволы наши?
Впряжены — нераспряжены.
Кто же теперь распряжет их?
Где наши черные пашни?
Пахали — не допахали.
Кто же теперь их допашет?
Где ж она, наша пшеница?
Сеяли — не успели.
Кто же пшеницу досеет?»»
Гнал по дороге рабыню турок,
Гнал ее лютый в лютую стужу,
Бил по лицу и кричал ей злобно:
«Брось ты мальчишку, брось на дороге!»
Пленница турку так отвечала:
«Турок ты, турок, злодей поганый,
Как же мне бросить дитя родное?
Я, молодая, сноха попова,
Сноха попова, жена дьякова.
Я не рожала девять годочков,
А как десята весна настала,
Знахари вышли кричать по селам:
«Травки недужным! Травки бездетным!»
Все им давали свои мониста,
Все покупали травки от хвори,
Я ж отдала им свои запястья,
Купила травку — хотела сына.
И родила я себе сыночка».
Уселся турок — поесть надумал;
Рабыня ж встала, взяла младенца,
Пошла с ним в горы, в горы родные,
Сплела там люльку из трав высоких
Да привязала к двум стройным елям.
Как уложила в нее младенца,
Стала качать его да баюкать,
Песню запела и зарыдала:
«Баюшки-баю, милый сыночек,
Вот твоя мама — Стара-Планина,
А эти елки — милые сестры.
Пусть ветер горный тебя качает,
Пусть дождик теплый тебя купает!»
И вдруг с вершины голос раздался:
«Иди, младая пленница, с богом!
О сыне малом ты не тревожься —
Матерью буду малому сыну,
А те две ели — сестрами станут,
И будет дождик купать младенца,
И будет ветер его баюкать,
И будет серна кормить и холить!»
Увел младую пленницу турок…
Стара-Планина! Старая матерь!
Турок рабыню по лесу гонит,
Турок рабыне молвит негромко:
«Эй, полонянка, ты, голодранка,
Ноги босые, брюхо пустое,
Брось, говорю я, малого сына,
Брось, говорю я, пока не поздно!»
Рабыня турку молвит негромко:
«Как же я брошу милое чадо!
Долгие годы была бездетна,
Долгие годы хотела сына,
Минуло десять — родился мальчик,
Родился мальчик, сын мой Иванчо!
Я под ракитой вешала зыбку,
Там оставляла сына Иванчо,
Там оставляла и наставляла:
«Люлюшки-люли, сынок Иванчо,
Дождик прольется — тебя умоет,
Придет волчица — тебя накормит,
Повеет ветер — навеет дрему!
Расти скорее, Иванчо милый,
Чтоб из неволи вызволить царство,
Освободить нас от лютых турок!»»
Турок чернеет от злобы лютой,
Надвое рубит мать и младенца.
Ой ты, Стойна Енинёвка!
Слух прошел о янычарах,
И явились янычары.
Склаф[552] во двор поповский въехал,
В прочие дворы — дружина.
Склаф повел такие речи:
«Слушай, поп, ученый книжник,
Грамотей, святой подвижник,
Отвечай мне без уверток:
Есть у вас в селенье дети,
Надобные для набора,
Для набора в янычары?»[553]
Говорил священник Склафу:
«Ты послушай, Склаф могучий,
Я на твой вопрос отвечу,
И отвечу без обмана:
Есть в любом селенье дети,
Есть в любом лесу тропинки,
Есть в любой реке пороги,
И у нас детей немало.
Вот у нашей тонкой Стойны,
Стройной Стойны Енинёвки
Три сыночка подрастают,
Все пригодны для набора, —
Для набора в янычары».
Склаф священнику ответил:
«Слушай, поп, ученый книжник,
Ты пошли за тонкой Стойной,
Стройной Стойной Енинёвкой.
Трех сынов пускай приводит,
Погляжу, на что пригодны,
Хороши ли для набора,
Для набора в янычары».
Поп немедля кликнул Стойну,
Кликнул — и она явилась.
Склаф промолвил тонкой Стойне:
«Ой ты, Стойна Енинёвка,
У тебя в дому три сына,
Слышал я: они пригодны
Для набора в янычары».
Стойна громко зарыдала:
«В первый раз пришли к нам турки
Брата моего забрали,
Во второй они явились —
У меня забрали мужа,[554]
В третий раз сюда явились
Сыновей меня лишают!»
Склаф ответил тонкой Стойне:
«Слушай, Стойна Енинёвка,
А узнала бы ты брата,
Опознала бы ты мужа?»
Говорила Склафу Стойна:
«Ой же, Склаф, ты Склаф могучий!
Нет, я брата не узнаю,
С малых лет мы не видались,
Но зато узнаю мужа,
Был он прежде дровосеком,
Дровосеком, дроворубом,
И пошел он как-то в рощу,
И рубил он в роще явор,
Был он ранен острой щепкой:
В голову ему попала
И оставила зарубку,
Шрам оставила приметный».
И промолвил Склаф могучий:
«Слушай, поп, ученый книжник,
Всех мужчин зови на сходку,
Со всего зови селенья!»
Поп мужчин созвал на сходку,
Со всего созвал селенья.
Говорил им Склаф могучий:
«Ну-ка живо скиньте шапки!
Пусть на вас посмотрит Стойна,
Может быть, узнает мужа!»
Склафу люди покорились,
Покорились, шапки сняли.
Не узнала Стойна мужа,
Не заметила отметки.
И сказала Стойна Склафу:
«Ты послушай, Склаф могучий,
Мне и стыдно, Склаф, и страшно,
Грех боюсь принять на душу,
Но и ты сними-ка шапку!»
Склаф могучий шапку скинул,
На него взглянула Стойна,
И узнала Стойна мужа,
По примете опознала,
По отметине знакомой
На челе его высоком.
Разбежалася земля Валашская,
Валашская и Богданская тоже,
Богданская да и вся Добруджа.
Кто в горах таится, кто в долинах
От турецких да от лютых катов.
Старых турки рубят, малых в плен уводят,
Красных девушек в неволю угоняют,
Молодых парней забирают,
В лютых янычар их обращают.
Где проходят, села сжигают,
Старых рубят, дома сжигают.
По Дунаю белому проплыли,
Стали табором под Этрополе,
Синие шатры укрыли землю,
В ровном поле делится добыча,
Делят турки девушек болгарских.
По две, по три каждому досталось,
Молодому ж янычару дали
Лишь одну рабыню — русую Драгану.
В белый он шатер ее уводит.
А когда спустилась ночь на землю,
Вышел янычар во чисто поле,
Вниз он глянул, посмотрел на небо —
Синь огонь из-под земли струится,
С синя неба дождь кровавый льется.
Страшно молодому янычару,
И зовет он русую Драгану,
И Драгане говорит с печалью:
«Ах, Драгана, ты моя рабыня,
Что спрошу тебя, ответь по правде:
Есть ли братец у тебя с сестрою,
Да отец, да матушка родная?»
И ему Драгана отвечала:
«Есть отец и матушка родная,
Есть и брат, и милая сестрица».
«Где ж твой брат, в плену ли он томится?»
И Драгана говорит с печалью:
«Как пришли проклятые к нам турки,
Молодых болгар они разбили,
Был мой брат тогда в болгарском войске.
Тридцать лет уж нынче миновало,
Как я братца вовсе не видала».
«Ах, Драгана, ты моя рабыня,
Коль увидишь, так узнаешь брата?»
«Коль увижу, я его узнаю,
Я узнаю по груди могучей
Да по клятой голове узнаю».
Янычар спросил тогда Драгану:
«Ну, а что ж на голове у брата?»
«Шрам от острой сабли был у брата,
С ним вернулся он из лютой сечи».
Янычар спросил тогда Драгану:
«Ну, а что же на груди у брата?»
«Шрам у брата на груди могучей,
Враг пронзил ее стрелой каленой».
Янычар открыл перед Драганой
Белу грудь да голову ту кляту,
И Драгане он сказал с печалью:
«Ты вставай, сестра, домой поедем,
Мы домой поедем, матушку увидим!»
Что-то там белеет,
Белеет-мелькает.
За белым Дунаем?
Лебеди там сели,
Снеги ли упали,
Снеги пуховые,
Дожди ледяные?
Лебеди давно бы
В небо улетели.
А снега-сугробы
Стаяли давно бы,
Дожди ледяные
Высохли б на солнце,
За два, за три утра,
За две-три недели.
Не лебеди сели,
Не снега упали,
Не льды голубые,
Капли дождевые —
Там остановился
Царь с великим войском,
Нет в том войске счету
Белым янычарам.
Сто шатров разбили
Белых и червонных,
Синих и зеленых,
Сидят, отдыхают,
Едят, выпивают,
На дудках играют,
Свою силу мерят,
Свою силу мерят,
Белый камень мечут.
Один янычарик,
Молодой, зеленый,
Не пьет, не играет,
Молодцов не борет,
Каменья не мечет,
Песни не играет,
Просит господаря:
«Царь мой, господарь мой!
Дай ты мне бумагу,
Чтоб ушел до дому,
К матери родимой
Да к отцу родному.
Мать моя, бедняжка,
Вот уж год десятый
Черный платок носит,
Носит, не снимает.
Платок не стирает,
Уж он истлевает,
Все по мне живому
Плачет и рыдает.
А мои-то сестры
Вот уж год десятый
Белый цветок сеют,
Но его не носят,
Все по мне живому
Плачут и рыдают,
А мои-то братья
Вот уж год десятый
Делают кавалы,
Делают кавалы,
Только не играют,
Все по мне живому
Плачут и рыдают».
Получили в Дубице бумагу:
Чтоб собрались парни дубичане,
Чтобы шли они к султану в войско.
Провожают мать с отцом сыночка,
Брат с сестрою провожают брата,
Йована ж никто не провожает,
Лишь одна сестра его родная.
Проводили все до полдороги,
С полдороги стали возвращаться.
Не вернулась Йована сестрица,
А до синя моря проводила.
Как на берег на морской ступила,
Замутила море все слезами,
Плачем лодки все остановила.
Турки в час тот милостивы были,
Меж собою тихо говорили:
«Боже правый, мы отпустим брата,
Брата милого вернем сестрице,
Может, море снова отстоится,
Снова лодки двинутся по морю».
Брата милого к сестре пустили,
Сразу же все море посветлело,
Сразу лодки легкие поплыли.
Скрылись лодки, в море уплывая,
Скрылся Йован, песню распевая.
Как взошла та звезда-денница,
Как взошла она над Цареградом,
Ее Груицы жена увидала,
Увидала и возговорила:
«Ой, моя пресветлая денница,
Где была ты три коротких ночи?»
Ей в ответ пресветлая денница:
«Ой же ты, Груицына супруга,
Пребывала я над Цареградом».
Снова молвит ей жена Груицы:
«Ты ответь, пресветлая денница,
Когда ты была над Цареградом,
Не видала ль моего супруга?»
Ей в ответ пресветлая денница:
«Он с царем намедни вел беседу,
Ко двору ко своему просился,
Царь ему ответствовал на это:
«Ко двору тебя не отпущу я,
Пока Шарца, коня, не увижу
И на нем твою верную супругу».
Говорит ему на то Груица:
«Да жена давно пошла уж замуж,
Продала давно уже Шарца».»
Как услышала жена Груицы,
Добрым молодцем переоделась,
Опоясалася острой саблей,
Оседлала коня Шарца
И поехала к граду Цареграду.
Как приехала к Цареграду,
К цареградскому широку полю,
Поле обскакала молодая,
И тогда все поле осветилось,
Словно солнце его осветило.
Увидали это царевы юнаки,
Говорят царю-господину:
«Ой ты, милостивый царь-владыка,
С той поры, как стоит наше поле,
Молодца на нем такого не бывало,
Какой скачет по нему сегодня».
А и говорит им царь-владыка:
«А пойдите на широко поле,
Молодца живым ко мне доставьте».
И его послушалися слуги,
Поскакали на широко поле,
Но она им в руки не далася.
Если до нее юнак доскачет,
Тут же на землицу упадает.
Говорит им супруга Груицы:
«Право слово, царевы юнаки,
Ведь живым я вам не достанусь,
Сам приду я пред царские очи,
Есть к царю у меня дело».
Подъезжает она к царскому дому
И при этом царю молвит:
«Слышал я, государь-владыка,
Что упрятал ты Грую в темницу,
Он мне долг девять лет должен,
Не могу получить я долга.
Так прошу я, царь мой, владыка,
Отпусти ты его из темницы
И увидишь из зеленого окошка,
Как я саблей его располосую».
Царь не стал отказывать юнаку,
Выпустил он Грую из темницы,
Но берет незнаемый витязь,
Берет Грую за белую руку
И ведет его по Цареграду,
На коня перед собою мечет
И везет его по Цареграду.
Так они проехали немного,
Говорит жена Груицы мужу:
«Ей-же-богу, молодой Груица,
Не узнал ли ты коника Шарца,
Не узнал ли верную любу?»
Ей в ответ молодой Груица:
«Ты меня не спрашивай, витязь,
Девять лет я просидел в темнице,
И давно уж люба замуж вышла,
Продала она коника Шарца».
А ему говорит молодая:
«Ох, и глуп ты, молодой Груица,
Отчего ж не узнал ты Шарца,
Не узнал свою верную любу?»
Как томился в темнице-то Комьен Ягнилович,
И никто его, Комьена, да не проведывал,
Лишь проведывала Гречанка, девушка молодая.
Рано-рано, на зорьке, сбирается девушка
Да рубашку берет, тонким золотом шитую,
Да платочек берет, порасшитый узорами.
Повстречала дорогою доброго молодца,
Подошла «утро доброе» путнику сказывати,
Да и стала она у прохожего спрашивати:
«Ой ты, путник, мой свет, добрый молодец,
Покажи, где темница-то Комьен Ягниловича».
Отвечал этой девушке путник такие слова:
«Ты пойди, красна девица, во правую сторону,
Там найдешь, красна девица, темницу железную,
В той темнице томится твой Комьен Ягнилович».
Как пошла она, девушка, в ту правую сторону,
Увидала там девушка темницу железную,
За решеткою Комьена видит Ягниловича,
Стала «доброе утро» она ему сказывати,
Подавать сквозь решетку рубашку расшитую:
«Ты возьми-ка, жених мой, рубашку расшитую,
Раскрасавцем в ней выйдешь сегодня под виселицу».
После стражникам страшным промолвила девушка:
«Ай же вы, ай же, стражники, свет вы мой,
Вы впустите меня во темницу-то Комьена,
Дайте с Комьеном милым навек попрощатися».
И впустили ее во темницу-то Комьена,
Быстро желтые косы ему заплела она девичьи
Да в одежды свои нарядила да в тонкие девичьи,
Страшной страже такое промолвила девушка:
«Ай же вы, ай же, стражники, свет вы мой,
Дайте выйду же я из темницы от Комьена».
И над девушкой страшные стражники смиловались.
Отворили ей, девушке, темницу железную.
Так в темнице осталась Гречанка, девушка молодая,
А на волюшку вольную вышел-то Комьен Ягнилович.
И пошел по зеленой планине Ягнилович
Ко двору той Гречанки, девушки молодой.
А в темницу за Комьеном турки явилися,
Из темницы Гречанку ведут, вместо Комьена,
Да к царевым красивым воротам ведут они девушку.
Лютым туркам такие слова молвит девушка:
«Ой вы, лютые турки, ой, свет вы мой,
Дайте словушко молвлю царю я, Гречанка-девушка».
Турки лютые сжалились сердцем над девушкою,
Пропустили ко царю ее, ко милостивому,
Как предстала пред царем она пред милостивым,
Говорит «салам алем» Гречанка-девушка,
И такое говорит Гречанка-девушка:
«Ай да ты, да господин, свет ты мой, царь, светлая корона,
Как стоит земля прекрасная Боснийская, царь, светлая корона,
Видано ль, чтоб девушку повесили, царь, светлая корона,
Коль словам моим ты, светлый царь, не веруешь, царь, светлая корона,
Покажу тебе я материны признаки, царь, светлая корона».
Показала белы груди царю Гречанка-девушка,
Светлый царь рассмеялся, на девушку глядючи,
Светлый царь промолвил так Гречанке-девушке:
«С богом, девушка, ступай на бел свой двор, Гречанка-девушка,
Подарю тебе я Комьена Ягниловича, Гречанка-девушка,
Только богу помолись ты за меня, Гречанка-девушка!»
Пишет царь-господин посланье:
«У кого есть сын или племянник,
Пусть пришлет его царю в солдаты!»
Всяк имеет сына иль племянника,
Старый Видулин их не имеет.
Восемь дочерей старик имеет
И девятую, молодую Султанию.
Султания отцу говорила:
«Мой отец, дорогой и любимый,
Приготовь мне мужскую одежду,
Оседлай мне коня по-юнацки,
Я пойду за тебя в солдаты».
«Султания, дитя дорогое,
Как ты косу желтую спрячешь,
Двух своих голубей куда денешь?»
«Косу под одежду мужскую,
Двух моих голубей — за пазуху».
Оседлал он коня по-юнацки,
Приготовил одежду мужскую.
На коня вороного вскочила,
Удалым молодцом поскакала,
Поскакала к царю в солдаты.
Как приехала ко двору цареву,
Двор немедля ей поклонился,
Сам же царь — до землицы черной,
А она поклониться не хочет.
Царь спросил у матери совета:
«Старица, милая матушка,
Ко мне еще не приезжало
Таких удальцов, как в воскресенье.
Удалой молодец по посадке,
А по виду — с девушкой схожий.
Как бы, мать, узнать мне правду,
Это женщина или мужчина?»
«Это, сын мой, очень нетрудно.
Поведи ее в светлые покои,
Пряслице серебряное дай ей,
Вытащи светлое оружие.
Если молодец она удалый,
Выберет светлое оружие,
Если она юная девица —
Пряслице захочет золотое».
Как пришла она в светлые покои,
Вытащил ей пряслице серебряное,
Вытащил ей светлое оружие.
Видеть пряслице она не хочет,
Тотчас ухватилась за оружие:
«Ай же царь, господин, мой милый,
Ты подаришь мне это оружие?»
Царь пожаловался своей матери:
«Старица, милая матушка,
Пряслице она не хочет видеть,
Тотчас за оружие схватилась
И спросила меня, моя матушка,
Подарю ли ей это оружие?
Как бы, мать, распознать ее получше?»
«Это, сын мой, очень нетрудно.
Ночь переночуй рядом с нею.
Если молодец она удалый —
Будет прижиматься к тебе крепко,
Если она юная девица —
Будет от тебя отодвигаться».
Говорит царь-господин девице:
«Ай же ты, удалец мой милый,
Вместе ночку переночуем».
Как пошла ночевать она ночку,
Положила под голову саблю,
И сказала Султания молодая:
«Ай же царь, господин мой милый,
Кто кого из нас первый коснется,
Сразу с плеч ему голову срубят».
Ни туда, ни сюда царь не смеет,
Хоть придвинулась Султания.
А едва рассвело наутро,
Царь пожаловался своей матери:
«Милая, милая матушка,
Это не красивая девушка,
Это удалец незнакомый».
Мать царю на это сказала:
«Переплыть Дунай если сможет —
Это удалец незнакомый,
Если переплыть не сумеет —
Это красивая девушка».
Стали переплывать они реку,
И она плывет куда хочет,
Царь не может и до середины.
Переплыла Дунай девица,
Вытащила желтую косу,
Голубей из-за пазухи достала:
«Чтоб ты, царь, ослеп, если не видишь,
Женщина я или мужчина».
Только царь ее речи понял,
К белому двору пошел он быстро
И собрал свое сильное войско.
Но пока Дунай переплывал он,
Полпути прошла Султания.
А пока он полпути проделал,
Султания домой возвратилась.
Издали отец ее увидел,
Еще дальше встретил на дороге.
«Султания, дитя дорогое,
Принесла ты честь свою обратно?»
«Принесла с собой, что уносила.
Как пришла я ко двору цареву,
Двор немедленно мне поклонился,
Сам же царь — до землицы черной.
Только царь-господин меня увидел,
Он повел меня в светлые покои,
Вытащил мне светлое оружие,
Вытащил серебряное пряслице.
Я на пряслице не посмотрела,
Бросилась ко светлому оружию.
Ночь вдвоем с царем мы ночевали,
Он меня тронуть не решился.
Мы Дунай вдвоем переплывали,
Я плыла, отец, куда хотела,
Царь же не доплыл до середины.
Царь собрал вдогонку мне войско,
Но покуда собирал он войско,
Полпути пройти успела я,
А пока прошел царь полпути,
Я уже к себе во двор вернулась».
Царь Мурад говорил Маре:
«Ой Мара, белая болгарка,
Откажись быть болгаркой,
Давай-ка ты соглашайся,
Соглашайся и потурчися.
Ты будешь белой турчанкой,
Женою царя Мурада!
Ой, Мара, тебе пожалую
Добру половину Царьграда,
Ёдрене со всем базаром,
С мечетью султана Селима.[562]
И еще тебе пожалую:
Будешь ты Валахией править,
Царские собирать налоги!»
А Мара царю сказала:
«Ой, царь ты, царь багородный,
У меня есть брат епископ,
Брат другой стал патриархом.
Я пойду и спрошу у братьев,
Как скажут они, так и будет!»
И встала девушка Мара,
Приходит к старшему брату,
Своему брату сказала:
«Не знаешь, братец, не знаешь,
Как трудно ходить мне за водою.
Когда выхожу я за водою,
Царь Мурад из окна кличет:
«Ой, Мара, белая болгарка,
Откажись быть болгаркой,
Давай-ка ты соглашайся,
Соглашайся и потурчися.
Ты будешь белой турчанкой,
Женою царя Мурада.
Ой, Мара, тебе пожалую
Добру половину Царьграда,
Ёдрене со всем базаром,
С мечетью султана Селима.
И еще тебе пожалую,
Будешь ты Валахией править,
Царские собирать налоги!»
Тут Банко ответил Маре:
«Ой, Мара, мила сестрица,
Коль тебя царь улещает,
Ты ему так ответствуй:
«Легко мне, царь, согласиться,
Потурчиться еще того легче,
Только ты мне тогда пожалуй
Добру половину Царьграда,
С церковью потурченной,
С церковью Святой Софией,[563]
Только ты мне тогда пожалуй
В твоей турецкой столице
Царство свое и визирство,
Да еще ты мне, царь, пожалуй
Перстень царский с печатью!»"»
И встала девушка Мара,
Взяла корчаги на плечи
Да пошла себе за водою.
Царь Мурад из окна кличет:
«Ой, Мара, белая болгарка,
Откажись быть болгаркой,
Давай-ка ты соглашайся,
Соглашайся и потурчися!»
А Мара царю сказала:
«Легко мне, царь, согласиться,
Потурчиться еще того легче,
Только ты мне тогда пожалуй
Царство свое и визирство,
Перстень царский с печатью,
Добру половину Царьграда
С церковью потурченной!»
Царь Мурад ответил Маре:
«Пусть язык у того отсохнет,
Кто тебя научил, Мара,
Требовать у меня царство,
Царство мое и визирство!
Царство-то у меня отцово,
А визирство досталось от деда.
Я отдам свою голову лучше,
Нежели Святую Софию!»
Ой ты, Неда, бела Неда,
Бела роза, что не раскрылась,
Не раскрылась, не распустилась!
Прошла слава про белу Неду,
По всей земле, по округам
Вардарской-то Вардарии.
Девушку спящей украли
У матушки, у батюшки,
У девяти милых братьев,
У девяти жен братьев,
У двенадцати милых внуков,
Выкрал ее воевода,
Воевода, сам тот ага,
Отвез деву за Дунай белый,
В зелены луга, во левады.
Поставили три шатра там:
Как один-то шатер белый,
А другой-то — был зеленый,
А как третий был багряный.
Под белым-то — бела Неда,
Бела Неда с воеводой,
Под зеленым — ждут сеймены,
Под багряным — сивы кони.
Три дня Неда пролежала,
Пробудилась на четвертый.
Она молвит, она просит:
«Ой ты, мама, мила мати,
Подай, мати, кувшин пестрый,
Кувшин пестрый мне водицы,
Мне водицы, мне студеной,
Чтоб напиться, освежиться!»
Тогда молвил воевода:
«Ой ты, Неда, бела Неда,
Ты теперь уж не у мамы,
Ты теперь, Неда, в леваде,
Под шатром ты с воеводой».
Услыхала бела Неда,
Она молвит, она просит:
«Ой ты русый воевода,
Умоляю, бью поклоны, —
Дай же мне ты острый ножик,
Чтоб разрезать айву желту,
Освежить сухое горло!»
Обманулся воевода,
Подал ей он острый ножик.
Не коснулась айвы желтой,
Только Неда угодила
Ножом в клято свое сердце
И тотчас с душой рассталась.
Полотно стирала девушка Загорка,
Полотно на речке студеной,
Из-за пазухи вынула груди,
Подвернула повыше сорочку,
Под самый шелковый пояс.
Проезжал там могучий Туре,[566]
Он далеко ехал, в город белый,
И спросил он девушку Загорку:
«Что ж ты так сорочку подвернула,
Под самый под шелковый пояс?
Что из пазухи вынула груди?»
«Отчего не подвернуть сорочку,
Из-за пазухи груди не вынуть,
Если я не боюсь юнаков?»
Повернул коня могучий Туре
И коня погнал за девицей.
Впереди коня бежит Загорка,
Полотно на куски она режет,
На зеленую траву бросает, —
Может, так задержится Туре.
Ну а Туре на то и не смотрит,
Приближается могучий Туре.
Снова кус полотна она режет
И бросает в зеленую траву,
Не задержится ли сильный Туре.
И на это Туре не смотрит,
Уж совсем приблизился Туре.
Третий кус полотна она режет
И бросает в зеленую траву,
Не задержится ли сильный Туре.
Ну а Туре на то и не смотрит.
Когда ближе приблизился Туре,
Сорвала она монисто с шеи,
На монисте том триста дукатов,
И в зеленую траву бросает.
И на это Туре не смотрит,
Как догнал девицу Загорку,
Ухватил за белые руки,
На коня на бурого кинул
И поехал вброд через речку.
Сапоги промочились у Туре,
И сказал он девушке Загорке:
«Подержи-ка коня, девица,
Подержи болгарскую шапку,
Подержи и добрую саблю,
Подержи и ружье с насечкой».
Тут немного замешкался Туре:
Из сапог выливал он воду.
Когда Туре назад обернулся,
Прочь помчалась девица Загорка.
Как вскочил он на резвые ноги,
Закричал девице Загорке:
«Погоди же, девушка Загорка,
Вороти мне коня немедля!»
«Нет, тебе коня не ворочу я,
Подарю его отцу родному,
Пусть он ездит на нем, пусть поездит».
Но кричит ей могучий Туре:
«Погоди ты, девушка Загорка,
Вороти мне добрую саблю,
Что хранит коня и юнака!»
«Не отдам тебе добрую саблю,
Что хранит коня и юнака,
Я отдам ее младшему брату,
Пусть поносит, пусть погордится:
Мол, сестра мне ее подарила».
Но кричит ей могучий Туре:
«Погоди ты, девушка Загорка,
Ты отдай мне ружье с насечкой,
Что хранит коня и юнака!»
«Не отдам тебе ружье с насечкой,
Что хранит коня и юнака,
Я отдам его старшему брату,
Пусть поносит, пусть погордится:
Мне сестра его раздобыла,
Полотно стираючи на речке».
Но кричит ей могучий Туре:
«Погоди ты, девушка Загорка,
Мне отдай хоть болгарскую шапку!»
«Не отдам болгарскую шапку,
Я ее подарю милому,
Пусть поносит, пусть погордится:
Ее милая мне раздобыла,
Полотно стираючи на речке».
Пошел Туре домой, горюет,
А девица домой, ликует,
Напевает, конем играет.
Идет Туре по ровному полю,
И, как серый волк, Туре воет.
Кто получше, тому поле уродило,[567]
Кто повыше, пусть пером напишет,
Уродилась белая пшеница,
Возле дома ясени и клены,
А в дому веселье и здоровье.
Представляя читателю антологию южнославянских песен, нам хочется подчеркнуть, что публикуемые здесь тексты — всего лишь крупицы бесценного и пока что слабо изученного богатства в сотни тысяч записей, сделанных среди семи народов. Трудности отбора в связи с этим велики. Имеются уникальные, но ставшие классическими произведения. Есть и песни, известные в десятках вариантов, из коих многие одинаково превосходны по своим художественным качествам. Мы старались представить наиболее характерные для южнославянского творчества песни, по возможности в большем числе сюжетов и — в некоторых случаях — в двух-трех вариантах, записанных в разных южнославянских районах.
Основная масса песен переведена из следующих изданий:
БНТ — «Българско народно творчество в дванадесет тома». Редакционна колегия: М. Арнаудов, И. Бурин, X. Вакарелски, П. Динеков, Д. Осинин. София, 1961–1963.
Караджич — В. С. Карађиh. Српске народпе пjесме, књ. I–IV. Београд, 1958.
Миладиновы — «Български народни песни собрапи од братья Мпладиновци Димитрия и Константина и издадени од Константина». Загреб, 1861.
МЮП — «Muslimanske junacke pjesme». Odabrao, priredio i predgovor napisao N. Frndic. Sarajevo, 1969.
НЕП — «Narodne epske pjesme». Priredila M. Boљkovic-Stulli. Zagreb, 1964.
ХНП — «Hrvatske narodne pjesme», knj. 5, 6. Skupila i izdala Matica Hrvatska. Zagreb, 1909, 1914.
Шапкарев — «Сборник от български народни умотворения», кн. III–IV. Събрал и издава К. А. Шапкарев. София, 1891.
Штрекел — K. Љtrekel. Slovenske narodne pesmi, t. I. Ljubljana, 1895.
В настоящем томе, наряду с новыми переводами, использованы ранее публиковавшиеся. Среди них мы находим классический перевод А. С. Пушкина «Сестра и братья», выполненный им по тексту сборника В. Караджича. Представлены переводы Н. Гальковского, ученого, выпустившего в конце XIX — начале XX века ряд сборников переводов сербского эпоса. Переводы советских поэтов Н. Заболоцкого, М. Исаковского, А. Ахматовой, С. Городецкого и других сыграли большую роль в деле ознакомления современного читателя с поэзией южных славян. Ими переведены многие юнацкие и гайдуцкие песни. Однако дополнительная сверка их переводов с оригиналами показала, что в тексты переводов по сравнению с оригиналами проникли досадные неточности, даже ошибки, вызванные небрежно подготовленными подстрочниками, которыми располагали поэты. В иных случаях переводчиками была использована лексика, несвойственная собственно южнославянским эпосам. Так, в переводах встречаются такие выражения, как «басурмане», «проклятые», «поганые», «нечестивые»; «юнаки» названы «витязями», в то время как витязями в южнославянском эпосе обычно называют коней.
Отклонения от оригиналов, затрудняющие понимание содержания песен, оговариваются в примечаниях., затем переселились в Великую Кладушу, которая здесь названа Малой. Предполагают, что они жили около середины XVII в.