Сергей Пинаев
Максимилиан Волошин, или себя забывший бог
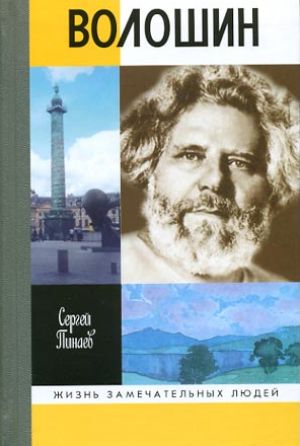
…И бродит он в пыли
земных дорог —
Отступник жрец, себя
забывший бог,
Следя в вещах знакомые узоры.
Он тот, кому погибель не дана,
Кто, встретив смерть,
в смущеньи клонит взоры,
Кто видит сны и помнит имена.
Когда на земле происходит битва, разделяющая всё человечество на два непримиримых стана, надо, чтобы кто-то стоял в своей келье на коленях и молился за всех враждующих: и за врагов, и за братьев. В эпоху всеобщего ожесточения и слепоты надо, чтобы оставались люди, которые могут противиться чувству мести и ненависти и заклинать обезумевшую реальность — благословением. В этом — высший религиозный долг, в этом «Дхарма» поэта.
…Мы помним всё: наш древний, тёмный дух,
Ах, не крещён в глубоких водах Леты!
Коктебельская бухта. Потухший вулкан Карадаг. Скалы, напоминающие очертаниями древних животных. Загадочные гроты. На берег накатываются «доисторические» волны Коктебельского залива. Под одной из них — или только показалось — блеснула огромная спина ихтиозавра. Гулкое стаккато копыт… и где-то высоко на одной из скал обозначилась тень кентавра. Мир Максимилиана Волошина. Мир его стихов.
…Для всех людей одни вериги:
Асфальты, рельсы, платья, книги,
И не спасётся ни один
От власти липких паутин.
Но мы, свободные кентавры,
Мы мудрый и бессмертный род,
В иные дни у брега вод
Ласкались к нам ихтиозавры.
И мир мельчал. Но мы росли.
В нас бег планет, в нас мысль Земли!
А вот и сам поэт: его профиль удивительным образом «повторяет» замыкающая залив гряда скал…
Карадаг с высоты птичьего полёта. В одном из ущелий движется вереница людей. Впереди — плотный мужчина в белой свободной одежде, с посохом. Море смыкается с небом. Вот все уселись в кружок и слушают рассказы своего проводника. Мужчина в белом сидит на самом краю обрыва.
— Макс, неужели тебе не страшно?
— Ты знаешь, среди этих скал я чувствую себя, как старый кот на своём чердаке.
Заходит солнце. Путники спускаются с перевала.
— Макс, знаешь, как назвала тебя моя подруга? Великий Пан Коктебеля.
— Или придворный леший Карадага, — добавляет кто-то.
Все смеются. Кто-то выдает экспромт:
— Жил-был Пан. Вылезал вечерами из горного оврага, садился на песок и читал морским водорослям свои стихи. Прошли годы. Пан постарел, преуспел во многих человечьих науках, съездил в дальние страны. Вернулся в Коктебель. На пышноволосую голову в качестве нимба надел сапожный ремешок. Он больше не сидит по ночам у воды — Пан спит в кровати, но море, луну и горы по-прежнему воспевает в своих стихах и акварелях…
Общий смех. Кто-то из девушек обращается к «Пану»:
— Ты что же, и в чудесах толк знаешь?
Макс медленно возлагает руки на травы, и они вспыхивают, загоревшись от закатного солнца. Все ошеломлены. Пылает огонь, и дым восходит к небу. Мужчина с внешностью древнегреческого бога или ассирийского жреца, опершись на посох, смотрит на огонь. И словно вызванная этим огнём памяти на фоне гор и вечереющего неба появляется одинокая фигура девушки. Она идёт медленно, думая о чём-то своём. И будто бы меняются кадры несуществующей киноленты. «Мгновенья полные, как годы…» Южный пейзаж сменяется северным, петербуржским. Холодно и пустынно за городом. Две чёрные фигуры на грязном снегу… Звучит выстрел. И крупным планом: расширенные от ужаса и недоумения глаза одного из дуэлянтов, полные холодной ненависти глаза другого… женская фигура застыла посреди ковыля и полыни…
Темнеет. Слышится лай собак, а вскоре появляются и они сами — свирепые помощницы чабанов, которые немного отстали. Отделившись от своих спутников, мужчина в белом подходит к собакам. Что-то спокойно им говорит. Те успокаиваются, виляют хвостами.
Уже совсем стемнело. Группа людей спустилась в долину.
— Макс, как это тебе удалось?
— Что удалось?
— Ну это, с огнём?
— С огнём у меня особые отношения. Однажды в гостях я стоял возле гардин — и они зажглись прямо у меня в руках. А на новый, 1914-й, год я был в Коктебеле один, и ко мне приехала Марина Цветаева. Я затопил печку, плита раскалилась, и возник пожар. Так начался для меня первый год Европейской войны…
— Макс, а отчего возникают войны?
— Оттого, что человеку однажды показалось, будто он подчинил себе духов природы; на самом же деле он сам попал к ним в подчинение, наделив их собственной жадностью и агрессивностью.
— Как это понять?
— Очень просто: мы убили божественную сущность вещей. И вот в этой самой обезбоженной природе начинают действовать силы, которые овладевают нашими страстями и волей.
— И поэтому…
— Поэтому… — Макс вдруг уходит в себя. Похоже, он импровизирует:
Поэтому за каждым новым
Разоблачением природы ждут
Тысячелетья рабства и насилий,
И жизнь нас учит, как слепых щенят,
И тычет носом долго и упорно
В кровавую расползшуюся жижу,
Покамест ненависть врага к врагу
Не сменится взаимным уваженьем…
Кто-то вставляет с оттенком иронии:
— И справедливым миропорядком?
Макс, едва заметно усмехаясь, продолжает:
Не веривший ли в справедливость
Приходил
К сознанию, что надо уничтожить
Для торжества её
Сначала всех людей?
…Не тот ли, кто принёс «не мир, а меч»,
В нас вдунул огнь, который
Язвит и жжёт, и будет жечь наш дух,
Доколе каждый
Таинственного слова не постигнет:
«Отмщенье Мне, и Аз воздам за зло».
И кажется, что вдалеке на горизонте появилась белая фигура, медленно идущая к ним «по лону вод». Кто это?.. Какой «себя забывший бог»?..
У самой отмели что-то зашевелилось… Какое-то фантастическое существо. Волна выбрасывает на берег корягу. Это корень виноградной лозы… Нет, нечто большее: добродушная собачья морда, выпяченная вперёд нога… Танцующий посланник Диониса. Морской чёрт Габриах…
Ночное небо. Накатывается большая волна. Она с головой накрывает вошедшую в море женщину. У самого берега подрагивает на воде корень виноградной лозы, Габриах. Доносятся слова:
— Тебе меня отдали. Ты помнишь за меня. Ты мой бог. Я тебе молюсь, Макс!
— Лиля, не надо. Этого нельзя…
По берегу моря медленно шествует таинственная женская фигура — вечерний наряд, широкополая шляпа. Бывший бес? Херувим в женском обличье? Мистическая фантазия в земной плоти — Черубина де Габриак…
Ступеньки узкой лестницы в доме неподалёку скрипят под ногами грузного человека. На стене — портрет широколицего бородача. То же лицо с трудом, но угадывается сквозь причудливое переплетение разноцветных квадратов, треугольников и ромбов — картина Диего Риверы в стиле кубизма. Многометровые полки с книгами… Шорохи волн и посвист ветра… И будто слышится: «Тут по ночам беседуют со мной / Историки, поэты, богословы…» Просоленные морем окаменелости, разнофигурные корни растений, обломок «корабля Одиссея», прибитый к стене… Фотография молодой узкоглазой красавицы с загадочной улыбкой на «змийных» устах… Доносятся слова из прошлого:
— Таиах… Она похожа на вас…
— Смотрите, у неё шевелятся губы!..
Москва. Просторная картинная галерея. На стенах полотна Мане, Ренуара, Дега, Гогена… Молодая девушка и возбуждённый поэт в качестве гида.
— Вы чувствуете, как свет рассеивает здесь безысходность? Эдуар Мане говорил: свет — главный сюжет произведения…
— Вы так хорошо знаете и чувствуете французских художников…
— Не только французских. Русское искусство я люблю не меньше. Вот, например, Суриков… Вы знаете, я думаю написать о нём книгу.
— А как же французы?
— И о французах тоже.
Девушка улыбается. Поэт смотрит на неё с нежностью и по-своему объясняется в любви:
— Я хочу, чтобы вы поскорее приехали во Францию. Я покажу вам Париж. Мой Париж…
Парижская улица. Он и она прячутся под козырьком подъезда. Звучат стихи:
В дождь Париж расцветает,
Точно серая роза…
Шелестит, опьяняет
Влажной лаской наркоза.
— Это из нового? Почитайте ещё.
— Попробую вспомнить:
А по окнам, танцуя
Всё быстрее, быстрее,
И смеясь, и ликуя,
Вьются серые феи…
Пейзаж города сквозь пелену дождя. Молодые люди заскакивают в подъезд, быстро поднимаются по лестнице, держась за руки. За омытыми дождём окнами открывается причудливый и радостный Париж, почти что живопись импрессионистов. Всё волшебно, светло и размыто.
На синеющем лаке
Разбегаются блики…
В проносящемся мраке
Замутились их лики…
Сколько глазок несхожих!
И несутся в смятеньи,
И целуют прохожих,
И ласкают растенья…
Поэт наклоняется к руке девушки. Она касается губами его волос и медленно отнимает руку…
Коктебель. На четырёхугольной вышке Дома Поэта стоит его хозяин, Максимилиан Волошин, вглядываясь в звёздную даль. Может быть, ему кажется, что совсем ещё юный отрок пробежал по одному из уступов Карадага, читая стихи…
…Молюсь о том, чтобы стать поэтом.
16 мая 1877 года в Киеве, на Тарасовской улице, в семье Александра Максимовича Кириенко-Волошина и его жены Елены Оттобальдовны, в девичестве Глазер, родился сын, которого назвали Максимилианом. Отцу было тридцать девять лет, матери — двадцать семь. Больше детей у них не было. «Моё родовое имя Кириенко-Волошин, и идёт оно из Запорожья, — писал Максимилиан Александрович сорок восемь лет спустя в „Автобиографии“. — Я знаю из Костомарова, что в XVI веке был на Украине слепой бандурист Матвей Волошин, с которого с живого была содрана кожа поляками за политические песни, а из воспоминаний Францевой, что фамилия того кишинёвского молодого человека, который водил Пушкина в цыганский табор, была Кириенко-Волошин. Я бы ничего не имел против того, чтобы они были моими предками».
Слепой бандурист, пострадавший из-за любви к родине и политической направленности песен… Что ж, весьма подходящий предок для писателя, проявившего в годы революции редкую бескомпромиссность…
Другой — близкий знакомый Пушкина (по уточнённым данным — Дмитрий Кириенко-Волошинов), поэта, чьё имя для Волошина было особенно дорого и которому будущий коктебельский житель посвятит такие строки:
Эти пределы священны уж тем, что под вечер
Пушкин на них поглядел с корабля, по дороге в Гурзуф…
Но всё это родство, как говорится, неустановленное. Что же до непосредственного… Отец поэта, коллежский советник, состоял членом Киевской палаты уголовного и гражданского права. Судя по немногим сохранившимся свидетельствам, был он человеком добрым, общительным, писал стихи. Кстати сказать, единственное смутное воспоминание Макса об отце связано с его декламацией стихов — каких именно, ребёнок, естественно, не запомнил. Александр Максимович умер, когда мальчику исполнилось четыре года. Впрочем, он жил тогда уже отдельно от семьи. О своих предках Максимилиан Волошин пишет весьма бегло: «Отец мой никогда предводителем] дворянства не был. А был сперва мировым посредником, а потом членом суда в Киеве. У деда было большое имение в Киевск[ой] губерн[ии], а кто он был, не знаю, и вообще родственников] моего отца совсем не знаю» (из недатированного письма М. В. Сабашниковой).
Воспитанием ребёнка занималась мать, женщина волевая, широко образованная, из семьи обрусевших немцев. Её отец был начальником Житомирского телеграфного округа. Как вспоминал М. А. Волошин: «Дед по матери был инженером и начальником телеграфн[ого] округа (что-то важное). Его отец был синдик (видимо, представитель какой-нибудь промышленной или коммерческой корпорации. — С. П.) в каком-то остзейском городе — не то в Риге, не то в Либаве. А отец бабушки делал итальянский поход с Суворовым, а его отец был чьим-то лейб-медиком…» (в другом месте: «Прапрадед — Зоммер, лейб-медик, приехал в Россию при Анне Иоанновне»).
Лучший портрет матери поэта, Елены Оттобальдовны, дан Мариной Цветаевой, которая познакомилась с ней в Коктебеле в 1911 году: «…отброшенные назад волосы, орлиный профиль с голубым глазом… Внешность явно германского происхождения… лицо старого Гёте… Первое впечатление — осанка. Двинется — рублём подарит… Второе, естественно вытекающее из первого: опаска. Такая не спустит… Величественность при маленьком росте… Всё: самокрутка в серебряном мундштуке, спичечница из цельного сердолика, серебряный обшлаг кафтана, нога в сказочном казанском сапожке, серебряная прядь отброшенных ветром волос — единство. Это было тело именно её души».
Возможно, отсюда — подмеченное Цветаевой «германство» Волошина: аккуратность, даже педантичность в привычках и поведении, творческая усидчивость; «при явно французской общительности — явно германский модус поведения, при французской количественности — германская качественность дружбы…». Этому глубинному германству Марина Ивановна приписывает даже волошинский пантеизм: «всебожественность, всебожие, всюдубожие, — шедший от него лучами с такой силой, что самого его, а по соседству и нас с ним, включал в сонм — хотя бы младших богов…», и мистицизм: «скрытый мистик… тайный ученик тайного учения о тайном».
Впрочем, «германством» творческий облик поэта отнюдь не исчерпывается: «Француз культурой, русский душой и словом, германец — духом и кровью». Мистик, пантеист, европеец с русской душой, «нерусский поэт начала», который «стал и останется русским поэтом». Пусть так… Ну а как определяет «прошлое своего духа» сам Волошин? Откроем столь часто приходящую на помощь исследователям и просто читателям «Автобиографию».
«Я родился… в Духов день, „когда земля — именинница“. Отсюда, вероятно, моя склонность к духовно-религиозному восприятию мира и любовь к цветению плоти и вещества во всех его формах и ликах. Поэтому прошлое моего духа представлялось мне всегда в виде одного из тех фавнов или кентавров, которые приходили в пустыню к св[ятому] Иерониму и воспринимали таинство святого крещения. Я язычник во плоти и верую в реальное существование всех языческих богов и демонов — и, в то же время, не могу его мыслить вне Христа». Это признание делает более понятным и близким душевный мир поэта, который Марина Цветаева определяла как «сосуществование» — ну, скажем, языческой мифологии, антропософских знаний, христианской эзотерики, да и много ещё чего.
Вернёмся, однако, в детские годы Макса. Самые первые воспоминания жизни: «1 год — Киев. Свет сквозь цветные стёкла». В феврале 1878 года Александра Максимовича переводят в Таганрог и назначают членом окружного суда. Вскоре туда переезжает и его семья. «2–3 года. Таганрог. Дача. Сад. Мощёная дорожка. Старая игрушка (поезд). Щенок-угольщик. С кормилицей на базар (нашёл дорогу). Ящерицу поймал». Действительно, в доме Волошина существовало предание о том, как крохотный ребёнок, Макс, сидя на руках или плечах у няньки, показывал ей, взявшей его на базар, дорогу домой, хотя нужно было идти переулками. И ещё один эпизод из самого раннего детства: «Ушёл из сада нашей дачи, где гулял голенький. Заблудился. Плакал». Дети совали в рот то ли пряник, то ли конфеты. «Но до этого ничего трагического». Тихий спокойный город. «Тень листвы, солнце, цветы, тишина».
Только вот в совместной жизни супругов Волошиных далеко не всё было гладко. Известно, что Елена Оттобальдовна, забрав двухлетнего Макса, ушла от мужа (произошло это в январе 1880-го), переехала в Севастополь, работала на телеграфе. Жильё ей предоставила подруга по Институту благородных девиц Н. А. Липина. «На своей родине я никогда не жил, — узнаём мы из „Автобиографии“. — Раннее детство прошло в Таганроге и Севастополе. Севастополь помню в развалинах, с большими деревьями, растущими из середины домов: одно из самых первых незабываемых живописных впечатлений». Севастополь, как свидетельствуют эти воспоминания, ещё не был восстановлен к началу 1880-х после Крымской войны 1853–1856 годов.
Со дна памяти поднимается на поверхность сознания нечто приятное и отвратительное, радостное и страшное. «Лестница спуска. Дом рыбака. Собака Казбек. Рыбак-хозяин ест шоколад. Я прошу. Предлагает изо рта разжёванный. Отвращение». Порой снятся ужасно неприятные сны: «…вкус конского каштана, которым переполнен рот. Отвращение к гороховому киселю. Кухарка Дарья, которая его готовила…» Вспоминается море. «Купающиеся мальчики, которые отбегали от моря через дорогу. Острое ощущение наготы, обнажения. Стыдно и приятно».
По-видимому, к более позднему времени относятся эпизоды, описанные Мариной Цветаевой в очерке «Живое о живом». Близко общаясь с Еленой Оттобальдовной в Коктебеле, Марина Ивановна не раз оказывалась благодарной слушательницей рассказов матери о детстве этого крайне впечатлительного, изобретательного ребёнка. Вот несколько весьма колоритных сценок, воспроизведённых Цветаевой: «Жили бедно, игрушек не было, разные рыночные. Жили — нищенски. Вокруг, то есть в городском саду… — богатые, счастливые, с ружьями, лошадками, повозками, мячиками, кнутиками, вечными игрушками всех времён. И неизменный вопрос дома:
— Мама, почему у других мальчиков есть лошадки, а у меня нет, есть вожжи с бубенчиками, а у меня нет?
На который неизменный ответ:
— Потому что у них есть папа, а у тебя нет.
И вот после одного такого папы, которого нет, — длительная пауза и совершенно отчётливо:
— Женитесь.
Другой случай. Зелёный двор, во дворе трёхлетний Макс с матерью.
— Мама, станьте, пожалуйста, носом в угол и не оборачивайтесь.
— Зачем?
— Это будет сюрприз. Когда я скажу можно, вы обернётесь!
Покорная мама орлиным носом в каменную стену. Ждёт, ждёт:
— Макс, ты скоро? А то мне надоело!
— Сейчас, мама! Ещё минутка, ещё две. — Наконец: — Можно!
Оборачивается. Плывущая улыбкой и толщиной — трёхлетняя упоительная морда.
— А где же сюрприз?
— А я (задохновение восторга, так у него и оставшееся) к колодцу подходил — до-олго глядел — ничего не увидел.
— Ты просто гадкий непослушный мальчик! А где же сюрприз?
— А что я туда не упал.
Колодец, как часто на юге, просто четырёхугольное отверстие в земле, без всякой загородки, квадрат провала… Ещё случай. Мать при пятилетнем Максе читает длинное стихотворение, кажется, Майкова, от лица девушки, перечисляющей всё, чего не скажет любимому: „Я не скажу тебе, как я тебя люблю, я не скажу тебе, как тогда светили звёзды, освещая мои слёзы, я не скажу тебе, как обмирало моё сердце, при звуке шагов — каждый раз не твоих, я не скажу тебе, как потом взошла заря“, и т. д. и т. д. Наконец — конец. И пятилетний, глубоким вздохом:
— Ах, какая! Обещала ничего не сказать, а сама всё взяла да и рассказала!
Последний случай дам с конца. Утро. Мать, удивлённая долгим неприходом сына, входит в детскую и обнаруживает его спящим на подоконнике.
— Макс, что это значит?
Макс, рыдая и зевая:
— Я, я не спал! Я — ждал! Она не прилетала!
— Кто?
— Жар-птица! Вы забыли, вы мне обещали, если я буду хорошо вести себя…
— Ладно, Макс, завтра она непременно прилетит, а теперь — идём чай пить.
На следующее утро — до-утро, ранний или очень поздний прохожий мог бы видеть в окне одного из белых домов… — лбом в зарю — младенческого Зевеса в одеяле, с прильнувшей, у изножья, другой головой, тоже кудрявой… И мог бы услышать прохожий:
— Ма-а-ма! Что это?
— Твоя Жар-птица, Макс, — солнце!»
Цветаева обращает внимание на «прелестное старинное Максино „Вы“ матери — перенятое им у неё, из её обращения к её матери. Сын и мать, уже при мне выпили на брудершафт: тридцатишестилетний с пятидесятишестилетней (шестидесятитрехлетней. — С. П.) — и чокнулись… коктебельским напитком ситро, то есть попросту лимонадом».
Вдова поэта, Мария Степановна Волошина, вспоминала, что в 1926 году у них в Коктебеле гостил врач Семён Яковлевич Лифшиц, доктор физики Московского высшего технического училища, который занимался вскрытием «инфантильных травм» и устраивал своеобразные психоаналитические сеансы. Максимилиан Александрович вызвался быть объектом этих сеансов и позволил доктору не менее двадцати раз подвергать себя этим сомнительным, как считала Мария Степановна, опытам. С. Я. Лифшиц был ярым последователем Фрейда. Волошин, также знакомый с трудами последнего, был всегда открыт всему свежему, новому, интересному. В результате сеансов возникали некие «сны», в которых автобиографическое перемешивалось с фантастическим, обыденное приобретало сюрреалистический оттенок.
«Сны: самый страшный: видел самого себя. Обыкновенный мальчик-двойник. Другой сон: мужчина ведёт мальчика и девочку, ставит на пригорке на колени. Заставляет поднять рубашки, стреляет им в живот. Сны о революции». О прошлом или о будущем?.. О том, насколько важна для Волошина категория «сна» — в психофизиологическом или историософском смысле, — можно говорить долго. Вспоминается такое четверостишие:
Вышел незваным, пришёл я непрошеным.
Мир прохожу я в бреду и во сне…
О, как приятно быть Максом Волошиным
Мне!
Эта шутливая запись была внесена летом 1923 года в альбом «Чукоккала». И оставил её во времена отнюдь не шуточные зрелый, сорокашестилетний поэт, воспринимавший человеческую судьбу и мировую историю как вереницу сновидений, а самого себя — как толкователя «чужих снов». Однако вернёмся в детство поэта.
Предположительно в декабре 1881 года Елена Оттобальдовна с сыном, няней — чешкой Несси — и собакой Ледой покидает Таганрог. При ней капитал, как она напишет впоследствии сыну, около ста рублей. В Москве первоначально поселились на Большой Грузинской, затем переехали в Медвежий переулок, в квартиру, где, по воспоминаниям Макса, обои отделялись «от стены в бреду». И вновь — отчётливые детские воспоминания, «снимки» памяти: «Стучит в голове (хозяин ходит). Щенка на глазах раздавили. В жару, больного перевозят в дом Зайченко, в башлыке. Сводчатые ворота». Осталось в памяти «сумасшествие дядей. Дядя Саша: „Ты похож на Рафаэлева херувима“. Пятна на шкафчике… Его ужас. Пытался выкинуться из окна. „На нож! Режь меня!“». Александр Оттобальдович Глазер был действительно серьёзно болен психически. А вот и более приятное, скорее забавное, воспоминание: визит друга семьи, старика (в восприятии младенца) Ореста Полиеновича Вяземского. Макс показывал ему свои первые рисунки, естественно, людей. «У всех фигур были фаллы. Старик Вяземский рассматривал в пенсне: „Излишний реализм“…»
Елена Оттобальдовна устраивается на работу в контору при Московско-Брестской железной дороге. Её оклад составляет сорок рублей плюс восемнадцать рублей пенсии за мужа плюс десять рублей пособия из Дворянской опеки плюс пятьдесят рублей в качестве процентов с той суммы (порядка двенадцати тысяч рублей), которая досталась Максу в результате дарственной от его дедушки и бабушки по отцу — Максима Яковлевича, киевского городского казначея, статского советника, помещика, и Евпраксии Александровны Кириенко-Волошиных.
Где-то в четыре-пять лет — «детский разрыв с матерью. Меня мать обвиняет в чём-то. В чём — не помню. Я отрекаюсь, потому что знаю, что не брал, не делал. „Больше некому“… Обвинение во лжи. Гнев. Требование, чтобы сознался. (Сейчас вспоминаю — взял маленькую серебряную спичечницу.) С этого момента чувствую конченными все детские любовные отношения. На всю жизнь. Через 40 лет, когда мы оба забыли причину, этот исток недоразумений всплывает между нами в ссорах, и мать с той же страстью утверждает мою вину, и я с той же страстью отрицаю, хотя мы оба одинаково уже не помним пункт обвинения». Детское, конечно, недоразумение. Но и у взрослого Макса отношения с матерью, умной, властной, не расположенной к нежности, будут складываться весьма непросто.
Итак, с четырёх лет в жизнь Максимилиана Волошина входит Москва, «Москва из фона „Боярыни Морозовой“. Жили на Новой Слободе у Подвисков, там, где она в те годы писалась Суриковым в соседнем доме» («Автобиография»). Действительно, начало работы В. И. Сурикова над это картиной приходится на 1881 год. Художник жил в это время в Москве на Долгоруковской улице, по соседству с недавно переехавшими туда Волошиными, делал наброски к картине, писал этюды. Однажды во время прогулки с няней маленький Макс увидел Сурикова за мольбертом. Эта встреча с большим искусством оказала на ребёнка большое впечатление. Он самозабвенно отдаётся рисованию.
Пройдут годы, и Волошин обратится к творчеству художника как искусствовед. В ходе встреч и бесед с автором «Боярыни Морозовой», в результате раздумий над его полотнами возникнет монография «Суриков», фрагменты которой будут публиковаться в 1916 году.
Наряду с рисованием у мальчика пробуждается интерес к литературе, возникает «опьянение стихами». «Любил декламировать, ещё не умея читать, — отмечает Волошин в „Автобиографии“. — Для этого постоянно становился на стул: чувство эстрады». Мальчик знал наизусть «Коробейников» Некрасова, «Конька-Горбунка» Ершова, «Ветку Палестины» Лермонтова, «Полтавский бой» Пушкина. Причем, как свидетельствует знавшая его в детские годы Валентина Орестовна Вяземская, этот бутуз, «красавчик в русском вкусе», «своеобразно выговаривал слова, растягивая гласные, и то выражение, которое он давал произносимому, было так оригинально, что все взрослые с интересом слушали». Летом 1882 года ребёнок сам учится читать по газетным заголовкам, так что с пяти лет начинается «самостоятельное плавание по книгам».
Валентина Вяземская была дочерью инженера-путейца Ореста Полиеновича Вяземского, в квартире которого, в Ваганькове, Елена Оттобальдовна поселилась с сыном весной 1883 года. Максу Волошину шёл седьмой год. Он уже познакомился со многими книгами из маминой библиотеки, предпочитая другим авторам Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Даля. Уже тогда ощущалось своеобразие его натуры, привлекала живость характера. «Я была чуть ли не вдвое старше его, — вспоминает Валентина Орестовна, — …но мне было веселее с ним, чем со своими сверстницами. В нём было такое интересное сочетание наивной простоватости с острым умом и наблюдательностью. Он мог тут же подряд поразить то нелепостью, то мудростью не по летам своих мыслей и суждений».
Сохранились фотографии Макса этого периода жизни, остались описания его внешности, сделанные близко знавшими его людьми. Одет он был, как правило, стильно: летом, например, ходил в матросском костюмчике. Румяный, веснушчатый (веснушки его не портили), разговорчивый ребёнок с глазами то задумчивыми, то насмешливыми, то хитренькими. Словоохотливый, он, однако, умел слушать собеседника. Любил подолгу рассматривать картинки. С увлечением декламировал «Полтавский бой», «Бородино», отрывки из «Демона», причём слова «Когда он верил и любил» произносил с необыкновенной для своего возраста силой и убедительностью. Как-то на вопрос о том, что ему особенно нравится в «Полтаве», ответил: «Сии птенцы гнезда Петрова». И далее — до «полудержавный властелин». Однако, что всё это означает, он, естественно, объяснить не мог. «Это вышло очень комично, но, в сущности, — справедливо отмечает В. О. Вяземская, — в поэзии прелесть непонятных, то есть действующих не на сознание, а на подсознание, строк пленяет очень многих, и в наше время это-то и считается поэзией. И его казавшиеся смешными слова были глубоки».
Юный Макс был весьма азартен и охотно участвовал в конкурсе декламаторов, как вспоминает та же подруга его детства: «Мой дядя Митрофан Дмитриевич… человек с сильной юмористической жилкой, чтобы его подзадорить, предлагал ему состязания: кто лучше скажет, например, „Бородино“… Однажды, когда для большего эффекта декламации ему посоветовали влезть на стол, он, спускаясь после прекрасно выполненной задачи, обратился к дяде: „Ну, Митрофан Дмитриевич, теперь вы полезайте на стол“». Столь же азартен был Макс Волошин и в еде. В этом отношении Елене Оттобальдовне приходилось ограничивать уже тогда склонного к полноте сына. «Ужасно потешно (но и немного жалко), — пишет В. О. Вяземская, — было слушать разговоры матери с сыном по этому поводу: „Мам, а мам (выговаривалось как-то „мум“)… я хочу…“ — „Ну хоти, хоти“, — отвечала совершенно серьёзно, без тени улыбки, эта оригинальная женщина. За вечерним чаем ему выдавалось 3 ломтя хлеба и 3 куска колбасы. Сначала (даже здесь проявлялась творческая жилка. — С. Я.) он съедал ломоть хлеба без колбасы, затем — с одним куском колбасы, и, наконец, наступал торжественный момент: Макс старался обратить на себя всеобщее внимание и ел один ломоть хлеба с двумя кусками колбасы».
Запомнились Валентине Орестовне и афористические высказывания Макса, меткие характеристики, которые давал он людям. «Например, лично обо мне он сказал: „Картонка с мозгом“. Я действительно была в то время в периоде философствования по всякому поводу». Так что «при некоторой нелепости формы высказывание Макса доказывало его наблюдательность».
Неудивительно, что когда к детям Ореста Полиеновича Вяземского, которые все были значительно старше Волошина, пригласили учителя — студента Константиновского Межевого института Никандра Васильевича Туркина, он стал заниматься и с Максом, готовить его к поступлению в гимназию. Московские и феодосийская гимназии мало что дали поэту, «…тоска и отвращение ко всему, что в гимназии и от гимназии», — жаловался он впоследствии. Зато повезло юному Максу с наставником. «Начало учения: кроме обычных грамматик, заучиванье латинских стихов, лекции по истории религии, сочинения на сложные не по возрасту темы», беседы о спиритизме и буддизме, о Достоевском; «Одиссея» Гомера, «Дон-Жуан» Байрона, рассказы Эдгара По, мифы Древней Греции… Конечно, не всё давалось легко. «В доме все спят, кроме Макса и Н. В. (Туркина. — С. Я), которые сидят в соседней маленькой комнате, Максином „кабинете“, и учатся, — пишет Люба Вяземская своей матери. — …Одни интонации Максиного голоса, переходящие от самых радостных до самых отчаянных, чего стоят! Он ужасно ленится думать и всё старается обойти необходимость шевельнуть мозгами». Однако главный результат всё-таки был достигнут. Своей «разнообразной культурной подготовкой я обязан… учителю — тогда студенту Н. В. Туркину», — констатирует Волошин в «Автобиографии».
Будучи сам человеком оригинальным и разносторонне образованным, Никандр Васильевич Туркин, ставший впоследствии видным журналистом и театральным критиком, сумел оценить своеобразие натуры и своего ученика, заметить его тяготение к необычному, яркому, фантастичному. «Благодаря этому он и слушал чтение Эдгара По — очевидно, со смесью ужаса и наслаждения, когда Туркин ему читал, — полагает Валентина Вяземская. — …Туркин вообще мудрил над ним, и со стороны казалось странным, что Елена Оттобальдовна ему это позволяла. Надо думать, что, с одной стороны, она была очень занята и не во всё входила, а с другой, что оригинальность этих отношений её забавляла и ей любо было, что фокусы учителя выявляют необычайность способностей ученика». Впрочем, вопрос ещё и в том, что как назвать и оценить. Можно ли, например, считать «фокусом» задание описать Кавказ «по Пушкину» в этнографическом и географическом аспектах? (Не будем забывать, что ученику-то всего семь с хвостиком.)
В юном возрасте пристрастие к необычному и сверхъестественному выглядит закономерным и вместе с тем несколько наигранным. Садясь за стол, маленький Макс мог протянуть руки и сказать: «Аминь, аминь, рассыпься, чур, моё место свято». Он избегал некоторых «таинственных» мест в округе, произносил заклинания. Однажды во время игры в эти самые заклинания Валериан, сын хозяина квартиры, поднял его в воздух, перевернув вниз головой. Макс, однако, был уверен и убеждал в этом других, что взлетел вверх благодаря духам. «Наблюдая за ним, мы чувствовали, что ему казалось интересным верить в сверхъестественное, — высказывает свою гипотезу Валентина Вяземская, — жизнь при такой вере казалась ему красочнее и увлекательнее обыденной… Но… рядом с чудачком, которого можно было обмануть чем угодно и над которым все потешались, уже и тогда жил умный, трезвый человечек, который отлично знал, что его морочат, но молчал об этом, ибо жизнь, если дать уму руководить ею, казалась ему скучнее». Мальчик любил быть в центре внимания, производить впечатление. «Поэтому ещё вопрос, кто кого водил за нос: те ли, кто дразнил его, или он тех, кто его дразнил». Склонность к лицедейству и мистификациям будет проявляться у Волошина и в гимназии, и позже, в коктебельском «обормотнике».
Религиозное воспитание Макса Волошина в этот период значительно отстаёт от общеинтеллектуального. «Его мать была интеллигенткой либерального склада, — заметит впоследствии вторая жена поэта Мария Степановна, — и это ей совсем не нужно было…» «Вся эта сторона меня не коснулась в детстве…» — признаётся и сам Макс, которого ожидали этапы мучительных подчас религиозно-философских «блужданий». Тогда же, вспоминает В. О. Вяземская, «он утром и вечером читал „Господи, помилуй папу и маму“ и кончал: „и меня, младенца Макса, и Несси“. Услыхав это, Валериан стал рассказывать, как Макс будет молиться в будущем. Сначала: „и меня, гимназиста Макса, и Несси“, потом: „и меня, студента М., и Н.“, и наконец, когда он станет важным лицом: „и меня, статского советника М., и Н.“».
К числу наиболее запоминающихся событий 1886 года следует отнести встречу в конце лета в Киеве с дедом по отцовской линии Максимом Яковлевичем Кириенко-Волошиным. О чём он беседовал с внуком — осталось невыясненным. Известно лишь, что Максим Яковлевич разработал весьма оригинальную концепцию относительно этимологии свой фамилии. Он утверждал, что «Кириенко» происходит от греческого «господин», а «Волошин» — запорожское прозвище, означающее «выходец из Италии». Что ж, оставим эти лингвистические изыскания деда Максимилиана Волошина без комментариев. Бабушка, Евпраксия (Евгения) Александровна, богатая помещица, имевшая земли в Оренбургской, Полтавской и Черниговской губерниях, запомнилась внуку властной, богомольной старухой, в комнатах которой горели лампадки и толпились приживалки. Одна из её молитв начиналась словами: «Господи, прокляни…»
Во второй половине мая 1887 года Волошин сдаёт вступительный экзамен в частную гимназию Л. И. Поливанова, а с 1 сентября приступает к занятиям. Здесь же учились и дети Льва Николаевича Толстого, на которого порывистый бутуз Макс налетел как-то в одном из коридоров. «Ну, ты меня мог убить своей головой!» — пошутил, отдышавшись, великий писатель. Будущий же поэт понёсся дальше — приобретать знания, которые в конце первого полугодия были оценены следующим образом: Закон Божий — «отлично»; русский язык, французский язык, география и рисование — «хорошо»; латинский язык, чистописание и гимнастика — «удовлетворительно».
Поливановская гимназия считалась лучшей в Москве, но плата за обучение (200 рублей в год) оказалась для Елены Оттобальдовны слишком высокой. Пришлось переводить сына в 1-ю Московскую казённую гимназию. Макс держит экзамен и поступает во второй класс. Как уже отмечалось, Волошин чувствует себя здесь не в своей тарелке. Собственно, повторялась уже классическая ситуация, когда творческий ум не приемлет рутинную систему обучения. В «Автобиографии» встречаем подтверждение: «Это — самые тёмные и стеснённые годы жизни, исполненные тоски и бессильного протеста против неудобоваримых и ненужных знаний». Взаимопонимания с учителями достигнуто не было, о чём свидетельствуют посредственные, если не сказать низкие, отметки Макса, в том числе и по поведению — наказание, как отмечал позднее сам Волошин, «за возражения и рассуждения». В третьем классе дела пошли совсем плохо, и нерадивый гимназист был оставлен на второй год. «Когда я переходил в феодосийскую гимназию, — вспоминает Волошин, — у меня по всем предметам были годовые двойки, а по гречески — „1“. Единственная „3“ была за поведение. Что по тогдашним гимназическим понятиям было самым низшим баллом, которым оценивался этот предмет… Я был преисполнен всяких интересов: культурно-исторических, лингвистических, литературных, математических и т. д. И всё это сводилось для меня к неизбежной двойке за успехи». Таким образом, внешние результаты, достигнутые в учении, не соответствовали потенциальным возможностям юного школяра. Страдала его репутация. «Когда отзывы о моих московских успехах были моей матерью представлены в феодосийскую гимназию, то директор… развёл руками и сказал: „Сударыня, мы, конечно, вашего сына примем, но должен вас предупредить, что идиотов мы исправить не можем“».
Однако будущий поэт относился к плохим отметкам весьма философски, не считая их подлинной оценкой своих знаний и способностей. Его духовный уровень, начитанность, пытливость ума уже тогда выделяли его не только среди товарищей, но и педагогов, что, кстати, подтверждает один из его однокашников, С. Полетаев: «Волошин уже в то время в 14–15-летнем возрасте был неизмеримо выше нас по своему развитию, начитанности и индивидуальному мышлению. Только теперь мне стали понятны его дискуссии и стычки с преподавательским персоналом и всё убожество окружавших нас педагогов, которые никак не сумели ни понять, ни поддержать начинающий талант, но которые даже старались высмеять его всенародно, т. е. перед лицом всего класса. Сильная натура Волошина, несмотря на своё явное превосходство перед товарищами, находила способы уживаться с нами, вероятно, часто очень неприятными для него ребятами-озорниками; с философским спокойствием переносил он гнёт педагогов, которые так явно уступали в своём развитии и миросозерцании 15-летнему человеку…»
Не забывая о своих прежних пристрастиях, Макс Волошин приобретает и новые. Осенью 1890 года, в двенадцатилетнем возрасте, он начинает писать стихи, которые впоследствии определит как «скверные». Склонность к рифмованию проявилась у Макса уже в раннем детстве, когда он импровизировал что-то наподобие: «В смехе под землёю жил богач с одной ногою»; или по поводу дня рождения: «Знаю, знаю: шестнадцатого мая». Эти способности, помноженные на острую наблюдательность и живую фантазию, не могли не развиться в той историко-культурной атмосфере, в которой жил Волошин. Тогдашняя окраина Москвы Ваганьково и леса Звенигородского уезда, где поэту приходилось бывать, осознавались им как «классические места русского Иль-де-Франса, где в сельце Захарьине прошло детство Пушкина, а в Семенкове (скорее всего — Середникове, подмосковной даче Столыпиных. — С. П.) — Лермонтова». Юноша любит бродить в одиночестве: «Как пойдёшь лесом, какой-нибудь просекой: глушь, тишина, кажется, никого, кроме тебя, и на свете нет…» Лето 1890 года он проводит на даче в Троекурове, небольшой деревушке на берегу Сетуни, в которой сохранились остатки старинной барской усадьбы и церковь, построенная ещё князьями Троекуровыми в конце XVII — начале XVIII века. Вбирая в себя литературно-географические впечатления, читая русскую классику, увлекаясь Диккенсом, храня в душе детские севастопольские воспоминания, юноша испытывает то, что спустя 35 лет, вернувшись мыслью к этим годам, он выразит так: «Мечтаю о юге и молюсь о том, чтобы стать поэтом».
«Чувство эстрады» побуждает его к участию в литературно-музыкальных вечерах в гимназии. Макс выступает с чтением стихов. Свои собственные обнародовать пока стесняется. Предпочитает произведения своих кумиров, в частности Пушкина. 31 января 1893 года поэт-гимназист декламирует стихотворение «Клеветникам России». Ему также близки настроения, выраженные Пушкиным в другом шедевре: «Поэт и толпа». Не случайно один из ранних поэтических набросков в «Первой гимназической тетради» Волошина содержит их отзвуки:
Пускай осмеян я толпою,
Пусть презирает меня свет,
Пускай глумятся надо мною,
Но всё же буду я поэт.
Поэт и сердцем и душою.
И с непреклонной головою
Пойду среди всех этих бед.
Мне дела нет до мнений света —
Пустой бессмысленной толпы.
Ей песни не понять поэта,
Ей не понять его мечты.
Ранние, гимназические стихи Волошина мало чем напоминают те, которыми сегодня зачитываются любители его поэзии. Хотя справедливости ради отметим, что в приведённых выше подражательных стихах звучат пророческие ноты. Образ поэта, идущего «с непреклонной головою» среди бед и «пожарищ мира», повторится на новом уровне в стихах о России и воплотится в судьбе самого Волошина, взявшего на себя смелость обратиться с проповедью добра к охваченной бесовщиной «бессмысленной толпе». Разумеется, юного поэта привлекает не только гражданская тема. «И природу воспеваю, восхищённый», — признаётся он в одном из стихотворений.
Увлечение Макса разделяет узкий круг его товарищей по гимназии, в частности П. Зволинский и Н. Давыдов. Поэт близко сходится с одарённым юношей, учащимся Земледельческой школы, Модестом Сакулиным. Они читают друг другу собственные опусы, с жаром говорят о большой поэзии и даже выпускают рукописные журналы. До серьёзных публикаций ещё далеко. Первое стихотворение Волошина будет напечатано уже в Феодосии, в 1895 году, но сам поэт признает своим подлинным дебютом поэтическую публикацию в журнале «Новый путь» (1903).
Лето 1891 года Макс Волошин проводит частично на даче в селе Матвейкове Звенигородского уезда, где живут его родственники Лямины, частично — в Троекурове. Многочасовые пешие прогулки, погружение в мир природы. Записи в дневнике выводятся уже рукой поэта, художника, человека, которому предстоит воспеть красоты Италии, Испании, Франции и, конечно же, Восточного Крыма. Пока же олитературивается пейзаж средней полосы России: «Громадные липы, тёмно-зелёные неуклюжие, но красивые дубы, зелёные сосны и ели, пихты, плакучие ивы, склонившиеся над зеркальной поверхностью пруда и купающие в нём свои печальные ветви… полуразвалившиеся каменные здания, заросшие хмелем и плющом и усыпанные розовыми, красными и белыми, сильно пахнущими цветочками повилики, красиво рисуются в группах дерев, манящих скорей под сень свою, к берегу маленькой речки спасаться от палящего жара…» Как тут не вспомнить первое его определение поэзии: это «есть гармония души со всем окружающим» (запись сделана 12 октября 1892 года).
Всё чаще проявлялось и свойственное его натуре чувство юмора. Тоскуя по общению со сверстниками, он весьма своеобразно отпрашивается у матери навестить родственников в селе Матвейкове, что в тридцати трёх верстах от Москвы. Начинает юный артист издалека:
— Можно ли мне, мама, пойти погулять?
— Иди.
— Мне бы хотелось только подальше, на тридцать третью сходить пешком.
— Иди.
— Только мне уж, мама, лучше оттуда по железной дороге приехать.
— Приезжай.
— Знаете, мама, ведь не стоит туда на один день идти, там уж так, с недельку пожить надо.
— Живи!
— Так, мама, я лучше уж и туда поеду?
— Поезжай, только отстань!
Бывая в Москве, Волошин часто гостит у бабушки по материнской линии, Надежды Григорьевны Глазер, которая может высказать внуку горькую правду в глаза («Боже! Как же ты поправился!»), склонна она и поиронизировать, и любя пожурить.
Между тем в судьбе самой Елены Оттобальдовны происходят некоторые изменения. Осенью 1889 года она знакомится с врачом Павлом Павловичем фон Тешем, отношения с которым спустя год переходят в разряд близких. Фон Тешъ (так писалась до революции его фамилия), отец четырёх дочерей, живший последние десять лет отдельно от семьи, поселяется с Еленой Оттобальдовной и Максом в Волконском переулке.
Вот какой запомнилась Елена Оттобальдовна близко знавшим ее людям в середине 1880-х годов: «…в официальных случаях надевала прекрасно сшитое чёрное шёлковое платье… обычно же носила малороссийский костюм с серым зипуном… Она была большая спорщица… ездила верхом в мужском костюме и… её оригинальность бросалась в глаза больше, чем её красота».
А жизнь идёт своим чередом. Макс Волошин участвует в домашних спектаклях на квартире Сакулина (ставятся сцены из «Бориса Годунова»), посещает театры, зачитывается Достоевским («Униженные и оскорблённые», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот») и Салтыковым-Щедриным («История одного города», «Помпадуры и помпадурши»), пишет много стихов, которые пытается упорядочить в «Гимназических тетрадях». В предисловии к «Избранному» (разумеется, рукописному) он сообщает, что не остановится на этих стихотворениях, а пойдёт дальше. Автор просит «каждого, кто будет читать мои стихотворения, написать, какие он считает лучшими, и затем, какие недостатки он в них находит…». И далее — весьма характерный наказ, «чтобы с этой тетрадкой обращались осторожно и не замарали, а главное, чтоб не писали ничего своего на её полях. Критические замечания прошу писать на отдельных листочках». Вот уж воистину: «Учёный малый, но педант». Может быть, и права Марина Цветаева в отношении «германства» Волошина — обстоятельность и аккуратность…
Макс вновь задумывается о том, что такое поэзия: «В каждом создании, везде, во всей природе, даже в самых низших проявлениях её, заключается поэзия, но только её надо там найти…» И ещё одно умозаключение: «Идеал красоты — это сама природа. А люди в своих искусствах только стараются достигнуть этого идеала, но не могут…» Тем временем набирают ход занятия в пятом классе гимназии. Среди учебных книг — «Югуртинская война» римского писателя и государственного деятеля Саллюстия Криспа, «Анабасис» Ксенофонта, «Метаморфозы» Овидия, «Одиссея» Гомера, сборник латинских упражнений К. Павликовского и «Греческая грамматика». Волошин вникает в исторические хроники Шекспира, зачитывается «Слепым музыкантом» Короленко, переводит одно из стихотворений О. Барбье. Среди книг домашней библиотеки наибольшей популярностью пользуются «Французская революция», «Мученики Колизея» Е. Тур, «История России» А. К. Толстого, стихотворения Байрона и Некрасова, многочисленные тома Л. Н. Толстого. Библиотекой Макса пользуются и его однокашники. В учёбе юноша, как и прежде, не блещет: по латыни и греческому — «двойки», по русскому языку — «три». Елена Оттобальдовна недовольна — запрещает воскресные прогулки и общение с друзьями. Тем не менее юноша твёрдо решил после гимназии поступать на историко-филологический факультет, а дальше — стать писателем или журналистом.
Круг чтения всё более расширяется: «Дневник лишнего человека» Тургенева, «Ярмарка тщеславия» Теккерея, «Дон Карлос» Шиллера, «Собор Парижской Богоматери» Гюго, «В небесах» Фламмариона. О последнем появляется запись в дневнике (5 марта 1893 года): «Самая интересная мысль этого романа та, что Фламмарион называет тело „временной оболочкой души“». Мысль эта многократно и по-разному будет воплощаться в поэзии Волошина.
Впрочем, иногда было не до высоких материй, поскольку «временная оболочка души» Макса подвергалась нападениям. Профессор-биохимик С. Л. Иванов, учившийся в той же гимназии, вспоминает, как он вместе с такими же сорванцами, по наущению одноклассника Волошина — Володи Макарова, хромого от рождения и, очевидно, в какой-то степени психически неуравновешенного, подкарауливали толстого и неповоротливого гимназиста, щипали его за мягкие места и разбегались. Повадки «злых детей» вскоре были Волошиным изучены, и последовали ответные действия. Сергей Иванов вспоминал: «…не успел я ущипнуть его как следует, как он быстро повернулся и дал ладонью такого тумака, что я растянулся на земле. Я помню только склонённые надо мной большие круглые добродушные глаза и просьбу оставить его в дальнейшем в покое». Возможно, это был единственный случай «противления злу насилием» со стороны Макса Волошина; отношения же его с Сергеем Ивановым останутся вполне дружескими, как и с тем же Владимиром Макаровым.
17 марта 1893 года Волошин записал в дневнике: «Сегодня великий день. Сегодня решилось, что мы едем в Крым, в Феодосию, и будем там жить. Едем навсегда!.. Прощай, Москва! Теперь на юг, на юг! На этот светлый, вечно юный, вечно цветущий, прекрасный, чудесный юг!» Начинается новая, «киммерийская», эра в жизни и творчестве Максимилиана Волошина.
С тех пор как отроком у молчаливых
Торжественно-пустынных берегов
Очнулся я — душа моя разьялась,
И мысль росла, лепилась и ваялась
По складкам гор, по выгибам холмов…
Итак, 3 июня 1893 года сбывается мечта Макса о юге: вместе с Еленой Оттобальдовной он отбывает в Коктебель. Решение это, по-видимому, было вызвано дороговизной жизни в Москве, а тут ещё подвернулся случай — продажа относительно дешёвых участков земли. Павел Павлович Теш «покупает пополам с мамой у профессора Юнга» 20 десятин, пишет в своём дневнике Макс. Настоящее «маленькое имение. Всего в версте от моря… Горы от нашей земли всего в верстах четырёх или пяти… Там самые лучшие камушки, какие только есть на всём… побережье Крыма… Что касается купанья, то лучшего и желать нельзя».
История этих мест уходит в седую древность. Ещё античный географ Страбон (63 г. до н. э. — 23 г. н. э.) в IV главе VII книги своей «Географии» упоминает «таврическое побережье длиной около тысячи стадий. Побережье это каменистое, гористое и подвержено сильным бурям с севера… В гористой области тавров есть также гора Трапезунт (Столовая), одноимённая городу, расположенному поблизости от Тибарании и Колхиды. Вблизи этой же гористой области есть и другая гора Киммерий… За упомянутой гористой областью лежит город Феодосия. Город занимает плодородную равнину и обладает гаванью, могущей вместить сто кораблей. Этот (залив) прежде был границей между землями боспорян и тавров». Комментируя этот текст, историк и краевед А. К. Шапошников отмечает «факт прохождения границы между владеяниями боспорян и землёй тавров. Археологические исследования в округе Коктебеля выявили два пограничных боспорских укрепления (городища) — Биюк-Енишарское, контролировавшее Узун-Сыртский перевал, и Сары-Каинское, охранявшее древний тракт, переходивший из урочища Ак-Мелез через седловину Сары-Каи в балку Янтык… Арриан в своей лоции Чёрного моря, которую он составил около 131–137 гг. н. э., сообщает о непосредственной округе Коктебеля… Тридцать километров каботажного плавания от Феодосии приводят к Кара-Дагу, в зависимости от характера маршрута либо к устью Кордонной балки, либо Карадагской балки. В любом случае, это — древнейшее конкретное упоминание местности близ Коктебеля» («Коктебель. Исторические названия окрестностей»).
Об истории этого края немало напишет и сам Волошин, но эта тема впереди. Отметим лишь, что в конце XIX столетия по соседству с Коктебельской долиной была забытая Богом болгарская деревушка, места вокруг пустынные и почти что безлюдные. В 1880-е годы обрёл здесь пристанище известный врач-окулист и путешественник Эдуард Андреевич Юнге. Он скупил значительную часть долины, намереваясь благоустроить и обиходить эти места, но, видимо, не хватило средств. Пришлось распродавать землю по частям; один из участков и приобрели Е. О. Волошина с П. П. Тешем.
Постепенно долина заполнится дачниками, среди которых будет немало творческой интеллигенции: дочь известного историка и сестра философа, поэтесса П. С. Соловьёва (Allegro), детская писательница Н. И. Манасеина, оперный певец В. И. Касторский; позднее, уже в 1912 году, здесь снимет дачу К. А. Тренёв. Художественная колония распространится и за пределы Коктебеля: в Феодосии будут жить художник К. Ф. Богаевский, в Судаке — сёстры Аделаида и Евгения Герцык, композитор А. А. Спендиаров.
Ну а пока что, 6 июня 1893 года, мать и сын прибывают на станцию Сарыголь, оттуда на извозчике отправляются в Феодосию. «Весь воздух был напоён запахом цветущих акаций», — вспоминает Волошин. Он заранее настроен восторженно, так что «этот по существу убогий вид Феодосии, с низкими и пологими холмами, показался мне грандиозным и блестящим». Впрочем, на первых порах юноша не увидел того «юга», который существовал в его воображении. Как писал Волошин впоследствии, он искал в Коктебеле «общих мест», их же тут было необычайно мало. «Первое лето я видел только скупость и скудость природы и красок. А их необыкновенная выразительность и элегантность для меня оставались недоступными. Понадобились долгие годы моей юности, посвящённые искусству и странствиям, чтобы открыть оригинальность и красоту Коктебеля».
Павел Павлович Теш, ставший гражданским мужем Елены Оттобальдовны, приехал на место раньше Волошиных и, встретив их в Феодосии «на тряской и очень неудобной телеге», сопровождал к новому месту жительства. «Впечатления дороги меня не пленили», — вспоминает Макс. Столовались новоявленные крымчане «в двух хатках, принадлежащих Юнге, окружённые всеми домашними животными, которых приобрёл П. П. Теш, заводя здесь своё хозяйство.
Приходили коровы и, отстранив нас ударом рогов, жевали хлеб со стола. Петухи и куры налетали на нас и выклёвывали из рук куски. Лошади тянулись к солонкам, а поросёнок так сжился с собакой, что принимал её манеры и кидался на проходящих. Хозяйство Теша напоминало не то хозяйство дальнего Запада по романам Брет Гарта, не то хозяйство Ноя, только что вылезшего из ковчега на склонах Арарата после потопа». Первоначальное обиталище Теша — Волошиных не сохранилось. Осталось лишь место на холме, именуемое сегодня «горкой Теша».
Постепенно всё становится на свои места.
Тут хорошо. Спокойно, безучастно,
Без бури и тревог тут жизнь моя течёт,
Тут воздух вечно чист, тут небо вечно ясно,
И море синее волной не шелохнёт.
Тут в красоте своей спокойны вечно горы,
И даль синеет, вся прозрачна и ясна,
И всё кругом так чудно нежит взоры,
И жизнь тут так дивно хороша.
Завороженный горными вершинами Карадага, Макс поднимается на Святую гору, как полагают, ту самую, где когда-то в древности почитали бога врачевания Асклепия. Совместно с Тешем, «человеком европейски образованным», Волошин исследует окрестности, заполняя время беседой, взбирается на все окружающие долину возвышенности и попадает в романтическое приключение: вместе с Тешем вызволяет лошадей, украденных цыганами.
Коктебель в переводе с тюркского — «страна синих скал». Волошин вскоре назовёт её «родиной духа». А пока что он вживается в дивную, хоть и суровую атмосферу этих мест, что сразу находит отражение в стихах:
Солнце жаром палит,
Раскаляя гранит,
И ни облачка на небосклоне.
Все деревья стоят,
И листы не шуршат,
И не движется ветер на воле.
Тихо плещет волна,
Будто неги полна,
И гуляет себе на просторе,
И без меры в длину,
Без конца в ширину
Расстилается Чёрное море.
Упоминая это стихотворение в своей книге «Судьба поэта», И. Т. Куприянов высказывает предположение, что оно, быть может, первая поэтическая зарисовка Восточного Крыма. Во всяком случае, это уже не ученические упражнения в стихах. Литературный почерк молодого поэта становится более уверенным, слог — чётким и пластичным. В стихах того же периода уже ощущается умение Волошина передавать настроение через пейзаж, через одухотворение природы:
Тихо всё. Стоят чинары
В надвигающейся мгле.
Зажигаются стожары
В поднебесной вышине.
На вершине Четыр-Дага
Солнца луч ещё горит,
А внизу — на дне оврага
Ручеёк во мгле журчит.
Море тихо, и волною
Ветерок не шелохнёт.
Из аула над горою
Говор смешанный идёт.
Первым из напечатанных стихотворений о Крыме принято считать то, которое начинается строками:
Зелёный вал отпрянул и пугливо
Умчался вдаль, весь пурпуром горя…
Оно датировано 1904 годом. Но от этого маленького шедевра Волошина отделяло ещё десять лет, посвящённых учёбе в гимназии, университете, а также — странствиям по Европе…
А пока надо было продолжать своё образование и в очередной раз менять учебное заведение. Макс поступает в пятый класс феодосийской казённой гимназии. Обстановка там по сравнению с Москвой, гимназией московской, кажется не такой уж затхлой. О престиже заведения и качестве преподавания заботился директор гимназии, литератор и краевед, Василий Ксенофонт Виноградов, пользующийся большим уважением и среди феодосийской интеллигенции, и среди своих питомцев.
Итак, в конце августа 1893 года в феодосийской гимназии стало одним учеником больше, а город пополнился ещё одним чудаком. На голове у этого чудака-гимназиста красовалась летняя парусиновая фуражка с непомерно большим козырьком и довольно высокой тульей. Среди однообразных гимназических фуражек эта, сшитая на индивидуальный вкус, не могла не привлекать всеобщего внимания. Ещё больше бросалось в глаза поведение юноши: шагая по улице, он беспрестанно бормотал себе под нос стихи, подчёркивая ритм плавным движением руки. Оригиналом в «белом колпаке» был не кто иной, как Макс Волошин, чьё бормотание стихов вкупе с головным убором, изобретённым Еленой Оттобальдовной, «дало общий тон отношения» к нему феодосийцев: «оригинальничанье». Впрочем, у Макса был для этого повод: «Мои стихи и моя начитанность произвели в педагогической среде такое впечатление, что ко мне стали педагоги относиться как к „будущему Пушкину“».
Ну а что же тогда представлял собой «богоспасаемый» «древний град», столь часто впоследствии воспеваемый поэтом?.. Волошин «застал Феодосию крохотным городком, приютившимся в тени огромных генуэзских башен, ещё сохранивших собственные имена — Джулиана, Климентина, Констанца… на берегу великолепной дуги широкого залива… В городе ещё оставались генуэзские фамилии… Тротуары Итальянской улицы шли аркадами, как в Падуе и в Пизе, в порту слышался итальянский говор и попадались итальянские вывески кабачков. За городом начинались холмы, размытые, облезлые, без признака развалин, но насыщенные какою-то большою исторической тоской». Поэт обращает внимание на фонтаны, «великолепные, мраморные»; их тридцать шесть, но они «без воды» — пресную воду привозили на пароходах из Ялты. Макс делает внешние зарисовки. Словом. Однако «рентгеновский луч» сознания уже направлен в глубь себя, в душу. Дневник — его постоянный спутник, но честен ли он с ним? И вырывается неожиданное: «…ложь, ложь, ложь! Я писал ведь его, собственно, не для себя, а чтобы его прочитали другие… Теперь я пишу для того, чтобы научиться хоть самому себе правду говорить…» О чём? Да конечно же о своём призвании: «…могу ли я быть писателем?.. У меня стихи выходят лучше, чем у всех товарищей московских, но что ж из этого. Вот уж больше полугола прошло, а я ещё не написал ни одного стихотворения… Страшно! Если я не буду писателем, то чем же я буду?» Какая внутренняя драматургия! Какой откровенный вызов собственной душе!..
Между тем жизнь берёт своё, что-то упрощая, что-то сглаживая. Завязываются новые знакомства. Например, с Владимиром Алкалаевым, сыном богатых херсонских помещиков. Макса умиляет то, что отец Володи «выписывал громадное количество книг и журналов и целый день проводил в их разрезании». Наверное, время от времени и читал. Впрочем, что гораздо важнее, семья эта была хлебосольная, и в доме вращалось немало педагогов. Волошин замечает, что на его пути попадаются неглупые, эрудированные люди. Феодосия — многонациональный город. Там, что характерно, «много евреев, и так как они все были значительно образованнее, чем другие гимназисты из „восточных людей“ — караимы, армяне, греки — довольно тупые, то они мне показались и симпатичными и интересными». Как относиться к этому высказыванию? Не делать далеко идущих выводов и правильно понять Волошина. Уже тогда он воспринимал человека как самоценную единицу; его достоинства — ум, обаяние — не связывал ни с классовой, ни с расовой принадлежностью.
Однако Макс пока ещё не учёный-аналитик, не философ, не психолог. Он юн и, естественно, влюблён; как и прежде, окрылён стихами. Пишет стихи его подруга, гимназистка Ольга Яшерова. Они часто бывают вместе, гуляют по бульварам. А бульвар в Феодосии, надо сказать, не то что в Москве. Здесь он — истинное, а быть может, и единственное развлечение молодёжи — гимназисток и гимназистов. «Мне он очень понравился, и в мои гимназические годы я всегда ходил гулять на Итальянскую и на бульвар. В то время он был ещё на берегу моря. Летом по вечерам здесь нередко играла музыка». А роман тем временем продолжается. Он и она обмениваются стихами. Директор Виноградов обеспокоен. Начальница женской гимназии — тоже: нравственность под угрозой. «Слухи о наших стихах и детской влюблённости стали сказкой всего города. Я ничего не имел против. Оля, очевидно, тоже. Ничего, переходящего запретные грани, у нас не было… У меня в те годы ещё совсем не было чувственности (о чувственности — в быту и в теории — речь ещё впереди. — С. П.)». И далее — отход романтической волны: «Она была некрасива. У неё был тяжёлый подбородок, как сношенный башмак. Вислый рот. Запах „парфюмерии“. Почему-то вспоминаются её чулки и башмаки». Вот так. Такая вот проза. Конечно, это ещё не любовь. Но каков трезвый, наблюдательный художник: вислый рот, чулки, башмаки. Зато стихи пишет, а чего ещё надо? Да, отношения с женщинами у Макса Волошина будут складываться заковыристо, неоднозначно. А что же Олечка Яшерова? В одном из стихотворений, посвящённых М. А. Кириенко-Волошину, она вопрошает: «Зачем, зачем Вы написали, что сильно любите меня? Как плакали Вы на бульваре, когда не приходила я?» Попробуй тут разберись…
Вообще же, в 1893–1894 годах в жизни Волошина происходит ряд интересных встреч и знакомств, оказавших существенное влияние на его судьбу. Среди новых товарищей Макса оказывается Александр Матвеевич Пешковский, в будущем — крупный учёный-лингвист, а тогда — хрупкий подросток с тёмными выразительными глазами, начитанный, любознательный, круг интересов которого был близок Волошину.
Как и в любом учебном заведении, преподавательский состав был неровным по своему интеллектуальному и профессиональному уровню. Гимназисты типа Волошина и Пешковского были в этом отношении своего рода лакмусовой бумажкой. Высказывания Макса, его дерзкие по мысли сочинения одних приводили в отчаяние, других — в негодование, третьих — в восторг. К последним принадлежал Юрий Андреевич Галабутский, учитель русской словесности, у которого с Волошиным установились самые дружеские отношения. Именно он «очень хвалил» стихи Макса и говорил, что из него выйдет поэт «большого размера».
Но ведь Волошин ещё и артист, чтец, декламатор чужих стихов, обожающий внимание публики. Во всяком случае, в юности он относится к этому очень трепетно. 5 декабря 1893 года на гимназическом вечере Макс выступает с чтением баллады А. К. Толстого «Чужое горе». Это был день его триумфа: «Аплодировали мне чрезвычайно. Вызывали меня четыре раза. Кричали, чтобы я читал свои стихи». А потом у триумфатора — «кадриль с поэтессой. Говорят, что на нас было обращено всеобщее внимание». Не важно — с кем. С Олей или другой девушкой. Важно — «с поэтессой», равной «по крови». И — чтобы «всеобщее внимание». Волошин — ещё юный, падкий на хвалу, немного капризный. Проходит четыре дня, и он уже — «в ссоре с поэтессой». Что же случилось? «Произошло это потому, что я во вторник не вышел на бульвар». Да и вообще: «Тоска последнее время страшная. Жду не дождусь, пока наконец домой не поеду в Коктебель. Я целых полтора месяца дома не был». Надо же… Размяк, мальчишка ещё; поэт, который с юношеским максимализмом выводит:
Я буду всю жизнь сражаться тогда
За правду, любовь и свободу,
За верность отчизне, за честность труда,
За счастье родного народа!
Наивно? Смешно? А ведь за каждое слово этого полудетского четверостишия Максимилиан Волошин расплатится своей судьбой…
В начале 1894 года поэт-гимназист живёт на квартире у лютеранского пастора на склоне горы Митридат в Феодосии. Комнатка небольшая, стены очень толстые, сам домик ветхий, зато возвышается над всем городом. Опять же — поэту на руку. Просыпаясь утром, он чувствует себя «висящим в пространстве. Внизу был город и порт с входящими туда пароходами. Жизнь была скучная, однообразная, но зато уединённая. За это и за вид, раскрывавшийся из моего фонаря, я полюбил свою комнату и радовался тому, что не живу больше на ученической квартире с дылдами и усачами, какими были все мои феодосийские товарищи». Начинается самостоятельная жизнь. Поэт бывает на вечерах, в частности у феодосийского адвоката А. М. Воллк-Ланевского, танцует кадриль, угощается вином, к которому, в отличие от многих собратьев по перу, так и не пристрастится, ухаживает за дамами, на досуге размышляет о жизни и делает любопытные записи в дневнике, например такие: «Человек — это яйцо, в котором во время его существования всё более и более развивается новая жизнь — душа. Смерть есть тоже рождение духа, а не тела. Душа настолько же себя не сознаёт в первые моменты после смерти, как и человек не сознаёт себя во время рождения». Да, здесь уже угадывается Волошин, склонный к антропософским размышлениям, Волошин — автор стихотворений «Грот нимф», «Пещера», «Материнство»…
Весной 1894 года Макс Волошин знакомится с преподавателем феодосийской женской гимназии Александрой Михайловной Петровой, у родителей которой вместе с Пешковским снимает комнату. Александра Михайловна была знатоком истории и культуры Крыма, прекрасно разбиралась в народном прикладном искусстве, в частности татарском кустарном производстве, питала большой интерес к оккультным учениям, впоследствии стала членом Антропософского общества. Разумеется, всё это стимулировало привязанность, если не сказать влечение, к ней молодого поэта, всегда искавшего дружбы с личностями яркими, одарёнными. «Она оказалась моим очень верным спутником во всевозможных путях и перепутьях моих духовных исканий», — писал Волошин много лет спустя. Все эти годы, вплоть до смерти А. М. Петровой, он посылал ей свои произведения, письма (в архиве поэта хранится более ста семидесяти писем к Петровой и свыше ста пятидесяти её ответных посланий), очень дорожил её мнением и советами. «Каждый раз, как я получаю Ваши письма, я испытываю очень глубокое впечатление, — пишет Волошин Петровой 12 февраля 1901 года. — Ведь действительно: существуют во всём мире только два человека, которые присутствовали при первых слабых побегах моего духовного мира, — Вы и Пешковский, и вы оба можете понять каждый шаг, каждую новую ступень, в то время как для всякого другого, сделайся он наиближайшим моим другом, я буду только величиной со многими неизвестными. Когда я получаю Ваши или его письма, меня каждый раз озаряет мысль, что об „этом“ или „так“ говорить я могу только с Вами и больше никогда ни с кем». Александре Михайловне Петровой Максимилиан Волошин посвятил свой цикл стихов «Звезда Полынь», стихотворение «Святая Русь». Прямо скажем, программные произведения.
Между тем в пределах гимназии Макс Волошин превращается в знаменитость, его стихи имеют успех и, как отмечает сам поэт, он получает здесь «первую прививку литературной „славы“, оказавшейся впоследствии полезной во всех отношениях: возникает требовательность к себе». 18 сентября 1894 года умер директор гимназии В. К. Виноградов. На похоронах этого человека, который был не только умелым организатором, но и талантливым педагогом, помимо других, выступил и учащийся VI класса Максимилиан Волошин. Он прочитал своё стихотворение «Над могилой В. К. Виноградова», которое в следующем году было опубликовано Ю. А. Галабутским в сборнике «Памяти Василия Ксенофонтовича Виноградова».
Печальное, лирическое, забавное… Все это сведено в одно русло жизни Макса Волошина-гимназиста. Юноша должен влюбляться, «крутить романы». А если их, по большому счёту, нет? Значит, надо инсценировать — какой же ты артист, с «чувством эстрады»? А тут ещё мама постоянно твердит: «Какой же ты поэт, если ни разу не был влюблён?» Кто знает? Послушаем ещё раз Волошина: «Вкуса к любви безнадёжной и неразделённой у меня не было. Поэтому, когда я узнавал, что кто-нибудь из моих сверстниц мною интересуется, то торопился ответить им равносильным чувством». Правда, как его выразить — не знал. Вот и получалась незадача: «Нас познакомили, но она так конфузилась меня, а я её, что из нашего знакомства ничего не вышло. Тем более что я и не знал, что собственно мне нужно от неё добиваться». Отметим это признание. Оно припомнится, когда Макс Волошин вступит в интимно-драматическую фазу своей жизни, которая худо-бедно прокомментируется всякими-разными критиками, тугоухими на стихи, но имеющими интерес к личной жизни поэта.
К счастью, среди товарищей Макса попадались и достойные, талантливые личности. К таковым можно отнести будущего писателя и переводчика Михаила Алексеевича Дьяконова, который в своих воспоминаниях запечатлел образ девятнадцатилетнего гимназиста Волошина. Он выделялся среди своих сверстников уже тем, что был «очень полный, но невысокий, с курчавыми волосами, более длинными, чем это разрешалось по гимназическим правилам». Но главным образом выделялся своей творческой одарённостью. Не случайно с ним считались «все учителя и даже сам директор, грозный и великолепный чех, Василий Фёдорович Гролих. И товарищи талантливого гимназиста, и учителя в один голос твердили, что это будущий стихотворец, поэт „Божией милостью“».
А поэт тем временем не забывал о своих эстрадно-театральных увлечениях. 2 февраля 1896 года в гимназической постановке «Ревизора» он исполняет роль Городничего. «Курьёзнее всего то, что по окончании спектакля со мной пожелал познакомиться феодосийский полицмейстер и горячо благодарил меня за то, что я так хорошо исполнил роль по его специальности». Этой актёрской работе сопутствовал несомненный успех, ведь и десятки лет спустя, по воспоминаниям Волошина, ему «доводилось встречать почтенных и апатичных феодосийцев — бывших любителей, когда-то пробовавших силы на сцене», которые упрекали его в том, что он не сделал театральные подмостки своим призванием.
Юноша-гимназист выступает и как режиссёр, в частности, поставивший «Разговоры дам» по произведениям Гоголя и инсценировавший «Бежин луг» Тургенева. «Он взялся за работу с большим рвением, — вспоминает тот же М. А. Дьяконов, — и я до сих пор помню, как мы часами декламировали и играли в полуосвещённом классе под руководством Максимилиана Александровича. Он изучал с нами каждое слово, каждую интонацию и положил немало труда, чтобы добиться успеха. И успех был! По словам зрителей… мы, мальчуганы, читали изумительно!.. Максимилиан Александрович всё время стоял за кулисами, подбадривая нас, пока мы были на сцене, и дирижировал группой восьмиклассников, изображавших собак…» Как видим, чувство юмора не изменяло Максу и в его сценической деятельности.
Первенствовал Волошин и на художническом поприще. Это было особенно знаменательно — ведь попечителем гимназии был не кто иной, как великий художник-маринист Иван Константинович Айвазовский, который одобрительно отзывался о рисунках талантливого юноши. А уж как Максу было приятно… С присущей ему «трепетной обстоятельностью» начинающий художник захлёбывается в словах: «Феодосия отмечена в летописях русского искусства как город Айвазовского… Здесь не было ни одного дома, в котором не висело бы одного или нескольких этюдов или картин Айвазовского… Авторитет искусства был утверждён Айвазовским в сердцах феодосийцев во всей славе его земного блеска». Макс славословит и хулиганит. Дело в том, что он предаётся рисованию не только в свободное от учёбы время. Оно, как и поэзия, нередко становилось реакцией на серые и скучные уроки, в частности Закона Божьего, когда Волошин делал наброски своих однокашников, учителей, сочинял экспромты.
В целом поэзия Волошина 1890-х годов представляет собой поток довольно-таки умелых импровизаций на мотивы русской классики XIX века. Вот «лермонтовское»:
Люблю вечернею порою.
Когда с болот встаёт туман,
Сидеть над спящею рекою,
Глядеть, как в небе надо мною
Несётся тучек караван.
Как, ярким пурпуром блистая,
В последних солнечных лучах
Несётся цепь их золотая,
На горизонте пропадая.
Кругом нисходит ночи мрак.
Замолкли птицы. Всё безмолвно.
Царит ночная тишина,
Какой-то неги будто полна.
Свои задумчивые волны
Струит заснувшая река.
Покрыто всё сребристой мглою.
Стоит в тумане тёмный лес.
Кричит вдали сова порою,
И над спокойною рекою
Сияет месяц средь небес.
Вот «некрасовское», проникнутое мыслью о притесняемом многострадальном народе:
Песня могучая, песня народная!
В чём твоя сила великая?
Сила поэзии, сила свободная,
Мощь необузданно-дикая?
Где ты находишь огонь вдохновения?
В битве ли с Божьими грозами?
В жизненной ль школе труда и терпения,
Вечно стоящих угрозами?
Или сама эта сила могучая
Входит в сердца неизвестных избранников
И выливается громом созвучия
И утешеньем несчастных изгнанников,
Нищих, скорбящих, терпящих насилия?
Что эта сила стихийно-свободная?
Ум пред тобой сознаётся в бессилии,
Песня могучая, песня народная.
Не слышится ли здесь, за некрасовскими интонациями, излюбленный мотив «изгнанников, скитальцев и поэтов», который зазвучит в поэзии Волошина конца 1900-х годов?.. В другом стихотворении — словно бы подслушанный призыв к потомкам поэтов некрасовской школы:
Выйди, писатель, на поприще жизни,
Сей просвещенье любви и добра.
Верь, ты послужишь на пользу отчизне,
Честно посеяв свои семена…
А вот юный, шестнадцатилетний Надсон в переложении младшего собрата Волошина, которому в момент написания стихотворения было примерно столько же:
…Вперёд! Вперёд! Долой сомненья!
Долой отставших ряд идей!
Мы будем сеять просвещенье,
Возбудим силу и движенье
В среде замолкнувшей своей!..
Одно из стихотворений Волошина юношеского периода озаглавлено «На смерть Надсона».
Однако едва ли кто-нибудь из поэтов старой школы оказал на формирующегося поэта решающее влияние. Символисты только-только начали заявлять о себе. В 1893 году (Волошин как раз перешёл в феодосийскую гимназию) в печати появилась прочитанная ранее Дмитрием Сергеевичем Мережковским программная лекция «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», значительно раздвинувшая представления о том, какой должна быть новая поэзия. Однако её идеи ещё не получили широкого распространения; к тому же Феодосия находилась в стороне от литературных центров России.
Волошин встречается в Коктебеле с сыном профессора Сергеем Юнге, познакомившим его со стихами своей двоюродной сестры Ани Барыковой, заслушивается рассказами о самом Эдуарде Юнге, прошедшем пешком в одежде бедуина от Каира до Марокко, исцеляя при этом сотни больных трахомой и катарактой.
В художественном и познавательном плане очень благоприятным для поэта было общение с известным пейзажистом Николаем Васильевичем Досекиным. С его семьёй Макс познакомился ещё до отъезда в Коктебель: три месяца Досекины жили в московской квартире Волошиных. Н. В. Досекин был хорошо знаком с философом Владимиром Соловьёвым, который, правда, дома у него не бывал, зато приходили некоторые из журналистов, сотрудничавших в «Московских ведомостях», близких к кругам писателя-философа Константина Леонтьева. У Досекина гостил его младший брат Сергей, тоже талантливый художник. В 1896 году, во время рождественского визита Волошина в Москву, он «встретился у Досекина с молодым человеком, с тонкими усиками и курчавой бородкой, который рассказывал о своём путешествии на север России». А ещё — увлечённо и «очень пластично» — о готовящейся постановке оперы Римского-Корсакова «Садко». Это был молодой живописец Константин Коровин. По вечерам, вспоминает Волошин, в компании Досекина «шли бесконечные разговоры и чтение „Вечерних огней“ Фета».
В тот же приезд в Москву юноша знакомится с Екатериной Фёдоровной Юнге, двоюродной сестрой Л. Н. Толстого, женой «открывателя Коктебеля» профессора Э. А. Юнге, младшей дочерью Фёдора Петровича Толстого, «председателя последних масонских лож», художника, скульптора, бывшего когда-то вице-президентом Академии художеств. Екатерина Фёдоровна была человеком талантливым и разносторонним. «С детства перед её глазами в доме отца проходила вся русская общественность — начиная с Пушкина и кончая Костомарова, Меем, Майковым и т. д.». Судя по всему, Екатерина Фёдоровна была неплохой художницей; не обделила её природа и литературным даром — остались воспоминания об отце, его либеральном салоне в эпоху царствования Александра II. Она хорошо помнила Тараса Шевченко в период его ссылки и была свидетельницей встречи украинского поэта с негритянским актёром А. Ф. Олдриджем в доме её отца. Зная английский, Е. Ф. Юнге выступала в этом общении посредником; бывший крепостной Шевченко писал портрет бывшего раба Олдриджа (выставленный впоследствии в Третьяковской галерее), а по окончании сеансов украинец пел малороссийские народные песни, американец — танцевал джигу.
Множество подобных историй рассказывала Екатерина Фёдоровна молодому гимназисту, читавшему ей свои юношеские стихи. Гостеприимная хозяйка сама писала и стихи, и рассказы, а ещё переводила «Фауста» Гёте (причём белым стихом, для точности), который был её настольной книгой. Редко бывая в Коктебеле, она жила в Москве, в Зачатьевском переулке, «и окно её выходило на задворки Румянцевского музея. Из окон большой светлой комнаты, служившей ей мастерской, был виден сзади силуэт прекрасного многострунного здания Пашкова дома. А кругом в… комнате стояло много её этюдов крымских роз, написанных в звонких и светлых тонах». Возможно, она тосковала по Крыму, по Коктебелю, где у её мужа была уже другая семья. Е. Ф. Юнге, Н. В. Досекин, К. А. Коровин… «Для меня, выросшего исключительно в средних кругах либеральной интеллигенции, — пишет Волошин, — все эти разговоры и суждения художников были новостью и решительным сдвигом всего миросозерцания».
Но, наезжая в Москву, Волошин уже скучает по Крыму, без которого его душевный мир неполон. Думы поэта постоянно обращены к местам, ставшим родными.
Так вся душа моя в твоих заливах,
О, Киммерии тёмная страна,
Заключена и преображена.
Макс занимает одну из комнат небольшого домика на Дурантевской улице в Феодосии. Дом принадлежит бабушке Александры Михайловны Петровой — Марии Леонардовне Рафанович. Окна комнаты выходят в заросший зеленью двор. Напротив — увитые диким виноградом деревянные ворота. Во дворе — экзотические айлантусы и недействующий каменный колодец. В комнате — зеленоватая полутьма, на стенах — окантованные фотографии античных статуй. Волошин уже не одинок и не испытывает нужды, отрешившись от всего мира, бормотать себе под нос вирши. Как правило, рядом с ним юноша «маленького роста, с огромным лбом боклевского склада, очень серьёзный, очень рассеянный, очень преисполненный чувством долга», Александр Пешковский. Или — молодая женщина, «с очень серьёзным, озабоченным и суровым лицом», правда, охотно отзывающимся на шутку. Она немного напоминает Афину-Палладу: «опущенный вперёд лоб, правильные черты продолговатого лица, на котором угадывался шлем, тёмные волосы, серьёзные губы». Это Александра Петрова. Трое молодых людей явно испытывают взаимную симпатию и нуждаются друг в друге. Они много беседуют, читают стихи, сочиняют шуточные экспромты, в которых главные персонажи — фиалочка и два влюблённых в неё репейника. Александр и Александра обожают Бетховена, играют его попеременно, иногда в четыре руки. С Пешковским поэт сближается всё больше и больше. Ещё бы: ведь это «страшный оригинал… очень умён, очень симпатичен, а главное, обладает замечательно мягким, добрым характером». Правда, бывают и шероховатости: отношения Макса с Петровой «перепутаны с отношениями Пешковского, и она усугубляла эту путаницу, т. к. переносила на одного разные сложные психологические результаты, получившиеся из разговоров с другим. Обижалась на Пешковского за мои парадоксы и мысли». При всех своих достоинствах Александра Михайловна, будучи старой девой, отличалась мнительностью и взрывоопасным характером. Но это ничего.
От той счастливой поры в памяти Волошина останутся весенние прогулки на мыс Святого Ильи и в Кизильник в сопровождении Петровой, которая посвящает его в «трагический смысл Киммерийского пейзажа». Они собирают скудные образчики восточнокрымской флоры: фиалки, цветы горного терна, но обретают нечто большее. Неказистые веточки, горные цветочки вызывают в воображении поэта «скромное весеннее зарождение цветочного орнамента на серых камнях и стенах высокого средневековья, ещё не знающего пышного и показного тонкого орнамента Ренессанса». Эти прогулки с Александрой Михайловной, в ходе которых преображался зримый окружающий мир, были, по словам Волошина, «истинным прологом» к его «постепенному развитию в искусстве». Поэт был хорошо знаком и с пятью младшими братьями Петровой, «резкими, грубоватыми, талантливыми», выгнанными — очевидно, за поведение — из гимназии. Все они были в отца, который воспринимался как «маленький феодосийский Леонардо да Винчи — и наружностью, и общественным положением, и широтой и разнообразием интересов». Михаил Митрофанович Петров был полковником пограничной стражи, служил в Средней Азии.
Вместе с Пешковским Волошин намеревается издавать «художественно-литературный и научно-популярный журнал» под названием «Слово». Во вступительной заметке он формулирует задачу журнала: «дать умственный толчок всей гимназии (причём имелось в виду захватить и женскую гимназию)». Помимо стихов, Макс планирует поместить там статью под названием «Злое начало в человеке», Пешковского интересует другая тема: «Современный еврей в психологическом отношении». Да, это уже не полудетские игры в репейников и фиалочку. Это серьёзно и актуально. Правда, издательские начинания друзей не увенчались успехом.
Заканчивалась гимназическая юность поэта, пока ещё безоблачная, радостная пора. Прогулки с товарищами по вечернему приморскому бульвару, где летом играл оркестр, полудетские влюблённости, застенчивость в отношениях с прекрасным полом, представительницы которого и сами проявляли к необычному юноше повышенный интерес: «Поэт… скажите какой-нибудь экспромт». — «Какие хорошие стихи у вас! В них даже смысл есть!» Одна из гимназисток дарит Максу своё фото с надписью: «Знаменитому поэту». Парадоксальность волошинского мышления уже проявляется в гимназических сочинениях, от которых учитель Ю. А. Галабутский «иногда приходил в отчаяние и возвращал… тетрадку со словами: „Как фельетон это очень хорошо, но как гимназическое сочинение это настолько выпадает из всяких рамок, что нельзя это оценить никакой отметкой“».
Макс увлекается политэкономией, греческой философией и историей. На занятиях по греческому языку переводит Платона. Но удовлетворения от пребывания в гимназии как не было, так и нет. Половина дня «пропадает совершенно без пользы… потому что на уроках только сидишь да хлопаешь глазами, да томишься, а слушать решительно нечего… На Законе Божием я обыкновенно читаю газеты, потому что поп давно махнул на меня рукой…» (из письма к матери от 21 февраля 1896 года). Волошин теперь уже сам занимается с учениками и продолжает клясть гимназию: она «буквально убивает всё человеческое, — пишет он Е. С. Ляминой 8 ноября 1896 года, — она… приучает к лени, приучает бессмысленно исполнять никому никогда и ни для чего ненужную работу… Право, одна гимназия виновата в том, что наша молодёжь так бесцельна и так мало интересуется окружающим».
Между тем в общественной жизни идёт брожение, захватывающее и молодёжь; распространяются революционные идеи. Веяния времени коснулись и феодосийской гимназии. Новый директор мужской гимназии В. Ф. Гролих закручивает гайки «со всем педантизмом и исполнительностью казённого преподавателя». Вводится чуть ли не «военный строй», классы делятся на взводы и отделения. Классные наставники проводят соответствующие беседы с учащимися, грозят суровыми характеристиками, которые могли бы перечеркнуть радужное университетское будущее. Заканчивающий гимназию Волошин, всегда отличавшийся смелостью суждений, был в этом отношении у начальства не на лучшем счету. «Моя благонадёжность, — пишет он матери, — по-видимому, находилась у гимназического начальства в некотором подозрении»: поэту устраивают настоящие допросы. Особенно усердствует С. А. Чураев, латинист, инспектор гимназии.
Впрочем, подобные обстоятельства не выбивают Макса из колеи. Он по-прежнему много пишет, значительно прибавляя в словесном мастерстве, что впоследствии позволит Екатерине Федоровне Юнге заметить: «А какие вы писали хорошие стихи, когда были гимназистом». Волошин пробует силы и как переводчик: берётся за Гейне, Уланда, Фрейлиграта — на раннем этапе его влечёт немецкая поэзия с романтическим уклоном. Уже тогда дала о себе знать предрасположенность юноши к мистификациям: под видом перевода из Гейне он посылает матери своё собственное произведение и получает одобрительный отзыв (Елена Оттобальдовна не была в этом отношении профаном — сама переводила Гауптмана). Макс получает «Вестник иностранной литературы» (при этом не забывает просмотреть «Русские ведомости», «Вестник Европы» и «Политическую экономию»), увлекается «Беседами» Эразма Роттердамского и намерен в обозримом будущем «читать, прежде всего, историю философии».
Вообще книги остаются главной страстью поэта. В конце 1895 года он составляет перечень книг своей библиотеки, который включает в себя 220 названий. Среди них — собрания сочинений Н. Гоголя, Н. Добролюбова, А. Майкова, Л. Толстого, Д. Писарева, У. Шекспира, Д. Байрона, работы Ч. Дарвина, В. Ключевского, М. Нордау, Д. С. Милля, П. Ж. Прудона, В. Соловьёва, Н. Стороженко, «История цивилизации» Г. Бокля и др. 8 ноября 1896 года Макс пишет своей кузине Лёле — Елене Сергеевне Ляминой: «У меня полный шкаф самых новых, самых интересных, наполовину ещё не разрезанных книг, каждый месяц я себе выписываю ещё новые — и мне их некогда читать… Приходится сидеть по 3, по 4 часа со своим учеником».
А вот — темы сочинений, которые пишет Волошин, используя свою начитанность: «Представители старого и нового поколения по комедии Грибоедова „Горе от ума“», «Поэт и природа», «Разбор стихотворения Державина „На смерть князя Мещерского“ со стороны языка», «Изобразительность слова в стихах Пушкина», «Влияние воспитания на человека (по литературным типам)», «О поэте нового времени». Сочинение по истории называлось «О развитии и направлении греческой колонизации». Юный оригинал по-прежнему получает дружеские выволочки от учителя Галабутского. Так, например, работая над сочинением о «воспитании», поэт вознамерился «объять всю русскую жизнь в главнейших литературных типах»; насчитал их не менее тридцати и, «конечно, ушёл далеко от темы». Учитель охарактеризовал этот опус как «сатирическо-обличительную статью» и советовал «таких сочинений больше не писать, потому что если бы оно попалось на глаза начальству», то сие обстоятельство всем бы «очень повредило». Это сообщалось в письме к матери от 22 декабря 1896 года. Примерно к этому же времени относится знакомство Макса с Ниной Александровной Айвазовской, которая позднее в своих воспоминаниях о Волошине отметит: «Он всех удивлял своими редкими способностями и оригинальностью своего мышления. Вокруг него группировался целый кружок молодёжи, его почитателей… где очень приятно было проводить время в научных беседах и спорах». Как видим, уже тогда, в эпоху гимназической юности, формировалась личность Волошина — эрудита, парадоксалиста, человека самокритичного, не особо падкого на комплименты: «Феодосийские похвалы всегда приятно щекотали моё самолюбие, но я никогда не был настолько глуп, чтобы поверить всему тому, что мне говорили»; а уж тем более — о нём. Впрочем, это уже другая история.
Какое-то время Волошин живёт вместе с Пешковским на квартире преподавателя латыни и истории Андрея Васильевича Грищенко. В соседней комнате обитает ещё один гимназист, Георгий (Жорж) Кржижевский. В этом же доме квартирует офицер, некто Лебедев, который периодически бьёт своего денщика. На чуткие ребячьи души это производит очень болезненное впечатление; плач обиженного, униженного человека не оставляет их равнодушными. 27 апреля 1897 года в записной книжке Волошина появляются заметки: «Мы были сильно возмущены. „Собственно, нам бы следовало донести полковому командиру. Но неловко гимназистам, да и нельзя“, — сказал Саша. „По-моему, следует ему сделать намёк на это за обедом. А потом я расскажу обо всём Андрею Васильевичу“, — заметил Жорж. Меня этот факт ужасно возмутил. Вообще, я замечал за собой, что если мне приходится слышать о каком-нибудь унижении человеческой личности, то в груди у меня что-то так и подымается. Но это не есть альтруизм, потому что для того, чтобы сознать всю гадость подобного поступка, мне необходимо поставить себя на место страдающего субъекта и тогда я только и возмущаюсь искренно». Как много открывает для нас этот психологический экскурс… И насколько понятнее становится деятельность Волошина-гуманиста в период российского лихолетья. Правда, описанный здесь инцидент ничем не завершился. «На Андрея Васильевича сообщение об этом факте не произвело впечатления, и он сказал Жоржу, что это и раньше известно было. Я, по обыкновению зарвавшись, сказал потом Саше, что поражаюсь, как в таком случае Кадыгроб (подполковник, начальник конвойной команды, и его жена. — С. П.) держали его на квартире. Этот спор прекратило то обстоятельство, что пора было идти в гимназию на молебен». Но это ещё не всё. Случившееся вызывает у Волошина потребность к теоретическому обобщению. Поэтому «разговор перешёл на „Оправдание добра“ В. Соловьёва», на возможность компромиссов. И, наконец, последний штрих. На другой день Волошин столкнулся в коридоре с офицером Лебедевым, и тот заговорил с ним как ни в чём не бывало: «…он мне так мило пожелал спокойной ночи, что язык не повернулся что-нибудь сказать о вчерашнем мордобитии». Более того: Макс «с большим чувством пожал ему руку и совершенно искренне и дружелюбно пожелал ему счастливого пути. Чёрт знает что такое! У меня никогда нет силы воли противостоять тону голоса. Тон оказывает на меня самое сильное влияние. Стоит только человеку, на которого я за минуту перед тем метал громы негодования, заговорить со мной дружеским тоном, — и вся злоба моя моментально исчезает и сменяется самой нежной симпатией». Показательная черта характера Макса Волошина, который всегда будет «сглаживать углы», умиротворять противников, прощать преступников и молиться за палачей… Рассуждения же о тоне заставляют вспомнить Макса-психофонолога, который будет пытаться по голосам поэтов определить их творческую индивидуальность…
Но юный Волошин и сам — прежде всего поэт. Поэт и, конечно, художник. После ощущения своеобразного «катарсиса» в истории с Лебедевым он записывает в дневнике: «Какая ночь! Я только что стоял на балконе. Свежий морской ветерок, густая лунная тень от дома на тротуаре, белесоватые полутона деревьев, перспектива улицы, сливающаяся вдали в одно неясное пятно, лёгкий силуэт судна у берега и тихие звуки засыпающего города… Какое-то странное полугрустное, полумечтательное и очень хорошее настроение. Все чувства и мысли приобретают особенную мягкость и гармоничность, тоже переходят в полутона. Стремление к чему-то хорошему, мечты о прошлом и о будущем, лёгкий трепет шевельнувшегося ветра и беспричинные слёзы, по-чему-то подступающие к глазам…» Импрессионистические зарисовки состояний души. Ощущение восторга и гармонического единения с миром. И как не вовремя всё это обрывается. «Отчего ты не занимаешься? — вопрошает неизвестно откуда взявшийся Жорж. — Ты сегодня ведь почти ничего не делал. Что ты думаешь?» Вот такое явление человека из мира прозы: взращивать поэзию в душе — значит ничего не делать. Вот если бы занимался алгеброй…
На Волошина нередко в эти месяцы нападает тоска. Возвращение домой, на квартиру, он сравнивает с возвращением в казарму. Очевидно, это связано с тем, что Жорж Кржижевский, с которым Макс не всегда находил общий язык, подселился в их с Пешковским комнату. «Жить втроём, как мы теперь, это уже казарма. Я находил себя стеснённым на той квартире, когда мы жили в комнате, отдельной от Жоржа, а теперь я чувствую себя буквально скованным. Я теперь не могу никогда ни одного слова свободно перемолвить с Сашей».
Однако всему приходит свой срок. В мае 1897 года наступает время выпускных экзаменов. На письменном экзамене по русскому языку была предложена весьма актуальная для Макса тема: «Влияние поэта на общество». Волошин, конечно же, «разобрал поэта как голос общественной совести» и определил все «стадии общественного значения поэта: поэт — пророк, поэт — жрец, поэт — национально-эпический певец, поэт — певец-трубадур и, наконец, поэт — писатель». А чуть позже происходит неприятная история с Ю. А. Галабутским, который, отстаивая своё достоинство, отказался, подобно другим учителям, дать унизительную расписку в том, что он «не будет брать взяток и писать доносов», что привело к серьёзному конфликту с директором Гролихом и поставило под удар дальнейшую карьеру преподавателя-слависта. К тому же Макс узнаёт, что его товарищу гимназисту-еврею Исару Спитковскому собираются выставить в аттестат четвёрку за поведение, что автоматически исключит возможность его поступления в университет.
И тут уже проявляется ещё одна, неизбывная, ипостась Волошина — альтруиста, выступающего в защиту ближнего. Он обращается за помощью к дочери Айвазовского, Александре Ивановне Лампси, та обещает походатайствовать перед отцом и губернатором, а вскоре поэт получает приглашение Айвазовского посетить его с кем-нибудь из товарищей. 19 мая Волошин с Пешковским прибыли к художнику в Шах-Махай, где были приглашены за стол и имели с мэтром весьма характерный разговор:
— Я вас пригласил, господа, чтобы поговорить… относительно последней истории в вашей гимназии, то есть об удалении этого учителя… как его?.. Гала… Галабутского… Так я слышал, что у вас какие-то волнения там…
— Волнений между учащимися нет: вы неправильно поняли. Александра Ивановна употребила в письме слово «волнения» в том смысле, что гимназисты очень огорчены отставкой лучшего и любимейшего учителя.
— Да… Так вот, я хотел предупредить через вас других учеников, чтобы они не устраивали никаких демонстраций против директора, потому что это может только повредить Галабутскому. Я же лично… не могу ничего сделать, так как я недавно беспокоил министра по поводу постройки нового здания гимназии… Галабутский поступил, конечно, благородно, но ведь другие же подписали эту бумагу, так следовало и ему. Зачем непременно выделяться?.. Придётся уже примириться с его удалением. Я вообще… я держусь взглядов… я собственно не…
Айвазовский вдруг смутился и запутался в словах, ожидая, очевидно, подсказки. Но гимназисты молчали. Волошину было непонятно, за кого же великий художник хочет себя в конечном итоге выдать — за консерватора или либерала. Тем временем Айвазовский всё же нашёлся:
— Я не сторонник деспотизма и сознаю, что у нас в России совершается много неприятных вещей. Но что ж: сознаёшь это, а нужно всё-таки примиряться. Ведь вот в Академии художеств был совершенно такой же случай с Куинджи…
Далее последовал рассказ о Куинджи, который, надо полагать, слиберальничал, и ни к чему хорошему это, естественно, не привело, после чего Пешковский спросил осторожного мариниста о деле Спитковского. Айвазовский встрепенулся:
— О, это дело я улажу, это я сделаю.
Потом, вспоминает Волошин, «он ушёл, оставив нас завтракать. Было ясно, что он предполагал, что в гимназии чуть не бунт, и положение его было довольно комично, когда он узнал, что всё спокойно. Когда мы позавтракали, он позвал нас к себе в студию». Вот такой неоднозначной получилась встреча Волошина с крупнейшим художником-маринистом. Что же касается Галабутского, то вместо «долгожданного перевода» в Одессу последует его переезд в Керчь (Волошин получит от него фото с надписью «Любимому ученику»); Спитковский же окажется студентом Киевского университета.
6 июня 1897 года Максимилиан Волошин получает аттестат зрелости, в котором зафиксированы следующие результаты: Закон Божий — 4, русский язык и словесность — 5, логика — 4, латинский язык — 4, греческий язык — 3, математика — 4, физика — 4, история — 5, география — 4, немецкий язык — 3, французский язык — прочерк. Ни шатко ни валко. И не так беспросветно, как было в московской гимназии. Всё идёт к тому, что продолжать обучение Макс будет в университете на филологическом отделении. Волошин действительно сдаёт документы в Московский университет, но — очевидно, в память об отце — на юридический факультет. 1 августа он становится студентом.
Мы ищем лишь удобства вычислений,
А в сущности не знаем ничего…
Приехав 23 августа в Москву, Волошин остановился у бабушки, Надежды Григорьевны Глазер (Смоленский рынок, Проточный переулок). Занятия ещё не начались, так что можно было побродить по столице, сходить в театр: «Лес» Островского в театре Корша, «Ревизор» Гоголя в Малом (выбор спектаклей, надо полагать, неслучаен — Макс участвовал в гимназических постановках обеих пьес). Пустое здание университета произвело на студента «унылое и мрачное впечатление: полутёмные, мрачные, холодные коридоры с каменными полами, в которых гулко отдаётся каждый шаг…». Вообще ему поначалу грустно и одиноко в Москве. Но вскоре приезжает Пешковский, поступивший на филологический факультет и поселившийся в соседнем доме. Друзья гуляют по Москве, посещают Исторический музей.
Начинаются занятия. Однако, как и следовало предположить, страсть к литературе и истории перевесила интерес к юриспруденции. Волошин посещает лекции преимущественно на историко-филологическом факультете, предпочитая осваивать курсы по истории западных литератур XIX века (А. Н. Веселовский), истории Франции XIX века (С. Ф. Фортунатов), истории политических учений XVIII–XIX веков (А. А. Кизеветтер). Из «своих» дисциплин Макса привлекало разве что римское право (В. А. Легонин). Небезразличен юноша и к политической экономии (А. И. Чупров), которой заразился ещё в гимназии. Круг интересов начинающего студента, как в зеркале, отразится в его творчестве. А пока что в дневнике появляется любопытная запись: «Религия — это занавеска — иногда пёстрая и красивая, иногда грязная и ободранная, которою люди стараются скрыть от себя страшное неизвестное. Большинство боится взглянуть прямо в эту неизвестную тьму, как дети, которые боятся заглянуть и войти в тёмную комнату».
Волошина всё больше захватывает московская культурная жизнь. Он посещает театры, бывает на художественных выставках, входит в курс современных литературных течений. В Большом театре Макс слушает оперу К. Сен-Санса «Генрих XVIII», в Большом зале Российского Благородного собрания — увертюру Ф. Мендельсона-Бартольди к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», в частной опере С. Мамонтова — «Псковитянку» Н. Римского-Корсакова, которая произвела на него огромное впечатление как своей музыкой, так и игрой Федора Шаляпина. И, уж конечно, «самое сильное впечатление» получает он от того же Шаляпина — Мефистофеля, присутствуя на опере Ш. Гуно «Фауст» в Русской частной опере (театр Солодовникова). Волошин переводит поэму Гейне «Германия. Зимняя сказка», изучает «Философию Канта» Кронера, «Дарвинизм» Ферьера, читает роман «Голод» К. Гамсуна, смотрит драму-сказку «Потонувший колокол» в постановке К. С. Станиславского, присутствует на вечере памяти В. Г. Белинского (50-летие его кончины) в актовом зале университета, слушает лекцию А. Ф. Кони «Князь Владимир Одоевский» в Историческом музее, ведёт переписку с А. М. Петровой, Ю. А. Галабутским, бывшей феодосийской гимназисткой Верой Нич, с которой у него сложились очень тёплые отношения.
Завязываются новые знакомства — с народовольцами мужем и женой Жебуневыми, будущим писателем, ныне студентом — Георгием Чулковым и его сестрой Любой. У тех же Жебуневых на новый 1898 год Макс встречает Елизавету Петровну Эфрон, также народоволку, приехавшую из Харькова вместе с детьми, Петром и Анной. Осенью того же года сближается с любимым учеником профессора-экономиста И. X. Озерова — Львом Львовичем Кобылинским, который прославится как поэт-символист Эллис. Тогда же это был ни в чём не знавший середины юноша, увлекавшийся политэкономией и финансами, с воспалёнными от бессонницы глазами, стремившийся всех покорить своими докладами. Но всё же лучшими его студенческими друзьями и спутниками становятся Михаил Павлович Свободин и Фёдор Карлович Арнольд. Первый из них, сын известного артиста Павла Матвеевича Свободина, умершего на сцене, в будущем раскрылся как поэт сатирического плана, но уже тогда проявил свой лирический дар, снискавший одобрение друга отца Антона Павловича Чехова, а также недюжинные способности переводчика. Второй, в недалёком будущем — присяжный поверенный, после революции — юрисконсульт, не удостоился литературной славы, но посвятил в своих воспоминаниях несколько строк студенту Волошину: «Издали Макс был похож на портрет Маркса, только был очень толстый (хотя и подвижный), с лёгкой походкой, пышной шевелюрой рыжеватых волос и лучезарной улыбкой на лице». Он был одним из тех людей, «от которых исходит постоянный ровный свет. Они принадлежат всем и никому в частности».
А вот ещё один выплывающий из прошлого «силуэт» Волошина. Где-то в начале 1898 года он посетил Елизавету Эфрон, проживающую в Москве в собственном доме (Мыльников переулок), читал ей стихи Надсона. Тринадцатилетняя Лиза Эфрон, та самая «Лиля», которая будет столь заметной фигурой в Коктебеле, запомнит «толстого нескладного молодого человека в серой тужурке».
Однако важна и самохарактеристика, собственный взгляд на себя. В этом отношении нам поможет так называемая «тургеневская» анкета, распространявшаяся среди студентов. 20 апреля 1898 года заполнял её и Макс. Вот несколько его ответов: «
Оставим эти ответы без комментариев. Отметим лишь, что наряду со сторонником политических компромиссов, шиллеровским маркизом Позой (персонажем вполне «волошинским»), выделены экстремистка, убийца Марата, Шарлотта Корде и террористка-народоволка Софья Перовская, участница покушений на Александра II. Напомним, что Максу 21 год, и взгляды его в какой-то мере отражают общие настроения «прогрессивной» молодежи накануне трёх революций.
3 января следующего года Волошин вновь заполняет анкету, и вот какие данные прибавились к уже имеющимся: «
Волошинская «разбросанность» и желание «всё понять» побуждают студента задуматься о переходе на естественный факультет, ведь естественные науки — «основа всякого знания». Елена Оттобальдовна не одобряет этих намерений сына, видя в нём «будущего человека пера». Феодосийскую же подругу Макса Веру Нич волнует в этой связи другой вопрос: что для него важнее — люди или книги? Ей кажется, что Волошин влюблён «в поэзию, в книги, в самого себя» — и больше ни в кого влюбиться не может.
Люди или книги… Уж в чём в чём, а в отсутствии общения с самыми разными людьми Макса упрекнуть было невозможно. Он часто бывает в гостях на Воздвиженке у Сергея Константиновича Лямина. Сергей Константинович, муж Елизаветы Оттобальдовны Глазер, рано умершей тёти поэта, служил инженером путей сообщения. Волошин был близок и с его детьми, Еленой (Лёлей), Любой и Мишей. В записной книжке поэта (1898) описывается «семейный обед у Ляминых» под заголовком (правда, невыделенным) «Отцы и дети». Приведём здесь выборочно застольный разговор, в котором важную роль играет Волошин и представим его в качестве: «Макс — дипломат».
Двадцатичетырехлетняя Люба, обойдя своим вниманием бабушку, Надежду Григорьевну, вдруг спохватилась и вспомнила, что она — хозяйка:
— Не хотите ли, бабушка, ветчины?
— Да кто же, Люба, ветчину после окончания обеда ест?
Вмешивается отец, Сергей Константинович:
— Ты бы должна была предложить ветчину бабушке раньше, до обеда. И обыкновенно принято угощать ветчиной… в виде закуски.
— Да я считаю, что это всё равно. Я думала, что окорок стоит на столе… и что, может, бабушка хочет… Да и зачем же предлагать… Всякий берёт, что хочет… А по моему мнению, если есть ветчина, пусть и едят, а я не… хочу угощать… и…
Бабушка смотрит удивлённо и строго.
— Однако ты своего соседа, господина Пешковского, угощала всё время и считала это нужным, а меня не считаешь нужным угощать?
Ехидная реплика младшего брата Миши:
— У них теперь всегда так — по-новому.
И тут-то подключается Макс, ущипнув Мишу под столом:
— Мне кажется, что, собственно говоря, окорок составляет неотъемлемую часть пасхального стола и потому Люба права, не угощая бабушку ветчиной. Во время Пасхи принято окорок есть и до и после обеда — когда угодно. Что же касается до Пешковского, то его необходимо угощать или, по крайней мере, напоминать ему, что перед ним стоит окорок, а не что-нибудь иное, а то он, по рассеянности, может принять ветчину за труп и начать её анатомировать.
Сергей Константинович, оценив ход:
— Браво, браво, Макс! Ты настоящий адвокат, видимо, это, готовишься к профессии юриста. У тебя язык хорошо подвешен. И ты можешь говорить, не стесняясь обстоятельствами.
Вставляет слово и другой дядя поэта, Григорий Оттобальдович Глазер, бывший архитектор:
— Да, когда он говорит, остальным нужно только молчать и поучаться.
Однако бабушка не сдаётся и «поучаться» не желает:
— Хотя вы, Сергей Константинович, конечно, в университете не учились и поэтому сравнительно с ними человек необразованный, а они ведь себя теперь очень умными считают, и вот вы говорите, что Макс хорошо говорит, а вот наша Кикимора, с которой Макс занимается, говорит, что он не умеет говорить — заикается или не выговаривает там чего — я уж не знаю. Пересказывать, словом, не может.
Сергей Константинович, умиротворяюще:
— Ну, это, может, он там конфузится, а тут в кругу своих…
Действие это происходило, судя по всему, 5 апреля. А вот ещё одна сцена, в которой участвуют та же бабушка, Макс и некто, обозначенный «Г.» (Гриша, возможно, Григорий Оттобальдович). Здесь Волошин в ином качестве: «Макс — философ». «Накатывает» вновь бабушка:
— Макс, что же это ты и на урок в блузе ходишь?
— Да, а что?
— Да так… Странно, по-моему, не идёт.
— Почему же — ведь это гимназический костюм. Разве то, что было для меня в прошлом году совсем прилично, сделалось теперь неприлично?
В разговор вступает Г.:
— Почему же тебе в таком случае не надеть матросской рубашечки и не ходить в таком костюме?
— Зачем же? Это маскарад. Я рядиться вовсе не хочу, а надеваю то, что мне удобно.
— Удобно! Ему удобно! И потому он будет ходить в неприличном костюме.
— Этот костюм вовсе не неприличный. Его, во-первых, все гимназисты носят, а потом ведь и граф Толстой такую же блузу носит.
— Граф Толстой! А?! Сравнивает себя с графом Толстым. Макс и граф Толстой! Скажите, пожалуйста! Да ты сперва дорасти до графа Толстого. Графа Толстого все знают, и Катька, вот, графа Толстого знает. Вон он там «Галку» написал — и Катька читала. А ты попробуй-ка написать «Галку». Граф Толстой носит! Носит у себя дома, а когда нужно в гости ехать, так и он сюртук надевает.
— Однако ведь моя блуза ущерба никому не приносит. Кант говорит, что то действие безнравственно, которого нельзя обобщить, а между тем, если вы себе даже представите, что все люди оденут блузы, от этого никому неприятностей не произойдёт. Следовательно, блуза ничего ужасного не представляет.
— Ну вот ещё — Кант!.. Гимназическая блуза и Кант. Педант немец, который никогда не вылезал из вицмундира!.. — и т. д.
Итог дискуссии подводит развязавшая её бабушка:
— Это уж у них в роду — и мать его также эксцентрические костюмы любит. Я помню, когда она только что вышла замуж, то упросила Александра Максимовича сшить ей русскую рубашку и шаровары для гимнастики — ну а потом и начала всё время так бегать. Александр Максимович, конечно, был этим недоволен.
Что ж, по поводу одежды Волошину ещё столько предстоит услышать! А сколько будет сказано за глаза…
И, наконец, третье действие. Точнее, это уже монодрама: «Макс — теоретик-моралист». «Общего критерия нравственности не существует и существовать не может: он изменяется сообразно духу времени и индивидуальных особенностей отдельного человека. Единственное правило нравственности — это страстное познание истины и стремление честно провести то, что считаешь истиной, в жизнь.
Что есть истина? Каждый понимает её по-своему, хотя все идут одним путём. Этот путь — познание, т. е. наука. В этой разности познания и лежит суть общественной жизни — борьба: каждый борется за свою истину и этим исполняет долг перед обществом» (из «Записной книжки» за 1898 год).
Ну и чтобы завершить эту литературно-философско-драматургическую композицию, дающую представление о Волошине, только перешагнувшем двадцатилетний рубеж, приведём здесь стихотворение «Доля русского поэта», написанное в том же году.
В вековом исканьи света,
В тине пошлости и зла
Доля русского поэта
Бесконечно тяжела.
Жажда жизни, жажда воли
Исстрадавшейся душой —
Тяжелее этой доли
Не сыскать другой!
Не жилица в этом мире
Наша муза. Ведь она
В глубине самой Сибири
Жгучим горем рождена.
Эти песни прилетели
И родились средь степей
В буйном ропоте метели
Под зловещий звон цепей
Под запорами острога,
В душной камере тюрьмы.
Боги! Боли слишком много,
Счастья здесь не сыщем мы.
И с надорванной душою,
Исстрадавшийся от мук,
Наш поэт с своей тоскою
Умирать идёт на юг.
Юг служил всегда могилой
Нашей музы. И поэт
Здесь мечтал собраться с силой,
Видя моря блеск и свет.
Стихотворение не закончено. А тема «русского поэта» и его «тёмного жребия» — только начата. Она станет одной из главных в творчестве Волошина, где-то с конца 1900-х годов.
Вернёмся, однако, вместе с поэтом в университет. Всё пока идёт довольно буднично, монотонно, бесконфликтно. Макс учится, ходит по театрам, 17 декабря 1898 года смотрит чеховскую «Чайку» в Художественном. По некоторым данным, на этом спектакле присутствовала и будущая жена Волошина Маргарита Сабашникова. Но «цельность несознанного счастья» ещё не перешла в «тихий синий свет» общей «сказки». Они познакомятся только в 1903 году.
Творческий темперамент, жизненная энергия юного Макса требовали выхода. Этим обстоятельством наряду с природным добролюбием можно объяснить его активное включение в общественную жизнь университета. В компании с друзьями он намеревается выпускать периодические сборники, что-то вроде литературно-публицистических альманахов, однако этому начинанию не суждено было осуществиться. В ноябре 1897 года Волошин становится членом Попечительства о бедных, совершает обходы с опросными листами. Несколько позже его избирают заместителем председателя Крымского студенческого землячества (точнее — заместителем представителя Крымского землячества в Исполнительном комитете объединённых московских организаций).
Тем временем атмосфера в стране, городе, да и самом университете становится всё более наэлектризованной. Поэт ощущает себя в «искусственно созданном… парнике, в который доступ внешним впечатлениям и свежим струям закрыт». Однако Волошин старается быть в курсе дел. Уже тогда его позиция активного гуманизма проявляется в полной мере. В том же, 1898 году двадцатилетний студент с группой единомышленников выступает в поддержку Эмиля Золя, вставшего на защиту офицера французского генерального штаба Альфреда Дрейфуса, против которого реакционные круги сфабриковали дело по обвинению в государственной измене в пользу Германии. Юношеский максимализм Волошина, его чувство справедливости не знают государственных границ. Беззаконие русских или французов — то и другое было для него одинаково неприемлемо.
Впрочем, внимание поэта вскоре полностью переключается на события в России, которые непосредственно затрагивают московское студенчество. Да и не только московское. Состоявшийся в марте 1898 года I съезд РСДРП стимулирует беспорядки. Р. Гуль в романе «Азеф» сравнивает Императорский Санкт-Петербургский университет с «муравейником, в котором пошевелили палкой». Единичные случаи недовольства по конкретным поводам перерастают в тотальное возмущение. Запрет ректора университета В. И. Сергиевича отмечать годовщину основания учебного заведения традиционным шествием по Невскому проспекту переполняет чашу терпения. Студенты, встреченные полицией у Дворцового моста (где произошла потасовка), вскоре начинают бойкотировать занятия.
Подобные настроения наблюдаются и в других городах. 8 февраля 1899 года (с событий в Петербурге) начинается Всероссийская студенческая забастовка. 15 февраля к забастовке присоединился Московский университет. Макс Волошин — среди наиболее активных застрельщиков беспорядков. А ведь лежала в канцелярии университета характеристика гимназиста Волошина, в которой говорилось «об отрицательном миросозерцании» этого отрока и о том, что «в гимназии он пользовался большим влиянием на товарищей, но не всегда в хорошую сторону». Не учло руководство, не сделало надлежащих выводов, и вот пожалуйста: вновь потянул своих товарищей этот недоучившийся поэт в «нехорошую сторону». Его темперамент народного трибуна находит выход в «разного рода агитациях». 15 февраля происходит «громадная сходка» студентов в анатомическом театре. Макс выступает в актовом зале (по другим данным — в библиотеке). Полиция принимает меры. В числе других возмутителей спокойствия (58 студентов, в числе которых и Михаил Свободин) его отчисляют из университета.
Происходило всё это примерно так. 16 февраля в 10 утра студент Кириенко-Волошин был арестован у входа в университет; при этом «ещё целые сутки ждать заставили». Было заведено дело, подписано свидетельство об увольнении из учебного заведения и принято решение: «ввиду отсутствия средств» отправить злоумышленника этапом в Феодосию, под надзор полиции. Что и было исполнено: пристав 1-го участка Пречистенской части сажает бывшего студента на поезд, и тот отбывает в Феодосию, куда прибывает 20 февраля. На другой день там появляется и Свободин. Друзья снимают небольшую квартиру и отправляются к полицмейстеру, который вручает им «свидетельства о неблагонадёжности». Макс входит в роль и начинает подводить под своё положение теоретическую базу, обратившись к марксизму, идеи которого в 1890-е годы витали в воздухе. Он даже просит мать привезти ему из Москвы первый том «Капитала».
Сокрушаться по поводу своего времяпрепровождения у ссыльного Волошина не было никаких оснований. Несмотря на «надзор полиции», он не был лишён свободы передвижения. Вместе со Свободиным он отправляется на два дня в Ялту, посещает Массандру, любуется водопадом Учан-Су. Воспользовавшись оказией, друзья дважды навещают Чехова, беседуют с ним о студенческих делах; Волошин делится своими впечатлениями от постановки «Чайки»; Антон Павлович даёт ему ряд полезных советов в отношении литературного мастерства. В апреле неунывающий Макс — уже в Коктебеле, взбирается на Карадаг, сетуя на то, что Мишель Свободин явно за ним не поспевает. О своём состоянии Волошин сообщает в письме к профессору Ивану Христофоровичу Озерову, специалисту в области экономики, с которым Макс в последний московский период заметно сблизился: «Я по целым дням сижу у окна, в которое глядится море, и читаю, пишу, занимаюсь… а когда надоедает, то на целый день ухожу в горы».
Вскоре здесь становится людно. Приезжают сёстры Лямины, кузен Волошина Яков Александрович Глотов (Якс или Аякс), студент-юрист Московского университета, позже здесь появляется Фёдор Арнольд. В июне предпринимается путешествие из Ялты в Севастополь, с незабываемым подъёмом на Ай-Петри, осмотром дворца Воронцова в Алупке, посещением Мангупа. Волошин, естественно, в роли проводника, стремящегося, если верить Лёле Ляминой, постоянно «сокращать путь». Потом, уже в июле, Феодосия, куда компания (или часть её) приплывает на «товаро-пассажирском» пароходе.
Хоть Волошин на время и выключен из общественной жизни, но интерес к ней у поэта не убывает. Он узнаёт, что в середине марта студенческая забастовка в Московском университете возобновилась, занятия были прекращены и на этот раз все участники событий объявлены исключёнными. Теперь уже студентам, желающим вернуться в университет, необходимо подать особое прошение. Да и то принимать будут «по усмотрению начальства». Волошин категоричен. 21 марта он пишет в Москву матери: «Я подавать прошение не буду, считая это со своей стороны подлостью». Успокаивая его, Озеров сообщает, что из 800 человек половина студентов, очевидно, будет принята обратно.
Весной из Москвы в Крым возвращается Елена Оттобальдовна. Необходимо что-то решать с дальнейшей учёбой сына. По примеру своего друга Пешковского Макс намерен поступить в один из зарубежных университетов — Брюссельский или Берлинский. Он даже начинает просчитывать в уме ситуацию: в Берлине можно прожить на 20–25 рублей в месяц — это совсем недорого, это ему по карману. Елена Оттобальдовна таких планов не одобряет. Почему бы не поступить в Юридический лицей, в Ярославле, а ещё лучше — вернуться в Московский университет. Но для этого опять-таки требуется представить соответствующее прошение с обязательством «подчиняться университетским правилам», то есть примириться со всем тем, против чего выступали студенты. Да это же себя не уважать…
Решение откладывается, а тем временем Волошин вместе с матерью и дочерью П. П. Теша — Евгенией собираются за границу. Максу предстоит впервые пересечь границу, посетить Италию, Швейцарию, увидеть Берлин и Париж. Два года студенческой жизни в Москве, как позже оценил их поэт, оставили у него «впечатление пустоты и бесплодного искания». Нужны были новые впечатления, иной масштаб познания мира. «Родина духа» раздвигала свои пределы. Памятуя мысль Чехова, брошенную им при личной беседе, что «учиться писать можно только у французов», Волошин устремляется к своим новым литературным учителям и школам. Ему двадцать два. «И мир, как море пред зарёю…»
Ты будешь Странником
По вещим перепутьям Срединной Азии
И западных морей,
Чтоб разум свой ожечь в плавильных горнах знанья…
Собирались в дорогу. Строили планы. Составляли маршрут. Изучали «немецкие Бедекеры, особенно Швейцарию». В пути Макс намерен усиленно заниматься немецким языком. От Яши Глотова в августе 1899-го приходит известие, что в университет Волошин может быть принят лишь осенью 1900 года. Что ж, прекрасно, оценивает ситуацию бывший мятежник, ведь теперь «можно будет остаться за границей до следующего августа».
Наконец, в путь. Из Коктебеля — в Феодосию, затем — несколько дней в Киеве, с посещением собора Святого Владимира. И вот уже пересечена граница с Австрией. «Вдруг мелькнул перед окнами вагона столб и около него австрийский часовой в кепи». Вечером 6 сентября приехали в Краков. «Утром мы побежали смотреть город: старый, красивый, зелёный, на каждом шагу отдающий польским средневековьем». Вечером — отъезд в Вену, где предстояло пробыть четыре дня. Вена «привела в неистовый восторг. Ослепляли и её нарядные улицы своей непривычно европейской внешностью, магазины своей роскошью, и громадные здания, и особенно, конечно, картины и памятники» (из письма И. X. Озерову). Следующий пункт назначения — Венеция. «Первое впечатление так ошеломило, что нервы как-то совсем притупились…» В четырёх строчках (позднее превратившихся в двадцать) выражены его ощущения от города, которому суждено было быть воспетым В. Шекспиром и Ф. Шиллером, Д. Г. Байроном и Т. Готье, Г. Джеймсом и Э. Хемингуэем, А. Блоком и Н. Гумилёвым, Б. Пастернаком и О. Мандельштамом:
Венеция — сказка. Старинные зданья
Горят перламутром в отливах тумана.
На всём бесконечная грусть увяданья
Осенних тонов Тициана.
Впрочем, в записной книжке поэта фиксируются и весьма прозаические факты: в Лугано «взяли абонементный билет по Швейцарии» на месяц. Мы узнаём, что стоило это 65 франков. А вот и другие данные:
Альпеншток 4 фр.
Сапоги с гвоздями 15 фр.
Тирольская шляпа 5 фр.
Швейцар. сыр 1 фр. 25 сант.
За то, что не обедали, 50 сант.
Скандал в гостинице 10 фр.
Тоже своего рода стихи. Непонятно только, почему нежелание пообедать оценивается в 50 сантимов, кому их надо платить, кто и по какому поводу устроил скандал в гостинице. Ну да это всё мелочи быта, заглушаемые настоящей музыкой названий городов: Краков, Вена, Венеция, Верона, Милан, Лугано, Цюрих, Берн, Женева, Локарно, Базель, Париж, Берлин… Мелькали в окнах поезда, уносились в ночь города и станции, но оставались в памяти шедевры архитектуры, музеи, разноликие потоки людей, заполнявших кафе и бульвары. Волошин делает наброски этих лиц, воссоздаёт силуэты прохожих, вживается в атмосферу искусства и поэзии, проникается чувством истории.
Воображение Макса поражает ущелье Via mala (дурная дорога — ит.) в Швейцарии, в долине Западного Рейна, недалеко от селения Тузис. Ему вспоминаются Гауптман, любимая драма-сказка «Потонувший колокол», очаровательное существо из мира фей, невольно вырываются строки:
Там с вершин отвесных
Ледники сползают,
Там дороги в тесных
Щелях пролегают.
Там немые кручи
Не дают простору,
Грозовые кручи
Обнимают гору.
Лапы тёмных елей
Мягки и широки,
В душной мгле ущелий
Мечутся потоки.
В буйном гневе свирепея,
Там грохочет Рейн.
Здесь ли ты жила, о фея —
Раутенделейн?
От стихов — к изложению в прозе: «Дальше пошли яркие и прекрасные швейцарские впечатления: и Рейнский водопад, и Люцерн, и Пилат, и Гисбах, и Интерлакен, и Леман, и долина Роны с Симплонской дорогой и большим Алечтским глетчером, куда я взбирался один». Миланский собор «превзошёл все ожидания». Женевское озеро восхитило.
В Париже поселились в самом центре Латинского квартала. Естественно, сразу же направились в Лувр. Парижу ещё предстоит войти в жизнь Волошина и на какое-то время заполнить её целиком. Пока же он ввергает поэта в «состояние какого-то полного одурения. Всё так громадно, широко, людно, изобильно, что голова кружится». Макс пробыл в Лувре два часа, рассматривал картины Мурильо, Рубенса, Рафаэля, Леонардо, «снизу вверх» созерцал Венеру Милосскую. Оказалось, что к встрече с подобным искусством он ещё не готов. Впоследствии Волошин напишет: «В первый раз попавши за границу 21 года от роду, я ходил по картинным галереям совершенным дикарём и наивно удивлялся: „Какую ерунду писали эти старые мастера, то ли дело наша Третьяковка!“… Это было естественное следствие живописи передвижников, на которой я воспитался. И возненавидел же я их спустя несколько лет за эти патриотические бельма!»
Античным статуям и полотнам эпохи Возрождения Волошин предпочитает «современные мраморы» Люксембургского музея — скульптуры А. Шапю, Д. Пуэ, Э. Фремье и т. п. Нагулявшись по аллеям Люксембургского сада, поэт не забывает отправить Вере Нич в Феодосию открытку с изображением памятника живописцу Антуану Ватто — тем более что это «недалеко от места моего жительства». Несколько дальше — Монмартрское кладбище, куда Волошин пришёл поклониться могиле Генриха Гейне.
15 ноября — отъезд из Парижа в Берлин. Но сначала — Кёльн, осмотр Кёльнского собора, и вновь — извержение чувств: «Вся Германия с её сказками и песнями, историей и поэзией нахлынула и охватила меня…» В Берлине остановились у Вениамина Людвиговича Гауфлера, бывшего феодосийского гимназиста, талантливого пианиста. Именно Гауфлер водит Елену Оттобальдовну с Максом по Берлину, показывает достопримечательности. Здесь же и Александр Пешковский. Чуть позже сюда приезжает Павел Павлович Теш.
А тем временем профессор Озеров, находясь в Москве, советует в письме Максу остаться в Берлине, взяться там за учёбу, а также читать «газеты всех направлений», посещать митинги, «высасывать из Запада всё, что можно высосать». Макс отчасти следует этому совету: посещает лекции в университете и собрания социал-демократов. Он уже вполне «примирился с Берлином». Как он и полагал, «жизнь здесь дешева необыкновенно и замечательно удобна», хотя Париж уже вошёл в его плоть и кровь — «Париж я никогда не забуду».
В середине декабря Елена Оттобальдовна с Павлом Павловичем отбывают в Москву. (Евгения Теш покинула компанию раньше.) Макс же никуда не торопится. В канун Сочельника, надев «новую пару», он отправляется на званый вечер. В новогоднюю ночь прохаживается по Фридрихштрассе, наблюдая народное гулянье. При этом поэт, как и намеревался, пытается овладеть немецким; с этой целью читает немецкие книги, а также газету «Форвертс», на которую подписался. Ему хочется подробнее осмотреть берлинские музеи, съездить в Дрезден. Но время начинает поджимать. Надо в конце концов определяться с учёбой. Если уж Московский университет — то филологический факультет. «В сущности, все мои интересы направлены именно в сторону истории, искусства и литературы, а никак не права», — пишет он матери. Он согласен подать прошение — только без просьбы о прощении. Успев поучаствовать 12 января (старого стиля) в праздновании Татьянина дня в одной берлинской пивной (в числе двенадцати москвичей, распевавших там студенческие песни), Волошин наконец возвращается в Москву.
Вроде бы и соскучился загостившийся в Европе юноша по Москве, да, видно, уже эстетическая шкала сместилась; впечатление от Белокаменной было удручающее. Да и какая она — белокаменная. «Москва — серая, грязная, приплюснутая к земле», — пишет он в Керчь Галабутскому. Да, зажился человек на Западе… Впрочем, сейчас не до городских картин. Макс встречается в университете с инспектором, и, судя по всему, обе стороны приходят к взаимопониманию, о чём Волошин сообщает А. М. Петровой 27 февраля 1900 года: с инспектором «сошлись на том, что я, в случае наступления новых беспорядков, в которых я сочту своим долгом принять участие, сам подам прошение об увольнении и уеду за границу». Чувствуется, однако, что мыслями он далеко от университетских аудиторий: «Много занимаюсь историей искусства, которую изучаю систематически, а кроме того, добываю деньги для летнего путешествия в Италию: пишу рецензии в „Русскую мысль“ о разных романах». Какая уж тут учёба, если студент только что понял: «мир широк и прекрасен…»
Кстати, о рецензиях. Одна из них называлась: «Италия — страна развалин». Её тема — книги рассказов М. Серао и Дж. Роветты (в переводе А. Веселовского). Сказать по этому поводу нечего, кроме того, что Макс, похоже, всерьёз настроился на поездку в Италию. А вот два других выступления Волошина в печати не столь невинны.
Его рецензия на сборник «Книга раздумий» носит прямо-таки разгромный характер. А ведь участники его, шутка ли сказать, К. Бальмонт, В. Брюсов, И. Коневской (Ореус). Именно их-то и характеризует беспощадный критик как «прелюбодеев слова». Да уж, недоучившийся студент взялся за дело всерьёз, сделав решительный выпад в сторону набирающего популярность символизма. Отметим всё же, что в дальнейшем Волошин будет в своих статьях и рецензиях выражаться мягче. А Бальмонту досталось ещё раз. Макс высказывает сомнения в качестве его переводов Гауптмана (статья «В защиту Гауптмана»). Сразу же оговоримся, что врагом рецензента маститый поэт (впрочем, тогда ещё не такой уж и маститый) не станет. Напротив, в Париже их будет связывать весьма трогательная дружба.
Ну а пока что Волошин отправляет прошение на имя ректора Московского университета. Его восстанавливают, и, сдав в мае экзамены, Макс переходит на третий курс юридического факультета. Однако он по-прежнему остаётся под наблюдением полиции, которая внимательно следит за его высказываниями, вскрывает некоторые из его писем. Нетрудно было убедиться, что надлежащих выводов поднадзорный школяр не сделал.
А школяр между тем, радуясь теплу и вольному московскому воздуху, готовится ко второму своему заграничному путешествию в компании с друзьями: Леонидом Кандауровым — студентом-естественником, талантливым физиком и астрономом, знавшим толк и в живописи, князем Василием Ишеевым — студентом-юристом и Алексеем Смирновым — также юристом, с которым Макс не был до этого знаком и который как-то незаметно исчезнет из дневника путешествия.
26 мая 1900 года молодые люди выезжают из Москвы и сразу же заводят путевую тетрадь, куда обязуются поочерёдно вносить свои впечатления. Так возникает любопытный документ под названием «Журнал путешествия, или Сколько стран можно увидать на полтораста рублей», полный доброго юмора, юношеского жизнелюбия и проницательных наблюдений. Как явствует из подзаголовка, у каждого путешественника было всего 150 рублей, а посетить предстояло Австро-Венгрию, Германию, Швейцарию, Италию и Грецию. Но ограниченность в средствах никого не смутила, ибо гид компании по прозвищу Макс де Коктебель уверял своих друзей и собственную мать в том, что, расходуя по два франка в день, «останавливаясь на постоялых дворах и в ночлежных домах и питаясь преимущественно хлебом, молоком и другой примитивной пищей, этого хватить может свободно».
Участники экспедиции выработали «узаконения», которым надлежало неукоснительно следовать в пути. Вот некоторые из них:
«В пути и остановках право всегда большинство, в случае равности голосов права слабейшая сторона. Примечание: Макс обязуется продавать свой голос за 50 сант. на каждые 5 километров пути.
Разделение по вопросу о еде нежелательно.
О часе вставания решается каждый раз вечером на основании ст. 1.
Штраф 50 сант. за безосновательное бужение товарищей.
Всякий героический поступок вознаграждается 2 фр. по решению кликом.
Вносится на общие расходы путешествия по 150 руб.
Посещение галерей и пр. учреждений записывать на счёт каждого.
В чрезвычайных ситуациях избирается диктатор кликом…»
27 мая 1900 года приступили к проведению в жизнь этих и подобных им принципов.
В Варшаве путешественники посетили Саксонский сад, один из красивейших парков в Европе. Не желая разделяться «по вопросу о еде», они приобрели булку, которую продавщица оценила в 8 ½ копейки, сдав с гривенника полторы копейки. Не успев по достоинству оценить честность и аккуратность польских булочниц, друзья столкнулись с новым математическим курьёзом: за три порции простокваши с них взяли 29 (!) копеек, сумму, не поддающуюся делению на три. За всем этим как-то на периферии остался тот факт, что в Саксонском саду видели короля Франца-Иосифа (или, может, померещилось…).
И дальше путешествие протекало в том же ключе: восторг перед красотами природы и шедеврами искусства одновременно с удивлением по поводу некоторых материальных сторон бытия. Вена — высокие дома, остроконечные черепичные крыши, музыка из окон, собор Святого Стефана и погребок по соседству, где, по утверждению гида Волошина, вино продавалось по той же цене, что и 500 лет назад. Отведав вина, компания погрузилась на пароход и получила возможность насладиться зрелищем «голубого Дуная», который на поверку оказался грязно-жёлтого цвета. Впрочем, это обстоятельство не поколебало поэтического воодушевления Макса:
Свежий ветер. Утро. Рано.
Дышит мощная река.
В дымке синего тумана
Даль прозрачна и легка.
В бесконечных изворотах
Путь Дунай прорезал свой
И кипит в водоворотах
Мутно-жёлтою волной.
Уплывают вниз селенья,
Церкви старые видны,
Будто смутные виденья
Невозвратной старины.
И душа из тесных рамок
Рвётся дальше на простор…
Вон встаёт старинный замок
На зубчатом кряже гор.
Эти стены полный ласки
Обвивает виноград.
Как глаза трагичной маски,
Окна впалые глядят.
И рисуется сурово
Их зловещий силуэт,
Как забытого, былого
Грозный каменный скелет.
Да, здесь уже узнаётся зрелый Волошин, поэзию которого Вячеслав Иванов назовёт «говорящим глазом».
Так рождалась книга стихов «Годы странствий», материал для которой поставлял каждый час путешествия. В Мюнхене молодые люди отведали пива, долго гуляли по улицам, переночевали в ночлежном доме Евангелического общества за 30 пфеннигов, на другой день посетили Мюнхенский собор и галерею Шак, где были выставлены картины А. Бёклина. Ночевали в гостинице. Затем — Новая Пинакотека, где самое большое впечатление произвели картины Г. Макса «Катрин Эмерих» и «Пашня в горах» Д. Сегантини, выполненная в импрессионистическом ключе. В Максе же Волошине проснулся искусствовед. Он пишет: «Мне казалось, что я вижу не картину, а просто окошко, прорубленное в стене… Краски её не были неподвижными… тонкие струйки теплого воздуха, не переставая, переливались, трепетали, и чёрные борозды пашни дрожали от их движения». Сколько ещё появится таких вдумчиво-личных эссе, написанных со знанием дела… Что же касается Мюнхена, то он, по определению Волошина, представлял собой «сочетание пива, картинных галерей, греческих колоннад и немецкой старины».
Приехав в Мургау, путешественники три часа ждали поезда до Обераммергау, куда прибыли только в одиннадцать вечера. Ночевали на сеновале. В этот городок, точнее, селение путники попали не зря. Здесь ожидалось представление мистерии (ведущий жанр средневекового театра), встать пришлось в пять утра, но билеты достали только на следующий день. Чтобы поставить в дневнике «культурную галочку», поднялись на ближайшую гору с крестом на вершине.
«Мистерии страстей Господних» разыгрывались местными жителями раз в десять лет, так что гостям из России повезло. Любопытен был и состав исполнителей: роль Христа исполнял гончар, Пилата — бургомистр, Иуды — маляр. По окончании представления театровед-Макс сделал выводы: «Знаменитые мистерии… утратили всю свою первобытную наивность, а действительной художественности не приобрели».
Вечером друзья вновь отправились в путь, под проливным дождём, на Оберау, откуда доехали поездом до Гармиша. Ночевали у местного столяра. Волошин подмечает все детали путешествия: спустились лесной тропой к деревне Обстег, перекусили картофельным салатом с сыром и плохим пивом. В деревне Хабихен, попив молока, заночевали в лавке на полу. Гримасы быта, неудобства ночлега — кого они волнуют в студенческом возрасте. Зато идёшь по альпийским лугам, пересекаешь снежные перевалы, любуешься горами и ледниками с опустившимися на них облаками. А впереди ещё Италия…
12 июня в 16 часов 30 минут неунывающие странники «вступили на итальянскую территорию». Под вечер, совершив за день неслыханный марш-бросок, пришли в Бормио (1225 метров над уровнем моря). Небольшой городок вблизи границ трёх государств — Италии, Швейцарии и Австро-Венгрии, попасть в который оказалось возможно, только преодолев гигантский перевал (40 километров длиной с подъёмом в 3 версты). У Макса разболелось ахиллово сухожилие. Но и это нестрашно. Можно немного передохнуть на озере Комо.
А дальше началось самое главное. Милан с его готическим собором (Диомо) и картинными галереями (Брера и Амброзиана), где Волошин встретился с произведениями Леонардо да Винчи и Рафаэля, Мантеньи и Сассоферрато. Генуя, «дикий город, нелепый и вместе с тем бесконечно прекрасный», с его улицами-щелями «между бесконечными каменными громадами» и «великолепным» морем. Флоренция, где путешественники вновь погрузились в океан искусства — живописи и зодчества: собор Санта-Мария дель Фьоре с его восьмигранным куполом работы Брунеллески и палаццо Веккио с его коллекцией тосканской живописи и скульптуры, дворцы Уффици и Питти, знаменитые своими картинными галереями, творения Рафаэля и Боттичелли, Тициана и Рубенса, Рембрандта и Мурильо, Микеланджело и Донателло, церковь Санта-Кроче с фресками Джотто (место погребения Данте, Микеланджело, Галилея). Джотто поразил поэта «своей суровой красотой». У Волошина крепнет желание «посвятить себя истории искусства, бросив постылое изучение права».
Конечно, не миновали и Пизу. В Пизанском соборе поэт думал о Галилее, некогда открывшем здесь изохроность качаний маятника. Поднимались на «Падающую башню» собора. Побывали на берегу моря. Где-то здесь в 1822 году утонул английский поэт-романтик Шелли.
И, наконец, Рим, где дышат историей Форумы и Колизей, где поражает своей величественностью и размахом собор Святого Петра. Посетили музей скульптур Ватикана, поднимались на Яникульский холм. «Вечный город! — восклицает Волошин. — Я впервые ощутил его веянье только теперь, в этом старинном дворце, чувствуя под собой сонный трепет спящего города…» Пантеон, галерея Академии Святого Луки, Капитолийский холм и Дворец консерваторов, Аппиева дорога. Много всего было, а главное — впечатлений. Но в поэтическом наследии Волошина от всего этого останутся только два стихотворения: «На Форуме» и «Ночь в Колизее». В последнем, так и не вошедшем в первый поэтический сборник, Макс Волошин использует мало характерный для него приём профанации — «снижения» истории с помощью юмора:
Спит великан Колизей,
Смотрится месяц в окошки,
Тихо меж чёрных камней
Крадутся чёрные кошки.
Это потомки пантер,
Скушавших столько народу,
Всем христианам в пример.
Черни голодной в угоду.
Всюду меж чёрных камней
Чёрные ходы. Бывало,
В мраке зловещих ночей
Сколько здесь львов завывало!
Тихо… Подохли все львы,
Смотрится месяц в окошки.
Смутно чернея средь тьмы,
Крадутся чёрные кошки…
Но в целом Вечный город настраивал на серьёзно-возвышенный лад: Античный храм, Пантеон с гробницей Рафаэля, Капитолийский музей с богатейшими коллекциями древнегреческого и древнеримского искусства, многочисленные дворцы, соборы, картинные галереи… «Здесь пьедесталы колонн, /Там возвышается ростра, / Где говорил Цицерон / Плавно, красиво и остро». Особое впечатление на поэта произвёл Тиволи, небольшой городок неподалёку от Рима, излюбленное место отдыха древних патрициев. Чуть позже он напишет:
Зацветшие мраморы старых террас,
Разросшийся плющ на пороге…
В таинственных гротах одетые мхом
Забытые старые боги…
Неаполь. Национальный музей. Помпейская живопись, ставшая для Волошина «целым откровением». Позднее в письме к Пешковскому, делясь впечатлениями от древнеримской живописи, поэт отмечал, что она «гораздо ближе к нашей современной, чем живопись Возрождения», которую он ставил ниже. При этом молодого художника поражала в античной живописи «та простота отношений ко всем проявлениям и отправлениям человеческой жизни, которая совершенно чужда нам». Этой естественности и непосредственности жизненных проявлений Волошин будет придерживаться в своей коктебельской «колонии».
Конечно, можно было бы ещё рассказать о том, как путешественники осматривали картинную галерею Ватикана, станцы[2] Рафаэля и Сикстинскую капеллу, как Волошин с Кандауровым любовались Римом с Палатина[3], поведать о том, как князь Ишеев, получив перевод в 80 рублей, купил себе новые брюки, тем самым сократив общий бюджет «на один день существования» и вызвав небывалый гнев Макса де Коктебеля, но для этого понадобился бы отдельный том, целиком посвящённый «путевым заметкам». Перенесёмся сразу в 18 июля 1900 года, день прощания с Италией.
Через Адриатическое море путь лежал в Грецию. «До сих пор отношения мои с ней были очень разнообразны и совершенно неопределённы, — пишет Волошин. — В детстве — книжки с греческими мифами и легендарными рассказами из греческой истории были моим любимым чтением. Тогда я, кажется, более всего и любил её. Но когда на фабрике благонамеренных подданных усердные педагоги стали тщательно замазывать мои мозги всякой пресной классической замазкой, приготовленной из вечно юных песен Гомера, наивно простых записок Ксенофонта и грандиозно прекрасных мыслей божественного Платона, из которых тщательно было вытравлено всё живое и всякие мысли… — тогда во мне пробудилось сильное чувство самосохранения и траурная завеса опустилась над прекрасным греческим миром».
Первые впечатления от непосредственного знакомства со страной путешественников не вдохновили. Как отметил князь В. П. Ишеев, «Греция… поразила нас своей бедностью и дикостью». Однако развалины древнего Коринфа, овеянный мифами Парнас, храмы Парфенон и Эрехтейон не могли не взволновать душу. Архитектурный ансамбль Акрополя наводил на мысль об уязвимости и обречённости красоты, невосполнимости былого величия.
Серый шифер. Белый тополь.
Пламенеющий залив.
В серебристой мгле олив
Усечённый холм — Акрополь.
Ряд рассеченных ступеней,
Портик тяжких Пропилей,
И за грудами камений,
В сетке лёгких синих теней,
Искры мраморных аллей…
«Странным кажется, — рассуждает Волошин, — как этот белый, хрупкий мрамор, местами облитый бронзовым оттенком, точно загорелый от солнца, мог ещё настолько сохраниться до нашего времени. Когда глядишь сверху на уцелевшие арки римского театра, то невольно сравниваешь эту мощную практичность Рима с хрупкостью Греции, красота которой так легко исчезает от одного грубого прикосновения варвара».
Луч заката брызнул снизу…
Над долиной сноп огней…
Рдеет пламенем над ней он —
В горне бронзовых лучей
Загорелый Эрехтейон…
Ночь взглянула мне в лицо.
Черны ветви кипариса.
А у ног, свернув кольцо,
Спит театр Диониса.
Между тем путешествие подходило к концу. Последним его пунктом был Константинополь, где не обошлось без приключений. Друзья были задержаны турецкой полицией. Протаскав «целый день по разным полицейским присутствиям», странных русских отвели в русское Пантелеймоновское подворье. Почему? Зачем? История умалчивает. Во всяком случае, это была последняя запись, сделанная Кандауровым в «Журнале путешествия».
Но всё обошлось. На пароходе Русского общества заматеревшие европейцы прибывают в Севастополь. И начинается круиз по знакомым: к Вяземским в их имение Еленкой, в Балаклаву на встречу с Глотовым, в Феодосию к Александре Петровой. Туда же приезжает и Елена Оттобальдовна. Волошин фотографируется с обеими женщинами — в «странническом» костюме: берет, накидка, широкий кожаный пояс, посох. Макс навещает в Керчи Ю. А. Галабутского. Опять же фотографируется с ним. Поэт, журналист, путешественник. Не впору ли возомнить о себе? Да нет, похоже, у Макса действительно неплохая прививка. К тому же не на всех он производит «сногсшибательное впечатление».
Примерно к этому времени (август 1900 года) относятся воспоминания известного поэта Юрия Константиновича Терапиано о том, как восьмилетним ребёнком он слушал стихи Волошина. Юра мечтал увидеть «настоящего поэта», а перед ним оказался низкий и толстый человек во фраке, похожий на помещика средней руки или купца. «Единственное „необычное“ в его облике — длинные волосы — совсем не гармонировали с лицом толстяка. — Это поэт? Волошин стоял около колонны и смотрел на танцующих, рядом с ним другие почтенные гости любовались танцами…» На другой день гимназист Терапиано (тогда ещё — Торопьяно) произнесёт категоричную фразу: «Не люблю современных поэтов». Пройдёт три года (или чуть больше), Юра несколько повзрослеет, прочтёт «явно и тайно множество книг», откажется от «детских представлений о поэтах». Он узнает о даче Волошина, находившейся недалеко от Феодосии, в Коктебеле: «Туда приезжают поэты из Москвы и Петербурга, читают стихи, ходят в греческих хитонах, чудачествуют».
Дело в том, что имение его матери — «Темеш» — находилось недалеко от Феодосии. И вот однажды будущий поэт русского зарубежья с приятелем «решили поехать верхом в Коктебель — посмотреть на пляж (коктебельский пляж славился в округе), а заодно — понаблюдать за „Волошинской дачей“». И что же? «…нам удалось полюбоваться необычайным зрелищем: впереди, в каком-то полумужском кафтане, в шароварах, шествовала Волошина-мать, ведя свой велосипед. За нею выступал сам поэт, действительно в эллинском хитоне и в сандалиях (хитон и сандалии шли к его львиной гриве гораздо больше, чем фрак), затем ещё несколько человек, мужчин и женщин, кто в хитоне, кто в обыкновенном платье, а шествие замыкали две молодые девушки в белом — „дочери московского профессора, Ася и Марина Цветаевы“, как объяснили нам любезные коктебельцы».
Юра Терапиано и предположить тогда не мог, при каких обстоятельствах доведётся ему встретиться с «дочерью московского профессора»: «Бедная Марина Ивановна, оказавшаяся почти в полном одиночестве в Париже, а на родине покончившая самоубийством! Мог ли я знать тогда, что нам суждено будет встретиться в Париже, враждовать и литературно и лично в силу сложившихся обстоятельств, затем — помириться, перед самым концом, — в последний раз я видел М. Цветаеву за несколько дней до её рокового отъезда в Россию».
И всё же вернемся в самое начало XX века. К событиям комическим и вместе с тем — драматическим. Через три недели после высадки в Севастополе Макс Волошин был арестован в Судаке и доставлен в московскую Басманную часть. Согласно укоренившейся легенде, в полицейском департаменте считали, что поэт принадлежит к «тайной студенческой организации», занимается распространением манифеста Карла Маркса и что вообще от него можно ожидать любых неприятностей.
В заключении Волошин провёл две недели. Однако, судя по воспоминаниям Фёдора Арнольда, он не пал духом, «сочинял стихи и пел их, ходя по камере. Его весёлость и выдумки были непостижимы. Жандармы вызвали его мать… и допрашивали её о причинах весёлости сына. Когда она ответила, что он всегда такой, они посоветовали скорее женить его, предполагая, очевидно, что женитьба — самое верное средство от излишнего веселья».
У Волошина же были иные планы. После того как его выпустили из тюрьмы, параллельно исключив из университета, лишив права поступления в высшие учебные заведения России и проживания в столицах и крупных городах, поэт во избежание дальнейших неприятностей принимает предложение друга детства инженера В. О. Вяземского и отправляется в Среднюю Азию на изыскания трассы Ташкентско-Оренбургской железной дороги.
Севастополь. Батум. Тифлис. «Ледяная цепь Кавказских гор». Всё очень красиво, экзотично. И вдруг: Баку — серый, ужасно тоскливый город. Поразило «бесконечное избиение рабочих-татар со стороны всех, кто только может». Дальше — Красноводск (мало что говорящее название). «Голые скалы и мёртвая пустыня, подступившая к самому Каспийскому морю». Оттуда — поездом в Асхабад. Туркестанское генерал-губернаторство. И наконец Ташкент. Город, где полно ссыльных вплоть до вице-губернатора, замешанного в деле Дмитрия Каракозова, и практически нет жандармов, так что ссыльный (точнее, бывший ссыльный, а ныне «инженер», «фельдшер» и по совместительству поэт) чувствует себя здесь вполне комфортно. То ли заранее знали о приезде Волошина, то ли мистическая случайность — но поселили изыскателей в гостинице «Франция». Вот тут-то всё и завертелось: «покупаем верблюдов и юрты… можешь себе представить, что я ведь еду в качестве фельдшера…» — пишет Волошин Глотову.
21 сентября 1900 года инженеры Вяземский и Волошин прибывают к пункту назначения. (Соответствующая информация появляется в «Туркестанских ведомостях».) Макс едет в местный арсенал для получения оружия и боеприпасов: понадобятся в изыскательской партии («меня даже сняли на извозчике с 12-тью берданками в объятиях»). Хочется на Памир. Правда, экзотики и здесь хватает: тигров «на Сыр-Дарье действительно много». Да и сам Ташкент, с арыками, пирамидальными тополями, окружённый «ледяными престолами» гор, впечатляет.
Но — ближе к делу. 6 октября изыскательская партия В. О. Вяземского (21 верблюд, 3 телеги) выходит в степь. Макс Волошин назначен начальником каравана и заведующим лагерем. Он быстро освоился. За четыре рубля приобрёл верблюжью шубу. Осмотрелся. Прислушался. «По целым дням в степи играет фата-моргана[4]… всюду фигуры верблюдов и юрты киргизов». А «на горизонте горы Каратау… Целый день провожу верхом в степи». А как иначе — ведь «степь можно действительно понять только верхом». Перед глазами — живая история: город Саурана, крепость, построенная китайцами, потом перешедшая к киргизам.
А последние три столетия в ней обитает лишь ветер. Но зато какой открывается вид со стены! «Впереди — бесконечная красновато-бурая пустыня, — пишет Волошин Глотову, — чем дальше, — всё мутнее, всё синее и горы на горизонте. Всё ровно — ни холмика, ни деревца… Тишь полная. Слышно, как стелется по земле степной ветер… слышно, как звенит сухой „джюсан“… Под лучами заходящего солнца степь пылает красным пламенем. Всё, что было днём серо, плоско и бесцветно, теперь ожило и оделось в самые яркие, ослепительные краски. От старых стен поползли густые сине-фиолетовые тени… Горы розовеют и синеют. Всё становится ярче, ярче — и начинает постепенно потухать. Степь одевается сиреневато-пепельным оттенком».
Средняя Азия, Восток, пустыня, «исступлённо-синее» небо, осколки древних цивилизаций — всё это производит на поэта неизгладимое впечатление…
Застывший зной. Устал верблюд.
Пески. Извивы жёлтых линий.
Миражи бледные встают —
Галлюцинации Пустыни.
И в них мерещатся зубцы
Старинных башен. Из тумана
Горят цветные изразцы
Дворцов и храмов Тамерлана.
И тени мёртвых городов
Уныло бродят по равнине
Неостывающих песков,
Как вечный бред больной Пустыни…
Пройдут годы, и Волошин вернётся к этим впечатлениям своей юности, развивая их в глобальном историко-философском аспекте. Восток, Азия будут восприниматься им как пракультура, от которой тянутся европейские ответвления. По сравнению с восточной, китайской, например, европейскую культуру можно считать не более чем варварской. «1900 год, стык двух столетий, был годом моего духовного рождения, — пишет Волошин в „Автобиографии“. — Я ходил с караванами по пустыне. Здесь настигли меня Ницше и „Три разговора“ Вл. Соловьёва. Они дали мне возможность взглянуть на всю европейскую культуру ретроспективно — с высоты азийских плоскогорий — и произвести переоценку культурных ценностей».
Ну а пока что Макс занимается прозаическими делами. Ему как одному из начальников приходится следить за тем, как разбивают лагерь, вести хозяйство, исполнять некоторые технические обязанности. Бывают и развлечения, например ястребиная охота на фазана, весьма популярная у киргизов забава — «козлодрание». Впрочем, за этим «мероприятием» Волошин лишь наблюдает… Лёжа в юрте, поэт штудирует «Историю европейского романа» Петра Боборыкина, читает по-французски «Путешествие по Италии» Ипполита Тэна, причём находит у него сходные со своими оценки помпейской живописи (которая, по его мнению, превосходит живопись эпохи Возрождения). Постоянно вспоминает Париж. Много общается с Вяземским, обретя в нём настоящего друга. Но, главное, он рад, что кончилась наконец эта скучная «канитель с… университетом и юриспруденцией». Вот когда он вновь окажется в Париже, тогда-то и начнётся для него «настоящее учение». Но пока что он «в центре Азии, в том котле, где кипела всегда народная буря… затапливающая своим внезапным разливом низменности восточной Европы». Кипит она и сейчас: в Китае — «боксёрское восстание»[5]. С присущим ему чувством справедливости и сострадания Волошин понимает, что в очередной раз свершается какая-то «всемирно-историческая подлость». То же отношение у него и к Англо-бурской войне. Макса переполняет чувство негодования по отношению к европейцам — колонизаторам и варварам.
Между тем 22 (23) октября изыскатели прибывают в конечный пункт, селение Джулек — пять домов, на самом берегу Сыр-Дарьи. А кругом — «бесконечные заросли саксаула и кустарника, в котором живёт бесконечное количество фазанов и диких уток, так что, когда идём, то они вылетают из-под ног в разные стороны, как кузнечики из травы жарким летом. Их так много, что они даже на двор залетают. Заячьи уши так и мелькают в густых зарослях, в которых всюду идут узкие дорожки, протоптанные дикими кабанами, которые иногда невозмутимо проходят по главной улице городка…». Занятно. Экзотично. Но что дальше? Макс намерен добраться «пешком через Памир и Гималаи в Индию», а из Бомбея — до Порт-Саида на пароходе…
Но не все планы осуществляются. Памир, Индия так и останутся недосягаемыми. Волошин с Вяземским вынуждены двинуться в обратный путь, к Туркестану, отдельно от каравана. Макс ведёт пикетаж и осуществляет глазомерную съёмку вариантов железнодорожной линии. Пройдя за пять дней 82 версты, 10 ноября друзья прибывают в город Туркестан. А спустя ещё пять суток они уже в Ташкенте. Здесь-то Волошин получает письмо матери, в котором она сообщает: «…дело студента Волошина оставлено без последствий». Зубатов даёт добро на возвращение в Москву. Но в университет Макса по-прежнему не тянет. В газете «Русский Туркестан» он публикует свои фельетоны, которые имеют успех среди ташкентских читателей. Однако надвигается зима. В строительстве дороги наступает перерыв. Надо ехать домой.
В душе поэта, во всём его существе идёт какая-то огромная и важная работа. И декабря он пишет А. М. Петровой: «Я чувствую в себе какой-то необыкновенный прилив сил… крылья мои всё растут и растут, мысль сбрасывает ветхие загородки». Волошин ощущает, что возможности его как поэта, публициста, мыслителя растут. К тому же важнейшим результатом пребывания в пустыне стала внутренняя гармонизация. «Надо всем было ощущение пустыни — той широты и равновесия, которые обретает человеческая душа, возвращаясь на свою прародину», — напишет поэт в «Автобиографии».
Наступает новое столетие. Волошин всё ещё в Ташкенте. Пишет статьи и фельетоны, изучает подшивки «Русских ведомостей» — его интересует всё, что касается китайских событий, встречается с Иваном Ивановичем Гейером, советником Областного управления, бывшим революционером, издателем газеты «Русский Туркестан», и Иваном Павловичем Ювачёвым, также бывшим революционером[6], ссыльным, путешественником, автором «Очерков Сахалина», в которых описаны впечатления от его пребывания на сахалинской каторге. Знакомством с этими людьми Волошин особенно дорожил. А Ювачёв поэта прямо-таки очаровал: «…какой-то совсем удивительный человек — примирённый, ровный… религиозный». Иногда к ним присоединяется сам вице-губернатор Туркестана Н. А. Иванов, сопровождаемый двумя полицмейстерами. Разность взглядов не мешает общей беседе «за чайным столом».
О своём «восточном» житье-бытье Волошин пишет Глотову: «Полдня я занимаюсь в конторе, а полдня читаю, пишу и занимаюсь с учениками». Макс публикует отдельными выпусками «Листки из записной книжки», содержащие впечатления от его путешествия по Европе, размышления об искусстве и философии; свои статьи в «Русском Туркестане» воспринимает как «материалы для будущих стихов».
Однако поэт чувствует, что засиделся на одном месте. В конце февраля он вместе с Ювачёвым покидает Ташкент. Самарканд. Асхабад. Баку. Тифлис. И далее «на почтовых» по Военно-Грузинской дороге — на Владикавказ. 4 марта 1901 года Волошин приезжает в так давно, казалось бы, покинутую им Москву. Впрочем, он уже начал привыкать к затяжным путешествиям. А в Москве тем временем неспокойно. В начале февраля началась Вторая всероссийская студенческая забастовка, охватившая 35 учебных заведений и 30 тысяч студентов. В Москве — массовые демонстрации, стычки с полицией. В Санкт-Петербурге разогнана студенческая демонстрация у Казанского собора. А ещё раньше, в декабре, 183 студента Киевского университета за участие в сходках были отданы в солдаты. Общественность протестует. На общей волне негодования Лев Толстой пишет письмо «Царю и его помощникам». Надвигаются грозовые события…
Но Волошин, хотя и понимает, что «в России творятся ужасы», пока что переполнен другими впечатлениями. Он встречается с Ишеевым и Кандауровым, посещает художников Поленова и Досекина. А главное, он всем своим существом устремлён в Париж. Уже тогда, совсем ещё молодым человеком, Волошин наметил для себя жизненную программу, в основе которой одно стремление:
Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Всё воспринять и снова воплотить.
«Земля настолько маленькая планета, что стыдно не побывать везде», — напишет он матери из Парижа в конце 1901 года. Странствия, наблюдения, познание, вживание, воплощение впечатлений «чертой и словом» — вот основные вехи, намечающие жизненный путь художника и поэта…
«Программа» Волошина имела чёткие географические очертания и ясно выраженные цели: «Теперь туда — в пространство человеческого мира — учиться, познавать, искать. В Париж я еду… чтобы познать всю европейскую культуру в её первоисточнике и затем, отбросив всё „европейское“ и оставив только человеческое, идти учиться к другим цивилизациям, „искать истины“ — в Индию и Китай. Да и идти не в качестве путешественника, а пилигримом, пешком, с мешком за спиной, стараясь проникнуть в дух незнакомой сущности… а после того в Россию окончательно и навсегда» (из письма А. М. Петровой от 12 февраля 1901 года).
Увы, Индия и Китай так и остались для поэта неосуществлённой мечтой. А вот Париж оказывается преддверием:
В просторы всех веков и стран,
Легенд, историй и поверий,
становится школой художественного и поэтического мастерства. Волошин выработал такую установку: «Учиться в Париже, работать в Коктебеле». Поэт испытывает потребность «пройти сквозь латинскую дисциплину формы», и это ему удаётся. В технике стихосложения он достигает подлинных высот, осваивает наисложнейшее искусство сонета — немалое влияние оказал на него в этом плане парнасец Ж.-М. де Эредиа, чьи сонеты Волошин переводил в 1904 году. По словам самого поэта, он предпочитал учиться «художественной форме — у Франции, чувству красок — у Парижа, логике — у готических соборов, средневековой латыни — у Гастона Париса, строю мысли — у Бергсона, скептицизму — у Анатоля Франса, прозе — у Флобера, стиху — у Готье и Эредиа…».
22 марта 1901 года Волошин со своим другом Пешковским прибывают в столицу Франции. Но Александр, побродив по Парижу и осмотрев Бретань, вскоре уезжает в свой любимый Берлин, а Макс тут же принимается за «учёбу». Он посещает Луврскую школу музееведения, студии Уистлера, Стейнлена, натурные классы академии Коларосси. Именно здесь художник, по собственному признанию, впервые «подошёл к живописи», выработал свой стиль.
В академии Коларосси Макс Волошин впервые увидел «голое женское тело». Дальше — больше. Выйдя на бульвар Сен-Жермен, он знакомится у памятника Дантону с проституткой по имени Сюзанн. И что же? Надо сказать, что поэт с младых лет ощущал некий внутренний диссонанс; если угодно, конфликт души и тела. В «Истории моей души» он пишет о теле как о чём-то внешнем по отношению к своей внутренней сути: «Я стыдился его». «Он», тело, превращается в дневниковой записи в самостоятельный персонаж. Вот как представляется Волошину лирико-драматический эпизод, который можно назвать «Я, Он и Сюзанн».
«Вечер. На тротуарах пятна света и полосы тени. Из аптечного окна лучится красное сияние. Каштанные листья около электрического фонаря кажутся бумажными. Воздух тёплый и сухой. Запах людей влажный… В голове стучит кровь. Час пред этим он видел голую натурщицу. Это было в первый раз в его жизни… Он поднял глаза, и женское тело (она стояла, заложив руки за голову, освещённая двумя фонарями с рефлекторами) поразило его своей обыденностью… И когда он вышел, была ночь… Вблизи — светлые пятна лиц. Иногда запах женского тела…
У меня есть 20 франков, думал Он… Я считал преступным купить женщину, но Он никогда не считается с принятыми нравственными положениями. Он берёт жизнь как она есть… Женщина смотрит на него, и их глаза встречаются. Она сразу понимает его взгляд: в её глазах вопрос. Что-то сразу собирается у меня в груди, сжимается… Я перестаю чувствовать ноги, вдруг становится мучительно стыдно, и я быстро отворачиваюсь. И прохожу несколько шагов и останавливаюсь около памятника Дантону. Я чувствую, что она идёт за мной, но я не решаюсь взглянуть. Под рукой я чувствую тёплый шероховатый камень. И она проходит мимо меня и задевает точно случайно плечом. И опять что-то горячее стягивается у меня в груди. Я отрываю свою спину от памятника и иду за ней. Она на ходу оборачивается и улыбается мне. Затем останавливается на углу тёмного переулка, где нет людей. У меня кружится голова, и я приказываю своим ногам идти туда, как то бывает в опьянении. И вот я подошёл, и я не знаю, как начать… Я готов убежать, но мне стыдно. Я стараюсь припомнить, что обыкновенно говорится в таких случаях, и говорю: „Вы мне позволите вас проводить?“
И я чувствую, что говорю не то… Мы переходим через улицу, и мне стыдно, что меня могут увидеть…
— Вы иностранец?
— Да, я русский.
— Погодите, я возьму ключ.
…Мы поднимаемся по лестнице, и она наклоняется, шаря в поисках замочной скважины. Я чувствую около себя юбку, дотрагиваюсь до неё робко пальцем и думаю: „Неужели это и есть?..“ Она зажигает спичку, и мы входим…
„У меня здесь собачка. Моя маленькая собачка“, — говорит она и берёт на руки крошечное дрожащее существо. Я делаю вид, что очень заинтересован собачкой, глажу её и говорю: „Какая хорошенькая собачка“…»
Опустим здесь занавес… Ночью поэт записывает в дневнике: «Я вовсе не чувствую ни сожаления, ни угрызений совести, ни отвращения, ни обаяния своего собственного падения, а скорей какое-то радостное освобождение от чего-то давившего столько долгих месяцев». Поставим здесь многоточие, отметив лишь, что художник воспринял этот эпизод как «важное событие» своей жизни.
Другим важным событием, правда, иного плана, стало знакомство Макса с художницей Елизаветой Сергеевной Кругликовой, хорошо знавшей Вяземских и Ювачёва. Вот как она его описывает: «1901 год. Ранняя весна. Париж, ул. Буассонад, 17. Ателье Давиденко и Кругликовой. Позирует модель-итальянец. Работают Е. Н. Давиденко, Б. Н. Матвеев и я. Стук в дверь. „Entrez!“ Стремительно появляется толстый юноша с львиной шевелюрой, в пенсне на широкой ленте и заявляет с изысканно-вежливым поклоном, что он имеет рекомендации со всех концов мира к Елизавете Сергеевне Кругликовой. „Я Макс Волошин“. — „Милости просим“, — отвечаю я, прерывая работу. „Садитесь“… „А можно и мне порисовать? Я никогда не пробовал“. Даём ему мольберт и бумагу, и он, пыхтя, усердно принимается за рисунок. В перерыве вопрос: „Ну как?“ Указываю ему ошибки… Он ещё усерднее работает и всё спрашивает: „А теперь уже хорошо?“ К концу сеанса — дружба на всю жизнь».
В мастерской у Е. С. Кругликовой тогда, в начале XX века, собирался весь цвет литературно-художественной богемы. К ней заходили К. Бальмонт и В. Брюсов, Вяч. Иванов и Н. Гумилёв (позднее), П. Боборыкин и А. Толстой, Н. Досекин и А. Бенуа, Р. Гиль и Р. Роллан. «Очень скоро, — вспоминает Елизавета Сергеевна, — Макс становится центром моего круга знакомых, бесконечно увеличивая его… При участии Макса создался Русский Артистический кружок в Париже».
Для Волошина ничто человеческое не чуждо. Ему всё интересно. «Музеи, выставки картин, театры, кафе, кабаре, фуары, рынки и т. п., — рассказывает Е. С. Кругликова. — Макс очень быстро изучил Париж до мельчайших подробностей и придумал интересные прогулки… Иногда прибежит ночью, перелезет через ограду и неистово стучит в дверь. Заставит подняться и тащит нас в Hailes Centrales (Центральный рынок. — С. П.), то на Монмартр, то ещё куда-нибудь, к восходу, солнца». С особым интересом Волошин посещает выставки Салона Независимых — сообщества художников, противопоставивших своё творчество традиционному, академическому искусству. Начиная с декабря 1884 года, когда были представлены не принятые в официальный Салон картины четырёхсот художников, эти выставки устраивались ежегодно под руководством высоко ценимого Волошиным Одилона Редона.
В разделе «Лики Парижа», составляющем пятую часть книги «Лики творчества», русский поэт воссоздаёт атмосферу этого нового французского искусства (глава «Вернисаж у Независимых»): «Здесь бывает весь Париж. Не тот „весь Париж“, о котором пишут в кавычках, Париж модный и блестящий, Париж салонов, снобов, эстетов-любителей, но настоящий весь артистический Париж, тот Париж, который ютится по мастерским и мансардам, который ищет, работает, учится, который презирает правительственное покровительство больших салонов, который пишет своим девизом „Pas de jury, pas de recompenses!“ (Ни жюри, ни наград. — С. Я.)… Фигуры длинноволосые, фигуры длиннобородатые, в необъятных бархатных шароварах, с широкими чёрными бортами, в остроконечных широких шляпах, вылезают в этот день из своих монмартрских и монпарнасских берлог, в которых ещё длится мгновение романтизма тридцатых годов…»
Корреспонденции Волошина о художественной жизни Парижа вскоре появятся в России — на страницах «Весов», «Аполлона», «Золотого Руна» и других периодических изданий. Расширяется круг знакомств с известными поэтами, художниками, скульпторами, декораторами и просто интересными людьми. В начале апреля 1901 года Макс Волошин наносит визит Александре Васильевне Гольштейн, бывшей народоволке и политэмигрантке, выступающей в печати с литературно-художественной критикой и переводами. Поэт «нашёл в ней человека, от которого веет какой-то живительной свежестью мысли». Быстро завязываются отношения; Александра Васильевна способствует вхождению Макса в артистическую среду, знакомит его с французскими искусствоведами.
Примерно тогда же Волошин и Кругликова посещают митинг французских писателей «для выражения протеста против русских безобразий». Макс отмечает «прекрасную речь» поэта-анархиста Лорана Тайада и вообще склонен думать, что Россия — на пороге революции. С юношеской наивностью он полагает, что в этом — «неожиданное счастье». Но, конечно, живёт он не этими мыслями. Его бытиё укладывается в несколько слов из письма А. Пешковскому: «Дни провожу в библиотеке, вечера — в художественной академии». Он с удовольствием читает первую часть трактата Д. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», вместе с бывшей феодосийкой Д. Бершадской присутствует на сионистическом собрании, слушает выступления врача, литературоведа и философа Макса Нордау. Ему всё интересно.
Но на одном месте не сидится. Волошина давно влечёт на Пиренеи, он уже заранее «покорён» республикой Андоррой, поскольку «об ней решительно нигде и ничего не написано». И вот начинаются сборы в дорогу. К Максу присоединяются уже упоминавшиеся художницы Елизавета Сергеевна Кругликова и Елизавета Николаевна Давиденко, а также академик живописи Александр Александрович Киселёв. Добываются «вверительные грамоты». Составляются маршруты. По-прежнему предпочитая отелям и проезжим дорогам ночёвки в хижинах и пешие переходы, Волошин выбирает в качестве отправного пункта ту самую Андорру, маленькое государство между Францией и Испанией, не имеющее, как говорилось в справочнике Бедекера, никаких достопримечательностей, «кроме первобытных нравов своих обитателей, государственного устройства да скромного дворца, который служил местом заседания государственного совета, местом ночлега для его членов, зданием суда, городской ратушей, школой и тюрьмой».
Жизненная энергия и творческая фантазия поэта в очередной раз передались, как всегда, его спутникам. В одночасье появляются географические карты, вырабатывается план действий. «По системе Макса, — вспоминает Е. С. Кругликова, — готовятся костюмы: какие-то необычайные кофты из непромокаемой материи с множеством карманов для альбомов, красок, кистей и карандашей, рюкзаки, сапоги на гвоздях, велосипедные шаровары, береты… Когда мы нарядились чучелами вроде Тартарена, то оказалось, что не только пешком нельзя двинуться, но в вагон едва влезешь…» Впоследствии всё лишнее пришлось отправить в Париж.
26 мая 1901 года путешественники прибывают в Тулузу. Далее — Тараскон. Предгорья восточных Пиренеев. В деревушке Марк заночевали на сеновале у лесника. Пробудившись в четыре часа утра, продолжили вояж. Путь лежал через горные склоны. Попадались какие-то подозрительные субъекты. Как стало известно, «республика живёт доходами от контрабанды между Францией и Испанией, меняя быков на сигары». Прибыв в крохотную столицу республики — город Андорра-ла-Вьеха, — путешественники пообщались с президентом, который не мог изъясняться ни на каком европейском языке, кроме андорро-испанского жаргона, осмотрели ратушу и гильотину, ни разу не действовавшую, но сохраняемую для устрашения. Как и прежде, решено было завести дневник путешествия, в котором надлежало записывать или зарисовывать свои впечатления. Дебютировал здесь, естественно, Волошин, который начал эту тетрадь своим стихотворением «В вагоне», написанном в поезде, где-то между Парижем и Тулузой. «Странником вечным / В пути бесконечном» представлялся поэт самому себе, и эта формула из раннего стихотворения Волошина как нельзя лучше характеризует его в юности.
Ещё в «Журнале путешествия» за 1900 год М. Волошин сделал такую запись: «В путешествии не столько важно зрение, слух и обоняние, сколько осязание. Для того, чтобы узнать страну, необходимо ощупать её вдоль и поперёк подошвами своих сапог. В путешествии количество виданного всегда обратно пропорционально количеству истраченного и съеденного». К этому остроумному определению трудно что-либо добавить. Теорию молодой поэт и художник подтвердил практикой. Андорру, Балеарские острова (Майорку), Испанию он стремился исходить вдоль и поперёк. «Закрепить преходящий миг» увиденного и познанного помогали стихи, статьи, путевые заметки.
2 июня Волошин оказывается в Барселоне. По местной традиции посещает бой быков. Этому событию он посвятил статью, опубликованную в газете «Русский Туркестан». Отдавая должное красочности и драматизму зрелища, поэт тем не менее воздерживается от восторгов. «Христианские традиции всё-таки слишком сильны во мне, — сказал он одному мадридскому журналисту, — и когда лошадь наступает копытами на собственные внутренности, я никак не могу найти в этом наслаждение». На корриде писатель вспоминал толстовского Холстомера, «которого ведут, также с завязанными глазами, на бойню».
Зорким взглядом прирождённого журналиста Волошин выхватывает из толпы зрителей хорошо одетого мальчика лет семи, обхватившего рукой деревянный столб и дрожащего как в лихорадке, подмечает прислужников, засыпающих песком свежую кровь, описывает забавную погоню полицейских за добровольцем-тореадором, явившимся из числа зрителей амфитеатра, и грустно констатирует, что «с удивительным однообразием убивается шесть быков». Со свойственными ему мягкосердечием и парадоксальностью поэт отмечает, что «наиболее человечным и симпатичным лицом во всей этой истории» для него был именно бык.
Две статьи возникают вследствие пребывания Волошина на Майорке. Он с любовью описывает Вальдемозу, место, где Жорж Санд однажды провела зиму вместе с Шопеном, живя в келье старинного монастыря. Именно здесь, в Вальдемозе, рождается одно из самых светлых и звучных стихотворений Волошина — «Кастаньеты», посвящённое Е. С. Кругликовой. Опоэтизированное впечатление от вечера, проведенного в простом деревенском кабачке:
…Вечер в комнате простой,
Силуэт седой колдуньи,
И красавицы плясуньи
Стан и гибкий и живой,
Танец быстрый, голос звонкий.
Грациозный и простой,
С этой южной, с этой тонкой
Стрекозиной красотой.
И танцоры идут в ряд,
Облитые красным светом,
И гитары говорят
В такт трескучим кастаньетам.
Словно щёлканье цикад
В жгучий полдень жарким летом.
Столкнувшись с испанской танцевальной культурой, Макс испытал настоящее потрясение. В статье «По глухим местам Испании. Вальдемоза» он пишет: «Весь танец — это какая-то неуловимая сеть быстрых движений, полных южной, стрекозиной фацией. Всё танцует: всё тело, каждый мускул, каждая косточка, только руки почти неподвижно распростёрты в воздухе, точно стрекозиные крылья… Кастаньеты в исступлении рассыпаются на тысячи игл, на тысячи жгучих, отточенных солнечных лучей, веками копившихся в сухом стволе оливы, из груди которой их вырезали…» Танец позволяет художнику лучше постичь душу испанского народа: «Всё то, что Италия поёт, — Испания танцует. Она танцует всегда, она танцует везде.
Она танцует обрядные танцы на похоронах у гроба покойника; она танцует в Севильском соборе на святой неделе свой священный танец пред алтарём в церкви как часть богослужения; она танцует на баррикадах и пред смертной казнью; она танцует пред началом боя быков; она танцует днём, танцует и в полуденный зной, танцует благоуханной ночью, когда звёзды отражаются в морской волне, а воздух „лавром и лимоном пахнет“».
Волошин посещает дворец эрцгерцога Людвига Сальватора, осматривает часовню, усыпальницу герцогов Сен-Симонов, наслаждается Вальдемозой, находя её прекраснее всего, что когда-либо видел. Хотя не всё так уж безоблачно. В Барселоне пропадает багаж поэта, в котором словари и другие необходимые вещи. Но Макс по природе своей не-унываем. Его ждёт Валенсия. Там, в портовом кафе, он как истый монмартрский художник делает портреты посетителей. Малага, Севилья — на этот раз в блокноте Макса наброски танцовщиц-гитан, работающих в жанре фламенко. Похоже, Волошин оценил пользу рисования для знакомства «со всякими классами», тем более — без знания языка. А ведь хочется ещё передать на бумаге драматизм корриды, сделать зарисовки «родины Дон-Кихота» Ла-Манчи…
Однако скоро поэта уже влечёт обратно в Париж. Отдав дань уважения Толедо и Мадриду, Волошин 9 июля 1901 года возвращается в столицу Франции. Его ждут любимые места: Сена, Тюильри, «Монмартр и синий, и лучистый. / Как жёлтый жемчуг — фонари. / Хрустальный хаос серых зданий… / И аромат воспоминаний…».
Я — глаз, лишённый век. Я брошено на землю,
Чтоб этот мир дробить и отражать…
И образы скользят. Я чувствую, я внемлю,
Но не могу в себе их задержать.
В Париже Макс окунается в привычную жизнь. Он занимается в библиотеке Святой Женевьевы, записывается в Национальную библиотеку, посещает музей Гюстава Моро, изучает рисунки и литографии Одилона Редона (у Волошина — Рэдона), которые его потрясают. «Образы Рэдона — это реальность не из земного мира, — напишет Волошин в статье „Одилон Рэдон“ („Весы“, 1904, № 4). — Только в готическом искусстве французского XII века можно найти формы, подобные формам Рэдона… Его чувства так тонки, что впечатления жизни переходят предел боли, предел ощущаемого — у него нет вкуса к действительности… В каждом рисунке Рэдона есть бездонные колодцы, из которых одна за другой выплывают безымянные и бесчисленные формы…» Один из основоположников символизма в живописи, О. Редон был чрезвычайно популярен в среде московских символистов, возглавляемых Валерием Брюсовым. В начале 1904 года редакция журнала «Весы» по инициативе Брюсова активно пыталась привлечь Редона к сотрудничеству, готова была даже посвятить ему отдельный номер. Переговоры с французским художником взял тогда на себя Волошин…
Макс читает новый роман Октава Мирбо («21 день неврастеника»), переводит «мелкие рассказы» Анатоля Франса. Он пишет матери, что его привлекает история французского общества 1830–1840-х годов, что он штудирует Ренана[7] и что его вдруг потянуло на книги «по сатанизму». Поэт приходит к выводу (на тот момент), что французская литература значительно богаче русской и «историческое значение Бальзака» больше, чем значение Льва Толстого. «Если я проживу года 3 в Париже и войду вполне в курс французской литературы и искусства, то смогу действительно написать много нового и интересного для русского читателя». А. М. Петрову он зовёт идти «к свету искусства — в Париж», добавляя: «Я никогда так не чувствовал полноты жизни». 14 августа он пишет ей же о необходимости журнала «для объяснения того… громадного движения в искусстве, которое происходит теперь». Ведь в России, считает поэт, мало что понимают в западной культуре. Вследствие правительственной цензуры, а также консервативных установок владельцев и редакторов журналов всё новое остаётся недоступным русскому читателю.
М. Волошин подходил к французской литературе со своим вкусом и расставлял приоритеты по-своему. Кто был ему особенно близок? 30 июня 1932 года, незадолго до смерти, на вопрос критика и библиографа Е. Я. Архиппова: «Назовите вечную, неизменяемую цепь поэтов, о которых вы можете сказать, что любите их исключительно и неотступно», — Волошин ответил коротко и чётко: «Анри де Ренье, Поль Клодель, Вилье де Лиль-Адан». В честности этого ответа нетрудно убедиться, открыв его книгу «Лики творчества». Первым (во всяком случае, по композиции) в списке любимых французов выступает Вилье де Лиль-Адан, чья трагедия «Аксель» была переведена Волошиным и оценена им как величайшее творение мистической драматургии («гениальная оккультная драма»), О творчестве этого писателя русский поэт всегда отзывался в восторженных тонах; его привлекала афористическая глубина высказываний французского драматурга. В 1908 году Волошин напишет: «Вилье де Лиль-Адан — непризнанный гений во всём романтически-царственном блеске этого слова. Пятьдесят один год (1838–1889) провёл он на земле, написал полтора десятка маленьких книг, содержания которых хватило бы на несколько сот томов, золотыми семенами мысли оплодотворил умы писателей и поэтов, ныне славных и признанных, и вот через двадцать лет после его смерти он остаётся так же непризнан, как и при жизни…»
Барбэ д’Оревильи был также «подземным классиком», мало оценённым современной критикой. Писатель-аристократ, «мушкетёр» и «крестоносец» французской литературы, смешавший в своём творчестве «дерзость корсаров, католицизм шуанов и гордость Бурбонов», артист в жизни и литературе, грешник и моралист, «верующий богохульник», автор книги «Les Diaboliques» («Лики дьявола»), он прельщал Волошина способностью постоянно «играть», оставаясь искренним, шокировать публику парадоксальностью суждений, не теряя при этом глубинный стержень своих убеждений. Это он, «Дон-Кихот критики» и «великий Коннетабль французской словесности», однажды сказал: «Дьявол — великий художник… Но нельзя допускать, чтобы произведение, вами написанное, было освещено адскими огнями, когда вы имеете честь быть христианином».
Анри де Ренье воспринимался Максом не как бытописатель или психолог, но скорее как «изобразитель» характеров, нравов, пейзажей и интерьеров. Волошин ценил творчество этого писателя и как переходное звено от символизма к «новому реализму», речь о котором ещё впереди. Он переводил стихи и прозу Ренье, высоко оценивая его и в том, и в другом роде. Русский поэт видел в Ренье художника «пушкинского, рафаэлевского типа», наделённого даром жеста, «не нарушающего гармонии линий». И ещё два высказывания Волошина: творчество Анри де Ренье «является органическим сплавом Парнаса с символизмом. Он умеет в своём „свободном стихе“ сохранить строгую отчётливость парнасской формы, а однообразным „александрийцам“ придать музыкальную текучесть „свободного стиха“»; «Я не знаю никого из современных лириков, в котором бы так, как в Анри де Ренье, сочетались тончайшая музыкальная лирика с выпуклой пластичностью формы, а чувственность принимала бы такие чистые и опрозраченные формы».
Волошин открыл для России и Поля Клоделя, признав, однако, что и во Франции «это имя не произносится на страницах больших журналов и широкой читающей публике совершенно неизвестно, что является лучшей рекомендацией чистоты его гения, не принявшего в себя никакой посторонней примеси, не отмеченного ни одним пятном вульгарности». Он переводил оду Клоделя «Музы», и первая его статья о нём вышла под названием «Предисловие к „Музам“ Поля Клоделя» в журнале «Аполлон» (1910, № 9). Вторая статья «Клодель в Китае» («Аполлон», 1911, № 7) была посвящена восприятию французским писателем восточной философии и искусства (Клодель состоял на дипломатической службе в Китае с 1895 по 1909 год). Волошинский интерес к Востоку был во многом подогрет именно Клоделем. Кроме того, в произведениях Клоделя, его «образах и уподоблениях», русский поэт обнаружил нечто такое, «что подводит нас к самой сущности понятия времени».
Действительно, для того чтобы понять литературно-философские взгляды Волошина, необходимо иметь представление о тех эстетических влияниях, которые он испытал на себе в Париже. Пожалуй, решающее воздействие на становление как собственно художнического, так и поэтического стиля Волошина оказали (помимо упомянутых представителей литературы и искусства) импрессионисты. В статье «Французский и русский театр» (1904) он пишет: «Человек, не отдающий себе отчёта об историческом значении красок импрессионистов и неоимпрессионистов, тонов Гогена, Сезанна и Матисса, никак не может быть дамским портным», а уж тем более, продолжим мы, поэтом, воссоздающим «лица и маски» Парижа.
Импрессионизм, возникший в начале 70-х годов XIX века во Франции как противопоставление салонному академическому искусству, проявил себя в разных художественных сферах — живописи, поэзии, романе. Новый метод завоёвывал признание своим жизнеутверждающим пафосом, верностью природе, оригинальностью композиционных построений и цветовых решений. «Импрессионист — это искренний и свободный художник, который, порвав с академической техникой и ухищрениями моды, со всем простодушием предаётся очарованию природы, бесхитростно и с максимальной откровенностью передавая напряжённость полученного им впечатления», — так определил художника нового типа критик П. Манц. Основной принцип импрессионизма предвосхитили в своём «Дневнике» братья Гонкуры: «…видеть, чувствовать, выражать — вот искусство». Новое искусство ориентировалось на эмоционально-чувственные впечатления. «Это так гадко — голый разум!» — восклицал О. Ренуар, противопоставляя умозрительности стремление «лишь осязать», «…по меньшей мере — видеть». Главный рубеж для художника, по мнению его сына Ж. Ренуара, автора известной монографии об отце, проходил «между теми, кто чувствует, и теми, кто рассуждает». «Импрессионизм должен быть теорией чистого наблюдения», — заявлял К. Писсарро.
Импрессионизм в живописи и поэзии предполагает способность художника запечатлеть мгновения изменчивого мира. Его техника своего рода «импровизация», когда «убирается всё лишнее». Искусство сводится к «увековечиванию в высшей, абсолютной, окончательной форме какого-то момента, какой-то мимолётной человеческой особенности…» («Дневник» братьев Гонкуров); прекрасное означает «жизнь, в своих бесконечных выражениях, постоянно изменяющихся, постоянно новых» (Э. Золя). «Я пишу то, что сейчас чувствую, — утверждал К. Писсарро. — В чувстве всё дело, — остальное происходит само собой».
«Письмо из Парижа. I. Клод Моне. Итоги импрессионизма. II. Англада» — так назвал М. Волошин свой очерк, опубликованный в журнале «Весы» (1904, № 10). «Он вошёл в плоть и кровь современной живописи, — констатирует автор победу импрессионизма как художественного направления. — Мы его впитали глазами. Он стал нашим инстинктом». Таким образом, Волошин утверждает, что импрессионизм выражает общее отношение современного человека к миру и природе, инстинктивное (с чем согласился бы О. Ренуар) постижение и воспроизведение действительности. Отмечая близость импрессионистов природе, поэт тем не менее считает, что в их пейзаж «войти… нельзя. Между ним и зрителем прозрачное и непроницаемое стекло, об которое мечта бьётся, как ласточка, попавшая в комнату». Для художника, считающего, что пейзажист «должен изображать землю, по которой можно ходить, и писать небо, по которому можно летать», такой способ мировоспроизведения не мог казаться абсолютно приемлемым. И всё же импрессионисты, по убеждению Макса, «обновили искусство, пустив новые корни в жизнь. Они удесятерили силу видения», разрушили стройность привычных пространственных композиций, традиционное соотношение цветов и оттенков. Учтя «непрозрачности солнечного света и прозрачность теней», они «превратили весь мир в миллионы лучеиспускающих точек, в миллионы трамплинов, отбрасывающих лучи солнца в наш глаз».
Уроки французского импрессионизма сказались на многих ранних стихах Волошина, в частности тех, что вошли в цикл «Париж». Образцом волошинского импрессионизма можно считать стихотворение, написанное в самом начале XX века, которое начинается такой строфой:
Как мне близок и понятен
Этот мир — зелёный, синий,
Мир живых, прозрачных пятен
И упругих, гибких линий.
Хрестоматийными стали его поэтические зарисовки Парижа в дождливую погоду, когда он «расцветает, / Точно серая роза», блики аллей в «серо-сиреневом вечере» с проплывающими бриллиантами-фонарями экипажей, «зелень чёрная и дымный камень стен» городского пейзажа, дополненного «рвущим» огни ветром и «гонимыми» им облаками, «строгий плен» осеннего города:
Парижа я люблю осенний, строгий плен,
И пятна ржавые сбежавшей позолоты,
И небо серое, и веток переплёты —
Чернильно-синие, как нити тёмных вен.
Когда читаешь стихотворения «Дождь», «Осень… осень… Весь Париж…», «Огненных линий аккорд…», «В молочных сумерках за сизой пеленой…», невольно вспоминаешь поэтическую формулу импрессионизма, намеченную ещё П. Верленом в стихотворении-манифесте «Поэтическое искусство»: «Всех лучше песни, где немножко / И точность точно под хмельком». И далее:
Так смотрят из-за покрывала,
Так зыблет полдни южный зной.
Так осень небосвод ночной
Вызвезживает как попало.
Верлен был убеждён: «Всего милее полутон. / Не полный тон, но лишь полтона…» Живописно-импрессионистический подход к стиху сопровождается мелодикой, создающей определённое настроение. На музыкально-ритмическую основу волошинских стихов указывали многие его современники. Хотя при этом и отмечали, что поэт не обладал совершенным музыкальным слухом. Музыка не жила в нём самом, считала переводчица Евгения Герцык, но она звучала, стоило Максу начать читать стихи. Польский драматург Вацлав Рогович, встречавшийся с Волошиным в Париже начала века, говорил о своём впечатлении от его стихотворения «Дождь», «где так отлично воссоздаётся ритм монотонно стучащего дождя, что это ощущали даже те, кто едва понимал по-русски». Волошин, вспоминает Рогович, «с великим и понятным удовольствием передавал настроение осеннего пейзажа в верленовском стиле, в коротких, гибких, парящих строфах…».
Действительно, нельзя не отметить определённую перекличку волошинских стихов с произведениями французских символистов. Русский поэт переводил Стефана Малларме, Анри де Ренье, был знаком с творчеством Поля Верлена. Правда, «парижский» цикл своей пластикой и утончённостью, изысканностью и несколько холодноватой пейзажностью ближе к технике поэтов-парнасцев, в частности Готье и Эредиа. Это, кстати, отметил в рецензии на первый сборник Волошина и Брюсов: поэт «перенял у них чеканность стиха, строгую обдуманность… эпитета, отчётливость и законченность образов». Однако мелодическое звучание стиха Волошина не может не вызвать некоторые ассоциации с «Осенней песней» Верлена, образцом его философско-символистской лирики. Впрочем, наш поэт пока мало заботится о философском наполнении своих произведений. Да и общий дух его поэзии гораздо светлее верленовских «романсов», уподобляющих человека «палой листве», уносимой ветрами рока.
Для волошинской, условно говоря, «осенней песни» («Перепутал карты я пасьянса…») характерно совмещение временных и географических пластов («Взор пленён садами Иль-де-Франса. / А душа тоскует по пустыне»), извлечение «из недра сознанья» исторической памяти, мифологических образов и «растворение» их в конкретном времени и пространстве:
Бродит осень парками Версаля,
Вся закатным заревом объята…
Мне же снятся рыцари Грааля
На скалах суровых Монсальвата.
Однако этим видениям не вытеснить того, что навсегда вошло в душу поэта: «…пустыня Меганома, / Зной, и камни, и сухие травы».
Иль-де-Франс — наследственная область французских королей с Парижем в центре, Меганом — мыс на юго-восточном берегу Крыма, рыцари Грааля — герои средневековых легенд, братство рыцарей, охранявших Грааль, священную чашу Тайной Вечери, в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого Христа, Монсальват — замок, где хранился Грааль, Грааль — символ некой тайны, сокровенного знания, трагической судьбы Пророка и Поэта… Всё это органично совмещается в поэтическом сознании Волошина, создаёт глубину и перспективу его лирики; выражаясь словами художника — «…двоящиеся анфилады / Повторяющихся зеркал». Правда, стихотворение это (пометим на полях) будет написано только в ноябре 1908 года.
«Праздник, который всегда с тобой» — так назвал книгу о годах своей молодости, проведённых в Париже, Э. Хемингуэй. «Власть забвенья» и «хмель отравы» обрёл здесь двумя десятилетиями раньше М. Волошин. Оба они — русский поэт и американский прозаик — почувствовали душу этого города, аромат его истории лучше, чем иные французские писатели. В 1915 году Макс напишет стихотворение «Парижу» — прощальное объяснение в любви этому городу, элегическая песнь об уходящей молодости:
…Но никогда сквозь жизни перемены
Такой пронзённой не любил тоской
Я каждый камень вещей мостовой
И каждый дом на набережных Сены.
И никогда в дни юности моей
Не чувствовал сильнее и больней
Твой древний яд отстоянной печали —
На дне дворов, под крышами мансард,
Где юный Дант и отрок Бонапарт
Своей мечты миры в себе качали.
О том, какое огромное место занимали Париж, Франция в жизни поэта, можно прочитать в тех же воспоминаниях М. Цветаевой «Живое о живом»: «Ни одного рассказа, кроме как из жизни французов-писателей или исторических лиц — никто из его уст тогда не слышал. Ссылка его была всегда на Францию. Он так и жил, головой, обёрнутой на Париж. Париж XIII века или нашего нынешнего, Париж улиц и Париж времён был им равно исхожен. В каждом Париже он был дома и нигде, кроме Парижа, в тот час своей жизни и той частью своего существа, дома не был. (Не говорю о вечном Коктебеле, из которого потом разрослось всё.) Его ношение по Москве и Петербургу, его всеприсутствие и всеместность везде, где читались стихи и встречались умы, было только воссозданием Парижа… весь Париж со всей его, Парижа, вместимостью, был в него вмещён. (Вмещался ли в него весь Макс?)».
Думается, Цветаева сама знает ответ на свой вопрос. Мы же ещё раз остановимся на «вместимости» Парижа в душе Макса и на том, что выходило из-под пера художника вследствие этой любовной переполненности городом. Вот общий план Парижа, его живой организм, кольцевое строение и неповторимая архитектура в импрессионистическом обличье:
Город-Змей, сжимая звенья,
Сыпет искры в алый день.
Улиц тусклые каменья
Синевой прозрачит тень.
Груды зданий, как кристаллы;
Серебро, агат и сталь;
И церковные порталы,
Как седой хрусталь…
А вот столкновение делового, торгового Парижа с богемным, артистическим: «Золотистое весеннее утро, дымчатое и свежее… Пустынные и гулкие улицы просыпающегося Парижа, с их утренними обитателями: молочницы в голубых платьях, гарсоны, снимающие ставни с кафе, эписьерки, булочницы, бонны в белых чепцах, растворяющие окна.
И сквозь этот деловой, утренний, сдержанный Париж, с криками, песнями и музыкой, кто пешком, кто в каретах, кто верхом на извозчичьей лошади, кто взобравшись на верх кареты, разгорячённые пляской и головокружением бала, пёстрой лентой в две тысячи человек, возвращаются художники с Монмартра». Это бросают вызов будничному, размеренному Парижу последние «язычники, последние, которых коснулся тирс Диониса». «„Платье долой!!“ — кричат они, обращаясь к женским фигурам, с любопытством выглядывающим из окон».
И вновь душу города, жизнеутверждающий облик Парижа начала XX века Волошин передаёт через танец — пляску обнажённой натурщицы в старинном дворике Ecole des Beaux Arts (Школы изящных искусств), где «на почерневших мраморных плитах, поросших мелкой травой и бурым мхом, под ясным пологом небесной лазури, перед лицом всего радостного и старого Парижа, плывёт, бьётся, плещется розовое, перламутровое женское тело, в размахе исступлённой пляски, как воспоминание древней Греции, как смелый жест Ренессанса, как воплощённая грёза мужчин, грёза о женщине-цветке, уносимом водоворотом танца, как последний протест язычества, брошенный в лицо лицемерному и развратному мещанству…».
Как видим, Макс Волошин — мастер не только стиха. В этой небольшой новелле-зарисовке из очерка «Весенний праздник тела и пляски» поэт выходит за рамки бытописательства и любования местными красотами. «Настигнутый» произведениями Ницше, Волошин, возможно, опирается на его философскую трактовку танца, видя в нём выражение радости и жизнеутверждения. Здесь уже угадывается будущий автор небольшого стихотворного цикла «Пляски», в котором танец также превращается в образ мировосприятия, средство мистического слияния с жизнью.
Однако мы вновь забежали вперёд. Осенью 1901 года Макс посещает лекции в Сорбонне и в Высшей русской школе, руководимой историком и правоведом М. М. Ковалевским. К этому времени Волошин уже «несколько раз перевернул вверх ногами свои взгляды на искусство, ниспроверг социализм… стал гораздо больше интересоваться мнениями противников, чем единомышленников» (из письма А. Пешковскому от 27 октября 1901 года). Ему интересно всё — от истории религий до «индусской» философии. Размышляя об общественном устройстве и оценивая со стороны русское студенчество, Макс приходит к выводу, что ему свойственны те же «нетерпимость и отсутствие понимания», как «и для защитников порядка». И далее, в том же письме Е. Ляминой от 29 декабря Волошин высказывает мысль, которая только укрепится в период революции и Гражданской войны: «Противники всегда бывают похожи друг на друга». Полицейские приёмы, цензура, репрессии используются той и другой стороной. Спору нет, идея сама по себе заслуживает внимания. Однако «идея только до тех пор велика и сильна, пока она не сделалась достоянием партии. Политическое развитие каждой партии — это история постепенного дискредитирования идеи, низведения её с ледяных вершин абсолютного познания в помойную яму, пока она не сделается пригодной для домашнего употребления толпы — этого всемирного, вечного, всечеловеческого мещанства».
Макс слушает лекции датского историка литературы Георга Брандеса и русского биолога И. И. Мечникова, в частности его «захватывающе интересный» доклад на тему «Откуда в нас страх смерти». С Брандесом же поэт несколько раз встречается в неформальной обстановке. В отличие от многих преподавателей и слушателей Русской школы, которые «привезли с собой из России вечную марксистскую мертвечину», Брандес — «это действительно живой человек». Максу запомнится его высказывание: «Революция — это только желание осуществить своё попранное право… Основание революции — личность».
«Истинное революционерство лежит в сознании своего права, в оскорблённом чувстве права, — развивает Волошин эту мысль в письме к А. М. Петровой. — Когда оскорблено чувство права, то у обиженного нет никакой мысли, к чему может привести его порыв мести. Революцию можно делать только в самозабвении. А у нас ни у кого нет сознания своего права быть непобитым. А это первое право — и, не осознав его, нельзя идти дальше». Одна из лекций Брандеса носит название: «Великий человек как источник и конечная цель цивилизации».
В феврале до Волошина доходят слухи о студенческих беспорядках в Петербурге. Бывший бунтарь стал значительно мудрее. В письме к Е. Ляминой он уже откровенно возмущается русской «квазиреволюцией», суть которой «заключается в том, что молодые люди собираются толпами, чтобы быть побитыми вместе». О том же пишет Макс и придерживающемуся левых взглядов Я. Глотову, протестуя против «революции на коленях». Его мнение: «Нужно, чтобы была борьба или бы не было ничего». Опять же прав Георг Брандес, заявивший как-то Волошину: «Ваше правительство?.. Так прогоните его! Что, у вас мужчин, что ли, нет?» Да и вообще, необходимо «прежде, чем писать о современности — дать себе ясный отчёт» о ней, приведя её «в связь с историей». А тогда уже, возможно, и действовать…
В начале 1902 года Волошин пробует себя как лектор. Его доклад в Высшей Русской школе носит название «Опыт переоценки художественного значения Некрасова и Алексея Толстого». Основная мысль: Н. А. Некрасов — истинный художник, предтеча всех новейших течений русской поэзии; А. К. Толстой — «олицетворение академизма», являющегося тормозом для искусства. Что ж, как всегда, парадоксально, ново и (куда от этого денешься?) категорично. Однако в большей степени Макс продолжает интересоваться тем «грандиозным движением», которое началось во французском искусстве «двадцать лет назад». Волошин протестует против термина «декадентство», под который в России подводят всё, что «кажется странным, непонятным и новым». Как можно называть этой презрительной кличкой таких поэтов, как С. Малларме, Г. Кан, Ж. Лафорг, Ж. Мореас, которые, вступив в борьбу против парнасцев, «приняли имя символистов». (Макс относит к этому направлению ещё и П. Верлена, А. Рембо, Вилье де Лиль-Адана, а также примкнувшим к ним позднее Э. Верхарна, Ф. Жамма, Ф. Вьеле-Гриффина, А. Жида и др.) Причём, отмечает он, «более общим названием» всего направления стало «нео-идеализм». Из прозаиков Волошин выделяет А. Франса, считая его едва ли не лучшим современным писателем Франции, связующим век нынешний и век минувший. Но всё это, увы, приходится познавать самостоятельно. А что же Русская школа с её казёнщиной? «Выезжают исключительно на гастролёрах, — пишет Макс Глотову. — Вчера Брандес, сегодня Мечников прочтут по паре лекций — и аудитория ломится от толпы; а потом снова по десять человек».
Конечно, не всё время парижского лектора-школяра уходит на штудии и размышления о литературе. Приехавший из Варшавы переводчик и директор архива Е. В. Деген пишет Е. Ф. Юнге: «Я сразу попал в компанию молодых литераторов, поэтов, художников, скульпторов, отчасти благодаря Максу, вся деятельность которого заключается в том, что он порхает от одного к другому и ловит последнее слово… Поют, читают стихи, пляшут испанские и негрские танцы (замечательные), разыгрывают экспромты и балагурят без конца». Что ж, весьма похоже на репетицию литературно-артистической жизни Волошина и его круга в Коктебеле…
Макс тесно общается с журналистом и драматургом Александром Ивановичем Косоротовым, поддерживает близкие отношения с художником-графиком Александром Георгиевичем Якимченко. Вместе с Якимченко они какое-то время хозяйничают в ателье Кругликовой, которое она оставляет своим молодым друзьям перед отъездом в Россию в январе 1902 года. По приезде из Испании Макс устраивает себе второе «свидание» с Сюзанн, которое оставило «ощущение, как будто пью какое-то лекарство, закрыв нос, чтобы не слышать скверного запаха». Потребности тела не должны определять поведение человека, считает поэт. «Даже физическое облегчение не может заглушить того отвращения, которое расползается по душе». Макс истосковался по другим эмоциям; ему нужен иной, «поэтический» уровень отношений с женщиной. Художник созрел для любви. Весной 1902 года он вступает в свой «романтический» период жизни.
Сначала Волошин сближается с Марией Ауэр, «Мухой», отношения с которой складываются целомудренно-трепетно, дистанцированно. Они встречаются в Париже, проникаются друг к другу симпатией. Маша вместе с матерью и сёстрами собирается в Дюссельдорф к отцу, скрипачу и педагогу Леопольду Семёновичу Ауэру. Макс приходит к ним проститься. Это было 16 мая — в день, когда ему исполнилось двадцать пять. По этому поводу Волошин купил себе краски.
— Когда мы увидимся? Мне бы не хотелось потерять вас из виду. Вы ведь куда-нибудь исчезнете из Парижа. Нет, вы должны писать нам.
— Непременно буду. Но теперь вам пора укладываться…
— Нет, погодите. Покажите мне ваши краски.
Макс несёт коробку, и они вместе снимают бумажную упаковку.
— Нарисуйте мой портрет — я сегодня в своём декадентском капоте.
Волошин послушно рисует.
— У вас очень оригинальная линия щеки. Эдмонд Гонкур говорит в своём дневнике, что реже всего встречается красивая щека.
Спустя какое-то время:
— Нет, я не буду рисовать… Давайте лучше говорить.
«Не помню, как начался разговор. Но я вдруг заметил, что это она нарочно сделала, что мы остались вдвоём. И сердце сжалось… И она держала коробку в руке и водила кистью по картону, на котором я начал намечать её лицо. Она написала на нём кистью „Муха“ и положила коробку на диван».
— Когда отходит поезд?
— Завтра в семь утра. Только не приходите нас провожать.
«Я сказал, что не приду, но в душе решил пойти. И когда я шёл от них, то <сердце> в груди трепетало как пойманная ласточка, и земля вихрем летела из-под ног.
„Значит, я влюблён?“ — с недоумением думал я. Это было в первый раз в жизни».
Потом были письма. От него. И ответные послания: «Какой Вы милый — и как грустно и как больно стало мне после Вашего письма, так хорошо, так тихо больно; чуть ли не до слёз, но рифмы не звучат, мне только кажется, что где-то далеко в моём сердце звучит на одной ноте слабая струна, на одной ноте, высокой, болезненной, томительной. Спасибо Вам, я тоже люблю мысленно подать друг другу руку и начать и продолжать прерванный разговор… Я не думала, что существуют такие люди, как Вы! Будучи девочкой, я рисовала себе в моих бесконечных фантазиях образ человека, который будет таким же фантазёром, как и я, который, наконец, ответит мне так, как я чувствовала; и сколько мне приходилось видеть людей, и ни один человек не говорил со мной на одном языке, тогда я пришла к убеждению, что моя фантазия — глупость, что мои чувства не чувства, т. к. их столько раз коверкали по-своему, и отдавалась им я без восторга, как в больном бреду; мне кажется теперь, что у нас с Вами одно воздушное наречие…»
Волошин по нескольку раз на дню собирался ответить столь тонко чувствующей корреспондентке, садился писать письмо, но оно превращалось в дневник. «Я ей ничего не писал о любви, но мне казалось, что все слова говорят об этом». Вспоминался Шелли: «Слишком часто заветное слово людьми осквернялось, / Я его не хочу повторять…» Возникали и собственные стихи:
Спустилась ночь. Погасли краски.
Сияет мысль. В душе светло.
С какою силой ожило
Всё обаянье детской ласки,
Поблекший мир далёких дней,
Когда в зелёной мгле аллей
Блуждали сны, толпились сказки,
И время тихо, тихо шло,
Дни развивались и свивались,
И всё, чего мы ни касались,
Благоухало и цвело.
И тусклый мир, где нас держали,
И стены пасмурной тюрьмы
Одною силой жизни мы
Перед собою раздвигали.
А Муха из имения Колышево, близ Калуги, шлёт ностальгические письма, дышащие поэзией: «Мне кажется, что я не вся сюда приехала, а что главные мои вибрирующие струнки оборвались и звенят в парижском воздухе, что во мне пока только эхо их песен, которое наверно скоро умолкнет совсем. Так не браните меня больше; я люблю, желаю, вспоминаю всегда до боли. Но что же делать, бывают же люди, которым никогда ничего не удаётся; эти люди желают и мечтают сильней и больней многих других; у вас сговор с воздухом, с камнями, с горами, с тучами, они вас слушают и с вами говорят; я же чувствую себя бессильной перед ними, я их боюсь и люблю, и чем они сильней и красивей, тем я чувствую себя несчастней и грустней. Я ничего не могу, я массу желаю, я много чувствую, много думаю, но всё это остаётся во мне и скрытым для других, я не одна, я — две; многие знают только меня одну, не подозревая другого существа, которое живёт более интенсивно и глубоко».
«Чувствую себя несчастней и больней»; живу «интенсивно и глубоко» — вот два полюса самоощущения Мухи-Марии. Да и не только её. Внутренняя раздвоенность, боязнь жизни, экзальтированность, ранимость и безбытность, душевная тонкость и артистичность, художественная жилка (Мария Ауэр, в замужестве — Унковская, стала певицей) — все эти качества, присущие «волошинскому» типу женщины (во всяком случае, в пору его молодости), вообще были характерны для той болезненной эпохи духовных метаний. Были ещё — примерно тогда же — Ольга Сергеевна Муромцева, дочь юриста, профессора Московского университета, председателя Первой Государственной думы, Сергея Андреевича Муромцева, которой Макс посвятил прекрасное стихотворение «Небо запуталось звёздными крыльями…», писательница Александра Михайловна Моисеева (Мирэ), в отношениях с которой, очевидно, был нарушен столь хрупкий баланс близости и целомудрия, возобладал «двойной соблазн любви и любопытства», так что сам поэт запутался в своих чувствах и позднее оценил это сближение как «самый позорный факт» жизни: ведь оно «убило то чувство (надо полагать, к М. Л. Ауэр. — С. П.) и само не расцвело». Будет ещё и самый яркий пример в этом ряду: Маргарита Васильевна Сабашникова, но о ней — разговор особый.
Волошин относится к своей душе как художник и одновременно — искусствовед. «В истории моей души» он импрессионистически прописывает то, что уже случилось или едва намечено, как правило, не допуская чётких штрихов, а потом обстоятельно анализирует постоянно меняющийся пейзаж души: «И меня охватывало какое-то счастливое сияние. Неужели это любовь? В тот день я обедал вечером вместе с Досекиным, и, когда вдруг среди разговора вспоминал то, что было утром, меня охватывало такое безумное счастье, что я не мог сидеть на стуле». Впрочем, здесь уже без полутонов.
Пару лет спустя Волошин с удивлением заметит, что все его друзья — женщины. С девушками он говорит обо всём. С женщинами — о многом. С мужчинами — ни о чём. Безусловно, поэт был склонен к интенсивному душевному общению, прежде всего с женщинами; по поводу дружбы и разговоров с мужчинами он, возможно, лукавит, что подтверждают его весьма тёплые и весьма интеллектуальные отношения, в частности, с Вяземским, Пешковским, Косоротовым. Кстати сказать, воспользовавшись желанием последнего «сбежать из Парижа от какой-то дамы», Макс отправляется вместе с ним летом 1902 года в Италию, посещает Корсику, Сардинию, Рим, где попадает «в самый центр католического мира» и осознаёт его как «спинной хребет всей европейской культуры». Поэт гордится тем, что у него завелись «обширные связи в разных монастырях, церквах и коллегиях Рима». Но не будем заострять внимание на очередном волошинском турне. Обратимся лучше к ещё одному значительному персонажу, который в это время появляется в жизни поэта.
Представим себе за кафедрой невысокого тридцатипятилетнего мужчину с горделивой осанкой, львиной гривой и бородкой клинышком. Это Константин Дмитриевич Бальмонт. Он читает лекцию и говорит, возможно, следующее: «В том и величие, и тайна, и восторг любви, что жизнь и смерть становятся равны для того, кто полюбит…» А может быть, на этот раз он говорит не о Саломее, а раскрывает перед аудиторией тайны творчества Шелли. Среди слушателей обращает на себя внимание сияющее бородатое лицо человека лет на десять моложе. По окончании лекции — стремительный набег на вытирающего пот мэтра. Бальмонт даже отпрянул.
— Прошу покорнейше извинить! Я только что прослушал вашу лекцию. Удивительно интересно! Ах, простите… Я — Макс Волошин!
«Имя Макса Волошина я услыхала впервые от Бальмонта, — вспоминает его вторая жена Екатерина Алексеевна. — Он писал мне из Парижа осенью 1902 года, что познакомился в Латинском квартале (кажется, на одной из своих лекций) с талантливым художником М. Волошиным, который „и стихи пишет“… Бальмонт, видимо, заинтересовался и привязался к Максу. Он писал, что они много бывают вместе, бродят по городу. Макс показывает ему уголки старого Парижа, доселе ему не известные. Писал, что разность взглядов и вкусов — Макс принадлежал к латинской культуре, изучал французских живописцев и поэтов, а Бальмонт был погружён в английскую поэзию, переводил Шелли, изучал Э. По — не мешала их сближению». Не помешало и диаметрально противоположное отношение двух поэтов к алкоголю. Вот характерная сценка, которую можно назвать «Макс — спасатель».
Парижское кафе. Вечереет. Захмелевший Бальмонт, усиленно жестикулируя и вращая глазами, читает стихи:
Своих я бросил в чуждых странах,
Ушёл туда, где гул волны
Тонул в серебряных туманах,
И видел царственные сны…
Трезвый Волошин, вежливо улыбаясь, слушает.
Ночь. Патетически жестикулирующий Бальмонт повис у Макса на руке. Ну а Макс напряжённо выискивает нужный ему номер дома. Но что это? Бальмонт отбрасывает руку своего спутника и устремляется вслед за дамой, у которой расстёгнута сумочка.
— Ваш ридикюль!.. Ваш ридикюль!!!
Женщина в страхе бежит от ковыляющего, взлохмаченного поэта. Что-то кричит, естественно, по-французски. Появляется полицейский, которого словосочетание «ваш ридикюль» неожиданно приводит в ярость.
Действие переносится в полицейский участок. Страж порядка что-то докладывает старшему должностному лицу, а Макс Волошин силится разъяснить мрачному Бальмонту случившееся:
— В переводе на французский «ваш ридикюль» означает «смешная корова», а «коровами» на парижском арго называют полицейских.
— Ваша профессия? Чем занимаетесь? — обращается к Бальмонту старший чин.
— Je faire livres.
— Он говорит, что делает книги.
— Прекрасно. Отправьте его в переплётный цех.
Общая суматоха. Вмешивается Волошин. Перелетая, как мячик, от одного служителя порядка к другому, он пытается разрядить обстановку:
— Месье, этот господин — большой русский поэт. Он не переплетает книги. Он их пишет. Мадам, он не посягал на вашу непорочность. Он заботился о безопасности вашего имущества.
Наконец, порядок и взаимопонимание кое-как восстановлены, и двое поэтов исчезают в парижской ночи.
«Когда Бальмонт бывал в состоянии опьянения, — вспоминает Екатерина Алексеевна, — …мало у кого хватало сил бегать с ним часами или сидеть до утра в ресторане, слушать его бред, всегда соглашаться с ним, так как Бальмонт не терпел возражений… мгновенно приходил в бешенство, если его уговаривали пойти домой. Больше, пожалуй, на него действовали в такое время ласковый тон, внимание к его словам, подчинение его капризам». Макс Волошин идеально подходил для роли «огнетушителя», увещевателя и провожатого.
— Макс водит Бальмонта по ночным кабакам и спаивает его, — сообщали живущей тогда в Москве жене поэта «доброжелатели».
Намекали и на что-то ещё. Впоследствии Волошин, как обычно сглаживая острые углы, разъяснил Екатерине Алексеевне, что Бальмонт полдня проводит в библиотеке и читает до вечера. А не спит только тогда, когда на него находит его беспокойное состояние.
— А такие ночи вы проводите вместе? — Екатерина Алексеевна постаралась вложить в этот вопрос самую обыденную интонацию.
— Разумеется, его в такое время нельзя оставлять одного, Вы, верно, это знаете.
«И он это сказал так просто и искренне, что я уже не сомневалась, что слухи, дошедшие до меня, ложны.
Когда потом, много позже, я видела, как Макс, всегда трезвый, ночью, иногда до утра, сопровождал Бальмонта в его скитаниях, заботливо охраняя его от столкновений и скандалов на улице или в ресторане, приводил его или в дом, или к себе, — я поняла, что так было с самого начала их знакомства. И Бальмонт, раздражавшийся на всех во время своих болезненных состояний и выводивший из себя самых близких ему людей, вызывая их своей запальчивостью на ссору, чуть ли не на драку, — никогда не злился на Макса…»
Воспоминания Екатерины Алексеевны Бальмонт дают бесценный материал для представления о человеческих качествах Максимилиана Волошина. Заслуживает внимания сам эпизод их знакомства: «Как-то раз я пошла отворить дверь няне с моей девочкой, возвратившейся с прогулки. К своему удивлению, я увидела Нину на руках у какого-то чужого человека. В первую минуту я испугалась, что с девочкой что-то случилось, так как знала, что добровольно она ни за что не пошла бы на руки к незнакомому, да ещё такого странного вида: маленький, толстый, в длинном студенческом зелёном пальто, очень потёртом, с чёрными, вместо золотых, пуговицами, в мягкой широкополой фетровой шляпе. Он ловким мягким движением поставил девочку на пол, снял шляпу, тряхнул кудрявой головой и, поправив пенсне, подошёл ко мне близко, робко и вместе с тем как-то твёрдо посмотрел мне в глаза, сказал: „Вы — Екатерина Алексеевна, я из Парижа, привёз вам привет от Константина. С Ниникой я уже познакомился — Волошин“».
Макс просидел в гостях несколько часов. «Мою девочку, которую я хотела удалить, он просил оставить. „Дети никогда не мешают“, — сказал он. И действительно, на этот раз Ниника не мешала, она уселась Максу на колени и прослушала много стихов — его и Бальмонта — и переводы из Верхарна».
Именно здесь Волошин познакомился со своей будущей женой Маргаритой Сабашниковой. Вообще же, в течение зимы 1903 года он близко сошёлся со многими поэтами: Валерием Брюсовым, Андреем Белым, Юргисом Балтрушайтисом, с редактором журнала «Весы» Сергеем Поляковым, с владельцем издательства «Гриф» Сергеем Соколовым (Кречетовым). К весне вернулся из Парижа Бальмонт. И закрутилась карусель. «Если собирались не у нас, то мы все встречались у кого-нибудь из общих друзей, — вспоминает Екатерина Алексеевна, — Макс всюду был желанным гостем. Его всюду заставляли читать свои стихи, что он делал всегда с огромным и нескрываемым удовольствием. К поэтам он вообще относился с совсем особенным чувством благоговейного восторга. Сам он в их обществе стушёвывался, слушая их с глубочайшим вниманием. А если высказывал свои мысли, то всегда очень независимо, тоном мягким, но решительным. Тогда он не прибегал ещё так часто к парадоксам, которыми позднее любил поражать своих собеседников».
Не «изменял» поэт и своей любви к Нинике. Он мог прийти к девочке в отсутствие родителей, сесть прямо на ковёр в детской и начать возню. «Макс ползал на четвереньках и рычал, Нина садилась к нему на спину, держась за его волосы — „гриву льва“. Когда она той весной заболела, никто лучше Макса не умел уговорить её принять лекарство. Когда Макс с ней не играл, он рассказывал ей сказки и истории своего сочинения. Говорил он с ней совсем так же, как говорил со взрослыми, внимательно выслушивал её и возражал ей».
Спустя два года, в Париже, этот «роман» продолжился. Девочка запросто заходила к жившему неподалёку от них поэту, и они играли. При этом Волошин реагировал на все её капризы. «Раз, помню, мы пили чай у Макса. Он положил передо мной моё любимое печенье, перед Ниной — другое. Но Нина закапризничала: „Хочу, чтобы эти были мои“. Макс моментально вскочил и, не надевая шляпы, сел на велосипед и укатил. Через несколько минут он вернулся с большим пакетом этого печенья и сказал Нине: „Это будет твоим“. Свёрток был так велик, что Нина его еле удерживала в руках. Макс ушёл с ней за перегородку, они пошептались, затем Нина появилась красная и взволнованная и не спускала глаз с головы Таиах, в которую Макс, как оказалось потом, опустил печенье. Раздобыть его оттуда была длинная процедура: Нина влезала на плечи к Максу и оттуда доставала „своё“ печенье. И этот запас никогда не истощался, так как Макс возобновлял его. Через много лет Нина уверяла, что в голове Таиах всегда лежали пуды печенья».
Стоили эти кондитерские изделия недёшево. Однако художник, отказывая себе во многом, с лёгкостью тратил деньги на других. А их у него было всегда в обрез. Продавцы же нередко давали в долг столь колоритному и честному покупателю: дело в том, что, едва получив деньги, Макс бежал расплачиваться со своими кредиторами, которые, кстати сказать, уговаривали его оставить себе хотя бы десять-пятнадцать франков. При всём том Волошин никогда не отказывал тем, кто просил у него взаймы. Он «вообще делился всем, что у него было, — и не от избытка своего. Как бы трудно ему ни жилось, он ни в чём не менялся, никогда не жаловался… И не только деньги давал Макс охотно, но время своё и силы. Он выслушивал стихи начинающих поэтов. Помню, как одна молоденькая девушка читала ему свою трагедию в 5-ти актах в продолжение долгих часов».
Конечно, не всех очаровывал Макс Волошин сразу и безоговорочно. Не ко всем моментально входил в доверие. Та же Екатерина Бальмонт вспоминает, как искала в Париже квартиру, а Макс ей, разумеется, в этом помогал. «Наконец мы напали на одну, очень нам подходящую. Но хозяйка этого пансиона, пожилая и очень чопорная дама, разговаривая со мной, всё косилась на Макса и вдруг отказала мне решительно сдать комнаты. „Вам не подойдёт, у нас буржуазные порядки, у нас рано ложатся спать“ и пр. Макс, видя моё отчаяние, что и это помещение срывается, стал убеждать хозяйку на своём „замечательном“ французском языке: Макс говорил свободно и с недурным произношением, но путал члены и всегда вместо „Le“ говорил „La“ и наоборот. Французы, особенно простолюдины, не понимали его, и вообще с его французским языком было много курьёзов. Хозяйка пансиона не слушала его. „М-г Ваш муж?“ — спросила она. „Нет, друг моего мужа“. — „Но это невозможно!“ На другой день я пошла к ней со своей девочкой просить приютить нас хоть на время. Она согласилась, и мы прожили у неё два года и очень сблизились с ней. Она была полька, жившая в Париже, умная и образованная женщина. Она очень заинтересовалась Максом, когда познакомилась с ним ближе, и созналась мне, что не хотела пускать нас к себе из-за „се drole de bonnhomme“ (этого чудака. — С. П.). Он поразил её своим странным видом. Несмотря на свой опыт, она не знала, к какому разряду людей его отнести. Всё в нём казалось ей непонятным и противоречивым, она даже не верила, что он поэт, как m-r Balmont: „Слишком у него проницательный взгляд. Художник, а одет так безвкусно!“ Макс ходил в широких бархатных брюках, как носили тогда рабочие, и при этом — в модных жилетах и пиджаках, а поверх надевал вместо пальто накидку с капюшоном и цилиндр. „Похож на доброго ребёнка, но есть что-то и от шарлатана и магнетизёра“. На это я ей сказала, что у Макса действительно есть магнетическая сила, он наложением рук излечивал нервные боли, что я и многие мои знакомые испытывали на себе. После того как он однажды, рассматривая ладони нашей хозяйки, стал полушутя говорить о её характере и её прошлом „вещи, которые никто-никто не знал“, — она убедилась, что Макс — человек необычайный, на самом деле оригинал, и притом искренний и правдивый, что её больше всего удивляло».
Рисуя сам, Волошин проявил себя и талантливым педагогом. Когда Нине подарили акварельные краски, она забросила карандаши и принялась малевать «фантастические цветы и райских птиц с длинными хвостами, которые не помещались на листе писчей бумаги». Екатерина Алексеевна прятала от дочери большие листы, в то время как Макс внимательно изучал Нинины «картины», восхищаясь подбором красок в перьях и хвостах. Он советовал не стеснять творческую свободу девочки, воздерживаться от всяких замечаний и поправок. Более того, он принёс Нине огромные листы бумаги и, поскольку они не помещались на столе, прикрепил их к комоду. Нина влезала на стул и создавала гигантские шедевры. «Она дарила свои рисунки только Максу, и он должен был (по её требованию) убирать их вместе со своими, а когда Нина приходила к нему в мастерскую, она проверяла — на месте ли рисунки. Через 2–3 года размеры её картин сократились, и она стала рисовать крошечные картинки, которые можно было рассматривать чуть ли не в лупу. И я вспомнила, как Макс говорил, что „художники бывают непонятно причудливы“».
Шли годы. Нине минуло шестнадцать. Мать жаловалась, что она плохо учится в школе, охладела к музыке и рисованию. «Вечный роман матери с ребёнком, — прокомментировал ситуацию Макс Волошин и грустно добавил: — В таких недоразумениях всегда виноваты родители. Они недостаточно знают и уважают своих детей. Матери не подозревают, как они мучают детей своей любовью». Макс думал в этот момент о своём, однако на вопрос Екатерины Алексеевны, что же ей делать, ответил просто: «Ей хочется освободиться от вас, ну и освободите её, пусть делает, что она сама знает». А на просьбу повлиять на Нину ответил отказом: «Влиять я не умею и не хочу. Предоставьте её себе, и она найдёт себя». Не в этих ли педагогических концепциях основа историософского мировоззрения Волошина?..
Что же касается творческих взаимоотношений с Бальмонтом, то этому сближению Волошин-поэт немало обязан. Музыкально-фоническое построение бальмонтовских стихов, их звуковая живопись — всё это не было чуждо художественному вкусу молодого поэта. Не случайно именно Бальмонту посвятил Волошин своё стихотворение со знаменательным названием «Рождение стиха» (1904), когда из мрака возникают длинные «протяжно-певучие… волокна» строф, вспыхивающие «попарно / В влюблённом созвучьи» танцующие слова.
Вспыхивающее «созвучье», «запах цветов, доходящий до крика», «холодный, душистый и белый» стих, напоминающий цветок гиацинта… Соответствия звукового строя цветовым ассоциациям, запахам и образным картинам были, скорее всего, восприняты Волошиным от французских символистов (в начале XIX века на этот эстетический эффект обратили внимание немецкие романтики, в частности Гофман). Их предтеча Шарль Бодлер написал в середине столетия сонет, который так и назвал «Соответствия»:
Подобно голосам на дальнем расстоянье,
Когда их стройный хор един, как тень и свет,
Перекликаются звук, запах, форма, цвет,
Глубокий, тёмный смысл обретшие в слиянье…
Эта мысль, точнее, ощущение было подхвачено П. Верленом, а затем использовано А. Рембо в его хрестоматийно известном сонете «Гласные», где каждому звуку также соответствуют определённые цвета и образные ассоциации. В установлении этих «соответствий» заключалась одна из попыток выразить «сверхчувственное», что и составляло природу символистской поэзии.
Из недра сознанья, со дна лабиринта
Теснятся виденья толпой оробелой… —
читаем мы у Волошина, ощущающего в своей душе «мрак грозовой и пахучий», из которого взвиваются «зарницы» стиха. Однако он был далёк от того, что, например, ставил во главу угла символист Жюль Лафорг, предпочитавший «проникнуться бесцельностью» и «ничего не знать», довольствоваться ролью инструмента трансцендентного мира или стать голосом подсознательного. (Правда, сама по себе лирика Лафорга русского поэта восхищала — не случайно на книге его стихов Макс написал проникновенное четверостишие: «Эти страницы — павлинье перо, — / Трепет любви и печали./ Это больного Поэта-Пьеро / Жуткие salto-mortale».) Волошину был чужд анархо-экспериментаторский дух поэзии А. Рембо, и никогда бы не согласился он с установкой «шарлевилльского гения» на искусственное ослабление контроля разума для того, чтобы «передать неясное неясным».
В символизме Волошина привлекала другая сторона — выражение «сверхчувственного» с помощью «духа музыки», мелодики стиха, внушающей определённое настроение, неуловимость смысловых границ образа, его неисчерпаемость. В этом отношении он чувствовал близость к поэзии Верлена и Бальмонта. Сближение Волошина с А. Бенуа, М. Добужинским, К. Сомовым и другими художниками, объединившимися вокруг журнала «Мир искусства», способствовало закреплению в его творчестве принципов импрессионизма и символизма, поэтических навыков живописать звуком и цветом, что в значительной степени проявилось в первой книге — «Стихотворения. 1900–1910».
В мае 1903 года Волошин берётся за перевод стихотворений бельгийского поэта Э. Верхарна, также отдавшего дань символистским исканиям (работа над переводами продолжится несколько лет, а завершится только осенью 1916 года); в 1904 году он обращается к сонетам Ж.-М. де Эредиа. Сам выбор поэтических текстов свидетельствует о двойственной ориентации молодого Волошина: парнасская лепка антично-мифологической и эстетско-ренессансной образности («Бегство кентавров», «Ponte Vecchio» Эредиа) соседствует с символистско-декадентскими мотивами вселенской скорби и крушения мира («Осенний вечер», «Ноябрь», «Ужас», «Человечество» Верхарна). Сотрудничает поэт и с русскими символистами, печатается в их журналах. В феврале-марте 1903 года участвует в работе Литературно-художественного кружка, включается во многие начинания, поддерживаемые К. Бальмонтом, В. Брюсовым, А. Белым. Последний, кстати, оставил весьма колоритные заметки о Волошине в своей книге «Начало века».
Белый пишет о Волошине в период их знакомства весной 1903 года: «…умный, талантливый юноша… насквозь „пропариженный“… Индия плюс Балеары, делённые на два, равнялись… кварталу Латинскому в нём». М. Волошин внезапно появлялся, внезапно исчезал, и казалось странным, что он успевал входить «во все тонкости наших кружков, рассуждений, читая, миря, дебатируя, быстро осваиваясь с деликатнейшими ситуациями, создававшимися без него, находя из них выход, являясь советчиком и конфидентом; в Москве был москвич, парижанин — в Париже.
„Свой“ многим!.. свой „скорпионам“ и свой радикалам, — обхаживал тех и других; если Брюсов, Бальмонт оскорбляли вкус, то Волошин умел стать на сторону их в очень умных, отточенных, неоскорбительных, вежливых формах; те были колючие: он же — сама борода, доброта, — умел мягко, с достоинством сглаживать противоречия; ловко парируя чуждые мнения, вежливо он противопоставлял им своё: проходил через строй чуждых мнений собою самим, не толкаясь… Всей статью своих появлений в Москве заявлял, что он — мост между демократической Францией, новым течением в искусстве, богемой квартала Латинского и — нашей левой общественностью… Везде выступая, он точно учил всем утончённым стилем своей полемики, полный готовности — выслушать, впитать, вобрать, без полемики переварить; и потом уже дать резолюцию, преподнести её, точно на блюде, как повар, с приправой цитат — анархических и декадентских… где переострялись углы, он всем видом своим заявлял, что проездом, что — зритель он: весьма интересной литературной борьбы; что при всём уважении к Брюсову, с ним не согласен он в том-то и в том-то; хотя он согласен в том, в этом; такой добродушный и искренний жест — примирял; дерзость скромная — не зашибала… начитанность много видавшего, много изъездившего, — отнимали охоту с ним лаяться… Максимилиан Волошин умно разговаривал, умно выслушивал, жаля глазами сверлящими, серыми, из-под пенсне, бородой кучерской передёргивая и рукою, прижатой к груди и взвешенной в воздухе, точно ущипывая в воздухе ему нужную мелочь; и выступив, с тактом вставлял своё мнение. Он всюду был вхож».
Белому нравились стихи Волошина, но не удовлетворяло их исполнение: «…хорошее стихотворение он убивал поварского подачей его, как на блюде, отчего сливались достоинства строчек с достоинством произношения». Макс нашёл общий язык и с отцом Андрея Белого, профессором математики Николаем Васильевичем Бугаевым, развивавшим перед ним свою «монадологию». «Значительным шёпотом», «внушительно» скрипя стулом, он сообщил учёному, что придерживается подобных же взглядов в своей поэзии; даже в качестве примера «стихи прочёл он отцу, зарубившему воздух руками в такт ритму:
— Так-с, так-с… — вот и я говорю: превосходно!»
А когда к этому прибавились волошинские рассказы про М. М. Ковалевского, когда-то близкого Н. В. Бугаеву, старик совсем растрогался:
— Это вот — да-с, понимаю: человек приятный, начитанный, много видавший!
Шутки шутками, но прав Андрей Белый в главном: «Волошин был необходим в эти годы Москве: без него, округлителя острых углов, я не знаю, чем кончилось бы заострение мнений: меж „нами“ и нашими злопыхающими осмеятелями; в демонстрации от символизма он был — точно плакат с начертанием „ангела мира“; Валерий же Брюсов был скорее плакатом с начертанием „дьявола“; Брюсов — „углил“; Волошин — „круглил“; Брюсов действовал голосом, сухо гортанным, как клёкот стервятника; „Макс“ же Волошин, рыжавый и розовый, голосом влажным, как розовым маслом, мастил наши уши…»
Андрей Белый узнал о Волошине благодаря Брюсову, который охарактеризовал Макса следующим образом: «Юноша из Крыма… Жил в Париже, в Латинском квартале… Интересно… рассказывает о Балеарах… Уезжает в Японию и Индию, чтобы освободиться от европеизма… Он умён и талантлив». Из письма Брюсова к жене: «Видал Макса Волошина, интересный господин — скиталец и поэт (познакомился через Бальмонта)». Как известно, в указанные здесь восточные земли Волошин не попал, от «европеизма» — во всяком случае, культурного — также не избавился. Отношения же его с Брюсовым с самого начала развивались неоднозначно. Брюсов помог Максу с первыми серьёзными публикациями, однако, когда «увлечение» Волошиным в поэтических кругах Москвы стало нарастать, Валерий Яковлевич, стремившийся руководить литературной политикой, решил, что «мода» на Макса длится слишком долго. «Вначале одобрив его и обласкав», он, как вспоминает Е. А. Бальмонт, «вдруг стал обращаться с ним свысока. Меня поражало то, что Макс как будто не замечал этой перемены тона…».
Так или иначе, Волошин высоко ценил Брюсова как крупного поэта и тонкого ценителя стиха. В его записной книжке зафиксирован разговор с «мэтром», состоявшийся в начале 1907 года. Макс, в частности, отмечает, что, по оценке Брюсова, он принадлежит к «категории Гюго, Верхарна», поскольку его стихи «основаны сплошь на метафоре», которой он уделяет больше внимания, чем ритму. Волошин здесь же приводит брюсовский анализ одного из его «парижских» стихотворений 1905 года с упором на семантико-фонетический рисунок в первой строфе:
В серо-сиреневом вечере
Радостны сны мои нынче.
В сердце сияние «Вечери»
Леонардо да Винчи.
«Здесь все звуки оправдывают один другой, — отмечал Брюсов. — В начале это повторение звуков „с“ и „р“, которые дают ощущение вечера. Потом „радостны сны“. Это — „стны сны“ — было бы некрасиво, если бы ударение не стояло так далеко — „радостны“ и это — „сны“ не скрадывалось бы совершенно. И затем все звуки подготавливают и разрешаются в конечном слове „Леонардо да Винчи“. И тут же лёгкое изменение размера, нарушающее строгий порядок. Эти четыре стиха я могу считать образцом». Весьма лестный комплимент от такого мастера формы, как Валерий Брюсов, сказавшего однажды, что ни у кого, кроме него самого и Волошина, нет правильного сонета, то есть в поэтической «высшей математике» они с Максом лучшие. Это — по Брюсову.
Максимилиан Волошин живёт активной интеллектуально-творческой жизнью, но пока в основном учится: «В эти годы — я только впитывающая губка, я весь — глаза, весь уши. Странствую по странам, музеям, библиотекам: Рим, Испания, Балеары, Корсика, Сардиния, Андорра… Лувр, Прадо, Ватикан, Уффици… Национальная библиотека. Кроме техники слова, овладеваю техникой кисти и карандаша». Философско-эстетическая отдача, художественная переработка накопленных впечатлений будут заметны чуть позже. В «Истории его души» уже выделяются определённые этапы духовного становления. Буддистка Александра Васильевна Гольштейн в сентябре 1902 года знакомит художника с колоритнейшей фигурой — хамбо-ламой Тибета Агваном Доржиевым. Забайкальский бурят, окончивший буддийскую философскую школу, достигший высшей ступени познания, один из семи верховных лам Тибета. «Буддизм в его первоисточнике» стал для Волошина не просто какой-то новой, занятной теорией. «Это было моей первой религиозной ступенью», — пишет он в «Автобиографии».
Впечатлительный Макс с головой погружается в открывшуюся ему бездну. Он водит своего экзотического знакомца по Парижу, но на этот раз поэт не столь словоохотлив, как обычно. То, что он услышал от Доржиева, тревожит, заставляет переоценивать привычное и, казалось бы, давно усвоенное. Лама «много сказал такого об Нирване, что сильно перевернуло многие мои мысли, — пишет Волошин Петровой. — От него я узнал, что в буддизме всякая пропаганда идеи считается преступлением, как насилие над личностью. Какая моральная высота сравнительно с христианством: религией пропаганды и насилия!» Вот такое сравнение… Однако не будем спешить с осуждением — о христианстве Волошин ещё успеет поразмыслить: оно будет соотноситься и с «горючим ядом», и с «откровеньем вечной красоты». Обратим пока внимание на другое.
Вряд ли права Елена Оттобальдовна, упрекавшая сына в отсутствии «способности увлечься чем-нибудь всецело, до самозабвения». Она считала, что Макс ищет «всё новых впечатлений, новых людей», но всё это «скользит» по нему, «не оставляя глубокого следа». Дело в том, что из новых идей, впечатлений, людей, книг, учений Волошин выбирал крупицы Истины; он обнаруживал в них те «кирпичики», которые шли на закладку фундамента его мировоззрения. «Всякая пропаганда идеи считается преступлением, как насилие над личностью»… Этот тезис, подкрепляющий собственные убеждения Макса, которые тогда ещё только формировались, будет во многом определять его поведение и характер отношений с людьми. Идейно влиять на Нину Бальмонт или навязывать свою позицию Маргарите Сабашниковой — столь же безнравственно, как пропагандировать милитаристские лозунги или насильственно вводить в жизнь принципы социализма. Тогда же, в начале века, поэт в очередной раз задумывается о европейской цивилизации, жестокой политике Запада в отношении восточных народов: «Никто не умеет так дотла уничтожать чуждые культуры, как Европа». Сколько же крови пролилось за фасадом европейской истории!..
Через три месяца после знакомства с ламой Волошин настраивается на кругосветное путешествие. Он рассчитывает провести зиму на Дальнем востоке и вернуться в Европу «через Полинезию и Южную Америку». В письме к Пешковскому от 2 декабря 1902 года Макс подводит под свои намерения теоретическую базу: «Я еду искать внеевропейской точки опоры, чтобы иметь право и возможность судить Европу. Япония даст мне внеевропейскую точку для искусства, Китай — для государства, Индия — для философии». Всё чётко, ясно, обоснованно и… утопично. Однако никто ведь не запретит поэту засесть за книги и читать «всё по Индии и Японии». Восточная философия наводит на грустные размышления по поводу социализма: «власть толпы может быть ещё вреднее власти одного»; «справедливый» раздел капитала не устранит насилия над «внеевропейскими» народами. Макс уже тогда не верит в то, что технический прогресс и прогресс социальный могут совпадать. «Триумфы техники», развитие промышленности, строительство железных дорог — всё это само по себе едва ли выведет человечество на дорогу к счастливому будущему.
Как уже говорилось, далеко не все понимали Макса Волошина в его философских, художественных исканиях, Волошина, задумывающегося о современной политике и мироустройстве, об открывающихся для человечества перспективах. Ядовитую (хотя и остроумную) пародию на Макса оставил его бывший однокашник по университету, приверженец Брюсова поэт Эллис (Л. Кобылинский). Андрей Белый приводит её в своих воспоминаниях: «Это ж — комми от поэзии! Переезжает из города в город, показывает образцы всех новейших изделий и интервьюирует: „Правда ли, что у вас тут в Москве конец мира пришёл?“ Он потом, проезжая на фьякре в Париже, снимает цилиндр перед знакомым; и из фьякра бросает ему: „Слышали последнюю новость? В Москве — конец мира!“ И скроется за поворотом». «Коммивояжёром от поэзии» называла Волошина и Зинаида Гиппиус.
«Это ряд искусно построенных парадоксов, переплетённых завитушками красивых слов, — писала брюсовская „Рената“ Нина Петровская по поводу волошинской статьи „Аполлон и мышь“. — Мысли в ней порхают, как бабочки, осыпанные слишком яркой искусственной пылью. Но это всё и есть обычный стиль Макса Волошина, достаточно знакомый читателям…» Литературовед Б. Эйхенбаум уже в мае 1915 года весьма резко выскажется о волошинской книге «Лики творчества»: М. Волошин «хочет быть самым французским из всех русских», его слог «лишён признаков искреннего и глубокого воодушевления», суждения «о сущности театра» банальны, в оценке литературных явлений — «полное отсутствие собственного лика». Тут остаётся лишь развести руками: в банальности и отсутствии самобытности Волошина можно было упрекнуть только при очень большом желании…
«Помилуйте! — приводит Александр Валентинович Амфитеатров слова Марии Потапенко (жены модного в то время романиста), — на что похоже? Мужик — косая сажень в плечах, бородища — как у разбойничьего есаула, румянца в щеках достаточно на целый хоровод деревенских девок… А говорит всё о мистицизме да об оккультизме — и таким гаснущим шёпотом, словно расслабленный и сейчас перед вами умрёт и сам превратится в привидение. Даже не разберёшь в нём, что он — ломается, роль на себя напустил, или бредит взаправду? Чудодей какой-то!»
С самим Амфитеатровым, известным прозаиком и публицистом, Волошин познакомился в Париже, в марте 1905 года. В «его парижские молодые дни» Макс был, по воспоминаниям писателя, «самый жизнерадостный и общительный молодой человек из всей литературно-артистической богемы не только русского (с ним Макс, пожалуй, меньше знался), но и „всего“ Парижа. Цвёл здоровьем телесным и душевным и так вкусно наслаждался прелестью юного бытия, что даже возмущал некоторых». В парижском обществе Волошин был известен под прозвищем «Monsieur c’est très intéressant!» («Господин это очень интересно!») в связи с его манерой «откликаться этой фразою, произносимою неизменно в тоне радостного удивления, решительно на всякое новое известие. Это восклицание действительно хорошо — цельно — определяло всегдашнее существо: воплощённую жажду жизни, полную кипения и любопытства бытопознания».
Фантазёр и мистик, впрочем, страстно интересующийся и земной жизнью, Макс Волошин как-то взялся показать Амфитеатрову ночной Париж. При этом заметил, что его любимая ночная прогулка — на Иль де Жюиф, островок неподалёку от собора Парижской Богоматери. Амфитеатров удивился:
— На Иль де Жюиф? Да что вы там делаете? На нём и днём-то ничего интересного нет.
— Я слушаю тамплиеров.
— Каких тамплиеров?
— Разве вы не знаете, что 11 марта 1314 года на Иль де Жюиф были сожжены гроссмейстер Жак де Малэ со всем капитулом ордена тамплиеров?
— Знаю, но что же из этого следует?
— В безмолвии ночей там слышны их голоса.
— Да ну?
— Помилуйте, это всем известно.
— И вы слышите?
— Слышу.
— С чем вас и поздравляю.
«Воображательство» Макса, по мнению Амфитеатрова, иногда выходило за рамки безвредной занимательности. Он вспоминает случай, когда Волошин вызвался прочитать в Высшей Русской школе лекцию на тему «Предвидения и предсказания Французской революции». Александр Валентинович, принимавший участие в работе школы, обрадовался: «…тема как раз по нашей аудитории, которая по своему революционному настроению никакой истории и слушать не хотела, если в ней не было „предвидений и предсказаний“ из революций прошлых для будущей революции в России». Волошин — прекрасный оратор, обладает хорошим слогом, досконально изучил эпоху. Чего ж ещё надо? Все настроились на блестящее выступление. «Ох, оно и вышло блестяще! Но — как Макс за этот блеск не был освистан или обработан как-нибудь ещё хуже, я и сейчас недоумеваю.
Взобрался чудодей на кафедру и — перед двумя сотнями меньшевиков, большевиков и эсеров, сплошь овеянных духом „исторического материализма“, — давай рассказывать… спиритические анекдоты, вроде видения Казота, — „бабьи басни“, одна фантастичнее другой… В зале смех, перешёптыванье, язвительные возгласы. Я сижу, как на иголках, ежеминутно ожидая скандала. Однако Бог миловал; под конец Волошин ввернул свои красивые стихи „Народу русскому“ („Ангел Мщенья“ — С. П.), и ничего, сошло: за эффектный стихотворный финал ему даже похлопали. Но мне студенческий комитет устроил сцену, язвительно осведомляясь — какое отношение имеют подобные лекции к социальным наукам и намерен ли я допускать их впредь».
Естественно, не обошлось без объяснения с Максом. Впрочем, выдержать разговор «в тоне лютом» не удалось. Волошин глядел на собеседника невинными глазами и решительно не понимал, что же случилось предосудительного, «в чём он прегрешил.
— Да в том, что вместо исторической лекции вы битый час морочили публику заведомым вздором.
— Извините, я никого не морочил и никакого вздора не говорил.
— Ну уж это, Макс, вы рассказывайте кому-нибудь другому, а я оккультную литературу знаю и могу, хоть сейчас, указать вам, откуда какой свой анекдот вы заимствовали.
— Я и не отрицаю, что мои факты (а не анекдоты, как вы называете) давно известны, но я проверил их по новым непреложным источникам и воспользовался случаем публично их подтвердить.
— Желал бы я видеть эти ваши новые непреложные источники.
— К сожалению, это невозможно.
— Так я и знал. Однако почему?
— Потому что мои источники не печатные, не письменные, но изустные.
— Что-о-о?!
— Ну да, я их черпаю непосредственно из показаний двух очевидиц Французской революции, игравших в ней большую роль.
— Бог знает, что вы говорите, Макс!
— Уверяю вас, Александр Валентинович.
— Сколько же лет этим вашим раритетам и где вы их достали?
— Здесь, в Париже, а по возрасту — королева Мария Антуанетта родилась в 1755 году, значит, ей сейчас 151 год, принцесса Ламбаль в 1749-м, ей —157…
— Ах, вот какие у вас источники?! Понимаю. Изволите увлекаться медиумическими сеансами с вызыванием знаменитых покойниц? Макс, Макс! И не конфузно вам выдавать такую ерундовую спиритическую болтовню за исторические свидетельства?
Он — с совершенным спокойствием:
— Вы ошибаетесь: мне нет надобности в медиумических сеансах. Я просто время от времени прошу аудиенции у Её Величества Королевы или делаю визит Её Высочеству принцессе, и тогда они сообщают мне много интересного.
Смотрю ему в глаза: не пора ли тебя связать, друг любезный? Нет, ничего, ясные. И не замечается в них юмористического огонька мистификации: глядят честно, по сторонам не бегают и не столбенеют, — та или другая примета, обязательная для вралей. А Макс продолжает:
— Ведь они обе уже перевоплощены. Мария Антуанетта теперь живёт в теле графини X, а принцесса Ламбаль в теле графини 3. (Назвал две громкие аристократические фамилии с точным указанием местожительства.) А если вас вообще интересуют перевоплощённые, то советую познакомиться с графиней Н. Она была когда-то шотландскою королевою Марией Стюарт и до сих пор чувствует в затылке некоторую неловкость от топора, который отрубил ей голову. В её особняке на бульваре Распайль бывают премилые интимные вечера. Мария Антуанетта и принцесса Ламбаль очень с нею дружны и часто её посещают, чтобы играть в безик. Это очень интересно.
Что это было? Лёгкое безумие? Игра актёра, вошедшего в роль до принятия её за действительность? Всё, что угодно, только не шарлатанство. Для него Волошин был слишком порядочен, да и выгод никаких ему эти мнимые „шарлатанства“ не приносили, а напротив, вредили, компрометируя его в глазах многих не охотников до чудодейства и чудодеев».
Возможно, всё так и было. Возможно, Амфитеатров несколько сгустил краски и сознательно беллетризировал этот эпизод. Так или иначе, волошинский образ получился здесь весьма колоритным и на самого себя похожим, если соотнести его со «свидетельскими показаниями» других людей, хорошо знавших поэта. К сказанному остаётся лишь добавить, что о тамплиерах Максу поведала теософ Анна Минцлова. «Они теперь ещё существуют, — говорила своему благодарному слушателю эта необычная женщина, — во многих церквах есть их знаки». 24 июля 1905 года Волошин писал Маргарите Сабашниковой о совместной с Минцловой прогулке по Парижу: «На месте казни тамплиеров её руки помертвели и похолодели». Что же касается волошинской лекции, то она будет опубликована в журнале «Перевал» (1906, № 2) под названием «Пророки и мстители».
А с Амфитеатровым Макс общался и за пределами Высшей Русской школы. Он часто наезжал к нему на виллу Монморанси. Беседуя с хозяевами, поэт не забывал и о их маленьком сыне Бубе. «Когда Макс бывал там, — вспоминает Екатерина Алексеевна Бальмонт, — он выдумывал игры для детей, чтобы отвлечь их от нас, матерей. Так, раз, помню, дети долго и тихо занимались одни, к нашему удивлению. Оказалось, что Макс вооружил их палками, посадил верхом на огромных сенбернаров, дремавших в передней Амфитеатровых, и уверил их, что они — конная стража, охраняют лестницу, и обещал приз тому, кто дольше просидит».
Да, таким остался в памяти близко знавших его тогда людей «парижанин» Макс Волошин — ищущим себя художником, поэтом вне группировок, экстравагантным и вместе с тем тактичным оратором, философом-парадоксалистом, трогательным чудаком с добрым сердцем.
…О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой!
Бессильна скорбь. Беззвучны крики.
Рука горит ещё в руке.
И влажный камень вдалеке
Лепечет имя Эвридики.
Хмель парижской «отравы» навсегда вошёл в кровь поэта: Парижа эпохи тамплиеров, и Парижа начала XX века — осеннего, грустного, поэтического, и Парижа — столицы европейского искусства. Однако, как и раньше, бродя по осенним паркам Версаля, Макс испытывает чувство ностальгии: «В шуме ночной непогоды / Веет далёкою Русью»… Волошин стремится на Родину и в самом конце 1902 года покидает Францию. Он понимает, что это ненадолго, но душа рвалась домой. «Снова вагоны едва освещённые, / Тусклые пятна теней»… Штутгарт… Варшава… Европа расстаётся с поэтом неласково, или, быть может, неприветливо встречает его матушка-Россия?.. На пограничном пункте станции Вержболово Макс и его багаж были подвергнуты двухчасовому досмотру. Ничего не попишешь, жандарм по-прежнему — самая задействованная в мире фигура. «Мысли с рыданьями ветра сплетаются, / С шумом колёс однотонным сливаются»…
1 января 1903 года «вечный странник» прибывает в Северную столицу. Санкт-Петербург поражает Волошина «мертвенной строгостью его общего тона». Макс спешит на Невский, встречается с Евгением Лансере и Александром Бенуа; в редакции журнала «Мир искусства» знакомится с Валентином Серовым; вечером 23 января присутствует на заседании Религиозно-философского общества. Дмитрий Мережковский читает статью Василия Розанова «О возможности творчества в области церковных догматов»… «Бледные лица петербургских литераторов, перемешанные с чёрными клобуками монахов, огромные седые бороды, лиловые и коричневые рясы священников», «рысья» улыбка Брюсова на бледном лице «изувера, исступлённого раскольника». Волошин ощущает «острый трепет веры и ненависти, проносившийся над собранием». Вообще всё это вызывает ассоциации с раскольничьим собором XVII века. Да, пожалуй, в Париже такого не увидишь…
Воистину так — ведь в России, как отмечает в своей «Истории русской философии» протоиерей Василий Зеньковский, русская мысль «всегда (и навсегда) оставалась связанной со своей религиозной стихией, со своей религиозной почвой…». Россия, утверждает учёный-богослов, никогда не отрывалась от церковной традиции, и в этом заключается специфика нашего мироощущения, в отличие от западного, зачастую не связывавшего решение философских проблем с христианством и Церковью.
Близкую точку зрения высказывает в своих работах и Николай Бердяев. По его мнению, русские философы и литераторы, начиная с Хомякова, весьма критически относились к отвлечённому идеализму Гегеля, предпочитая ему «конкретный идеализм» и «мистическое восполнение» рассудочной европейской философии, потерявшей «живое бытие».
Характерную особенность русской философской мысли Бердяев усматривает в том, что она таит в себе религиозный интерес, примиряет знание и веру. С политикой философия эта в прямом смысле не была связана; у лучших её представителей ощущалась религиозная жажда «Царства Божьего» на земле, что в конечном итоге определило и духовные искания Максимилиана Волошина.
Стихи и философские труды Вл. Соловьёва, статьи Н. Минского и Д. Мережковского стали предвестником возникновения нового литературно-философского направления, а журнал «Северный вестник», в котором печатались Д. Мережковский и 3. Гиппиус, объединил вокруг себя представителей нового искусства — Федора Сологуба, Николая Минского, Зинаиду Венгерову. В середине 1890-х годов даёт о себе знать старшее поколение московских символистов (В. Брюсов, К. Бальмонт, Ю. Балтрушайтис, А. Миропольский). В Петербурге начиная с ноября 1901 года проходят собрания Религиозно-философского общества. Знаменательной вехой возникшего литературного направления стало появление в марте 1894 года сборника «Русские символисты», а вслед за ним — ещё двух аналогичных изданий. Составителем их, а также автором большинства стихотворений был Валерий Брюсов, печатавшийся под псевдонимами и старавшийся придать новому явлению массовый характер. Наконец, в самом начале XX века появляются так называемые «младшие символисты»: А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов, С. Соловьёв, Эллис.
Виднейшие поэты и философы рубежа веков пытаются выработать концепцию мира как единого целого, раскрыть сокровенный смысл вселенского существования, включающего в себя и земное. Отсюда — интерес Вл. Соловьёва, П. Флоренского, С. Булгакова, В. Зеньковского, Вяч. Иванова, А. Блока, А. Белого к космософии и софиологии. Поэт-символист принимает на себя роль медиума, инструмента трансцендентального мира. Он выступает как пророк, носитель божественной тайны. Вл. Соловьёв понимал символизм как веру, поэзию как интуитивное постижение Истины и Бога. В одном из своих программных стихотворений он писал:
…И до полуночи неробкими шагами
Всё буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями,
Меня дождётся мой заветный храм.
Однако символистское направление не было единым по своим эстетическим установкам: если петербуржцы, как уже говорилось, делали упор на решении религиозно-философских проблем, то московская группа старалась не выходить за пределы собственно литературного творчества, «искусства ради искусства», за что её представители получили от своих оппонентов презрительную кличку «декаденты».
Впрочем, Андрея Белого в среде московских поэтов можно считать исключением, подтверждающим правило. В 1903 году в журнале «Новый путь» выходит его статья «О теургии», понимаемой как «способность религиозного делания», присущая искусству, главным образом — поэзии (то, что С. Булгаков вслед за Вл. Соловьёвым связывал с активностью софийного преображения мира). Скептически относясь к большинству своих литературных предшественников, Белый полагал, что они могли лишь приблизиться к пониманию подобной задачи. Даже Лермонтов. «Всего лишь шаг» оставалось сделать ему, живущему в далёкой от эзотерических прозрений эпохе, чтобы преодолеть свой демонизм и неверие в жизнь, увидеть в любимом существе «бездонный символ, окно, в которое заглядывает Вечная, Лучезарная подруга — Возлюбленная», вырастающая до «идеи вселенной, Души мира, которую Вл. Соловьёв называет Софией, Премудростью Божией и которая воплощает божественный Логос».
Не преуспели в «религиозном делании», по мнению А. Белого, и старшие символисты, застывшие в тоске и нерешительности перед «зоной хаоса», не принявшие «восторг призывной молитвы, весь жар мирового полёта». На место художника-пессимиста, «утешавшего пустотою», утратившего «само стремление выразить словом, что мы… дети Божии», должен прийти поэт-теург, вооружённый музыкой и магизмом.
Чтобы понять то, о чём говорит здесь А. Белый, надо вспомнить, что Вл. Соловьёв воспринимал Софию как идеальную, женственную суть мира, порождённую в самой природе Божества. Одним из важнейших аспектов соловьёвского учения о Софии Алексей Федорович Лосев считал «магический», когда «автор пользуется Софией как некоторого рода орудием в борьбе с другими силами бытия и для привлечения их к соучастию в его молитвенной акции».
Потребность соединить жизнь, веру и творчество определяет художественные поиски многих поэтов символистского направления начала XX века. Максимилиан Волошин, предпочитая философии как таковой поэзию, не углублялся в софиологию, не разрабатывал собственных религиозно-философских теорий. Однако он был склонен к тому, что издатели берлинского сборника «София. Проблемы духовной культуры и религиозной философии» (1923) называли духовно-целостным, софийным знанием, приобщающим человеческий разум к Божественной Премудрости. Интимно-метафизический аспект этого мироощущения воплотился для Волошина в египетской царевне Таиах, ассоциировавшейся с возлюбленной поэта Маргаритой Васильевной Сабашниковой.
Вернувшись в Россию, Макс намеревается опубликовать подборку своих стихотворений. Брюсов помешает их в августовский номер журнала «Новый путь» за 1903 год. Год этот ознаменовался важнейшими поэтическими публикациями. В полный голос заявляют о себе Александр Блок («Стихи о Прекрасной Даме» в альманахе «Северные цветы») и Андрей Белый (книга стихов «Золото в лазури»). Увы, печатный дебют Волошина (а по большому счёту, это был именно дебют) омрачился небрежностью (если не сказать больше) кого-то из членов редакции. В опубликованных стихотворениях были пропущены строфы, заменены эпитеты и таким образом существенно искажён смысл. Лучшая судьба постигла произведения поэта, попавшие в другие органы символистов — «Северные цветы» и «Гриф».
Так или иначе, способствуя вхождению молодого поэта в русскую литературу, ценитель удачных строф и вершитель убийственных приговоров В. Брюсов обратил внимание на незаурядность художественного дара Волошина. В «гурьбе… юных декадентов», следующих за «маститыми», он причислил к талантливым лишь его и Андрея Белого. Однако Волошин так и не стал последователем Брюсова и приверженцем символизма. Ему, с его стремлением «всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить», было тесно в узких рамках литературного течения. Не обманулся Макс и относительно личности Брюсова. Молодой поэт увидел некую искусственность литературно-общественной позы своего старшего собрата по перу. Позже, в конце 1907 года, Волошин напишет, что та школа, которую проходил поэт Брюсов «на острове мечты», «во мгле противоречий», не походила на обитель философа и мистика; то была «школа римского легионера, ландскнехта и конквистадора»; поэтическое же новаторство Брюсова покрывалось «великой страстью самоутверждения, неодолимой волей к власти и первенству…».
Но всё же вернёмся в 1903 год. Вечер 11 февраля. Максимилиан Волошин посещает картинную галерею известного коллекционера Сергея Ивановича Щукина. Здесь же Константин Бальмонт с женой Екатериной Алексеевной и ее племянницей Маргаритой — Маргорей, как называют её близкие. А ещё она — племянница известных книгоиздателей Сабашниковых — по линии отца, чаеторговца Василия Михайловича Сабашникова, сына сибирского купца и золотопромышленника. Среди сибирских предков Маргариты Васильевны, несомненно, были буряты, от которых девушка унаследовала едва заметную пикантную раскосость глаз. Нежная матовая кожа, лицо — портрет кисти утончённого китайского мастера. Волошин поражён её внешностью. В ноябре он напишет стихотворение с пометой «К портрету Мар. Вас.», ставшее хрестоматийным примером волошинской поэтической живописи. Вот его первая строфа:
Я вся — тона жемчужной акварели,
Я бледный стебель ландыша лесного,
Я лёгкость стройная обвисшей мягкой ели,
Я изморозь зари, мерцанье дна морского.
Впрочем, двадцатилетняя девушка незаурядна не только своей внешностью. Она — талантливая художница, ученица Ильи Репина. Накануне в Историческом музее открылась выставка картин Московского товарищества художников, где среди полотен В. Э. Борисова-Мусатова, А. А. Киселёва, П. П. Кончаловского были выставлены и её работы. Кстати, волею судьбы на той же выставке оказался и портрет Волошина, представленный В. И. Кошелевым.
«Портрет Волошина. А ведь я помню… На выставке он был рядом с моей картиной… Характерный типаж Латинского квартала — плотная фигура, львиная грива волос, плащ и широченные поля остроконечной шляпы… В жизни он, пожалуй, не таков… Хотя, конечно, всё та же косматая шевелюра, неуместные в приличном обществе укороченные брюки, пуловер… Но глаза глядят так по-доброму, по-детски; такой искренней энергической восторженностью лучатся зрачки, что невольно перестаёшь обращать внимание на эпатирующую экстравагантность обличья…»
— Знакомьтесь! Моя племянница, Маргарита Васильевна Сабашникова.
Макс, опережая Екатерину Алексеевну:
— Очень приятно. Максимилиан Кириенко-Волошин. Впрочем, — широко улыбаясь, — это слишком длинно. Для близких друзей я просто Макс.
— Вы уверены, что мы станем близкими друзьями?
Улыбаясь ещё шире:
— Непременно станем!..
«Мы возвращались вместе, и он раскрывал мне мир французских художников, тогда это был его мир…» — вспоминает М. В. Сабашникова в книге «Зелёная змея».
Но и познакомившись с поэтом, Маргарита продолжает смотреть на него как бы со стороны. Её по-прежнему смущают его «внешний вид, парадоксальное поведение и, наконец, удивительная непредвзятость по отношению к любой мысли, любому явлению… И эта его радостность, бившая ключом». Да, он был радостным человеком, считает она, для России — непривычно радостным. Ей странно, что Макс никогда не страдал и даже не знает, что это такое. Маргарита ощущает себя его противоположностью: она постоянно недовольна собой, неуверенно чувствует себя в окружении людей, не видит опоры. Задумываясь о жизни, она неизбежно начинает философствовать о смерти: «Она подойдёт и взглянет большими строгими глазами прямо в глаза и спросит: „Ты готова?“» Молодая художница ощущает наплывы депрессии, порой задаётся вопросом, жива ли она вообще или ей только так кажется: «Я была мёртвой, но вокруг меня происходила жизнь. Только поэтому я догадывалась, что живу. Я произвожу впечатление — следовательно, я существую». А главное, как считает проницательная Екатерина Бальмонт, Маргоря обладает способностью «возненавидеть того, со стороны которого заметит чувство к себе».
Между тем Волошин уезжает в Феодосию, оттуда — в Коктебель, встречается там с Елизаветой Сергеевной Кругликовой, едет вместе с ней в Бахчисарай. 12 сентября совершает «акт купчей крепости» на участок земли в Коктебеле. Именно на этом месте будет возведён его собственный дом. Макс переписывается с Александрой Гольштейн и Александром Якимченко, которые сообщают ему парижские новости. Латинский квартал манит художника к себе. Но он уже видит себя в Париже вместе с Маргаритой, ведь она мечтает поехать туда учиться живописи, как ему кажется. А что же она? Пока не торопится: «Не могу сказать, что Макс чрезмерно занимал меня: вокруг искрилась и кипела увлекательная жизнь». Ведь ей, несмотря на депрессии, всего лишь двадцать лет.
В ноябре Волошин — опять в Москве. Вновь — встречи с Маргаритой, чтение стихов, обсуждение картин. Но всё — весьма и весьма целомудренно. Тем не менее девушка получает выговор от родителей (Макс проводил её домой в половине двенадцатого ночи) за нескромное поведение. Вместе с тем поэт живёт не только личным. Он с энтузиазмом встречает известие о скором открытии в Москве ежемесячного журнала «Весы», посвящённого вопросам искусства и философии, наблюдает за драматургией литературной борьбы, хотя в ней и не участвует.
18 ноября 1903 года… Константин Бальмонт читает в Литературно-художественном кружке лекцию об Оскаре Уайльде. Потом выступает Андрей Белый. Аудитория, настроенная враждебно к «декадентам», как писали в газетах, к «подворью прокажённых», неистовствует и улюлюкает. Впечатления от этого вечера побуждают Волошина взяться за перо:
Клоун в огненном кольце…
Хохот мерзкий, как проказа,
И на гипсовом лице
Два горящих болью глаза.
Лязг оркестра; свист и стук.
Точно каждый озабочен
Заглушить позорный звук
Мокро хлещущих пощёчин.
Как огонь, подвижный круг.
Люди — звери, люди — гады,
Как стоглазый, злой паук,
Заплетают в кольца взгляды…
Эти строки в полной мере отражают литературно-художественную атмосферу начала XX века. Видения из «Мира искусства»: «Образ бледного, больного, / Грациозного Пьеро», полотна Л. Бакста и К. Сомова, «кукольная театральность… пестрота маскарадных уродцев, неверный свет свечей, фейерверков и радуг… мертвенность и жуткость любезных улыбок» (поэт М. Кузмин о картинах К. Сомова), «Арлекин убогий… с наклеенным картонным носом» А. Белого, поэт-символист, не понятый толпою пророк…
В. Брюсов позднее напишет: «Борьба началась ещё до моего приезда — лекцией Бальмонта в Литературно-Художественном Кружке. И шла целый месяц. Борьба за новое искусство. Сторонники были „Скорпион“ и „Грифы“ (новое книгоиздательство). Я и Бальмонт были впереди, как „маститые“ (так нас называли газеты), а за нами целая гурьба юношей, жаждущих славы, юных декадентов: Гофман, Рославлев, три Койранских, Шик, Соколов, Хесин… ещё Максимилиан Волошин и Бугаев. Борьба была в восьми актах…» Адресат волошинского стихотворения, «юный декадент» Андрей Белый дополнял «маститого»: «Мы шли в „Кружок“; там В. Брюсов с эстрады перед всею Москвою демонстрировал ум, эрудицию; К. Д. Бальмонт стрелял пачками пышных испанских имён, начиная от Тирсо-де-Молина, доказывая: поза позою, а эрудиция не уступает Н. А. Стороженке, А. Н. Веселовскому в прекраснейшем знании Шекспира, английских поэтов, особенно же Перси Шелли, испанцев; Волошин умел демонстрировать дар: звучно вылепить в слове и сведение о новейшем, и сведение о древнейшем, воочию продемонстрировав свой разъезд по музеям».
Впрочем, Макс не желает быть составляющим «целой гурьбы» юношей-декадентов. Его ждёт Париж. В ноябре он участвует в обсуждении плана будущей работы символистского журнала «Весы» и даёт согласие быть его парижским корреспондентом. Предстоит ещё прощание с Маргаритой Сабашниковой. Нет, лучше передать ей стихи через Екатерину Алексеевну Бальмонт: «Пройдёмте по миру, как дети,/ Полюбим шуршанье осок,/ И терпкость прошедших столетий,/ И едкого знания сок». Робкое и непритязательное выражение чувства. Однако Маргарита смущена: «Мне очень стыдно, но я не буду Вам писать». Макс спешит на поезд. Прощаясь, Константин Бальмонт дарит ему свою книгу стихов «Будем как солнце», а Екатерина Бальмонт — фото Маргори. «Сев в вагон, ревел всю ночь, что со мной с шестилетнего возраста не бывало», — напишет Волошин Пешковскому. Но завершился только первый акт любовной драмы. Ещё остаётся надежда: «…Вдаль по земле таинственной и строгой / Лучатся тысячи тропинок и дорог./ О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой!»
И вот снова Париж. Но сердце Макса — в Москве. Он пишет Маргарите: «В первый раз испытываю тоску по России». Она, отменив первоначальное решение, ему всё-таки отвечает. И — закономерная реакция: «Париж для меня снова воскрес!» Однако ещё ничего не ясно: «От него приходили письма — странно выписанные буквы, прямой наклон строк, парижские впечатления. Я воспринимала всё это как нечто вычурное, парадоксальное». Маргарита явно не определилась с чувствами — для неё это всегда будет трудным делом. Но её и саму по себе тянет в Париж: «Мне хотелось ещё более расширить свой мир, серьёзно учиться живописи, работать». Отец и мать, естественно, против поездки: молоденькая девушка, Париж — мало ли что… Наконец нашли компромисс: с Маргаритой поедет тётя, Татьяна Алексеевна Бергенгрин; так спокойнее. Тётя Таня оказалась человеком деликатным: «замкнутая, независимая, она не стеснила моей свободы».
Ну а Волошин тем временем весь в работе, в поисках новых эстетических впечатлений. В 8 утра он уже на ногах — пишет или направляется в библиотеку. В середине дня — отдых или прогулки по городу. С четырех часов дня вплоть до полуночи — снова изучение журналов и литературно-художественных альманахов, статьи, стихи, картины. «Я весь с головой в живописи, — пишет он Брюсову 4 января 1904 года. — …Разрываюсь между Академией и Национальной библиотекой». Макс снимает квартиру-ателье в мансарде дома, где родился художник Камиль Коро; из окон открывается великолепный вид на парк Тюильри и собор Санкре-Кёр. Вдохновляют контакты с творческими личностями: ещё в конце декабря Волошин познакомился с поэтом Рене Гилем, который даёт согласие на сотрудничество в «Весах»; один из самых любимых художников Макса Одилон Редон не прочь сделать рисунок для обложки журнала; Александр Якимченко делает для «Весов» ряд заставок. Наконец, 10 января происходит знакомство с Эмилем Верхарном на банкете в его честь, устроенном редакцией одного из журналов в Отеле учёных обществ. Присутствующих — более ста человек. Среди них — писатель Октав Мирбо, скульптор Огюст Роден, художник Эжен Карьер, актёр и режиссёр Люнье-По — весь цвет парижской художественно-артистической богемы.
Ну а в конце месяца в Москве выходит первый номер «Весов» со статьёй Волошина «Скелет живописи». В эти дни Макс много размышляет о роли и гранях индивидуализма в искусстве, ратуя при этом за анонимность творчества. Анонимность (или соборность) лежит в основе средневекового искусства. Анонимное и всенародное творчество, считал в то время поэт, должно прийти на смену индивидуалистическому самовыражению, характерному для искусства современности. Впрочем, сегодняшнему, погружённому в себя европейцу это понять трудно (статья «Европеец и его раковина»). Замышляя так и не изданный тогда сборник стихов, он пишет в августе 1904 года М. Сабашниковой: «Имени на книге не будет. Только в конце книги, внизу на предпоследней странице надпись, как на плите готического собора: „Эта книга сложена тем-то, издана тем-то, окончена печатанием тогда-то“. И больше ничего».
Волошин молод, энергичен, влюблён. Мир представляется ему «морем пред зарёю», жизнь — «арабской сказкой, в которую… вплетены тысячи разных узоров». Макс задумывается о перевоплощении, явлении кармы. При этом Макс убеждён, что он на земле — «в первый раз: до такой степени мне всё ново и интересно». Да и вообще: всё ли можно охватить обыденным человеческим сознанием, какова роль бессознательного в восприятии мира, в постижении времени и пространства?.. В парижских литературных кругах Волошин не одинок — у него есть друзья, поклонники, единомышленники. Тот же Р. Гиль, даря Максу свою экзотическую поэму «Панту из племени панту», делает надпись: «Яркой личности, учёному и специалисту в науке поэзии и искусстве живописи, который в то же время столь же симпатичен и обаятелен». Гиль видит в нём «поэта новых интуитивных мыслей и друга». Но главное — приходят известия из Москвы: Маргарита скоро будет в Париже. Поэт «рад бесконечно». Пока что он «весь в красках, выжигании на дереве, лаках, полировках», в посещениях малых выставок и ожиданиях больших Салонов. Но скоро всё это будет делиться на двоих…
Маргарита Сабашникова с братом Алёшей и тётей Таней приезжают в Париж 6 марта 1904 года. Они поселяются в старом отеле, окна которого выходят на Люксембургский сад. «Утро начинается с прихода Макса, а дальше — круговорот музеев, церквей, мастерских художников, и — набегами — парижские окрестности: Версаль, Сен-Клу, Севр, Сен-Дени… Мне так радостно! Я всё время чего-то жду…» Весна. «В утренней серебристости Парижа странно перемешиваются ароматы фиалок, мимоз и угольная копоть… С жадностью дышу… Сколько столетий складывалась эта атмосфера, как она пленяет душу и уносит, влечёт… На глазах у тебя словно бы созидается история во всём единстве и колебании своих противоположностей…» Маргарита создаёт в своих воспоминаниях очень ощутимый живописно-звуковой образ Парижа: «Грандиозный размах города не подавляет, всё здесь пронизано какой-то интимностью… Переплетаются традиционное и наступающая новизна. Мчатся экипажи — щёлканье кнутов, колокольчики, стук копыт по мостовой. Странная гармоничность пронзительных завываний рыночных торговок. Возбуждённо кричат продавцы газет. Врезаются мелодичные гудки редких ещё автомобилей… Улицы Парижа… Изобилие цветов на сером фоне… Наряды женщин… Дамские шляпы были в то время фантастически красивы и разнообразны. Тётя купила мне большую шляпу — голубая бархатная лента, живописные букетики искусственных васильков… Макс воспел её в одном из своих стихотворений…» В стихотворном «Письме», отправленном Сабашниковой вскоре после её отъезда в Россию в июне 1904 года, Волошин воспевает не только её шляпу. Здесь возникает внешний облик и проступает внутренний мир Амори (как называет Маргариту Макс), проникнутый любовью поэта:
Всю цепь промчавшихся мгновений
Я мог бы снова воссоздать:
И робость медленных движений,
И жест, чтоб ножик иль тетрадь
Сдержать неловкими руками,
И Вашу шляпку с васильками,
Покатость Ваших детских плеч,
И Вашу медленную речь,
И платье цвета эвкалипта,
И ту же линию в губах,
Что у статуи Таиах,
Царицы древнего Египта,
И в глубине печальных глаз —
Осенний цвет листвы — топаз.
Макс и Маргарита впервые увидели бюст египетской царицы 24 мая в музее Гиме. Обратив внимание своей спутницы на голову «королевы Таиах», он сказал: «Она похожа на вас». Поэт вспоминает: «Я подходил близко. И когда лицо моё приблизилось, мне показалось, что губы её шевелились. Я ощутил губами холодный мрамор и глубокое потрясение. Сходство громадное». Среди писем Волошина сохранится рисунок головы царицы, сделанный рукой его подруги. Таиах (Тайа), жена Аменхотепа III, мать Эхнатона, та самая, что упразднила у себя в стране многобожие и установила культ бога солнца Атона. Спустя год поэт приобрёл в Берлине слепок этого бюста, который находился в его парижской мастерской, а впоследствии — в его коктебельском доме.
Маргариту потрясает Лувр, хождения «из Египта в Грецию — изумление, шок!.. Но рядом со мной Макс, его меткие афоризмы быстро — пожалуй, даже слишком быстро — развеивают моё настроение. Для него это уже привычная гимнастика ума: подбирать, встраивать точные лёгкие формулы слов, и я льну к его почти ребяческой манере; она защищает меня от разверзшихся бездн минувшего и нынешнего… Он чудесный товарищ, он щедро оделяет меня богатством своих знаний — мемуары, хроники, исторические сочинения…».
Этюды в общедоступной студии Филиппо Коларосси, мастерская бретонского художника Люсьена Симона, ателье Елизаветы Кругликовой, выступление Айседоры Дункан — «подлинное воскрешение античной Греции», посещение выставки французских примитивистов в Лувре и — средневековых миниатюр в Национальной библиотеке, открытие Национального салона в Большом дворце Енисейских Полей, музей Трокадеро — да разве всё перечислишь… «Мгновенья полные, как годы…/ Как жезл сухой расцвёл музей…/ Прохладный мрак больших церквей…/ Орган… Готические своды…/ Толпа: потоки глаз и лиц…/ Припасть к земле… Склониться ниц…»
Прекрасное окружает Макса и Маргариту. Прекрасное расцветает в их душах. Она просит его написать что-нибудь на её экземпляре «Евгения Онегина». А у Волошина уже готовы три стихотворения, три признания в любви, те самые: «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток…», «Пройдёмте по миру как дети…», «Я ждал страданья столько лет…». Но до полного взаимопонимания ещё далеко. А Макс нуждается в ясности:
— В тех трёх стихах есть вопрос.
— Какой вопрос?
Волошин молчит. Оба рисуют. Потом, уже во дворе Лувра, Маргоря переспрашивает: «Какой вопрос? Вы раньше не задавали вопросов». Макс не находит сил, чтобы выговорить самое главное — то, за чем, возможно, последует острый как бритва ответ. Через некоторое время разговор возобновляется. Она:
— У меня мучительное чувство, когда люди мне вдруг надоедают и становятся невыносимы. Они совсем в этом не виноваты.
Впрочем, это не о Максе. Потом, проходя через Тюильри:
— И чем они меня больше любят, тем меньше я их могу выносить.
Вот это уже для спутника.
— Тогда предупреждайте их, пока сохранилось чувство дружелюбия.
— Ну вот, я вас предупреждаю.
А у него внутри всё похолодело. «Чувство падения и провал. Долгое молчание. Потом мы говорим о других предметах, и я мысленно хвалю себя за то, что умею владеть собой».
Через несколько дней — опять Лувр. Ватто. Шарден. Фрагонар. Заходит разговор о цикле литографий Редона к флоберовской драме «Искушение Святого Антония»:
— Вчера Дьявол не произвёл на меня такого сильного впечатления, как мог произвести несколько лет назад. Помните, я вам говорила о том периоде равнодушия. Редоновский Дьявол — это мой Дьявол.
А у Волошина уже складывается: «Рисунок грубый, неискусный…/ Вот Дьявол — кроткий, странный, грустный./ Антоний видит бег планет: / „Но где же цель? — Здесь цели нет…“» Он и она рассматривают литографии, почти соприкасаясь головами. Поэт вскоре запишет: «Чувствуя близость плеча, я чувствую всё обаяние ласки. На днях я видел во сне, что она держала мою голову в руках и гладила. Лет 7–8 я вечером плакал от отсутствия ласки. Потом привык».
День 31 мая Волошин определяет как день «грустного счастья», напоминающий «большой драгоценный камень». Утром — церкви, старые улицы. Поездка с Маргаритой на пароходике в Сен-Клу. «Мгновение грусти, когда слёзы свёртываются в глазах». Ближе к вечеру — иллюминация. Проплывают отражения. Запомнить это, запечатлеть. «Вот этот жёлтый забор в большой волне. А вот, видите: кусочки инкрустаций дерева внутри круга». Это было на Сене, близ Медона. У Макса рождаются стихи:
…Река линялыми шелками
Качала белый пароход.
И праздник был на лоне вод…
Огни плясали меж волнами…
Ряды огромных тополей
К реке сходились, как гиганты,
И загорались бриллианты
В зубчатом кружеве ветвей…
А на берегу она скажет: «Я чувствую свободу. Меня никто здесь не знает. Это последний раз в жизни». Проходят наверх. Идут по сырым аллеям. Площадка с видом на Париж. Она продолжает:
— Мне бы хотелось вымести этих людей. Так взять метлу и вымести за дверь.
— Сядемте дальше в аллее.
От ветвей становится совсем темно. Маргарита — под настроение:
— …Какой-то голос грустно говорит: «Вот так вся жизнь»…
— Пройдёмте так через жизнь.
— Смерть я представляю таким образом: когда закроешь глаза и всё забудешь…
— Пройдёмте так вместе. Мы ещё не умерли!
«Рассвет тихий, перламутровый. И волна вдруг поднялась и сверкнула. Небо отразилось. Неизменное в вечно текущем».
— Вы — немецкий идеальный юноша. Благородный, честный. Вы способны ждать невесты пятьдесят лет. Это хорошо. Вы можете думать что угодно, но останетесь честным против своей воли. А что — я? Я умерла и ещё не родилась…
— Пройдёмте вместе по миру.
— Нельзя. Я мёртвая — вы живой.
Вот так всё и продолжалось: встречи, прогулки, радостно-грустные беседы, признания и сомнения. Было посещение кладбища Пер-Лашез, молчание у Стены коммунаров, вновь разговоры о смерти. Был пикник в роще Сен-Клу. Была ревность Елизаветы Кругликовой, которую подмечали все, кроме Макса. Были путешествия большой компанией по окрестностям Парижа, которые Макс знал так же хорошо, как знают свой родной двор, поэтому в роли гида шёл всегда впереди, нередко, игнорируя дороги, заводил растерявшуюся публику в какую-нибудь чащобу, чтобы выйти на место «кратчайшим путём» (это выражение войдёт в поговорку), плутал по сложным, одному ему понятным синусоидам, а команда его между тем рассеивалась и таяла.
Екатерина Бальмонт вспоминает, что однажды, во время прогулки в Венсенском лесу, гид Макс де Коктебель водил всю компанию кругами в течение трёх часов. «Стало совершенно темно, и мы поняли, что Макс сбился с дороги и сам не знает, куда идти, куда нас вести. Макс обращал наше внимание на гигантские размеры деревьев, на заросли кругом. Кто-то заметил, что это, верно, та непроходимая часть леса, где прячутся грабители и апаши. Один русский молодой учёный, всю жизнь свою просидевший над книгами и никогда не видавший настоящего леса, затрясся от страха, две молодые девушки заплакали… Макс нас утешал: „Бродяги и грабители не сидят ночью в лесу, они выходят на улицы на свой промысел. А как бы интересна была такая встреча!“… Наконец мы вышли на тропинку, которая привела нас на шоссе, бегом догнали последний поезд, уходивший в Париж. Мы вернулись… усталые, злые, голодные, и все ругали Макса. А он, сконфуженный, бегал от одного кабачка в другой, умоляя хозяев пустить нас закусить. Но перед нашими носами опускали железные шторы на окнах и дверях ресторанчиков, и хозяева добродушно показывали на циферблат часов, где стрелка показывала час ночи». В результате отправились в мастерскую Кругликовой, где незадачливый гид в качестве компенсации за морально-физический ущерб сварил для всех жжёнку.
В июне Маргарита уезжает в Москву, намереваясь осенью вернуться. Волошин пишет стихи о Париже, посещает театр, изучает «Кама Сутру», наблюдает празднование Дня взятия Бастилии, чему посвящает специальный очерк. Скучая по Аморе, отправляет ей письма — в прозе и стихах. Стихотворное «Письмо», написанное онегинской строфой, — не только очередное признание в любви, но и беглый обзор французского искусства: философская концепция готики, галерея «ликов Парижа», причащение миру языческой мифологии… Это лирическое отражение их общего с Маргаритой вхождения через Париж «в просторы всех веков и стран». «В озёрах памяти» отразились и слились парки Версаля, суета рынка, «Лувра залы,/ Картины, золото, паркет,/ Статуи, тусклые зеркала,/ И шелест ног, и пыльный свет». Грёз, Ватто, Делакруа, Джоконда, «Голова неизвестной», «леса готической скульптуры», Фуке и примитивисты, «мир Рэдона», скульптуры Родена, «полубезумный жест Кентавра», заставивший поэта ещё раз ощутить «несовместимость двух начал» — животного и человеческого. А может быть — человеческого и божественного?.. Волошин чувствует некоторую внутреннюю общность с этим существом. Однако сам он настаивает на цельности своей природы, своего бытия. Да, у человека, скорее всего, животная натура. Но она преодолевается и обожествляется творческим порывом, устремлением в беспредельность: «Кругом поёт родная бездна, — / Я весь и ржанье, и полёт!»
Все эти фигуры, образы, творения пронизывает сильнейшая лирическая стихия; мир искусства охвачен нежностью и грустью. Волошин ощущает гармонический строй мироздания, «звездность» души, вобравшей в себя землю и небо; он различает «Окаменелые мечты / Безмолвно грезящей природы» и слышит «гул идущих дней». Но вся эта «беспредельность», «дрожь предчувствий вещих», восторг и «ужас вещей» помогают поэту осознать простое человеческое счастье, которое, увы, слишком мимолётно, горький вкус любви и лавра, обычную земную жизнь, которая весьма быстротечна:
Любить без слёз, без сожаленья.
Любить, не веруя в возврат…
Чтоб было каждое мгновенье
Последним в жизни. Чтоб назад
Нас не влекло неудержимо.
Чтоб жизнь скользнула в кольцах дыма.
Прошла, развеялась… И пусть
Вечерне-радостная грусть
Обнимет нас своим запястьем.
Смотреть, как тают без следа
Остатки грёз, и никогда
Не расставаться с грустным счастьем,
И, подойдя к концу пути,
Вздохнуть и радостно уйти.
Когда-то Маргарита сказала Максу: «У меня в детстве был ужас смерти. Мне казалось, что нужно любить каждую минуту так, как будто это была последняя…» И оба понимали: «Тот, кто любит жизнь, не боится смерти».
«Горькая жертва» любви… Любовь как возникновение и «таянье» грёз… Готовность идти до конца без веры во взаимность; потребность сделать каждый миг любовного единения «последним в жизни» и никогда не сожалеть о том, что вступил на этот сладостно-горький путь, по которому скользишь за пределы реальности… Но возможно ли «закрепить преходящий миг», чтобы он остался в памяти не одного, а двух человек?..
…Я слышу Вашими ушами,
Я вижу Вашими глазами,
Звук Вашей речи на устах,
Ваш робкий жест в моих руках.
Я б из себя все впечатленья
Хотел по-Вашему понять,
Певучей рифмой их связать
И в стих вковать их отраженье.
Но только нет… Продлённый миг
Есть ложь… И беден мой язык.
Маргарита отвечает поэту: «Это Бог знает как хорошо!.. От Вашей поэмы я в восторге». В тон ему она пишет:
Глаза невольно закрываю
И вижу милый Montparnasse.
В музеях мысленно гуляя,
Встречаю очень часто Вас
И вижу средь эстамп японских
Младенческий и ясный взор…
Наш вечный слышу разговор,
Как меж подружек пансионских,
Серьёзный, важный и живой,
И для других людей смешной…
Шептали там века нам сказки.
Как дети, им внимали мы.
Нас волновали мира сны,
Светяся в линиях и красках,
И жизни спутанный узор
Во мгле угадывал наш взор.
Екатерина Бальмонт принимала самое душевное участие в завязывающемся на её глазах лирическом сюжете. Они часто беседовали с Максом, и она его предостерегала: «То расположение, которым Вы пользуетесь, это высшее, что Вы можете получить». Да, ей, Маргарите, с Максом легко, но тем не менее ему придётся много страдать. Но и он это знает, ведь ещё совсем недавно писал: «Я ждал страданья столько лет / Всей цельностью несознанного счастья./ И боль пришла, как тихий синий свет, / И обвилась вкруг сердца, как запястье».
— Я всё это знаю. Я так же думаю. Но, может, так надо.
— Ну а если б она вышла замуж, полюбила другого?
— Я не знаю… Я не представляю себе. (Хотя, конечно же, представлял и испытывал острую боль от возможности подобного варианта.)
— Если вам придётся видеться так, урывками. Раз в несколько лет… Я думаю, что это только первый период настоящей любви.
— Но я не знаю, можно ли это назвать «любовью». Впрочем, верно, в «первом периоде» это всегда так бывает.
— Да. Это так бывает всегда (с грустной улыбкой). Мне жаль, что вы утратите вашу жизнерадостность.
— Не думаю. Я со слишком большой радостью принимаю всё, что бы ни посылала мне жизнь. Может, разница в словах: я называю счастьем то, что другие называют страданием, болью.
Оставаясь один, Волошин испытывает наплыв чувственных образов. «Чтобы отогнать, я хватаюсь за книгу. Но не могу работать. Всё это время меня не посетило ни одно желание. Тут они сразу вернулись. Я шёл по улице, представлял себе удовлетворение и с отвращением смотрел в лицо женщинам». Сложившаяся ситуация наводит поэта на размышления о соотношении между мечтой, желанием и поступком. Свои рассуждения Макс, как обычно, переводит в отвлечённо-философский план: «Я не могу исполнить того, о чём много думал, особенно мечтал. Мечта есть активное действие высшего порядка. Её нельзя низводить до простого действия. Поступки сильные совершаются, не думая. Воля чужда сознания… Горе тому, кто смешивает мечту и действие и хочет установить связь между ними. Желание — это предпочтение, это наше зрение в будущее. Поэтому всякое желание — когда пожелаешь всем телом, а не только умом — исполняется… Лучи достигают к нам из будущего, и это ощущение мы называем желанием. Это даёт нам необходимую иллюзию свободы воли».
В середине июля издательство «Скорпион» неожиданно перечисляет безденежному Волошину небольшой гонорар. В знойном Париже ему тоскливо и одиноко; поэт решает на несколько дней махнуть в Швейцарию «спасаться от жары». Последнее время он много работал, писал статьи «по штуке в день», часто встречался со скульптором Анной Голубкиной, читал ей стихи, восхищался её творениями из мрамора. Настало время сменить обстановку. Благо есть у кого остановиться и с кем пообщаться: в Женеве — Глотов и Пешковский; в Шамони — сын А. В. Гольштейн и муж художницы М. В. Якунчиковой врач-невропатолог Л. В. Вебер. Так получилось, что с последним Волошин по приезде очень приятно проводил время, совершая длительные прогулки по окрестностям, поднимаясь высоко в горы, к ледникам. Вебер — неплохой альпинист; Максу, привыкшему взбираться на разнообразные возвышенности Европы и Крыма, эти восхождения с применением специальных приёмов кажутся «удивительно интересными». Только вот окружающие виды не слишком впечатлили крымского патриота. Он пишет Екатерине Юнге о том, что «лазил по бокам Монблана, ходил в Оберланд, но Альпы меня совсем разочаровали. То ли дело Коктебель». И вообще — он «привык к наготе бронзовых гор Юга». Но всё же после восхождения с Вебером на плато с названием Юра Макс сменил гнев на милость: «Великолепная пустыня… Мне это напоминало Крым и Яйлу, с ночлегами у пастухов, с волнистыми равнинами по вершинам, с чёрными сосенками у светло-серых скал, с кристаллическими щелями и колодцами в почве».
Однако самая важная встреча произошла в Женеве, на вилле «Ява». Волошин знакомится с Вячеславом Ивановым, поэтом, философом, знатоком античности, стихи которого прочитал ещё два года назад. Позже, в «Автобиографии», художник напишет: «Из произведений современных поэтов раньше других я узнал „Кормчие звёзды“ Вяч. Иванова (1902), после Бальмонта. У них и у Эредиа я учился владеть стихом». «Солнечный эллинист» Вячеслав Иванов вошёл в историю литературы как один из мэтров русской поэзии Серебряного века, хозяин «Башни» (как называли петербургскую квартиру поэта под самой крышей многоэтажного дома) — богемного салона, где в конце 1900-х — начале 1910-х годов собирались люди искусства, мыслитель, стремившийся примирить язычество и христианство, учёный-филолог и переводчик древнегреческих текстов, знаток и приверженец «религии страдающего бога» — дионисийства, по определению Михаила Кузмина, «один из главных наших учителей в поэзии». Неудивительно, что Волошин, встретясь с этим необыкновенным человеком, проговорил «почти целые сутки без перерыва».
И вот они сидят друг против друга — румяный широкобородый здоровяк под тридцать и мужчина под сорок, в пенсне, с золотистым нимбом волос и утончённо-измождённым лицом профессора. Классический тип «интеллигента», описанный Волошиным в поэме «Россия»: «Его мы помним слабым и гонимым,/ В измятой шляпе, в сношенном пальто,/ Сутулым, бледным, с рваною бородкой,/ Страдающей улыбкой и в пенсне». Всё так, только в данном случае — элегантно одет и без «страдающей улыбки». Разговор складывается легко и непринуждённо. Естественно, когда встречаются два поэта, разговор неизбежно приходит к поэзии. Вячеслав Иванов уже познакомился со стихами Волошина:
— У вас удивительно красочный язык. Вы не стремитесь рассказывать. Это тонкая живопись, до мельчайшей детали. Над чем вы сейчас работаете?
— Моя книга должна называться «Годы странствий». Возможно, один из разделов будет озаглавлен «Заповеди». Или «Кристаллы духа».
— Гм… Заповеди?.. «Не проповедуй и не учи» — это единственная заповедь. Да и не это для вас главное. У вас глаз непосредственно соединён с языком. В ваших стихотворениях как будто глаз говорит. И во всём чувствуется законченность.
— Я ищу в стихе равновесия. Если я где-то употребляю редкое слово, то стараюсь употребить равноценное на другом конце строфы.
— Вы буддист… Вы нам чужды. Вот вопрос, проводящий чёткую грань: «Хотите вы воздействовать на природу?»
— Нет. Я только впитываю её в себя. Я радуюсь всему, что она мне посылает. Без различия, без исключения. Всё сразу завладевает моим вниманием.
— Ну вот! — восклицает Иванов. — А мы хотим претворить, пересоздать природу. Мы — Брюсов, Белый, я. Брюсов приходит к магизму. Белый создал для этого новое слово, «теургизм» — создание божеств. Это в сущности то же самое. Обезьяна могла перевоплотиться в человека, и человек когда-нибудь сделает скачок и станет сверхчеловеком.
— Что вы имеете в виду?
— Обезьяна — а потом неожиданный подъём: утренняя заря, рай, божественность человека. Совершается единственное в истории: животное, охваченное безумием, обезьяна сошла с ума. Рождается высшее — трагедия. И впереди — опять золотой век — заря вечерняя.
— Что-то похожее есть у Ницше… — вспоминает Волошин. — А если это будет не человек? Какое-то другое существо будет избрано, чтобы стать владыкой. Может, одно из старых мистических животных, к которым человек всегда питал благоговейное почтение, смешанное с ужасом, — змей, паук?
— Тогда это будет демон. Вы знаете, что апостол Павел называл ангелов тоже демонами и говорил, что человек всё же создан совершеннее ангела. В христианстве есть даже такие прозрения, — увлекается Иванов. — Христианство — это сила. Мы будем возвышать, воспитывать животных. Христианство — это религия любви, но не жалости. Безжалостная любовь — истребляющая, покоряющая — это христианство. В буддизме скорее есть жалость. Это религия усталого спокойствия.
Волошин на какое-то время задумался. То, что сказал Вячеслав, требовало осмысления. К тому же Максу не хотелось вступать в религиозный спор. И он попытался подойти к теме с другого конца:
— Я считаю основой жизни пол — sexe. Это живой, осязательный нерв, связывающий нас с вечным источником жизни. Искусство — это развитие пола. Мы переводим эту силу в другую область. Одно из двух: или создание человека, или создание произведения искусства, философии, религии — я всё это включаю в понятие искусства. Это та сила, которая, будучи сконцентрированной, даёт нам возможность взвиться.
— Если так, вы нам подходите. Вы не буддист. В буддизме нет трагедии.
— Для меня жизнь — радость, — признаётся Макс. — Хотя, может быть, многое из того, что другие называют страданием, я называю радостью. Я страдание включаю в понятие радости. У меня — постоянное чувство новизны, ощущение своего первого воплощения в этом мире.
— Именно это создаёт в вас ту наивность отношения к миру, о которой я уже говорил. Белый в своей статье о Бальмонте называет его последним поэтом чистого искусства. Последним — этого периода. Вы, может быть, первый проблеск следующего периода… Как всё-таки вы думаете назвать свою книгу?
— «Годы странствий».
— Я думал, будет что-то более красочное. Впрочем, это хорошо. Скромно. Определённо. И даже содержит отчасти извинение. А главное — сколько возникает милых воспоминаний… Нет, это хорошо.
— Для меня это важно, поскольку даёт известную психологическую цельность. К тому же — подводит итог определённому периоду…
В эти дни было охвачено немало тем: средневековое искусство и анонимность автора, ритм, танец, дионисизм, маски, античные строфы и размеры, роман и его возможности, назначение театра… Напоследок Волошин получил в подарок ивановскую книгу «Кормчие звёзды» с надписью автора: «Дорогому Максу Волошину на добрую память о нашем общении — „В надежде славы и добра“».
Всё казалось красивым и многообещающим. Макс живёт «среди расфуфыренной и расфранченной природы» Швейцарии, ошеломлённый «неистовством зелени». Перечитывает «Эллинскую религию страдающего бога» Вячеслава Иванова, находя в этой книге «целое откровение». Под влиянием бесед с мэтром оставляет в дневнике множество записей. Вот некоторые из них: «Проповедь даёт созревший плод — чужой. А в душе надо только зерно, из которого может вырасти дерево, которое принесёт этот плод…
Природа употребляет все средства, чистые и нечистые, чтобы направить мужское к женскому и столкнуть их. Моё отношение к женщинам абсолютно чисто, поэтому в душе моей живёт мечта обо всех извращениях. Нет ни одной формы удовольствия, которая бы не соблазняла меня на границе между сном и действительностью. Это неизбежно…
Надо уметь владеть своим полом, но не уничтожать его. Художник должен быть воздержанным, чтобы суметь перевести эту силу в искусство. Искусство — это павлиний хвост пола…
Кто создаёт человека, тот этим отказывается от создания художественного произведения. Искусство или ребёнок — две цели. В них огонь гаснет.
Вся наука человечества, все его знания должны стать субъективными — превратиться в воспоминание. Человек должен суметь развернуть свиток своих мозговых извилин, в которых записано всё, и прочесть всю свою историю изнутри.
Мы заключены в темницу мгновения. Из неё один выход в прошлое. Завесу будущего нам заказано подымать. Кто подымет и увидит, тот умрёт, т. е. лишится иллюзии свободы воли, которая есть жизнь. Иллюзия возможности действия. Майя. В будущее можно проникнуть только желанием. Для человечества воспоминание — всё. Это единственная дверь в бесконечность. Наш дух всегда должен идти обратным ходом по отношению к жизни…
Написать перечувствованное, пережитое — невозможно. Можно создать только то, что живёт в нас в виде намёка. Тогда это будет действительность… В литературе всегда нужно различать пересказ действительности и созданную действительность.
Никогда не делай того, о чём ты мечтал.
Потому что ничего нельзя повторить, исполнение мечты — это повторение. Раз уж это произошло в жизни. Природа повторяет. Человек делает всё один раз…
В слове — волевой элемент. Слово есть чистое выражение воли — эссенция воли. Она замещает действительность, переводит в другую плоскость… Слово может создать действительность только из желаемого, но не пережитого…
Художественное творчество — это уменье управлять своим бессознательным…»
Истощив «своё будущее видениями и словами», Волошин возвращается в Париж, а там — снова «ощущение новизны и уютности. Своя комната, свои книги». Можно прогуляться по любимым бульварам, порисовать прямо на улицах. По утрам Макс просматривает газеты; война с Японией «медленно захватывает душу». По-видимому, наступает «эпоха ужасов и зверств». Не связано ли это с «эпохами упадка фантазии» в литературе? Нет ли тут натяжки? Надо подумать. Вероятно, одно следует за другим. Бессилие мечты провоцирует самое страшное. «Возможные ужасы 1848 года были предотвращены романтизмом и политическими утопиями; Французская же революция последовала за XVIII веком, а Коммуна — за Флобером и Гонкурами. И не реализму ли минувшего века в русской литературе обязаны мы тем, что ужасы японской войны, которым место в фантастических романах, пробили русло в жизнь? В течение столетия только Гоголь и Достоевский входили в область мечты — и кто знает, какие ужасы в начале восьмидесятых годов остались, благодаря им, неосуществлёнными! А если есть виновные в этой войне, то это Лев Толстой, не одно поколение заморозивший своей рациональной моралью, и марксизм, оскопивший фантазию многих и многих русских».
А Маргариты всё нет и нет: «Ужасно одиноко теперь в Париже. Я так чувствую Ваше отсутствие…» Кругликова уехала в Россию. Гольштейны в Фонтенбло. Бальмонт — то ли в Москве, то ли где-то в имении Борщень… Конечно, вокруг по-прежнему много интересного. Можно сходить на вернисаж Осеннего салона в Большом дворце, где впервые представлены Э. Карьер, О. Редон, П. Сезанн, А. Тулуз-Лотрек, можно помечтать об Индии, можно углубиться в диалоги Платона, сесть за переводы из Малларме… Но появляется «Второе письмо» к Аморе, которую родители, как выясняется, не пускают «на эту зиму» в Париж.
И были дни, как муть опала,
И был один, как аметист.
Река несла свои зеркала,
Дрожал в лазури бледный лист.
Хрустальный день пылал так ярко.
И мы ушли в затишье парка.
Где было сыро на земле.
Где пел фонтан в зелёной мгле,
Где трепетали поминутно
Струи и полосы лучей.
И было в глубине аллей
И величаво и уютно.
Синела даль. Текла река.
Душа, как воды, глубока.
Совсем недавно он записал в дневнике: «Встреча воспоминаний — внезапный толчок, высшая радость. В этой области — сказанное забывается, каменеет». Изваивается в стих. Перед глазами встаёт печально-прекрасный образ Маргариты. Что же она говорила, тогда — у Сены?
Ты говорила:
«Смерть сурово
Придёт, как синяя гроза.
Приблизит грустные глаза
И тихо спросит: „Ты готова?“
Что я отвечу в этот день?
Среди живых я только тень.
Какая тёмная обида
Меня из бездны извлекла?
Я здесь брожу, как тень Аида,
Я не страдала, не жила…»
«Я думал о Деве-Обиде», — пояснял Макс, посылая стихотворение Маргарите Сабашниковой; он имел в виду фольклорный образ из «Слова о полку Игореве». Интересно, что Маргарита в марте 1905 года напишет о себе в дневнике примерно то же: «Такие, как я, должны устраняться, тени, похожие на живых, которые не могут любить, алчные пропасти, которые жаждут любви». Но он и она уже стоят перед чем-то величественным, мистическим, непостижимым. И кто-то, вставший «с востока/ В хитоне бледно-золотом», уже протягивает им жертвенную «чашу с пурпурным вином». Участники мистерии «причастились страшной Тайны / В лучах пылавшего лица». Нечто должно свершиться. Причастные к таинствам любви должны «исчезнуть, слиться и сгореть»?.. Но нет. Это не совсем так. Надо сойти с высот чувства «долу, в мир», пройти сквозь все земные испытания, выстоять и укрепиться в духе:
…И мы, как боги, мы, как дети,
Должны пройти по всей земле,
Должны запутаться во мгле,
Должны ослепнуть в ярком свете,
Терять друг друга на пути.
Страдать, искать и вновь найти…
Что ж, раз Маргарита не едет в Париж — он сам поедет в Россию. Тем более что и его друг журналист Александр Косоротов зовёт в Петербург, предлагает Максу стать парижским корреспондентом новой газеты «Театральная Россия». В середине декабря он уже на родине. И здесь как сюрприз, как взрыв… Ему на глаза попалась недавно опубликованная сказка Федора Сологуба «Благоуханное имя» о любви принца Максимилиана и царевны Маргариты. Совпадение имён потрясает его и воспринимается как знак судьбы. А что же Маргарита? Похоже, на неё это особого впечатления не производит. Хотя их близкая знакомая, теософ Анна Минцлова, будет уверять, что они с Максом созданы друг для друга…
С Маргорей поэт встретился 23 декабря у Екатерины Юнге. «Опять старое московское головокружение». Он читает стихи, записывает в дневнике какие-то её рассказы, а вокруг кипит жизнь. Вместе с Валерием Брюсовым Волошин идёт к Андрею Белому. Белый читает свои «Симфонии», они с Максом долго «рука об руку» гуляют по Садовой (Белый: «Я нахожу, что вы всё-таки, может, совсем не поэт, а эссеист. Блестящий, может, даже размеров Оскара Уайльда. Всё, о чём вы пишете, блестяще, интересно и слишком законченно»), Затем — проводы Константина Бальмонта в Мексику… Но — подступают невесёлые мысли: за две недели в Москве он ни разу не был у Сабашниковых; Маргарита его ни разу не позвала, это кажется ему «полной безнадёжностью… Я был в очень плохом состоянии…». Немного отвлекло знакомство с Иваном Алексеевичем Буниным. «Когда он услышал мои стихи при личной встрече», то недоумённо спросил: «Но скажите, почему же вы — декадент?»
8 января 1905 года Волошин в компании со своим знакомым Далматом Лутохиным, писателем, экономистом, и его братом едет в Петербург. В поезде всё как обычно: стихи, разговоры о путешествиях… Ничто не предвещало того кошмара, который им предстояло увидеть. На дворе стояло 9 января. «Кровавое воскресенье»: кругом волнения, войска, а вот уже — и тела убитых «на извозчиках». Волошин никогда такого не видел: мёртвые мужчины, женщины, нарядно одетая девочка — её-то за что?.. Выяснилось: везут убитых с Троицкого моста. Однако и в других местах поэт сталкивался с трупами. Солдатские патрули. Горели газетные киоски. Мчалась конная пожарная команда. Кое-где был слышен свист пуль. Что это означает?.. Он переговорил с Косоротовым, съездил к Василию Розанову, побывал в редакции газеты «Русь», послушал очевидцев. Кругом говорили: «Шли с крестным ходом и с портретом государя. Пели: „Спаси, Господи, люди Твоя“. В них дали залп у Троицкого моста». «Им японцев бить надо, а они здесь народ калечат». «В иконы пулями стреляли». Всё увиденное и услышанное Волошин подробно заносил в дневник. Кто-то сказал, что убито девять грудных детей. Ночью напряжение не спадало: какие-то шаги, голоса («точно весь воздух полон голосами, звучащими во чреве времени»), иногда — выстрелы. Во всём этом было нечто жутко-мистическое, ненастоящее — ведь Макс столкнулся с подобным впервые… На следующий день беспорядки продолжались. Волошин своими глазами видел «атаку казаков» на толпу.
Свои впечатления художник отразил в статье «Кровавая неделя в Санкт-Петербурге. Рассказ очевидца», написанной на французском языке. Более всего Макс был шокирован тем, что стреляли по безоружным людям, женщинам, детям, иконам. «Кровавая неделя в Петербурге не была ни революцией, ни днём революции… Эти дни были лишь мистическим прологом народной трагедии, которая ещё не началась, — пророчествует поэт в своём очерке, опубликованном в одном из февральских номеров парижского еженедельника „Европейский курьер“. — Зритель, тише! Занавес поднимается…» Теперь-то, после того как скомпрометирована идея «самодержавие, православие, народность», полагал Волошин, предотвратить грозные события вряд ли удастся.
Знаменательно, что эти суждения русского поэта перекликаются с записями французского журналиста Э. Авенара, также оказавшегося свидетелем произошедшего: «Зловещее время… Арестовывают во всех частях города, среди всех слоёв населения… Рабочие вернулись к станкам… Итак, наученная ошибками потерявших престол королей русская монархия прибегла вовремя к насилию, чтобы обуздать революцию? Нет, борьба не только не кончилась, а наоборот, кажется, что настоящая борьба только началась…»
Тема исторического возмездия, народного возмущения постепенно овладевает творческим воображением Волошина. По горячим следам событий он пишет стихотворение «Предвестия», а в следующем году — «Ангел Мщенья» и «Голова Madame de Lamballe». Во втором из них поэт говорит как бы от лица Ангела Возмездия, Демона Революции, который, вопия о попранной справедливости, будоража сознание людей, развязывает инстинкты разрушения, провоцирует на агрессивные действия. Разумеется, во имя «гуманизма».
Народу Русскому: Я скорбный Ангел Мщенья!
Я в раны чёрные — в распаханную новь
Кидаю семена. Прошли века терпенья.
И голос мой — набат. Хоругвь моя — как кровь.
На буйных очагах народного витийства
Как призраки взращу багряные цветы.
Я в сердце девушки вложу восторг убийства
И в душу детскую — кровавые мечты.
…Меч справедливости — карающий и мстящий —
Отдам во власть толпе… И он в руках слепца
Сверкнёт стремительный, как молния разящий, —
Им сын заколет мать, им дочь убьёт отца.
Уже здесь — предвидение разгула демонических, с точки зрения Волошина, сил Гражданской войны, разрывающей семьи, утверждение «правды» и палача и жертвы, и виновного и наказующего. Каждый, считает поэт, воспринимает свободу и справедливость по-своему, и каждый находит своё понимание единственно верным и нравственным («Устами каждого воскликну я „Свобода!“ / Но разный смысл для каждого придам»). Поэтому, пишет он в статье «Пророки и мстители» (1906), «идея справедливости — самая жестокая и самая цепкая из всех идей, овладевавших когда-либо человеческим мозгом. Когда она вселяется в сердца и мутит взгляд человека, то люди начинают убивать друг друга… Она несёт с собой моральное безумие, и Брут, приказавший казнить своих сыновей, верит в то, что он совершает подвиг добродетели. Кризисы идеи справедливости называются великими революциями».
Не сеятель сберёт колючий колос сева.
Принявший меч погибнет от меча.
Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача.
Поэт ощущает дыхание первой русской революции и придаёт надвигающимся событиям мистико-символический характер, наполняя свои стихи многочисленными библейскими образами и реминисценциями. Показательна последняя строфа стихотворения «Ангел Мщенья». Слова Иисуса Христа, обращённые к одному из учеников: «…возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26, 52), а также чаша с вином ярости, сделавшим безумными народы, из Книги пророка Иеремии, приобретут в творчестве Волошина символический смысл.
Казалось, сама природа позаботилась о том, чтобы придать событиям мистический смысл. «Небывалое, невиданное зрелище представлял собой в это время Петербург, — отмечает журналистка, издательница Л. Гуревич. — И как бы в довершение фантастической картины бунтующего города на затянувшемся белесоватою мглою небе мутно-красное солнце давало в тумане два отражения около себя, и глазам казалось, что на небе три солнца. Потом необычная зимою яркая радуга засветилась на небе и скрылась, поднялась снежная буря. И народ и войска были в это время в каком-то неистовстве».
Три солнца были замечены и Волошиным, который в своей статье о Кровавом воскресенье дал этому естественнонаучное объяснение: «…явление, которое происходит во время сильных морозов…», правда, оговорившись, что, по народным верованиям, оно «служит предзнаменованием больших народных бедствий». Пасолнцы, побочные солнца, засветились над Русью и в период царствования Лжедмитрия («Dmetrius Imperator», 1917), ознаменовавшего «над Москвой полетье лютых бед». В стихотворении «Предвестия», написанном 9 января, Волошин усугубляет тревожно-мистические настроения:
…В багряных свитках зимнего тумана
Нам солнце гневное явило лик втройне,
И каждый диск сочился, точно рана…
И выступила кровь на снежной пелене.
А ночью по пустым и тёмным перекрёсткам
Струились шелесты невидимых шагов,
И воздух весь дрожал далёким отголоском
Во чреве времени шумящих голосов…
Уж занавес дрожит перед началом драмы,
Уж кто-то в темноте, всезрящий, как сова,
Чертит круги и строит пентаграммы,
И шепчет вещие заклятья и слова.
Характерно в данном случае упоминание пентаграммы, звезды магов, означающей высшее постижение законов мира, путь к истине, закрытый для непосвящённых.
Подобная трактовка событий вполне соответствовала умонастроениям творческой интеллигенции в период первой русской революции. О стремлении «соединить жизнь и религию» неоднократно заявляла 3. Гиппиус. Эта тема становится популярной в работе Религиозно-философских собраний, а также на страницах журнала «Новый путь» (с 1904 года — «Вопросы жизни»). Представители символистского лагеря заговорили о «религиозной революции», находя в свершающихся событиях лишь мистическую подоплёку. В изданной в Париже книге «Царь и революция» (1908) Мережковский, Гиппиус, Философов отождествили революцию с религиозным актом, полагая, что каждый социальный катаклизм так или иначе связан с тем, что они называли «вселенской соборностью». Резко выступая против самодержавия, авторы книги весьма сочувственно отзывались о народовольцах и эсерах, возводя их в ранг святых и мучеников.
Георгий Чулков и Вячеслав Иванов выступили с теорией «мистического анархизма» (1906), которая, правда, не нашла поддержки в символистских кругах. «К единому чуду есть единый путь — чрез мистический опыт и чрез свободу, — пишет Г. Чулков. — Я называю этот путь мистическим анархизмом… Старый буржуазный порядок необходимо уничтожить, чтобы очистить поле для последней битвы: там, в свободном социалистическом обществе, восстанет мятежный дух великого Человека-Мессии, дабы повести человечество от механического устроения к чудесному воплощению Вечной Премудрости».
Мистически воспринимая революцию, Волошин был, однако, чужд идеализации революционеров-террористов и возвеличивания анархизма, в каких бы формах тот ни проявлялся. Дисциплинированный ум поэта, его жажда гармонии делали невозможной саму мысль о целесообразности произвола и насилия. Он пишет М. В. Сабашниковой о восстании на Черноморском флоте, о броненосце «Потёмкин», размышляет о безволии Николая II, царствованию которого двадцать лет спустя даст убийственную характеристику в поэме «Россия»:
…Так хлынула вся бестолочь России
В пустой сквозняк последнего царя:
Желвак От-Цу, Ходынка и Цусима,
Филипп, Папюс, Гапонов ход, Азеф…
Знаменательно, что вместе с «Предвестиями» в газете «Русь» от 14 августа 1905 года появляются два перевода Волошина из Верхарна: «Казнь» и «Человечество». По поводу первого из них Макс писал матери, что посвящает его Николаю II. Чуть раньше, 21 июня 1905 года, в письме А. М. Петровой: «Убийство царя имеет священный и ритуальный характер… Но не убийство личное, а народная казнь». Волошину не дают покоя мысли об обречённости Николая II быть принесённым в жертву за «грехи своего народа». В том же письме поэт, пожалуй, впервые крайне негативно оценивает роль интеллигенции в свершающихся на его глазах событиях: «Русское вырождение — это интеллигенция… Она должна быть сметена народной волной вместе с правительством… Она чужда народному духу, заражена европейским варварством форм и ей нет места в национальном обновлении». Да она и не способна ни к какому созиданию, к строительству стен нового здания, поскольку, как он скажет впоследствии, готовилась лишь к тому, чтобы «их расписывать и украшать». Себя самого Волошин причисляет к разряду «интеллектюэлей», своего рода — духовной аристократии. «Intellectuel», с его точки зрения, — это человек, «имеющий свой взгляд на мир и на явления культуры и взявший себе право стать в стороне от ходовых политических делений и общественных шаблонов».
Впрочем, все эти умозаключения будут сделаны поэтом несколько позже, а пока что он буквально зачитывается «Историей Французской революции» Ж. Мишле, проводит соответствующие параллели с российской историей и… как-то охладевает к политическим перипетиям. 24 октября 1905 года Макс делает симптоматичное заявление: «Русская революция повергла меня в какое-то скучное безразличие. Я не могу ею захватиться, упрекаю себя и в то же время остаюсь совершенно равнодушен». А из написанной много лет спустя «Автобиографии» эти грозные потрясения и вовсе исчезнут, померкнут перед «большими личными переживаниями романтического и мистического характера».
Пока что, на стыке четвёртого и пятого «семилетий» своей жизни, Волошин ещё не готов к тому, чтобы делать далеко идущие историософские выводы. Ощущая «мистическое чувство подходящего пламени», находясь во власти «предвестий и пророчеств», он воспринимает революции как «биение кармического сердца», «ритмические скачки» и «непрерывную пульсацию катастроф и мировых переворотов». Отсюда — его интерес к Великой французской революции с её идеальными целями и кровавым террором, вдумчивое отношение к пророчествам Ф. Достоевского и Вл. Соловьёва («Историческая драма сыграна. И остался ещё один эпилог…»), ожидание «нового крещения человечества огнём безумия, огнём св. Духа».
Однако вернёмся к «большим личным переживаниям романтического… характера». 17 января поэт уезжает в Париж, а спустя несколько дней туда вместе с двоюродной сестрой Нюшей (Анной Николаевной Ивановой) прибывает и Маргарита Сабашникова. Женщины занимают небольшую мансарду с видом на Монпарнас. По-прежнему кипит литературно-художественная жизнь. Собирается кружок «Монпарнас», членами которого являются А. Бенуа, Т. Трапезников, А. Шервашидзе, С. Еремич и другие; открывается вернисаж Салона независимых, где собирается весь цвет богемно-артистического Парижа: О. Мирбо, М. Метерлинк, Э. Верхарн, П. Фор, А. де Ренье, О. Редон — множество ярких фигур; Русский кружок организует выступление Шаляпина; устраивается выставка работ Ван Гога…
Маргарита вспоминает: Макс «снова водит меня по бесчисленным мастерским художников и скульпторов, на выставки… Случается, мы попадаем в самые неожиданные места. Например, на танцевальный вечер русских парижан, в большинстве своём это были потомки прежних известных русских эмигрантов, борцов за свободу, соратников Гарибальди, Кавура, Гервега. Но меня постигло разочарование, я попала в обычный кружок элегантных парижан, здесь господствовали весьма поверхностные интересы». Запомнились ей и встречи с «русскими революционерами». Где-то в задних комнатах кафе группировались «растрёпанные, небрежно одетые студентки и курсистки. Свежие румяные лица новоприбывших из российской провинции, а рядом позеленелые от недоедания физиономии парижских „аборигенов“». Вызывал отвращение дух грубой политической пропаганды. Маргарита задавалась вопросом: «Неужели от этих людей зависит спасение России?» Чисто выбритые, утончённые кельнеры бросали иронические взгляды на этих «скифов» — ей сделалось неловко, стыдно за своих соотечественников.
Сабашникова знакомится с А. Бенуа, К. Сомовым, О. Редоном, творчество которого её (как и ранее — Макса) потрясает: «Мир его живописи, своеобразный, свободный от влияния импрессионизма и натурализма, лишённый малейшей тени стремления к успеху!.. Папки с этюдами, выполненными пастелью, дивные созвучия красок, настроение готических витражей, акварельные цветы — фантастически пёстрые, и тут же — тончайшие наброски углем — мимолётный жест, запечатленное ощущение тайны». Вдвоём с Максом они посещают «увеселительные заведения аристократических и рабочих кварталов. Макс повсюду чувствовал себя „своим“, лёгкость мысли служила ему своеобразной опорой.
А я, в свою очередь, опиралась во всём этом хаосе на спокойную весёлость и уравновешенность моего спутника. Сначала меня поражала его терпимость, потом я поняла, что за этим кроется высокая зрелость души. И в то же время сколько в нём было непосредственности! Вот он рассказывает что-то интересное, развивает какую-нибудь оригинальную идею; и так удивительно походит на грациозно-неуклюжего щенка сенбернара, озорно покусывающего случайно попавшую в зубы тряпку…».
Но что-то в их отношениях опять разладилось. 21 февраля Маргоря записывает в дневнике: «Я вижу Макса, но это его призрак… Он весь какой-то мятый, лохматый; он или шумно дышит, или говорит неестественно, всё преувеличивая, всё намеренно стилизуя». А потом он и вовсе перестал бывать у неё. «Я огорчилась, терялась в догадках. Откуда мне было знать, что моё ровное, совершенно дружеское отношение к нему причиняет ему страдания». Ей становится одиноко. Нюша уехала в Россию. И тут приходит записка от Волошина: «Вот кратко и сухо причины моего странного отношения к Вам: с первой нашей встречи, эти 2 года, я любил Вас. Вы об этом, вероятно, не могли не догадываться». Но это было мучительно, и два месяца назад он почувствовал возможность «освобождения». Однако это было заблуждение, ибо «в Вашем присутствии, если я только говорю с Вами и чувствую Вас, для меня снова наступает старая смута. Если Вам надо будет меня и именно меня, а никого другого, то позовите и я приду, но теперь — нет».
Что же это — конец? Не хотелось бы так думать, ведь Макс оставляет калитку открытой: «позовите и я приду». Маргарита пишет в ответ что-то неопределённое, и тут же вечером Макс у неё. От волнения ему трудно говорить, и он царапает на листке бумаги: «Я ухожу потому, что люблю Вас, потому что не могу… Я больше не могу выносить этой относительной близости». Казалось бы, куда уж понятней?! Но Маргарита остаётся Маргаритой: «На Вас проклятие литературы: не создавайте романов!»
Макс — в смятении. А что, может быть, она и права. Взять и сказать ей: «Маргарита Васильевна, вы совершенно правы. Вы мне сказали именно то, чего я сам больше всего боялся. А боялся я того, что неискренен. Вдруг это только одна моя собственная выдумка? Поэтому я с таким ужасом замечал сходство моего чувства с переживаниями литературных героев и так боялся плагиата из Гамсуна. Поэтому дайте мне письма, и я Вам их верну написанным романом, исправив длинноты, сократив некоторые главы и добавив другие!» Сказать вот так — торжественно, велеречиво. Но он ничего не говорит. Вместо этого поэт пишет ещё одно, решительное письмо: «Романтическая нежность, которую я чувствовал раньше, и бесконечное грустное счастье прошлой весны сменились невыносимой душевной смутой… Я писал, что я любил Вас, но я теперь люблю и больше, и острее… Хотите идти дальше вместе, быть спутниками на всю жизнь, быть одним духом, одной волей, одним телом?..» Нет, Маргоря не привыкла к такой откровенной лексике и к таким зримым картинам: «…Есть чувства и слова, которые мне чужды и страшны… Я не могу быть с Вами… и быть без Вас…» И далее прорывается что-то для неё не вполне характерное: «Прощайте! Милый Макс, милый… Неужели я Вас совсем теряю?»
«Милый Макс» — это словосочетание подбрасывает поэта к небесам. Ему грезится «новая весна»: «Во мне сейчас такое радостное, великое спокойствие — и точно звёзды подступают к глазам… Как Вы могли думать, что я могу уйти?..» Тем не менее ясно только то, что ничего не ясно. Ещё ничего не решено. Разговоры, разговоры, разговоры… Макс:
— Скажите, что вы чувствовали прошлой весной? Самый острый момент для меня был тогда, перед отъездом в Париж.
— Я была тогда страшно одинока в Москве. Вы были единственным светлым лучом. Прошлой весной я была совершенно равнодушна. Мне было приятно и весело, что Вы здесь, но я была мертва. А теперь, когда я жива, я почувствовала, что Вы ушли… Вы мне ужасно не нравились; я ощущала и боль, и привязанность, и грусть.
— Это время я совершенно не был самим собой. Зато теперь я возвратился к старой бездумной радости.
Волошин ощущает остро как никогда: нет и не было для него человека роднее. Но понимает и то, что это ощущение — одностороннее. Надвигается равнодушие.
— Кажется, поздно…
— Нет, посидите ещё… Можно…
Молчание затягивается, и тогда Маргарита говорит: «Я бы хотела жить в очень привычной обстановке, чтобы не пугаться, когда просыпаюсь. Иногда мне снятся страшные сны… Мне бы хотелось, чтобы пришёл гигант, взял бы меня на руки и унёс. Я бы только глядела в его глаза и видела бы в них отражение мира. Я бы ему рассказывала сказки, а он бы для меня творил новые миры — так, шутя, играя. Неужели этот гигант никогда не придёт…»
Да, вся она — в этом. Далека от жизни, в придуманной сказочной стране. Боится любви. Гигант — что это? Хотя, впрочем, ясно, что тут подразумевается: материализованное чувство надёжности, защиты от этого непонятного, постоянно угрожающего мира. Но ведь он — не гигант. И при чём тут вообще он, Макс Волошин?.. В его душе действительно царит настоящая смута. Всё крайне зыбко, неопределённо… И, как нередко бывает в подобных ситуациях, одно чувство накладывается на другое. Волошин переживает параллельный роман с ирландкой Вайолет Харт, художницей, ученицей Л. Бакста. В своей «Истории души» Волошин предельно откровенен. Его отношения с Вайолет, судя по всему, вышли за рамки платонических.
— Хотите пойти в театр?
— Я занята. Впрочем, я могу это отложить.
«В театре молча. После вернулись к ней — до утра. Вторник — день звонков, Трапезникова и недоумений. Мы идём вместе обедать, потом возвращаемся, и опять вся ночь. Она долго смотрит на меня, на моё тело и вдруг говорит: „Tu est superbe!“ Это первая её фраза и первое её „ты“». Макс приятно удивлён: ещё никто, глядя на его фигуру, не изрекал: «Ты великолепен!» Кто-то неожиданно постучался в дверь, и Вайолет произносит загадочную фразу: «…Я не представляю, что со мной. Ты знаешь, кто мне он?» И что-то — о любви к «нему». Волошин (в своём стиле): «Да… Я понимаю… Люби каждое мгновение и не старайся найти связь между двумя мгновениями». «Потом мы говорим много, горячо и долго об искусстве, о жизни». О том, что она «боится ребёнка». При этом ему кажется, что не всё так уж здорово, что его страсть не настолько сильна, как это казалось поначалу. И всё же он говорит:
— Я приму на себя всякую ответственность.
— Нет, я должна оставаться совершенно свободна, потому что моя единственная цель — искусство.
Ну а в отношениях с Маргаритой назревает настоящий кризис. Она не чувствует в нём прежней отзывчивости. Он то совсем не появляется, то появляется, но «это точно глухая стена. Он ничего не чувствует: умственный рантье. Читает „Письмо“ всем… Я его ненавижу за его ложь». Маргорю, видимо, коробит, что интимные чувства, выраженные в посвящённых ей стихах, Макс широко тиражирует, заземляет, делает достоянием всех. Она же в отместку начинает прилюдно подтрунивать над «растянутым фразёрским романом» (понятное дело — в стихах и в жизни); наступает момент, когда она просит вернуть её письма. А это уже — классика разрыва. И Волошин пишет ей на прощание:
Тихо, грустно и безгневно
Ты взглянула. Надо ль слов?
Час настал. Прощай, царевна!
Я устал от лунных снов.
…Я устал от лунной сказки,
Я устал не видеть дня.
Мне нужны земные ласки,
Пламя алого огня.
Я иду к разгулам будней,
К шумам буйных площадей.
К ярким полымям полудней,
К пестроте живых людей…
Не царевич я! Похожий
На него, я был иной…
Ты ведь знала: я — Прохожий,
Близкий всем, всему чужой.
…Мы друг друга не забудем.
И, целуя дольний прах,
Отнесу я сказку людям
О царевне Таиах.
Но ведь сказал, точнее, ещё скажет поэт, с которым Волошину десять лет спустя предстоит познакомиться: «Кто может знать при слове „расставанье“ — / Какая нам разлука предстоит?» И предстоит ли вообще? Макс и Маргарита уже попали в силовое поле взаимопритяжения. Они привыкли постоянно видеться, общаться; наконец, они нуждаются друг в друге. Понимают это и он и она. Маргоря: «Мне кажется, что мы оба во власти какой-то большой силы, которая закружила нас в медленном водовороте и то сталкивает, то разделяет снова». Макс — в стихах:
По мёртвым рекам всплески вёсел;
Орфей родную тень зовёт.
И кто-то нас друг к другу бросил,
И кто-то снова оторвёт…
Впрочем, личная жизнь — это ещё не вся жизнь. 10 мая Волошин был посвящён в масоны Великой ложи Франции (куда стремился, возможно, из любопытства или же искал новые пути самосовершенствования). Волошин пишет статьи о парижских театрах и художниках, участвует в работе кружка «Монпарнас». Тогда же, весной, Макс покупает велосипед и время от времени вырывается из городской суеты и плена богемных сборищ. Правда, его спортивные успехи пока что уступают поэтическим. Упав с велосипеда, он сильно ушиб руку, и сразу же «разрушилась та атмосфера, которая мне давала веру в себя. Я сразу же почувствовал себя потерянным и беспомощным».
Начались приступы ипохондрии, «и горячая слёзная грусть хлынула с лунного неба». Началось самокопание. Он пишет в дневнике: «Я совсем не могу видеть и читать в сердце другого. Я занят собственным анализом. И в то же время я боюсь, трусливо боюсь причинить другому боль. Я знаю, что я всегда могу заставить себя захотеть противоположное из деликатности. Отсюда позорная нерешительность… О, если бы научиться желать для себя. Этот эгоизм в тысячу раз лучше того безвольно-деликатного эгоизма, который парализует меня теперь. Мне надо научиться читать других. Перестать видеть себя и думать о своих жестах и уме, когда я подхожу к другому человеку… Равнодушие — это смерть, омертвение желания. Я знаю эти состояния у мамы. Значит, это наследственное». И — подведение грустных, на его взгляд, итогов: «Год назад я был переполнен новыми словами и новыми идеями. Они текли через край. Теперь мой мозг иссяк. Он сух и бесплоден. Я устал от Парижа. Мне надо прикоснуться к груди земли и воскреснуть».
Из этого состояния поэта выводит Анна Рудольфовна Минцлова; она, кстати, оказала душевную помощь и Маргарите, в одном пансионе с которой поселилась. По описанию Сабашниковой, это была грузная, бесформенная женщина сорока лет, казавшаяся старше, с «чрезмерно широким лбом — такой можно разглядеть у ангелов на картинах старогерманской школы; с выпуклыми голубыми глазами — она была очень близорука, но казалось, перед её взором — какая-то безмерная даль… Грубоватый нос, чуть одутловатое лицо… Но — руки! — белые, мягкие, с длинными тонкими пальцами, — и кольцо — аметист… да ещё голос, почти шепотной, словно утишающий сильнейшее волнение, да ещё учащённое дыхание, отрывистость фраз, бессвязность слов, будто вытолкнутых сознанием… И одежда — вечное поношенное чёрное платье».
Её мистические пристрастия казались многим непонятными, воспринимались как помешательство; но главное — «общение с Минцловой приподнимало над обыденным бытием»; «она воспринимала в вас Высшее, прозревала затаённые желания, которые жили в каждом, и поддерживала их…». После смерти отца, известного адвоката, Анна Рудольфовна оказалась фактически бездомной, скиталась по свету, нигде не пуская корней, «и повсюду её появление сопровождалось бурлящим круговоротом людей и событий… Да, многие смогли, благодаря ей, как бы заглянуть в мир иной, но в то же время её поведение навлекало всяческие несчастья и в конце концов привело к гибели и её самоё». Ну а пока что она бродила с молодыми людьми по Парижу, рассказывая им невероятные, жуткие истории, почерпнутые из преданий и хроник разных времён и народов (Минцлова читала практически на всех европейских языках, а также знала латынь, древнегреческий и санскрит). Она показывала самые таинственные уголки французской столицы, погружалась в ереси, повествовала о процессах над ведьмами и религиозными вольнодумцами, причём её пересказ казни походил на исповедь свидетельницы случившегося. «Собственные рассказы увлекали её настолько, что она сама испытывала ужас от своего чрезмерно яркого восприятия давно прошедших событий». Минцлова, безусловно, обладала гипнотическими качествами, а возможно, и ясновидческим даром. Волошин пишет о ней А. М. Петровой: «В Средние века она, конечно, была бы сожжена на костре, как колдунья, и не без основания… Она почти слепа и узнаёт людей только по ореолам вокруг головы, почти всегда умирает от болезни сердца, живёт переводами Оскара Уайльда; нет ни одного человека, который, приблизившись к ней, остался бы вполне тем, чем он был».
В Париж Анну Рудольфовну привлёк главным образом Теософский конгресс. Ожидался приезд главы Теософского общества Анни Безант, проживающей преимущественно в Индии. В эти дни Макс наконец-то удовлетворит свои потребности в оккультных теориях и мистических прозрениях. Он побывал на выступлениях Безант, которые, кстати, на Маргариту не произвели впечатления: они показались ей примитивными, безвкусными речами агитатора, а не философа. Другое дело — Макс. Ему запомнилось: пожилая женщина, «вся в белом. Лицо некрасивое. Не такое, как мы представляем лица пророков. Но страшно сильное, полное воли и огня». Поэт запишет её слова: «Мы спрашиваем себя, почему мы несчастны, но никогда не спрашиваем, почему мы счастливы.
Смерть — переход. Его можно совершить свободно, не проходя чрез врата смерти…
Кто подготовлен, тот найдёт за гранью то, что его интересовало уже здесь».
Волошин прислушивается к астрологическим прогнозам и выясняет: мир вступает в новый цикл, находящийся под созвездием Льва; период с 1905 по 1908 год — «это самые страшные годы в европейской истории. Они ужаснее по созвездиям, чем эпоха Наполеоновских войн. Решительную роль предстоит сыграть России — славянам. Им принадлежит обновление Европы. Россия должна претерпеть глубокие перемены — измениться радикально». В скором времени — ждать европейских катаклизмов: они начнутся с войны между Францией и Германией.
Что ж, обо всём этом ему ещё предстоит подумать в недалёком будущем. А пока что Анна Рудольфовна внимательно изучает его ладонь и пытается объяснить ему самого себя: «В вашей руке необычное разделение линий ума и сердца… Вы можете жить исключительно головой. Вы совсем не можете любить. Самое страшное несчастие для вас будет, если вас кто-нибудь полюбит и вы почувствуете, что вам нечем ответить» (причём это говорится при Маргарите Васильевне). «Материальное благосостояние у вас никогда не будет очень хорошо… Вы сыграете очень видную роль в общественном движении… решительную роль… Нет, не в политическом, а скорее в духовном. Это будет после тридцати лет». Ну, об этом — особая статья… А в указанном ею возрасте (в декабре 1911 года) возникнут стихи, посвящённые самой пророчице:
Безумья и огня венец
Над ней горел,
И пламень муки,
И ясновидящие руки,
И глаз невидящий свинец,
Лицо готической сивиллы,
И строгость щёк. И тяжесть век,
Шагов её неровный бег —
Всё было полно вещей силы.
Её несвязные слова,
Ночным мерцающие светом,
Звучали зовом и ответом.
Таинственная синева
Её отметила средь живших…
…И к ней бежал с надеждой я
От снов дремучих бытия,
Меня отвсюду обступивших.
Надо ли видеть черты дорогого и близкого лица, с оптической точностью делать душевные «снимки»? (Волошин начинает активно заниматься новомодным фотографированием)… Или же смотреть на мир подслеповатыми глазами «колдуньи»?.. Люди, мир, движения не попадают в фокус, но зато над головой каждого из встречных Анна Минцлова прозревает цветное свечение… А по поводу Макса говорит: «Линия путешествий развита поразительно. Она может обозначать и другое. Вы могли быть гениальным медиком, если бы пошли по этой дороге. (Об энергетическом воздействии руки Волошина, вылечивающей и смиряющей боль, в 20-е годы будут говорить многие.) Линии успеха и таланта очень хороши. Линия успеха — особенно в конце жизни. Болезнь, очень тяжёлая и опасная. Но жизнь очень длинная». В последнем пункте «ласковая колдунья», увы, ошиблась. А насчёт неспособности любить… Это решать читателю, который, возможно, разбирается в этом вопросе лучше, чем А. Р. Минцлова.
Ну а у Волошина эти слова «колдуньи», естественно, вызывают невесёлые мысли: «…если у меня так разделены чувство и разум, значит, я слепорождённый. Значит, я совсем не понимаю других людей. Это прирождённое и неисправимое уродство… Я зеркало. Я отражаю в себе каждого, кто становится передо мной. И я не только отражаю его лицо — его мысли — я начинаю считать это лицо и эти мысли своими…» Размышления Волошина прерываются звонком Маргори. И — сколько же времени она оттачивала эту фразу — «Вы часто бываете тем манекеном, который танцует вальс, повторяет „какое прекрасное платье“ и убивает свою даму». Ну за что ему это?.. Макс выходит на улицу. «Закат. Чёрная линия моста и зелёный огонь капель в жёлтом небе. Всё уходит по реке». Наверное, и чувства…
А Анна Рудольфовна продолжает всё об одном и том же: «Вы добры. Но если вас кто-нибудь полюбит — вы будете жестоки… Нет, вам нельзя жениться… Может случиться, что если вы столкнётесь с женщиной страстной, которая полюбит вас, то вы рискуете… она может выстрелить в вас. Вы должны опасаться огнестрельного оружия. Но это не наверно, т. к. на другой руке этого нет. Вы теперь переживаете сомнение и смуту. Вы очень беспокойны». Только этого не хватало — револьвера в женских руках. Красиво, конечно… Уж не Кругликова ли возьмёт оружие?.. На другой день Минцлова — опять про то же: «Вам надо опасаться нападения со стороны женщины. Это может быть очень скоро, но вы этого можете избегнуть…»
Да, положеньице. Уж лучше поскорее вступить в брак. Тогда уж… Шутка, конечно. Хотя Максу не до шуток. Впрочем, наступает какое-то послабление: Волошин провожает Анну Рудольфовну в Лондон, а Маргариту Васильевну — в Цюрих, к брату. Теперь можно перевести дыхание… И дать выход другим настроениям: «Сердце моё исполнено невыразимым светом и нежностью. Радостные слёзы наворачиваются на глаза. Как в тот день, когда уезжал из Москвы. Я чувствую, что совершилось какое-то искупление, что отсюда, из этой точки идёт новая линия жизни». Запали в душу слова той же Минцловой: «Сверхчувственное познание… У вас есть возможность его развития… Да». Звучит как руководство к действию: «Я запираюсь дома, читаю теософские и масонские книги, пишу стихи. „Начинаю новую жизнь“. Я чувствую полное обновление и радостное возрождение. На закате я вечерней птицей ношусь по тёмным аллеям и замираю от чувства полёта».
Земля и небо. Реальное и сверхчувственное. И не всегда то и другое — в гармонии. Волошин «захвачен» оккультизмом. Читает «Эзотерический буддизм» англичанина Э. П. Синнета. Но — подчиняет «живая жизнь», разрывает сердце. Он, как тут ни крути, один. В пространстве четырех измерений. Но он — поэт. К тому же — обуреваемый чувствами: «Днём — огненная грёза об Вайолет, потом вечером около Сены — грусть, светлая и бесконечная… И они обе живут во мне, и я могу примирить, допустить М. при W., но при М. В. не допускаю Wiolet». Какие откровения могут наставить на путь истинный, разобраться в ощущениях?.. Но он — поэт. И вот — рождается. Кому посвящено? Ей, ирландке:
Если сердце горит и трепещет,
Если древняя чаша полна… —
Горе! Горе тому, кто расплещет
Эту чашу, не выпив до дна.
В нас весенняя ночь трепетала.
Нам таинственный месяц сверкал…
Не меня ты во мне обнимала.
Не тебя я во тьме целовал.
Нас палящая жажда сдружила,
В нас различное чувство слилось:
Ты кого-то другого любила,
И к другой моё сердце рвалось.
Запрокинулись головы наши,
Опьянились мы огненным сном,
Расплескали мы древние чаши.
Налитые священным вином.
И тут же посылает тёплое письмо Маргарите, а она — ответ: «Я Вас люблю теперь гораздо, гораздо больше, мой милый, мой бедный Макс Александрович!» Ну а Макс Александрович в приподнятых чувствах направляется в масонскую ложу делать доклад на тему «Россия — священное жертвоприношение». Он читает, а вокруг него — бледные лица, огромные шишковатые лбы, морщины, бороды. Повисла мертвенная тишина… Как всё-таки ему не хватает Маргариты… Но вот он уже снова у Сены:
…И арки чёрные и бледные огни
Уходят по реке в лучистую безбрежность.
В душе моей растёт такая нежность!..
Как медленно текут расплавленные дни…
И в первый раз к земле я припадаю,
И сердце мёртвое, мне данное судьбой,
Из рук твоих смиренно принимаю,
Как птичку серую, согретую тобой.
Тем временем с Теософского конгресса возвращается Анна Рудольфовна Минцлова. Они вновь гуляют, беседуют о конгрессе, о тамплиерах, о связи обоняния с воспоминаниями. Здесь есть о чём задуматься: «Зрение человека — продолжение осязания. У животных это место занимает обоняние. В нём связь самых старых свитков мозга. Масса ассоциаций… Тамплиеры при посвящениях прибегали к ароматам. Это была целая система…» Макс и Анна Рудольфовна сидят в её комнате. Она держит его за руку, и поэт ощущает ток, простреливающий до самого локтя. В местах прикосновения её пальцев порой возникает острая боль. Разговор перемежается молчанием и «полусловами». Минцлова говорит с укором: «…Вы не обращаете внимания не только на других, но и на самого себя. Своего дара вы совершенно не цените и относитесь к нему небрежно. У вас нет счастья оттого, что вы пишете, можете писать такие стихи. Бальмонт счастлив от этого. У вас же счастья не написано».
Возможно… Хотя — какого счастья? Ведь сколько раз он уже возвращался к этой теме! Если синоним счастья — благочувствие, то это счастье — низшего порядка, которое неизбежно основано на несчастье других. Нет, счастье — боль, и надо благодарить того, кто нечаянным ударом по камню выявит её живой источник. А ещё — крутятся в памяти слова Сольвейг: «Ты не сделал ничего плохого, ты только превратил мою жизнь в песню». Скажет ли кто-либо ему нечто подобное?.. Однако эти размышления прерываются очередным умозаключением Анны Рудольфовны: «С такой рукой вы могли бы быть монахом. Ваша чувственность — это головное исключительно». Поэт вернулся домой в каком-то странном экстазе. Перечитал последнее письмо Сабашниковой, встал на колени, прижался лбом к полу. Почему-то именно сейчас пронзили её слова: «Ведь я для Вас была только ухом. Вы никогда не интересовались, как я переношу жизнь, как проходит день и ночь…» Неужели это действительно так? Но ведь ему казалось…
Да, ум и сердце существуют в разных сферах. Проживают разные жизни, общаются с разными людьми. Одна жизнь — для земного счастья, другая — для горького познания. В сумерках накатывается сон. Ему мнится: «Глаза с детскими и старческими веками. Веки натянутые, обведённые резкой линией, разрезаны наискось. Губы горькие и знающие. Их поцелуй прожжёт сердце холодным и острым пламенем. Глаза, которые смотрят в зеркало и получают ответный луч. Женское лицо, притягательное и горькое. Дева-полынь. А с обратной стороны её покрывало приподнято и видна голова старика — грустное познание». Откуда это? Кажется, похоже на фрагмент гробницы герцога Бретонского из Нантского собора. А видел он это, очевидно, в Музее слепков Трокадеро…
А ведь и Анне Рудольфовне грозит опасность. Опасность — от познания… или особого проникновения в жизнь, в запредельное. Во всяком случае, её дар не помогает жить здесь, не служит опорой в нашем трёхмерном бытии. Со страхами, приходящими «оттуда», она порой не в силах бороться. Более того: она паникует, ищет проводника в земной, солнечный мир. Волошин пишет в дневнике о «страшном вечере» 8 июля, когда Минцлова получила письмо от Штейнера (на этом имени пока не будем останавливаться), который потребовал, чтобы она никуда не выходила одна, без надёжного человека.
— Я не пойду без вас. Но после вы пойдёте. Вы пойдёте, что бы там ни было? Это очень страшно, может, смерть… Пойдёте? — вопрошает она.
— Да, — отвечает поэт, ещё не вполне понимая, на что он даёт согласие.
И вот они сидят в тёмной комнате — испуганная, поникшая «Сивилла» и поэт, который ещё не знает, как себя в данном случае вести: учиться, внушать или уйти в тень, оттуда издать «глас вопиющего в пустыне»… Нет, пока ещё нет, — просто понять, посочувствовать и помочь…
В тот вечер всё решилось скорее на интуитивном уровне. Она:
— Снимаю с вас всякую пыль жизни (Минцлова не может отказаться от своего амплуа).
— Вас никто не ласкал в детстве? Нет? Да, вы испытали слишком мало ласки… — мягко говорит Волошин, думая о своём.
Кто из них сейчас — психолог, кто — мистик, кто — педагог?..
— Нет, останьтесь со мной до одиннадцати вечера. Да? Останьтесь… и никуда не пускайте меня… свяжите мне руки… Вы никому не отдадите меня? Нет, никому не отдадите?
А ведь сколько ещё раз «недовоплотившийся» Волошин будет слышать подобный зов?.. И сколько раз будет помогать: «Я сидел над ней до глубокой ночи. Сердце моё было твёрдо и радостно. Я чувствовал в себе странную и радостную силу. Когда я касался её лба и глаз, она успокаивалась». Рука Волошина, его благостный, врачующий дар ещё только начинает приобретать свою силу. Прошла ночь, прошёл день и ещё двое суток. А дальше… а дальше Волошин и Минцлова решают посетить Руан, и не просто Руан: их цель — Руанский собор.
Сердце острой радостью ужалено.
Запах трав и колокольный гул.
Чьей рукой плита моя отвалена?
Кто запор гробницы отомкнул?
11–12 июля 1905 года в жизни Волошина разыгрывается, по его выражению, «мистерия готических соборов». В сущности, был только один, Руанский собор, но его посещение отразилось и в творческом сознании, и в цикле стихотворений поэта «Руанский собор» (1906–1907). Несколько лет спустя он приступает к работе над книгой «Дух готики», которую, к сожалению, так и не завершил. Впрочем, интерес художника к Средневековью и, в частности, к средневековой архитектуре представляется весьма характерным явлением в искусстве и философии начала века. Эстетические принципы средневекового искусства — его синтетичность, целостность, универсальность, базирующаяся на всеобщей духовной идее — легко вписывались в культурные устремления поэтов Серебряного века, ощутивших, по словам Александра Блока, «ветер из миров искусства». Готический собор виделся как символ воссоединения этих миров.
Основную идею средневековой культуры чётко сформулировал русский историк и культуролог П. М. Бицилли в своей весьма популярной тогда, да и сейчас, книге «Элементы средневековой культуры»: «Руководящей тенденцией средневековья как культурного периода можно признать тяготение к универсальности, понимая под этим стремление, сказывающееся во всём — в науке, художественной литературе, в изобразительном искусстве, — освоить мир в целом, понять его как некоторое всеединство, и в поэтических образах, и в линиях, и в красках, и в научных понятиях — выразить это понимание. „Энциклопедичность“ — закон средневекового творчества. Готический собор со своими сотнями и тысячами статуй, барельефов и рисунков, изображающих… всю земную жизнь с её будничными заботами и повседневными трудами… всю историю человечества от грехопадения до Страшного Суда, является великой энциклопедией, „библией для неграмотных“…» Всеохватность готики, её просветительская функция и нравственный заряд, обращённость в мир, или, выражаясь изысканно-возвышенным языком Вячеслава Иванова, способность превратить «интимнейшее молчание индивидуальной мистической души в орган вселенского единомыслия и единочувствия», были близки самым различным деятелям литературы и искусства начала XX века.
Волошину средневековое мировосприятие казалось цельным и органичным, соразмерным в своей гармонической завершённости, а сама эпоха виделась лишённой неразрешимых противоречий между человеком и общественным устройством, знанием и верой. Дальнейшее развитие цивилизации, как считал художник, шло по пути утраты этой гармонии, высвобождения разрушительных, демонических сил, таящихся в машинах. «После веков великих воплощений наступают века развоплощения», — пишет он в книге «Дух готики».
Эта же мысль выражена поэтом в черновых набросках к эссе под названием «Символизм»: «В средневек<овье > было единое миросозерцание, из которого исходило всё. Там была точка зрения с солнца. Все вещи были освещены в упор, без тени… Перспектива располагалась кругами. Солнцем была Голгофа… И в этом трагическом свете мир располагался с нестерпимой чёткость<ю>, отчётливостью деталей, с геометрической стройностью». За этим, отмечает поэт в статье «Демоны Разрушения и Закона», приходит «громадное, неимоверное нарушение социального и морального равновесия». В стихах это выражено так:
Был литургийно строен и прекрасен
Средневековый мир. Но Галилей
Сорвал его,
Зажал в кулак
И землю
Взвил кубарем по вихревой петле
Вокруг безмерно выросшего солнца.
(«Космос»)
Волошин относится к той эпохе романтически и едва ли не ностальгически. Ему близка идея «анонимности», соборности (разделяемая, кстати, и Вяч. Ивановым) средневекового искусства. «Анонимное» и всенародное творчество, считал в то время поэт, должно прийти на смену индивидуалистическому самовыражению, характерному для искусства современности.
Средневековое зодчество Волошин считал идеальным выражением культуры той эпохи. Ему близка гармония земли и неба, камня и «горнего простора», статики и полёта, человека и Бога. Как и многих поэтов рубежа веков, средневековая готика привлекает Волошина своей способностью соединить в духе абстрактную идею и трепет жизни, космическую бесконечность и земную предметность.
«Руанский собор» открывается стихотворением «Ночь»:
Вечер за днём беспокойным.
Город, как уголь, зардел,
Веет прерывистым, знойным,
Рдяным дыханием тел.
Плавны, как пение хора,
Прочь от земли и огней
Высятся дуги собора
К светлым пространствам ночей.
В тверди сияюще-синей,
В звёздной алмазной пыли,
Нити стремительных линий
Серые сети сплели.
В горний простор без усилья
Взвились громады камней…
Птичьи упругие крылья —
Крылья у старых церквей!
За два года до появления «Ночи» теоретик искусства К. Эрберг писал: «…эти миллионы пудов гранита, вопреки всем неуловимым законам тяготения, летят стрельчатыми сводами готических соборов вверх, к свободным облакам!» (Цель творчества: Опыты по теории творчества и эстетике. М., 1913). У Волошина — «к светлым пространствам ночей». Гармония форм («дуги собора»), сливаясь с музыкой сфер («плавны, как пение хора»), исполнена сиянием немеркнущей в ночи Истины. Истины, «возносящей» в «горний простор» весь архитектурный ансамбль.
Сливаясь с душой поэта, собор как бы отторгает будничный, суматошный город, сравниваемый с горящим углем. Дважды повторяющийся в первой строфе «рдяный» («зардел»), ассоциирующийся со страстью, гневом, насилием, кровью, сменяется в третьей строфе определением «сияюще-синяя» по отношению к небесной «тверди», служащей полотном для космической азбуки, «звёздной алмазной пыли». Сияюще-синий цвет плавно перейдёт в лиловый, фиолетовый, преобладающий во «внутреннем» изображении храма («Лиловые лучи»):
О, фиолетовые грозы,
Вы — тень алмазной белизны!
Две аметистовые Розы
Сияют с горней вышины.
Дымится кровь огнём багровым,
Рубины рдеют винных лоз,
Но я молюсь лучам лиловым,
Пронзившим сердце вечных Роз…
В поэтическом «кадре» Волошина — розы, круглые окна собора, украшенные фигурным переплётом, впускающие в помещение мистический фиолетовый свет. Однако в католической эмблематике роза воспринималась как символ чистоты и райской святости и соотносилась с Девой Марией, «а её алый цвет (в отличие от красного и пурпурного, ставших реальными) был признан исключительным символом крови Христа (начиная особенно с XII–XIII веков)» (Похлёбкин В. Словарь международной символики и эмблематики). Отсюда — волошинское: «Дымится кровь огнём багряным».
Цветовой гамме Волошина отдал должное И. Анненский: «Право, кажется, что нельзя ни искусней, ни полней исчерпать седьмой полосы спектра, ласковее изназвать её, чем Волошин, воркуя, изназвал своих голубок-сестриц в лиловых туниках». Вместе с тем он упрекает Волошина в «красивости» и ставит ему в вину поверхностный эстетизм, некоторую легковесность в обращении с драматическим материалом готики, исключение из поля зрения трагических моментов в истории человеческого духа: «Сам я не был в Руанском соборе и не знаю расположения его двух роз. Но мне всё же хотелось бы не одной этой ласки и не только цветовых переливов. Я чувствую за этими „розами“ — как и за всякой христианской святыней — другую красоту, мученическую…»
В третьем стихотворении цикла «Вечерние стёкла» поэт ещё больше внимания уделяет символике света, а также магическому языку камня. Чаще других упоминается аметист, пьянящий «Венерин камень», выражающий романтическое настроение Волошина, — его возвышенную любовь к Маргарите Сабашниковой. «Мы были в одном соборе, — пишет ей Волошин, — где каменные колонны были пронизаны фиолетовым светом… И там, где фиолетовый переходил в розово-золотистый, — я видел, я знал, я чувствовал Вашу душу. И я помню, что я целовал фиолетовый сияющий камень и когда я наклонялся, то видел тень своей головы золотисто-зелёную, влажную, утопающую в лиловых лучах… Я молился за Вас, и моя молитва была благословением, и мне казалось, что душа моя, как маленький золотисто-прозрачный паучок, поднимается под гулкие, громадные, благословляющие суровым благословением жизни своды храма».
Жаждет поэт причаститься и «другой красоте, мученической», о чем говорят четвёртое и пятое стихотворения цикла («Стигматы» и «Смерть»).
Свет страданья, алый свет вечерний
Пронизал резной узорный храм.
Ах, как жалят жала алых терний
Бледный лоб, приникший к алтарям!
(«Стигматы»)
Всё же справедливости ради отметим, что «священные кораллы» стигматов не лишены некоторой эстетской остранённости, а «свет страданья» не достигает накала даже эллисовских строк:
Огненной стигмы кровавого знака
Жаждет так сердце больное…
Вдруг всё затихнет, и снова из мрака
Смотрит лицо восковое!
(«Ave Maria»)
…И вдруг происходит преображение привычных форм. «Гулкий камень» под ногами оборачивается «журчаньем вещих вод», пронзённый «острыми пилястрами» дух возносится над собором к иным мирам:
Под ногой сияющие грозди —
Пыль миров и пламя белых звезд.
Вы, миры, — вы огненные гвозди,
Вечный дух распявшие на крест…
(«Смерть»)
Художнику близка мысль об уподоблении собора человеческому телу, высказанная ещё Роденом и переосмысленная Мандельштамом в известной формуле «физиологически-гениальное средневековье», а также в стихотворении «Notre Dame» («Как некогда Адам, распластывая нервы, / Играет мышцами крестовый лёгкий свод»…). У Волошина это уподобление собора не только человеческому телу, женщине, но и душе наполнено христианско-эзотерической символикой, подчинено идее высокой жертвенности, смерти и воскресения. В стихотворении «Стигматы» читаем:
Вся душа — как своды и порталы,
И, как синий ладан, в ней испуг.
Знаю вас, священные кораллы
На ладонях распростёртых рук!
Ещё выразительнее эта тема звучит в шестом стихотворении («Погребенье»):
Здесь соборов каменные корни.
Прахом в прах таинственно сойти,
Здесь истлеть, как семя в тёмном дёрне,
И цветком собора расцвести!
Милой плотью скованное время.
Своды лба и звенья позвонков
Я сложу, как радостное бремя,
Как гирлянды праздничных венков…
Здесь уже ощутимо взаимоуподобление — поэта собору и собора поэту. Причащение земле (совсем недавно, 14 июня 1905 года, Волошин писал в дневнике: «Мне надо прикоснуться к груди земли и воскреснуть») оборачивается возрождением — в «цветке собора» — поэта, обретшего себя бога, о чём свидетельствует третья строка седьмого стихотворения («Чьей рукой плита моя отвалена?..»).
В этом, последнем, стихотворении цикла («Воскресенье») появляются
…В светлых ризах, в девственной фате,
В кружевах, с завешенными лицами,
Ряд церквей — невесты во Христе.
Не одиноко застывший католический храм, а шествующие церкви-«отроковицы» на фоне пейзажа скорее не западноевропейского, а среднерусского («Сжавшиеся селенья» и «сияющие поля»). И, наконец, последняя строфа:
Этим камням, сложенным с усильями,
Нет оков и нет земных границ!
Вдруг взмахнут испуганными крыльями
И взовьются стаей голубиц.
Обретённые в первом стихотворении крылья лишь в последнем наполняются подлинной силой. Руанский собор как таковой отходит на второй план, и с христианским пафосом утверждаются полнота и нескончаемость бытия.
В феврале 1915 года Волошин напишет проникновенное стихотворение «Реймсская Богоматерь», вызванное разрушением Реймсского собора немецкими войсками (помимо него на это трагическое событие откликнутся В. Брюсов, М. Кузмин и О. Мандельштам). В качестве эпиграфа поэт возьмёт слова О. Родена: «Видимый на три четверти, Реймсский собор напоминает фигуру огромной женщины, коленопреклонённой в молитве»:
…И обнажив, её распяли…
Огонь лизал, и стрелы рвали
Святую плоть… И по ночам,
В порыве безысходной муки,
Её обугленные руки
Простёрты к зимним небесам.
Собор, икона Богоматери, идея вечной женственности и некоего нравственного абсолюта сливаются здесь в единое целое, связанное с христианским пониманием страдания и искупления. Разрушение собора воспринимается Волошиным как последний и самый вопиющий факт в длинной цепи событий, берущих начало в эпоху Возрождения. Это одно из чудовищных проявлений духа современности, нашедшего законченное выражение в проекте французского архитектора Пети-Раделя (1800), тщательно разработавшего систему «разрушения готических церквей при посредстве огня…».
Загадка средневековой готики, её красота и притягательность связаны в понимании художника с её символикой. Его томит (и роднит с человеком Средневековья) «тоска по вполне однородном и абсолютно законченном космосе, в котором каждая часть точнейшим образом воспроизводит целое и все части связаны вместе началом господства и подчинения… — пишет в своей книге П. М. Бицилли. — И в то же время каждый уголок собора, каждое оконце, каждая башенка, каждая деталь может быть взята отдельно, является сама по себе чем-то законченным… всё вместе образует идеальное подобие того мира, о котором грезило средневековье: мира иерархически сгруппированных, совершенных, неизменно повторяющихся символов…».
Ещё в июле 1904 года в стихотворном «Письме», вызывая в памяти «леса готической скульптуры», поэт размышлял:
…Здесь всё есть символ, знак, пример.
Какую повесть зла и мук вы
Здесь разберёте на стенах?
Как в этих сложных письменах
Понять значенье каждой буквы?
Их взгляд, как взгляд змеи, тягуч…
Закрыта дверь. Потерян ключ.
Смириться с этой потерей языка символов и знаков душа поэта не может. Ведь, как писал Виктор Гюго в «Соборе Парижской Богоматери» о готических постройках: «Они от мира. Они таят в себе элемент человеческого, непрестанно примешиваемый ими к божественному символу, во имя которого они продолжают ещё воздвигаться. Вот почему эти здания доступны каждой душе, каждому уму, каждому воображению. Они ещё символичны, но уже доступны пониманию, как сама природа».
Средневековый символизм, утверждает Волошин в набросках к монографии «Дух готики», «определяется понятием „знака“… Для готики весь внешний мир является сложным гиероглифическим письмом, повествующим о трагедии грехопадения и искупления. Наш символизм ищет соответствий. Средневековый искал уподоблений… Символизм нашего времени словесный — поэтический… В готическом же храме мы имеем дело с символизмом пластическим…». Отсюда — установка: «Прочесть готический собор от его первой страницы до последней, от портала до острия стрелки, венчающей его крышу, расшифровать его гримуары, раскрыть его гиероглифы…»
Но можно ли понять язык этой великой книги, в которую человечество вписало свои загадки? Ещё К. Случевский в стихотворении «Страсбургский собор» (1880) замечал:
…И башня, как огромный палец
На титанической руке.
Писала что-то в небе тёмном
На незнакомом языке!
Не башни двигались, но — тучи…
И небо, на оси вертясь,
Принявши буквы, уносило
Их неразгаданную связь…
И всё же Волошин предоставил читателям свой опыт расшифровки символического языка готики. В журнальной публикации стихотворного цикла «Руанского собора» (Перевал, 1907, № 8–9) между третьим и четвёртым стихотворениями он поместил фрагмент исследования, озаглавленный «Крестный путь»:
«Семь ступеней крестного пути соответствуют семи ступеням христианского посвящения, символически воплощённого в архитектурных кристаллах готических соборов.
Мистический крестный путь начинается омовением ног — прикосновением к полу храма, ибо пол храма — это вода. Поэтому в мозаиках, украшающих пол древних соборов, часто изображались сивиллы, сидящие над водой, или олени, пьющие из ключа.
Вторая ступень — бичевание. Это ощущение острой физической боли, сердца Богоматерей, пронзённые семью мечами скорбей.
Третья — алый свет — ощущение текущей крови — терновый венец. Четвёртая — стигматы — знаки пригвождения на руках. Пятая ступень — это смерть на кресте. „Мировая душа распята на кресте мирового тела“. Распятие — это символ божества, воплощающегося в материи. Символически сам человек с распростёртыми руками являет крест. („Облечённый в крест тела своего“.)
Смерть — это экстаз, момент высшего восторга жизни. Шестая ступень — погребение, причащение земле. Плоть, себя сознавшая, глаголящая и видящая, возвращается к тёмной и страдающей праматери.
Седьмая ступень — воскресение из мёртвых».
Эта символика и определила композицию цикла, состоящего из семи стихотворений. «Мистерия готических соборов» начинается на закате дня, что, по Волошину, соответствует «ощущению текущей крови — терновому венцу», а завершается при ясном дневном свете, соотносящемся с седьмой ступенью крестного пути — «воскресением из мёртвых».
…И вдруг увидел я со дна встающий лик —
Горящий пламенем лик Солнечного Зверя.
«Уйдём отсюда прочь!» Она же птичий крик
Вдруг издала и, правде снов поверя,
Спустилась в зеркало чернеющих пучин…
Смертельной горечью была мне та потеря.
И в зрящем сумраке остался я один.
Вечером 12 июля Макс возвращается в Париж. Он не слишком торопится — Маргариты Сабашниковой там нет. Да и сам он вряд ли задержится в столице надолго. Поэт переполнен впечатлениями от «единения с собором». На религиозно-мистические чувства наслаиваются интимные переживания. В памяти всплывают строки из письма Маргариты: «Я вижу, я благословляю, я люблю в тысячу раз больше. Если б я могла Вам что-нибудь дать, если бы своими слабыми руками я могла согреть эту мёртвую птичку, прижать её к сердцу. Но мне это не дано и нужно ждать зари. Нужно сохранять её бережно, не помяв ей крылышки, до зари… Молча ждать зари… Да?»…
«Мёртвая птичка» — это отсылка к стихам Волошина. У него было: «сердце мёртвое» — как «птичка серая, согретая тобой». Однако адресат стихов сетует на свои слабые руки, не способные согреть, дать новую жизнь, и предлагает ждать до зари. Три раза — «до зари». Как разгадать эту очередную загадку Амори?
Лучше об этом не думать. Переключиться на что-нибудь другое… Последнее время Волошин сдружился с художником Александром Самойловичем Чуйко. Вместе с Анной Рудольфовной они едут в Шартр, посещают собор Нотр-Дам; «мистерия готических соборов» продолжается… Но сердце по-прежнему «горит и трепещет». В письме к Маргарите у него вырывается: «Не могу больше не видеть Вас». Да и она, похоже, засиделась в Цюрихе. Последнюю весточку он отправлял ей в Нюренберг. Так где же они встретятся? Договариваются о «серединном пункте» — Страсбурге, куда Волошин прибывает 20 июля. Маргарита встречает его на вокзале вместе с гимназическим товарищем брата Алёши — А. Л. Любимовым. Как-то оно будет?
(«Голос дрожит. Я едва могу произносить слова», — записывает в дневнике Волошин.)
— Пойдёмте к собору, — говорит она.
И вот они вдвоём. Идут по тёмным вечерним улицам. Между ними — опять стена. Почему? Ведь в письмах всё было не так…
— Не теребите вашу бородку. Опять вы делаете те же безнадёжные жесты…
А это как понять?.. Да тут ещё совершенно некстати какой-то пьяный старик, в роли античного хора:
— Вам обоим лучше всего — в воду… Теперь же.
«Мы возвращаемся мёртвые, с отчаяньем в душе». Он шепчет про себя: «По мёртвым рекам всплески вёсел…» Возвращается в свою унылую комнату: «И кто-то нас друг к Другу бросил…» Становится на колени. По улице проносятся экипажи… «И кто-то снова оторвёт…» Стучат экипажи. Потом — тишина. «Значит, и теперь, и теперь всё то же. Всё было изобретено в письмах».
Рано утром Макс идёт в собор один — молиться. Днём он там же вместе с Маргаритой Сабашниковой. Ему кажется, что если он скажет: «Милая, милая Маргарита Васильевна», то чары развеются, стена между ними рухнет. Но язык словно прилип к нёбу. «Мы долго ходим по собору. Сторож гонит нас. Наконец мы садимся. Я беру её руку. Она мёртвая, бесчувственная». Мужчина и женщина поднимаются на башню. И там, ближе к небу, над городом, происходит какой-то сдвиг. «И что-то спадает с нас… Мы можем говорить. Сперва шутя, потом серьёзно… Мы говорим о том чувстве, которому нет выхода в земных условиях, о той связи, которая легла между нами… Я прижимаюсь лбом к её рукам и чувствую, как она целует мои волосы…»
Маргарита:
— Между нами не может быть земной любви.
— Я готов на полное самоотречение, но любить я всегда буду только вас. Благословляете ли вы меня на этот путь?
— Да, да…
«И наши лица близко, и губы прикасаются. Я невольно склоняюсь на колени, и она кладёт мне руку на голову».
В их отношениях, кажется, наметились существенные изменения. Хотя Макс и понимает, что его любимая всегда будет непредсказуемой. 22 июля они отъезжают в Цюрих. В её комнате, высокой, угловой, возникает то же ощущение, что и на башне. Звучат слова: «Почему, когда вы держите мою руку, мне кажется, что это так естественно… А если бы кто-нибудь другой держал… Почему вы такой хороший? Почему я вас тогда таким угадала и всё время верила, что остальное — это только маски?.. Вы ведь всегда будете держать мои руки… Мне так легко и спокойно…» Потом они читают книгу Поля де Сен-Виктора «Люди и боги». Идёт дождь… Вечером на прогулке Аморя неожиданно заявляет: «Я люблю сильных… Если вы хотите, чтобы я любила, вы должны обращаться со мной холодно и строго…» Да, с ней надо всегда быть начеку.
Увы, Максу также свойственны самокопание и погружение в пучину сомнений. Он записывает в дневнике: «Имею ли я право идти своей дорогой, когда меня любят? Ведь один шаг — и мужское чувство захватит меня и унесёт. Эта физическая близость прикосновений может прорваться ежесекундно — одним резким движением». А жизнь, природа берёт своё. Макс замечает, что даже тогда, когда он читает ей вслух, голос дрожит и срывается. «Огненная дрожь пробегает… Теперь она сильнее, и я люблю её страстно, по-человечески…»
— Мы не расстанемся никогда. Мы будем вместе…
— Нет. Этого не может быть.
Ну вот, опять. Что ж, он готов на самоотречение:
— Будьте свободной, будьте сильной и не думайте обо мне.
— Разве вы хотите, чтобы я забыла вас?
— О, нет…
«И опять минуты трепета, смеха, детских ласк. Я беру её голову обеими руками и целую её волосы… Безумная девушка… Милая, бедная девочка… Какие у вас блестящие и мокрые глаза…»
— Подумать только: ведь ещё вчера я мог так просто — встать и уйти… А сегодня мои руки уже не могут оторваться… Я уйду, но руки мои останутся…
А с погодой что-то не везёт. Часто дождит. Тогда молодые люди остаются в комнате. Читают. Фотографируют друг друга. Когда проясняется, идут в горы или катаются в лодке на озере. В плохую погоду у Маргариты портится настроение, и она принимается за старое:
— Мне стало ужасно скучно… Вы очень небрежно одеваетесь… Помните, я предупреждала вас о своей способности возненавидеть человека? Я не могу бороться с ней… Я начинаю ненавидеть сперва его вещи… И вот, я уже ненавижу вашу накидку. Я точно так же ненавидела мантильку одного человека, который любил меня.
— Тогда мне надо завтра же уехать из Цюриха… С этим нельзя бороться, можно только предупреждать…
— Нет, я не думаю, чтобы это могло случиться по отношению к вам. Вы слишком равнодушны и спокойны. Я не выношу, когда меня любят. Ведь это борьба. Если предо мной склоняются, я хочу добить… Вы не знаете моего характера. Я люблю, чтобы мне противоречили, чтобы меня не любили.
Ну уж нет. Макс слишком хорошо знает её характер. Можно сказать, вжился в него. И поэта уже трудно чем-либо ошеломить… Она промокла. Он греет её руки. Они стоят в темноте под деревом, и на её лице — узоры ветвей и света. А на его губах — слова: «Небо запуталось звёздными крыльями / В чаще ветвей. Как колонны стволы. / Падают, вьются, ложатся с усильями / По лесу полосы света и мглы». А ведь это он написал три года назад и посвятил стихи Ольге Муромцевой. Надо же — это было ещё до Маргариты. А было ли что-то вообще до неё? Тогда он писал, представляя себе грозную богиню охоты печальной девушкой, способной на чувство: «Грустная девочка — бледная, страстная. / Складки туники… струи серебра… / Это ли ночи богиня прекрасная — гордого Феба сестра?» Да, что-то давно не писал он стихов…
«Милая девочка. Милая Аморя. Amore! Любовь. Может быть, это и есть то самое благоуханное имя!..» А в это время:
— Вы должны быть свободны и сильны. Вы скоро уйдёте… Нам недолго видеться… Вы полюбите скоро земной человеческой любовью… Что вы сейчас чувствуете?
— «Счастье… и звёзды…»
— Как вы хорошо тогда написали: «звёзды подступают к глазам».
На другой день, 28 июля они спасаются от жары в сосновом лесу. «Солнце чёрное, как паук с лиловыми лапами, всё кристальное…» Макс и Маргарита непроизвольно переходят на «ты».
— Я ужасно малодушна… Я всегда отрекаюсь от тебя… как Пётр… Знаешь, когда ты уезжал из Москвы в Крым, я записала в дневнике: «Оторвалась лучшая часть моей души…»
Макс смотрит в эти глаза, странно расставленные, светлые; пожалуй, сейчас они чувственные, непривычно весёлые. Совсем как у фавна. При этом — смешные детские губы. Лицо девочки, лицо женщины, лицо страсти… И он говорит: «У тебя сейчас совсем другое лицо… Лесное, звериное и божественное». Маргарита улыбается — чему-то в самой себе.
— Расскажи мне, как ты меня любишь… Знаешь, я бы хотела, чтобы всегда было так, как сейчас. Чтобы это никогда не кончалось. Эта секунда. Сделай так, чтобы не было будущего, Макс, сделай…
— Для этого надо быть сильным, как смерть.
— Да, одна из обезьян не совсем сошла с ума. Она стала полоумной…
«И она лежит у меня на коленях с распустившимися волосами, бледными глазами. И прижимается ко мне и целует меня с любовью незнающего ребёнка… Она как лесной зверёк, лукавая, шаловливая…» Как это — в монологе феи Раутенделейн из «Потонувшего колокола»: «Бог весть откуда я взялась, / Сказать я не умею…/ Лесною птичкой родилась / Иль феей…»
— Нет, скажи мне, как ты меня любишь! Ну скажи…
— Это тайна изобретателя.
Родители Амори невзлюбили Волошина. То ли дочь, по их мнению, совершенно выбилась из режима и благодаря Максу предалась богемному образу жизни; то ли сам поэт, с его экстравагантной внешностью и манерой одеваться, не внушает им (как и многим другим) доверия. Да и саму Маргариту многое в этом человеке смущает; она смотрит на него разными глазами: «Да, ты мне совсем чужд при людях. А когда мы бываем с тобою одни — я всё забываю. Я вижу в тебе только себя… Ведь этого у меня ни с кем никогда не было…»
К счастью, в эту пору в Цюрихе они, как правило, одни, не «при людях». Поэтому всё сейчас так просто, красиво, интимно. Цюрих… Посмотришь с террасы горного ресторана в одну сторону — он «как один холодный мерцающий камень. Камень, занявший четверть горизонта и сияющий сквозь чёрные переплёты деревьев… С другой — дикие долины и холмы…». Он и она строят планы на будущее; главным образом, это маршруты путешествий: надо посетить Гусиное озеро в Забайкалье (центр бурятского ламаизма), отправиться в Грецию… Потом, разумеется, в Египет… Это так близко… В Индию… И, конечно же, прежде всего — в Коктебель. Уносясь ввысь за мечтами, они время от времени спускаются на землю:
— Только вот как мы поедем?.. Человеческие отношения так сложны…
— Люди создали их, чтобы упростить жизнь…
— Поехать с Анной Рудольфовной.
— Она не вынесет Греции… Это слишком много для неё…
— Поедем с Алёшей, с Любимовым. Они поймут…
Да, «идиллия на двоих» так хрупка и недолговечна… Можно лишь порепетировать что-нибудь из нереального будущего. Маргоря снимает шляпку. Закутывает голову чадрой. Голова становится совсем маленькая. Зато глаза — огромные. Лицо — то ли индийское, то ли египетское… А солнце «висит, как пылающая сосновая шишка… У него тонкие суставчатые крылья, как у бабочки. Между сосен тянутся солнечные дорожки…». Теперь Аморя сидит с бронзовыми распущенными волосами. «На ней луч… И всюду в глазах бродят жёлтые пятна». Что ж, художник — и в любви художник. И поэт. Макс говорит, точнее, заклинает: «Солнце! Огненный паук, который держит звёзды в своей паутине, — ты охранишь эту маленькую голову, которая лежит на моей груди… Она мне дана, и я поведу её…» А дальше, уже имея в виду Маргариту: «Я всё, всё отдаю тебе… Всю мою радость, всю мою силу… Всю мою радость, если даже не останется её больше в моей жизни…»
Если жить, если и быть счастливым, то не для себя — для неё. И при этом — не «танцевать назад». Художник Чуйко как-то сказал Маргоре: «Да не грызите вы его… Не ругайте. Бросьте говорить о его фельетонах и статьях… Удивительные люди… То убегают друг от друга… смотрят в разные стороны… А то вдруг уйдут в отдельную комнату, пошепчутся полчаса об четвёртом измерении и выходят с сияющими лицами…» Да, вероятно, забавно они смотрятся со стороны… Действительно, давно пора им решить: «Или дорога человеческая, с человеческим счастьем — острым и палящим, которое продлится год, два, три — или вечное мученье, безысходное, любовь, не ограниченная пределами жизни…»
Маргарита пытается шутить. Получается грустно: «Укрась мои серебряные рожки пурпурными розами и принеси меня в жертву, как барашка… Я всегда чувствовала себя жертвенной овцой… Ты ведь это сделаешь? Мне не будет больно?..» Он и она смотрят друг на друга безнадежными, прощальными глазами. У неё текут слёзы. 5 августа Макс покидает Цюрих. Маргарита провожает его до Базеля. На платформе, прощаясь, она целует его «как жена». Во всяком случае, так ему показалось…
И снова — Париж, пустой и скучный без Амори. Правда, здесь Чуйко, Пешковский, поэт-символист Сергей Соколов (Кречетов), Анна Рудольфовна. Можно вновь и вновь заводить интеллектуальные беседы, заглядывать в музеи… Но мысли его в Цюрихе, в том сказочном мире, который его ещё совсем недавно окружал: «Хожу как потерянный… В голове нет мыслей… один порыв к тебе…» Минцлова «курирует» набирающий силу процесс: «Как вы могли допустить мысль, что кто-то другой станет её мужем?!.. Вы должны быть с ней всегда, всю жизнь… Вы должны вести её…» Легко сказать — вести… Ведь Маргарита снова — вся в сомнениях, опять готова спрятаться в своем неприступном тереме и закрыть все ставни. Она пишет: «Во мне нет к тебе того чувства, живого, земного, которое проснулось в тебе». Что ж, это не новость. И дальше — привычное: «Я не могу быть твоей женой; я буду любить только тебя, но не так». Нежный, терпеливый Макс, как всегда, успокаивает и проявляет великодушие: «Я никогда не буду умолять тебя сделаться моей женой… но когда ты сама придёшь ко мне… Если это не случится в моей жизни… это не так уж важно…»
14 августа, прихватив с собой «Кодак», Волошин вновь наведывается в Цюрих. Он намеревается отдать Аморе всю свою душевную силу, которую он «чувствовал огромной», но вдруг ощущает себя усталым и разбитым — дело в том, что незадолго до этого он провёл очередную «страшную» ночь возле Минцловой, на которую накатывали волны беспричинного страха; «разные люди, которые живут или жили в ней, говорили разными голосами». Анна Рудольфовна, конечно же, благодарна Максу. По возвращении из Руана она писала Сабашниковой, что видит в Волошине «пробуждение новой жизни, новой личности, сильной и своеобразной», а теперь сообщает ей, что считает Макса «одним из прекрасных, необычайных людей земли». Чуть позже, в ноябре, она напишет поэту из Берлина: «Вы были для меня радостью, солнцем и теплом эти последние месяцы». В знак особого расположения Минцлова посылает с ним некий «магический камень» для Алёши Сабашникова. Макс с Алексеем отправляется в Альпы, на перевал Сен-Готард, они фотографируют друг друга, а вот пообщаться с Маргорей ему толком не удалось. Она была нездорова, хандрила… Уже из Парижа он ей напишет: «…меняться во внешности, в манерах — мне нельзя. Получается ещё хуже. Мне надо изнутри перемениться, стать внимательнее к людям… Но и ты должна победить свою трусость к тому, что люди скажут…»
А тем временем в духовной жизни наших героев намечаются эпохальные сдвиги, особенно у Маргариты. На горизонте обозначилась грандиозная тень Рудольфа Штейнера, мистика-антропософа, который намеревается прочесть в Цюрихе лекцию на тему «Преодоление материализма в свете новейших воззрений». Вот-вот должна состояться его встреча в Берлине с Минцловой, которая уже заранее чувствует «вокруг себя огонь». Нечто подобное испытывает после лекции и Маргоря. Вот как она описывает свои впечатления в книге «Зелёная змея»: в залу входит стройный мужчина, в чёрном сюртуке. «Вороновым крылом слетают пряди на изящную выпуклость лба. Глубоко посаженные глаза… Что поражает более всего? Странное сочетание устойчивости и энергической подвижности… Шаги его упруги и легки, голову держит прямо, шея откинута назад, словно у орла». Штейнер посвящает аудиторию в тайны медитации. По его мнению, именно медитация «образует в душе сверхчувственные органы, способные к восприятию объективно реального духовного мира. Штейнер говорил о том, что мышление должно сделаться активнее, живее — такому мышлению надо учиться. Надо научить свои чувства освобождаться от всего субъективного, тогда они станут органами духовного восприятия. Надо работать над своей волей, учиться сознательно направлять её… Штейнер выделил три ступени познания: имагинация — воображение, инспирация — вдохновение и интуиция… Речь его — горячая, приподнятая — радостное откровение!»
Пройдёт совсем немного времени, и Маргарита Сабашникова объявит, имея в виду Штейнера: «Я наконец нашла его… моего учителя». А в дневнике запишет: «Мне хочется плакать от счастья… Как я ждала его: вот он. Я люблю его». Да, то — не Волошин, то — другой. Ну а Макс в середине октября с той же целью приедет в Берлин — послушать в Свободной высшей школе лекции «Учителя» из общего курса «Основы эзотеризма». Конечно, его слабое знание немецкого языка помешает в полной мере оценить услышанное. Но и общего, чисто внешнего впечатления на первых порах окажется предостаточно: «Более поразительного гениального лица, чем у него, я никогда не видел в жизни, и та история мира, которую он раскрыл в своём курсе… необычайна… Это грандиозный синтез точного знания с боговдохновенностью…» В «Автобиографии» Волошин отметит, что именно Штейнеру он «обязан больше, чем кому-либо, познанием самого себя». В письме к Сабашниковой поэт признавался, что некоторые мысли философа-мистика ему «всегда, с детства мерещились».
Рудольф Штейнер родился в семье железнодорожного служащего. Уже в юности получил основательную естественно-научную и математическую подготовку. Учился в Венском и Ростокском университетах. Защитил докторскую диссертацию по философии. Его первые труды были посвящены исследованию мировоззрения и творчества Гёте, в котором он видел мыслителя, чьи воззрения «вели к переходу от естественных наук к науке о духе». В 1892 и 1894 годах Штейнер выпускает две книги — «Истина и наука» и «Философия свободы», в которых настаивает на возможности интуитивного познания гиперфизического мира. Он был убеждён в реальном существовании духовных сфер, лежащих за пределами материально-телесного мира, а также в наличии сверхчувственных познавательных способностей, заложенных в человеческой природе. Мысль о возможности мистического постижения потустороннего, «суперреального» мира утверждается им в книгах «Мировоззрение Гёте» (1897), «Мистика на заре духовной жизни нового времени и её отношение к современным мировоззрениям» (1901), «Христианство как мистический факт и мистерии древности» (1902). Философа привлекает христология; он размышляет о «мистерии Голгофы» как об эпохальном событии в истории человечества.
В октябре 1902 года в Германии образовалась немецкая секция Теософского общества, которую возглавил Р. Штейнер. С 1903 года он начинает издавать теософский журнал «Люцифер» и продолжает работать над книгами. Одна за другой выходят «Теософия. Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека» (1904), «Как достигнуть познания высших миров» (1904–1905), «Очерк тайно-ведения», «Духовное водительство человека и человечества» (1913), «Загадки философии» (1914) и другие. В 1911 году на философском конгрессе в Болонье Штейнер выступил с фундаментальным докладом «Психологические основы и теоретико-познавательное значение теософии».
Творческая деятельность Р. Штейнера продолжалась до 1925 года. За это время он прочитал сотни лекций, выпустил около сорока книг и сборников статей, среди которых можно выделить такие программные его работы, как «О загадке человека» (1916), «О загадках души» (1917), «Сущность социального вопроса в жизненных необходимостях настоящего и будущего» (1919), «Космология, религия и философия» (1922). С некоторыми из вышеназванных сочинений Волошин был, безусловно, знаком, хотя и никогда не пытался использовать поэзию в качестве иллюстрации антропософских тезисов. В августе 1914 года он посвятит мыслителю-эзотерику такие строки: «…Ты встречный, ты иной, / Но иногда мне кажется, / Что ты — / Я сам. / Ты приходил в часы, / Когда отчаянье молчаньем просветлялось…»
Но и Р. Штейнер не начинал с нуля. В своей деятельности он в значительной степени отталкивался от теософского учения, заложенного Еленой Петровной Блаватской. Елена Петровна Блаватская воспринимала теософию не как религию, а скорее как божественное знание. Овладевая им, человек как бы поднимается над миром, постигает абсолютную истину, поскольку теософия представляет собой сущность всех религий и соотносится с ними как белый луч, включающий все цвета спектра. Однако и теософия, и антропософия вряд ли могут рассматриваться как принципиально новые, оригинальные учения. Они представляют собой весьма пёструю мозаику взглядов и положений, заимствованных из различных систем мистической философии древности. В оккультных учениях рубежа веков слышатся отголоски индийской «Ригведы», браминизма и буддизма, Плотина и неоплатоников, древнееврейской «Каббалы» и философии Лао-цзы, позднейшего христианского гностицизма Экхарта и Якова Бёме.
Надо отметить, что антропософы в своих духовных исканиях большое внимание уделяли социально-экономическим и педагогическим аспектам, не вошедшим в сферу теософских откровений, пытаясь демократизировать теософию, рационализировать её принципиальные положения, сделать их доступными для многих. Теософы же (за исключением представителей американской секции, возглавляемой Е. Тинглей) не занимались популяризацией своего учения, полагая, что круг людей, способных воспринимать истину, весьма невелик, так что искусственное его расширение только грозит извращением высокого знания людьми с низким духовным статусом. Поэтому их сообщество становилось чем-то вроде замкнутой касты, тайной секты посвящённых. В специальной литературе не раз утверждалось, что в антропософии вера заменялась убеждением, принципы субординации — идеалами свободного поиска истины; в этой среде не преклонялись перед мудрецами, управляющими судьбами мира, не было веры в современного мессию, воплотившегося в земной оболочке. Кстати, этот принципиальный момент и обусловил разрыв Штейнера с теософской церковью, провозгласившей новый догмат — веру в новоявленного спасителя мира, принявшего облик молодого индуса Альциона.
В 1913 году Р. Штейнер учредил своё «Антропософское общество». Он и его последователи углубились в поиски не божественной (тео-софия) мудрости, а мудрости человеческой (антропо-софия), основывающейся на выявлении всей полноты интуитивно-мистического постижения гиперфизического мира. 17 ноября 1908 года в Петербурге было основано Русское теософское общество; 20 сентября 1913 года в Москве — антропософское. Обе организации просуществовали в России до 1923 года.
Что же привлекало в этом учении Волошина? В какой мере антропософские идеи отразились в его стихах? Ответы на эти вопросы будут даны позже; пока лишь обратим внимание на то обстоятельство, что антропософские мотивы в творчестве поэта далеко не всегда звучат в «чистом» виде, штейнерианские откровения чаще «растворяются» в широком эзотерическом спектре. К тому же поэтически переосмысляются. Так, важнейший антропософский постулат — блуждание в звёздных мирах вечности и перевоплощения человеческого «я» — воспринимается Волошиным как утверждение торжества и бессмертия духовного начала, превозношение личности в её божественной ипостаси («Я верен тёмному завету…», 1910):
И не иссякнет бытиё
Ни для меня, ни для другого:
Я был, я есмь, я буду снова!
Предвечно странствие моё.
Поэту был близок тезис Штейнера (выражающий суть антропософии, её пафос): «Это путь познания, сориентированный на приведение духовного в человеке к духовному во Вселенной». Пройдут годы, и уже в зрелом возрасте, несколько «поостыв» к оккультизму, Волошин подведёт итог своему увлечению Штейнером и антропософией: «В словах его, прежде всего, поразило то, что это было широкое обоснование и обобщение тем отдельным мыслям, убеждениям, к которым я в то время сам пришёл… Но потом начались борьба и протест. Протест больше против штейнерианцев, чем против него самого… Но в результате выходило, что я всё же возвращался к его книгам и к его формулам».
Говоря обо всём этом, уместно отметить, что в начале XX века различного рода мистические учения были чрезвычайно популярны в литературно-художественных кругах России и Запада. Применительно к той эпохе с недавнего времени используют словосочетание «оккультное возрождение», подразумевающее целый спектр теорий, представлений и ритуалов — от спиритизма, масонства и теософии до чёрной магии и сатанизма. Известно, с каким энтузиазмом погружался в оккультные глубины, особенно на заре своего творчества, В. Брюсов, какой интерес проявляли к антропософии А. Белый и О. Форш, какую роль сыграла теософия в мироощущении таких разных служителей искусства, как А. Скрябин, В. Кандинский, М. Чехов.
Уже в десятые годы, накануне Первой мировой войны, Н. Бердяев, сам слегка переболевший антропософией и оставивший несколько критических работ на эту тему, писал: «В нашу эпоху есть не только подлинное возрождение мистики, но и фальшивая мода на мистику. Отношение к мистике стало слишком лёгким, мистика делается достоянием литературщины и легко сбивается на мистификацию. Быть немного мистиком ныне считается признаком утончённой культурности, как недавно ещё считалось признаком отсталости и варварства». В мистических устремлениях начала века просматривались, по мнению философа, два крыла: одно — связанное с православной религиозной эзотерикой, противостоящей официальной церковности; другое — с оккультизмом. Бердяев признаёт, что наиболее интересным среди оккультных течений того времени «было течение антропософское. Оно привлекало более культурных людей».
Естественно, любознательный, наделённый поэтическим воображением, склонный к сотворению новой, фантастической реальности, Максимилиан Волошин не мог остаться в стороне от этих тенденций. Не случайно М. В. Сабашникова вспоминает об «увлечениях Макса различными оккультными учениями поры Французской революции». Даже в 1919 году, в Одессе, М. Волошин будет вызывать своими антропософскими парадоксами ироническое подтрунивание И. Бунина. В первом сборнике стихов поэта (1910) значительная часть произведений несёт на себе отзвуки оккультных учений. Оккультизм — «самая важная сторона моей лирики», — напишет Волошин Вяч. Иванову, — но она «остаётся темна, быть может, для всех, кроме тебя». Пожалуй, изначально эти тенденции проявляются в четырёх философских стихотворениях, представляющих собой небольшую композицию, озаглавленную «Когда время останавливается» (1903–1905). В них выражается волошинский взгляд на жизнь как на бытие, растворённое в космическом времени и лишь на мгновение воплощённое здесь и сейчас в земных формах. Наше «сегодня» условно:
В безднах скрывается новое дно,
Формы и мысли смесились.
Все мы уж умерли где-то давно…
Все мы ещё не родились…
В другом месте читаем:
Когда ж уйду я в вечность снова?
И мне раскроется она,
Так ослепительно ясна,
Так беспощадна, так сурова
И звёздным ужасом полна!
Без учёта антропософской теории невозможно полноценно воспринять такие стихи Волошина, как «Сатурн» (1907), «Солнце» (1907), «Луна» (1907). Отголоски штейнеровского учения ощутимы в стихотворениях «Кровь» (1907), «Грот нимф» (1907), более поздних — «Пещера» (1915), «Материнство» (1917), «Подмастерье» (1917) и — в той или иной мере — во многих других поэтических опытах.
Ну а тогда, в конце лета — начале осени 1905 года, Макс ещё только начинает восхождение к вершинам (или нисхождение в бездны) эзотерической науки и духовного знания: читает «Тайную доктрину» Е. П. Блаватской, находя в ней «целый океан сокровищ», в смысле — откровений, касающихся «истории человека и жизни», «Эзотерическое христианство» А. Безант, изучает и другие книги по оккультизму и теософии. А для разрядки слушает оперу Вагнера «Валькирия», совершает велосипедный пробег в долину Шеврезы, посещает развалины янсенистского монастыря Пор-Рояль, где были похоронены Расин и Паскаль. (В один заезд преодолевает, по его собственной версии, около семидесяти вёрст.) По возвращении вновь погружается в иное измерение, размышляя в письме к Сабашниковой об «обратной эволюции», ощущая себя, с позиции тайноведения, «на четвёртой земле, в пятой расе и в пятом чувстве».
«Блуждания духа», по сути дела, определяют жизнь поэта. Религиозные пристрастия ещё только-только формируются. Предпочесть какую-то конкретную конфессию он пока ещё не готов. На вопрос Маргариты, мог бы он стать священником, Макс отвечает: «Христианство мне из всех религий дальше всего. Мне буддизм и Олимп ближе. Впрочем… готика мне бесконечно близка… Для священства надо принимать всю догматическую основу. А нет ничего более чуждого моему познанию, чем догматика. Я люблю свои и чужие фантазии. Я люблю из чужих мыслей ткать свои узоры…» Ему любопытно, что думает Штейнер по поводу масонства. Впрочем, едва ли он получит конкретный ответ. Сам же Макс под влиянием новых впечатлений пишет: «Мне масонство — то, которое я видел, — кажется страшно поверхностным и ненужным». (Объективности ради отметим, что в январе 1909 года Волошин будет возведён в степень «мэтра».)
Погружаясь в высокие материи, поэт, однако, не забывает о своём положении в реальном мире. Ведь мыслить и творить приходится в земных условиях. Он переезжает в новое ателье (бульвар Эдгара Кине, 16), где по мере возможностей пытается создать что-то наподобие рабочего кабинета и домашнего уюта. Из письма Маргарите Сабашниковой: «Теперь я чувствую себя в человеческой обстановке. У меня есть письменный стол. Горит печка. Тепло. На стенах японцы. Твой портрет моей мамы… Лиловый вереск, астры… На столе лежат „Трофеи“ Эредиа… Он умер на днях. Я хочу написать о нём… У меня страшная жажда работы и стихов». Вечереет. Поэт — один в своём ателье. Он испытывает какое-то смутное томление. Наверное, виноваты сумерки:
…Смутный час… Все линии нерезки.
Все предметы стали далеки.
Бледный луч от алой занавески
Оттеняет линию щеки.
Мир теней погасших и поблёклых,
Хризантемы в голубой пыли;
Стебли трав, как кружево, на стёклах…
Мы — глаза таинственной земли…
Вглубь растут непрожитые годы.
Чуток сон дрожащего стебля.
В нас молчат всезнающие воды.
Видит сны незрячая земля.
Рождается стихотворение, которое позднее получит название «В мастерской». В мастерской художника… В лаборатории его мыслей и чувств, эзотерических прозрений. Это внутренний мир поэта, и в центре его — Аморя, которая незримо присутствует и в мастерской и которая, кстати сказать, просила Макса написать ей что-то вроде «Колыбельной»:
Девочка милая, долгой разлукою
Время не может наш сон победить:
Есть между нами незримая нить.
Дай я тихонько тебя убаюкаю:
Близко касаются головы наши,
Нет разделений, преграды и дна.
День, опрозраченный тайнами сна,
Станет подобным сапфировой чаше.
«Комната — раковина, — как-то записал Макс в блокноте. — Сперва люди строили раковину для божества. Теперь они строят каждый для себя. То, что раньше выражалось в храме, теперь выражается в своей комнате. Раньше это было место, где молились, теперь это место, где думают». Мысль поэта не задерживается в комнатных стенах. Перед его внутренним взором возникает фигура Владимира Соловьёва, которого художник так, к сожалению, и не увидел в мире внешнем. Он пытается представить себе соловьёвскую Софию, «Жену, облечённую в Солнце», которая чем-то схожа с «царевной Солнца Таиах»… Применимо ли здесь понятие пола? Ведь это — космический образ, а в космосе идеальное и материальное, то есть мужское и женское, слиты в неделимое целое. У Соловьёва космическая всечеловеческая София есть не просто вечно женственное начало; это субстанция, потенциально притягивающая начало мужское. Или лучше так: это гармоническое слияние мужского и женского начал, детище брака идеи с материей. Впрочем, Макс — не философ. Ему проще выразить эту мысль лирически:
Мир, увлекаемый плавным движеньем,
Звёздные звенья влача, как змея,
Станет зеркальным, живым отраженьем
Нашего вечного, слитного Я.
Однако поэт неизбежно возвращается на землю, в мастерскую, которая вмещает в себя весь космос, в интимный мир сердца, в собственную Вселенную:
Ночь придёт. За бархатною мглою
Станут бледны полыньи зеркал.
Я тебя согрею и укрою,
Чтоб никто не видел, чтоб никто не знал.
Свет зажгу. И ровный круг от лампы
Озарит растенья по углам,
На стенах японские эстампы,
На шкафу химеры с Notre-Dame.
Барельефы, ветви эвкалипта,
Полки книг, бумаги на столах,
И над ними тайну тайн Египта —
Бледный лик царевны Таиах…
Заканчивается 1905 год…. Его финал сопровождается потрясениями в России: всеобщей политической стачкой, Декабрьским вооружённым восстанием. В Москве — «пушки, баррикады, проволочные заграждения», как пишет находящаяся там Анна Минцлова. Что думает об этом Волошин? Конкретные события пока для него заслоняются глобально-эзотерическими. Макс задаётся вопросом: «Что надо делать для России, если она — поле борьбы всемирной? Надо знать её карму и мировую карму…» Всё это его ещё не слишком трогает. В конце октября он пишет Маргарите Сабашниковой: «У меня идут месяцы полного равнодушия к России, а потом вдруг просыпается где-то страшное беспокойство. Я думаю, это предчувствие». Предчувствие грядущих общественных катаклизмов не обманет художника. Остро реагирующий на всё происходящее, Волошин понимает, что ему не удастся закрыть глаза на круговорот событий в России: «Я чувствую, что не имею права не иметь отношения ко всему… в эти моменты. Но моё старое политическое отношение рухнуло окончательно, мне необходимо подойти ко всему с совершенно новой — теперешней стороны знания… Какое отношение русская революция имеет к духовному перевороту человечества в эти годы? Как подойти к ней с эзотерической точки зрения?» Поэту кажется, что в нём «что-то растёт очень глубокое», что через несколько лет им с Маргаритой «надо будет ехать в Россию за чем-то очень важным». И это вскоре случится…
Ни символистская отвлечённость и запредельность духа, ни изыскания в области искусства и философии не отвратят Волошина от размышлений о «путях России», от желания причаститься этим путям:
Мысли поют: «Мы устали… мы стынем…»
Сплю. Но мой дух неспокоен во сне.
Дух мой несётся по снежным пустыням
В дальней и жуткой стране.
Дух мой с тобою в качаньи вагона.
Мысли поют и поют без конца.
Дух мой в России… Ведёт Антигона
Знойной пустыней слепца…
Так, живя в Париже, воспринимает он то, что происходит на родине. «В мире клубятся кровавые сны…» — замечает поэт уже в феврале 1906 года («Вослед»), Но ведь он — не Эдип, навечно отправившийся в изгнание. Он ещё вернётся и пройдёт «по дорогам распятой страны»…
Однако исторические коллизии пока что заслоняются романтическими событиями. Несмотря на зигзаги Маргаритиной души, всё идёт к тому, что молодые люди вступят в брак; Анна Минцлова, поговорив с родителями Амори, подготовила для этого почву. «Они ждут Вас, Вас обоих, — пишет она Волошину, — и ждут с открытой душой». Её же миссия на этом закончена. Макс заказывает сюртук к свадьбе, но не выпадает из творческого круга: вместе с известным меценатом Н. П. Рябушинским едет в Версаль к Бенуа, чтобы поговорить по поводу литературно-художественной выставки, связанной с журналом «Золотое руно», которая должна состояться весной в Париже, выступает на литературном вечере. Он, как всегда, преисполнен планов на будущее: сразу после венчания, внушает он Маргарите, надо вернуться в Париж — там он засядет за статьи о Салонах независимых, вместе они будут слушать лекции Штейнера, который как раз собирается в столицу Франции, ну а потом хорошо бы поехать через Грецию в Крым, месяца эдак на два-три. Увы, в жизни далеко не всё получается так, как задумано…
«Я выхожу замуж за Макса, — пишет Маргарита Сабашникова в книге „Зелёная змея“, — об этом нужно сказать родителям… Впечатляют меня слова Минцловой, она внушает мне, что Макс и я созданы друг для друга. Однако странно: я не чувствую себя счастливой. И всё же о своём решении сообщаю родителям с такой твёрдостью, что даже мама не противится. Конечно, помогла мне и Екатерина Алексеевна, она так любит Макса, так высоко ценит его. В письме отца я ощущаю любовь и доверие. Только три наши горничные — Маша, Поля и Акулина — настроены минорно. Мою помолвку они встречают горестными причитаниями. По их мнению, не такой жених нужен мне! Увы, Макс не отвечает их идеалу!»
Последние парижские визиты, встречи, приёмы. Абхазский князь, театральный художник Александр Константинович Шервашидзе-Чачба знакомит поэта с известным коллекционером, владельцем картин Врубеля, художником князем Сергеем Александровичем Щербатовым. Макс принимает также Бальмонта, Рябушинского, Амфитеатрова, заглядывает в ателье к Кругликовой, много времени проводит с приехавшей в Париж Еленой Оттобальдовной. Прощаясь со «столицей искусства» и предвидя радостные перемены в жизни, Волошин пишет стихи, соответствующие его нынешнему состоянию:
На старых каштанах сияют листы,
Как строй геральдических лилий.
Душа моя в узах своей немоты
Звенит от безвольных усилий.
Я болен весеннею смутной тоской
Несознанных миром рождений.
Овей моё сердце прозрачною мглой
Зелёных своих наваждений!
И манит, и плачет, и давит виски
Весеннею острою грустью…
Неси мои думы, как воды реки,
На волю к широкому устью!
12 марта поэт вместе с матерью выезжает из Парижа в Москву. Он едет в приподнятом состоянии духа, хотя на настроение, безусловно, влияют купленные накануне газеты с подробностями казни лейтенанта Шмидта и следствия по делу эсерки Спиридоновой. Да ещё по прибытии предстоит сделать отметку в Пречистенской полицейской части. (Перед выездом из Парижа Волошин писал Маргоре: «Как жутко будет вступить на русскую землю, переступить круг безумия».)
В среду, 12 апреля 1906 года, в церкви Святого Власия, что в Большом Власьевском переулке, состоялось венчание Максимилиана Александровича Кириенко-Волошина с Маргаритой Васильевной Сабашниковой. Она вспоминала в книге «Зелёная змея»: «Всё это время я находилась в каком-то странном состоянии… Я как будто отсутствовала и даже церковное венчание, которое в православной церкви так красиво, воспринимала как сон, нисколько меня не затрагивавший». Сон этот сменится в Петербурге другим, театрально-фантасмагорическим, в котором Маргоре предстоит сыграть не мелкую роль.
Ну а пока что молодожёны в компании друзей и родственников отбывают за границу. Они держат путь в Париж, куда в ближайшее время должен приехать Штейнер (как всегда — в сопровождении своей русской жены Марии фон Сиверс) читать лекции для русских слушателей. Заботу о подходящей квартире для «Учителя» должен взять на себя Макс. Молодые посещают Фонтенбло, загородную резиденцию французских королей. Маргарита пишет в парке этюды, Макс совершает продолжительные прогулки. Оба они наслаждаются весенней природой, вспоминая сосновые леса близ Цюриха, где им было так хорошо.
11 мая Р. Штейнер начинает читать курс лекций по оккультизму с рассказа об ордене розенкрейцеров. Дальнейшие темы — восточная и западная йога, Евангелие от Иоанна и Апокалипсис. Оценка Волошина будет традиционной: «Это поразительно интересно». После лекций собираются обсудить услышанное на квартире Волошиных в Пасси — пятый этаж, лифта нет, зато чудесный вид из окон: Сен-Клу, Медон… Правда, идиллии не возникает: приглашённые на вечер Мережковский, Гиппиус, Философов, Минский вознамерились показать немецкому гению, что они тоже не лыком шиты.
Послушаем ещё раз Маргариту: «Об этом вечере, который мог бы стать праздником, я вспоминаю с ужасом, так как Мережковский явился с целым грузом предубеждений против Рудольфа Штейнера. Зинаида Гиппиус, восседая на диване, надменно лорнировала Учителя как некий курьёзный предмет. Сам Мережковский, очень возбуждённый, устроил Штейнеру нечто вроде инквизиторского допроса. „Мы бедны, наги и жаждем! — восклицал он. — Мы томимся по истине“. Но при этом было ясно, что они вовсе не чувствуют себя такими бедняками, но, напротив, убеждены в том, что давно познали эту самую истину. „Откройте нам последнюю тайну!“ — кричал Мережковский, на что Штейнер парировал иронически: „Сначала откройте мне предпоследнюю!“ — „Можно ли спастись вне церкви?“ — слышала я крик Мережковского. В ответ Рудольф Штейнер указал на одного известного средневекового мистика, осуждённого церковью, как на пример человека, вне церкви нашедшего путь ко Христу».
Считая полемику бесполезной, Штейнер подошёл к хозяйке, не принимавшей участия в «разгоравшейся битве. Рассматривая прекрасную репродукцию роденовского „Кентавра“, он сказал, что в образе кентавра имагинативно представлена определённая ступень эволюции человека. Человек тогда ещё был связан с силами Земли и обладал инстинктивной мудростью. Потому-то кентаврам приписывалась мудрость врачевателей». Поэта Минского заинтересовала голова Таиах. Расхожие ассоциации вывели его через Египет на сфинкса, и он спросил, что означает улыбка этого существа. Штейнер ответил: «Сфинкс смотрит в далёкое будущее, когда трагедия будет побеждена».
Далее мы отправимся вместе с Волошиными в путешествие. Цель — Крым. Причём Макс, чтобы поправить здоровье Маргариты, решает устроить речной вояж: из Линца вниз по Дунаю до Констанцы. Сделали крюк и заехали в Бухарест на большую национальную выставку. С виртуозной румынской вышивкой и портретами королевы Кармен Сильвы, писавшей, кстати, стихи и пьесы на немецком языке. Посетили многочисленные кафе, отведали местного гуляша, который накладывали себе сами из кипящей кастрюли. По приезде в Констанцу выяснилось, что моряки русского Черноморского флота бастуют, так что на пароходы нечего было и рассчитывать. Половину ночи путешественники провели в душном кабачке, где «отдыхали» матросы взбунтовавшегося корабля. Лица этих людей, которым вскоре предстояло выйти на авансцену истории, показались Маргарите «жуткими». Медовый месяц, наступивший сразу после месяца «антропософского», явно осложнялся. В Бухаресте было истрачено слишком много денег, и возник вопрос: где и на какие средства ночевать? Макс, вспомнив свою «революционную» юность и пешие «прогулки» по Европе, сумел договориться с администрацией какой-то монастырской гостиницы для русских, где путешественники прожили бесплатно несколько дней, ожидая денежного перевода из Парижа.
Лето было в разгаре. Стояла страшная жара. Очисткой улиц в этой самой грязной части города занимались только собаки. У Волошина участились приступы астмы. Спать было невозможно, и ночи молодожёны проводили главным образом на крыше. Но там, впрочем, тоже не спалось. «В первую ночь — с пятницы на субботу — мусульмане распевали на улице. Во вторую ночь — с субботы на воскресенье — евреи учинили неописуемый галдёж. Но хуже всего были вопли христиан-левантийцев в третью ночь, с воскресенья на понедельник, — вспоминала Маргарита. — В четвёртую ночь мы, наконец, спали в роскошном отеле европейских дипломатов, но здесь нам пришлось прятаться от элегантной публики. Я носила тогда множество колец на пальцах, чёрную кружевную шаль и шляпку „либерти“ с зелёной шёлковой лентой, завязанной под подбородком. По-видимому, всё это произвело странное впечатление на служащего отеля: взяв наши паспорта, он спросил: „Месье — парижанин, а мадемуазель, верно, константинопольская?“»
Наконец, и сам Константинополь — с его фонтанами, мечетями и минаретами, разношёрстной публикой. Царственный город во всём его великолепии, которое молодая чета наблюдала на утренней заре с палубы отплывающего корабля. Однако следующую ночь пришлось провести в трюме, поскольку деньги опять заканчивались, и из экономии ехали в третьем классе. Море волновалось; лежащие рядом татары, турки и многодетные евреи страдали морской болезнью. Время от времени кто-то из них вставал и молился — каждый своему богу. Выйти на палубу и подышать свежим воздухом у Маргариты не получилось — новобрачную не пустил капитан, чем вызвал у аполитичной художницы зарождение социалистических мыслей: «Я видела наверху элегантную публику и впервые поняла чувства людей, обречённых навсегда оставаться в трюме „корабля жизни“».
В самом начале июля путешественники достигли Коктебеля. Маргарита любуется пейзажем: стрельчатые скалы, выступающие прямо из воды и напоминающие формой готические соборы, растрескавшаяся сухая почва с кустиками терновника и чертополоха, клубящиеся облака и бесконечная даль синего, окаймлённого белой пеной моря. Она встречает здесь не так много народу: Яша Глотов, Манасеины, П. П. Теш, похожая на негритёнка поэтесса Поликсена Соловьёва, сестра знаменитого философа. Ну и конечно — Елена Оттобальдовна. Вот как характеризует её невестка: «Моя свекровь была большая оригиналка. Внешность — как у „Гёте в Италии“ на картине Тишбейна. Высокие сапоги и широкие штаны она носила не только в деревне, но и в городе. Оригинальностью, думается мне, она возмещала недостаточную уверенность в себе. Она была очень красива и вместе с тем очень застенчива». Оригинальны были и её отношения с сыном: с одной стороны, «она его страстно любила, а с другой — что-то в его существе её сильно раздражало, так что жить с ней Максу было очень тяжело. Ко мне она питала искреннюю симпатию, устоявшую против всех испытаний».
Новоиспечённый муж в Коктебеле преобразился в ассирийского жреца: «он носил длинную, ниже колен рубаху, а на своей Зевсовой гриве — венок из полыни». Почтенная феодосийская публика, приезжавшая сюда на охоту за камешками, явно не одобряла экстравагантного вида матери и сына. Молодые супруги побывали и в Феодосии, которая запомнилась Маргоре как «красивый, старый город с культурными и художественными традициями». Большое впечатление произвёл на художницу её коллега — К. Ф. Богаевский, «тихий, серьёзный человек большой душевной чистоты. Его неутомимые поиски души ландшафтов вокруг Феодосии стали для него крестным путём. Его живопись была космична и сакральна. Его краски звенели, как голоса различных металлов, и, когда они сияли вам навстречу, вы могли поверить, что художник каждое утро на восходе солнца просыпается, пробуждаемый звуками труб». Конечно же посетили и А. М. Петрову, человека, который «с таким горячим сердечным участием следил… за всем существенным, что происходило в культурной жизни».
Быстро был прожит кусочек коктебельского лета; 2 сентября Волошины отбывают в Москву, чтобы затем перебраться в Мюнхен — поближе к Рудольфу Штейнеру. Вышло, однако, не так, как планировалось. В Москве Волошин обегал редакции газет и журналов. Побывал в «Золотом руне» и у «Скорпионов». В редакции «Весов» Брюсов надписал ему свою книгу переводов из Верхарна, чем явно растрогал чувствительного коктебельца. Поэт познакомился с Богдановщиной (имение Сабашниковых между Вязьмой и Смоленском), откуда их с молодой женой «прогнали холод, дождь, ветер и снег», хотя на дворе стояло всего лишь 19 сентября. А дальше на повестке дня был Петербург… Кто-то сказал Максу, что там его статьи читаются «нарасхват», и окрылённый поэт спешит в Северную столицу «искать работы». Он посещает издателей Сувориных, редакции газет «Русь» и «Страна», встречается с Косоротовым, вместе с которым направляется вечером в «Башню» к Вячеславу Иванову. И вот с этого-то момента Петербург буквально «засосал», вобрал в себя Волошина, пленил и не отпустил.
В тот же вечер Макс знакомится с поэтами Сергеем Городецким, Михаилом Кузминым, Борисом Леманом, здесь же оказывается и художник Константин Сомов. Вячеслав Иванов дарит Волошину оттиск статьи «Кризис индивидуализма», не так давно опубликованной в журнале «Вопросы жизни», начинаются разговоры о Штейнере и антропософии, чтение стихов и… клетка захлопнулась. От Иванова Макс возвратился только в пять утра. Маргарите Васильевне в Москву полетела депеша: встречи, интересные книги, восторг; самое сильное впечатление — от стихов Городецкого и Кузмина; о Вячеславе Иванове и говорить нечего; «я так почувствовал затхлость Москвы и московских поэтов». Вывод один: надо жить и творить только в Петербурге. Ближе к ночи — опять к Иванову, где разговоры «обо всём самом важном: об индивидуализме, об оккультизме, о Дионисе, об Иуде, о пророчественности, о молодой поэзии». В «Башне» появились Александр Блок, Иван Бунин, Алексей Ремизов… (Маргарита впоследствии напишет: в Петербурге произошло сближение Макса «с кругом поэтов, художников, философов, чей духовный уровень казался ему равным уровню аристократической интеллигенции древней Александрии».) Спускаясь от Иванова, Макс заглядывает в художественную школу Елизаветы Званцевой, расположенную на пятом этаже, и договаривается о найме трёх комнат (потом выяснится, что Званцева оставила две комнаты вместо трёх), с обедом за 75 рублей в месяц. Клетка для Маргариты готова… Остаётся только привезти её саму из Москвы.
Пролог дионисийской трагедии (или лучше — сатировской драмы?) пришёлся на 10 октября 1906 года. Место действия — «Башня» Вячеслава Иванова, улица Таврическая, 25 (на пересечении с Тверской). Внизу — живописный парк, где то кипит, то замирает жизнь обыкновенных людей. А наверху — «игры гениев», петербургских «александрийцев»: напевные стихи, мистические спектакли, загадочные ритуалы в постановке самого хозяина — «Солнечного эллиниста».
О Вячеславе Иванове Маргарита была не просто наслышана: «Его стихи уже давно виделись мне духовной родиной! Почти все я знала на память. Как часто их воспринимали с трудом или отвергали! Непривычность античной ритмики, архаизированное религиозное и в то же время философское содержание… С каким восхищением читала я его книгу „Религия страдающего бога“, где он — учёный, религиозный философ, поэт — анализировал особенности дионисийского культа в Древней Греции… Мировоззрение Вячеслава Иванова объединяло античную одухотворённость реальной действительности с возвышенной духовностью христианства. Я считала его даже выше Ницше, хотя „Рождение трагедии из духа музыки“ оказало на меня чрезвычайно сильное влияние».
Ветреный осенний день. Морская позёмка вьётся над холодеющей Невой… Отвлечёмся немного от хрестоматийной летописи событий и слегка пофантазируем… Представим вполне возможную сцену: Вячеслав Иванов встречает прибывших из Москвы гостей. Рядом с ним его жена, Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал с резкими, властными чертами лица.
— Дорогой Макс, прошу! Весьма рад встрече! Милости просим, Маргарита Васильевна! Ваши комнаты уже готовы. Они — этажом ниже.
— Входите, милая, — это уже слова Лидии. — Знаете, вы чем-то напоминаете боттичеллиевских героинь. Сегодня я буду называть вас Примаверой.
— Лидию очень утомляет повседневность. Когда ей особенно грустно, она ощущает себя платоновской Диотимой. Впрочем, — обращаясь к Максу, — она действительно была когда-то Диотимой.
Макс понимающе кивает. Лидия ведёт Маргариту к себе.
— Пойдёмте. И не удивляйтесь нашим манерам. Вячеслав и я — мы оба любим видеть сны в лицах людей.
Маргарита идёт за хозяйкой. Жену Вячеслава Иванова ей описывали как «мощную женщину с громовым голосом, такая любого Диониса швырнёт себе под ноги». И что же?
«Лицом она походила на Сивиллу Микеланджело — львиная посадка головы, стройная сильная шея, решимость взгляда; маленькие аккуратные уши парадоксально усиливали это впечатление львиного облика… странно розовый отлив белокурых волос, яркие белки серых глаз на фоне смуглой кожи. Она была одним из потомков знаменитого абиссинца Ганнибала, пушкинского „арапа Петра Великого“. Одеждой Лидии служила античная туника, красивые руки задрапированы покрывалом. Смелость сочетания красок в тот вечер — белое и оранжевое…»
Апартаменты Волошиных оказались не слишком шикарными: две крошечные комнатки; у Маргариты — узкий пенал, куда вмешались лишь кушетка и обеденный столик; у Макса — «каюта» с диваном и широким подоконником вместо письменного стола. В огромных окнах — серое петербургское небо. Но что значат теснота и осенняя непогода, если буквально у тебя над головой — «божественное пиршество ума и таланта». Появились и первые визитёры: поэт Борис Леман, пишущий под псевдонимом Дикс, и его кузина, переводчица Ольга Анненкова. Борис весь смуглооливковый, с гортанным голосом — смесь Древнего Египта с модернизмом Серебряного века; он числился в каком-то министерстве, увлекался антропософией. Ольга походила одновременно на мальчика-подростка и нахохлившуюся птичку. Оба любили блуждать в четвёртом измерении, оба почитатели поэзии Макса (ведь это Леман в 1909 году назовёт Волошина «единственным русским поэтом, сумевшим понять и передать нам сложное очарование готики и воплотить в русском стихе опьянение мистикой католицизма…»), оба, дуэтом, начинают декламировать что-то тягуче-торжественное из волошинских стихов, выходит какая-то заупокойная молитва, вызвавшая общий смех.
На следующий день — Театр-студия Комиссаржевской… Артисты репетируют сцену из драмы Вячеслава Иванова «Тантал». Античные хитоны. Выспренные позы. Пластические приёмы. Актёры демонстрируют образцы новой театральной стилистики. Пантомима. Туники. Трико… Вдохновенное лицо Вячеслава. Рядом с ним — сама Вера Фёдоровна Комиссаржевская. Кажется, оба довольны тем, как прошла репетиция. Взаимные комплименты, рукопожатия. Неожиданный поворот головы. Вячеслав пристально смотрит на Маргариту…
В одну из ближайших ночей ей снится сон. Пригнувшись, через узкую дверь входит «злой жрец», удивительно напоминающий Вячеслава Иванова. Где-то вдалеке маячит помертвевшее лицо Макса. Жрец приближается к постели Маргариты. В его руке что-то поблёскивает…
Что это — предостережение, судьба?.. Новое, грозное чувство?.. Вячеслав Иванов, мужчина сорока двух лет; есть ли в нём что-то особенное, заставляющее подчиняться? Казалось бы, ничего демонического: «стройная высокорослость, волосы, лёгкие и светло-рыжие, обрамляют красивый лоб… Остроконечная бородка, тёплые тона почти прозрачного лица, небольшие серые глаза хищной птицы. Его улыбка показалась мне слишком тонкой, а высокий — чуть в нос — голос — слишком женственным, — пишет М. Сабашникова. — Всякий выговариваемый слог сопровождался вздохом, и от этого речь звучала странно торжественно.
Скорей, скорей бы проснуться, уйти от этого сна, узнать истинного Вячеслава Иванова, того, из стихов! Но, увы, то был не сон!..»
Между тем происходили интересные встречи, завязывались новые знакомства. Маргарите запомнился визит к Ремизовым. Алексей Михайлович к тому времени уже вошёл в моду, выработал свой стиль. «Впервые в русской литературе, — пишет Маргарита Васильевна, — в его полуязыческих — полухристианских апокрифах явились многочисленные стихийные духи, коими так богат русский фольклор. В то время я тоже искала свой национальный русский стиль, и произведения Ремизова стали для меня откровением». А чего стоила внешность этого необыкновенного человека?.. «Зябкие плечи — голова между ними словно птенец из гнезда — вязаного дырявого платка. Близорукие глаза испуганно распахнуты. Добродушно-смешливая улыбка. На лице выдаётся шишковатый нос Сократа, а лоб как у китайских философов; волосы торчали, словно пучки на горах… Однажды я спросила Ремизова, как могла выглядеть Кикимора, — он ответил поучающе: „В точности как я…“» А ведь писателю тогда не было ещё и тридцати. Очень шло хозяину его жилище, насыщенное «драгоценностями». В основном «это были причудливые фигурки из древесных корешков и сучков, созданные природой или сделанные специально, они висели над письменным столом хозяина. Видимо, они стимулировали его вдохновение. Показывал он их очень серьёзно, для каждого находя имя, измышляя характер и повадки…»
Запомнился Сабашниковой и Михаил Кузмин, также блиставший в ту петербургскую зиму 1906/07 года. Маргарита восхищалась его «Александрийскими песнями». Во внешнем облике поэта привлекало сочетание маленького хрупкого тела с выразительной лепкой головы. «Чёрные миндалевидные глаза; аскетическая тёмная бородка — это уже облик русской иконописи. Но он вовсе не святой и не хочет казаться таковым. Наоборот, с удивительной откровенностью… он читает друзьям свои дневники, ничего не убирая, не стремясь изобразить иначе, чем было в жизни». Кузмин имел обыкновение «петь» свои «утончённые стихи», аккомпанируя себе на рояле. Маргарите нравилось «перемещение» в этой личности русского православия, александрийской Греции и фривольного французского XVIII века. Яркое впечатление оставил Александр Блок, в котором было что-то от рыцаря-поэта Средневековья, который по ошибке открыл дверь в другое столетие. Макс и Маргарита присутствовали на чтении его драмы «Король на площади». Среди петербургских знакомых поэт и прозаик Фёдор Сологуб, читавший у себя на квартире трагедию «Дар мудрых пчёл», Георгий Чулков, недавно выдвинувший теорию «мистического анархизма», художник из «Мира искусства» Мстислав Добужинский, проживавший на Невском проспекте, — да разве всех перечислишь?..
И всё-таки главной фигурой этого фантастического мира был Вячеслав Иванов… Поэт-философ действовал на окружающих гипнотически. Он царил на заседаниях «Башни», проходивших на шестом этаже, в полукруглом помещении, при свечах. Вообще, стены во всём здании были округлые или скошенные. Комната, в которой обитал Вячеслав Иванов, была узкая, огненно-красная, напоминающая жерло раскалённой печи. Маргарита сразу же почувствовала себя «зайчонком в львином логове». Хозяин «Башни» не только подавлял своей эрудицией, но и заражал вдохновением: «Одному подскажет тему, другого похвалит… в каждом пробуждает дремлющие силы, ведёт за собой, как Дионис своих жрецов». Приходили в его «огненную пещеру» с исповедями, обращались за советами. Визитеры появлялись, как правило, вечерами или по ночам, ибо поэт вставал и начинал свой день только в два часа пополудни.
Маргарита Васильевна, по её собственным словам, оказалась беззащитной «перед хаотическим миром собственных чувств». Характерные черты её натуры — безбытность и тоска по прекрасному — не могли служить опорой. Попав в сети «Солнечного эллиниста», она попросту запуталась. Да и как тут было сохранить здравый рассудок, если даже вращающиеся в атмосфере «Башни» экстравагантные дамы всерьёз предлагали её хозяину уехать куда-то на остров и помочь им «родить сверхчеловека». «Томление, отчаяние — это было характерно для нашего времени, — вспоминает Маргарита Сабашникова. — Люди мечтали о несбыточном. Люцифер завлекал их в сети Эроса. Жизнь была пронизана драматизмом. Особенно жизнь художников. Дружеские супружеские пары встречались редко, их даже несколько презирали…» Жизнь удивительным образом напоминала романы, а романы непосредственно воспроизводили жизнь, которая поставляла беллетристу десятки, сотни «откровенных» сюжетов.
Эротическую атмосферу начала века в её литературном преломлении подробно анализирует в своей статье «Мы — два грозой зажжённые ствола: Эротика в русской поэзии — от символистов до обэриутов» (Литературное обозрение, 1991, № 11) современный литературовед Н. А. Богомолов: «Конечно, эротическое приобретало разные облики у разных писателей, так или иначе к символизму близких. Тут был и ужас ремизовских героев перед отвратительностью плотской любви, и расчисленное претворение в отвлечённые литературные схемы столь интриговавшего современников тройственного союза Мережковских и Философова, и довольно примитивное эстетизирование красоты у Сологуба (линия Людмилы и Саши Пыльникова в „Мелком бесе“, Елизаветы в „Творимой легенде“), неразрывно сплетённое с дьявольским эротизмом, как в откровенном стихотворении 1906 года»:
Не отражаясь в зеркалах,
Я проходил по шумным залам.
Мой враг с угрюмостью в очах
Стоял за белым пьедесталом.
………………………………………………
Среди прелестных, стройных ног,
Раздвинув белоснежный камень,
Торчал его лохматый рог,
И взор пылал, как адский пламень.
В этой же связи нельзя не вспомнить и скандально-скабрёзную поэзию А. Тинякова, и бульварную повесть М. Кузмина «Крылья» (1905), и, наконец, положение Вячеслава Иванова о том, что, в сущности, вся человеческая деятельность сводится к Эросу, что эротика заменяет и этику, и эстетику, что всякое дерзновение, рождённое Эросом, свято…
Можно вспомнить и мастерскую художника Константина Сомова, которую нередко посещал его интимный друг поэт Михаил Кузмин. Вот как описала его Ирина Одоевцева (правда, уже в 1920 году) в книге «На берегах Невы»: «Принц эстетов, законодатель мод… В помятой, закапанной визитке, в каком-то бархатном, гоголевском жилете „в глазки и лапки“… Да, глаза действительно сверхъестественно велики. Как два провала, две бездны, но никак не два окна, распахнутые в рай. Как осенние озёра. Пожалуй, не как озёра, а как пруды, в которых водятся лягушки, тритоны и змеи. Таких глаз я действительно никогда не видела. И веки совсем особенные. Похожие на шторы, спускающиеся над окнами… Стёкла пенсне Кузмина, нетвёрдо сидящие на его носике и поблёскивающие при каждом движении головы. Может быть, беспрерывное поблёскивание стёкол и придаёт такую странность его глазам?
И вдруг я замечаю, что его глаза обведены широкими, как тушь, кругами, и губы густо, кроваво-красно накрашены. Мне становится не по себе. Нет, не фавн, а вурдалак: „На могиле кости гложет красногубый вурдалак…“ Я отворачиваюсь, чтобы не видеть его».
Ну а тогда, за четырнадцать лет до этого, другая женщина, Маргарита Сабашникова, с интересом наблюдала за Кузминым, слушая, как он читает свои «откровенные» стихи, перемежая их фрагментами столь же «откровенной» прозы. Возможно, это происходило так:
— Является Пазифая, слепая от страсти к быку, ужасная и пророческая: «Я не вижу ни пестроты нестройной жизни, ни стройности вешних сновидений». Все в ужасе. И тут падает Икар. Падает Фаэтон. Общее смятение. Огромные огненные цветы зацветают; птицы и животные ходят попарно…
Здесь же мы можем представить себе и композитора Владимира Ивановича Ребикова. Фигура и лицо опустившегося франта. Длинный лысый череп. Прядь волос зачёсана с затылка на лоб, так что остриём разделяет его посередине. Скошенный «вырождающийся» подбородок. Пенсне. Претензия на галантность. Он, как и Волошин, имеет отношение к Крыму — в Феодосии у него дача. Однако композитор и пианист не чужд символистским кругам, бывает в Петербурге. Поэтому вполне допустимо, что и в Северной столице музыкальный сноб произносит свои эпатажные монологи, которые Волошин, судя по дневниковым записям, услышит позднее, в Феодосии. Ребиков — Маргарите:
— Очень рад, давно хотел познакомиться. Я проповедую Орфизм в музыке. Так, чтобы и камни слушали. О да, Орфизм есть у всех… ведь все мы гении!
Маргарита — полуиронически:
— С недавнего времени я это тоже почувствовала.
Слышится голос Кузмина:
— В трепещущем розовом тумане виднеются сорок восемь образцов человеческих соединений…
Кто-то из гостей:
— Михаил Алексеевич, вы — русский Бальзак!
Макс, который, естественно, тоже здесь, морщится и забивается в тёмный угол комнаты. Звучат фразы:
— Кузмин — это маркиз, пришедший к нам из дали веков.
— Он выстрадал свою философию.
Кто-то обращается к Кузмину за советом:
— Те стихи, что я вам приносил… Как вы думаете, включать мне их в книгу?
— Почему же не включать? Зачем же тогда писали? Если сочинили — так и включайте.
Кто-то рядом сплетничает:
— А вы знаете, что Кузмина учил писать стихи Брюсов? Кузмину уже лет тридцать было…
— Да что вы?..
— Кузмин ему так и сказал: «Помилуйте, Валерий Яковлевич, как же сочинять? Я не умею. Мне рифм не подобрать…»
— Зато теперь-то уж…
Смеются. А Кузмин, словно что-то доказывая, читает:
…Коралловый дрожит бугор,
Как ноздри скакуна степного,
И мой неутолённый взор
Не ищет зрелища другого.
Сквозь бормотание Ребикова слышится:
О свет зари! О розы дух!
Звезда вечерних вожделений!
Как нежен юношеский пух
Там, на истоке разделений!..
Обстановка располагает к подобного рода выступлениям: голубые обои, старинная, красного дерева мебель, хрустальная люстра в стиле бидермейер. На комоде — фарфоровый Дионис, белый, с гроздью синего винограда, окружённый яркой зелёной листвой…
Маргарита прислушивается к чтению Кузмина, а подвыпивший Ребиков возбужденно разглагольствует:
— Художник не должен жиреть. Надо быть несчастным. Влюбляться, но только без успеха. Если бы я был красивой женщиной, я бы в себя влюблял всех гениальных художников, а потом предлагал бы им револьвер: вот, пожалуйста, стреляйся, милый друг. Только в ногу. Впрочем, куда хочешь, только не в голову и не так, чтобы умереть.
Маргарите вспоминается писательница Нина Петровская, не очень красивая и очень несчастная женщина, которую Андрей Белый в своё время «очищал» и спасал от «испепеляющей роковой страсти» Бальмонта. Примешался сюда и третий, Валерий Брюсов, который, кажется, сам влюбился в Нину и предложил ей с помощью чёрной магии овладеть душой Белого. Потом вывел её в качестве героини одного из своих романов. Были переплетения страстей и даже, кстати, револьверный выстрел.
Тогда, в 1905 году, об этой истории в Москве немало говорили. Но именно сейчас она вдруг представилась Маргарите предметно, как на сцене…
Литературный вечер в Политехническом музее. В глубине сцены сидят Бальмонт, Белый и другие поэты. Только что закончил своё выступление Брюсов. К нему обращается кто-то из слушателей:
— Валерий Яковлевич, можно ли говорить о реальном прототипе вашего будущего романа?
— Видите ли, господа…
Брюсов замялся и взглянул на Андрея Белого, который явно смущен. В зале:
— Не хочет назвать Нину Петровскую…
— Да, попортил ей крови «Великий Маг»!
— Я слышал, что и Белый… Андрей Белый тоже руку приложил.
— Не только руку…
В проходе появляется молодая женщина с узким лицом. Руки почему-то в муфте. Она стремительно приближается к сцене. В зале — шёпот:
— Смотрите — Нина Петровская…
Публика оторопело наблюдает, как из муфты появляется маленький браунинг, дуло которого направлено в сторону сцены. Словно повинуясь какой-то силе, Андрей Белый подаётся на авансцену. Рука с браунингом протянута к его груди. Белый стоит на эстраде, картинно разведя руки… Сейчас раздастся выстрел… Но Нина Петровская переводит дуло на Брюсова. Общее замешательство. Тело Брюсова вытянуто в прыжке. Кто-то успевает схватить Нину за руку. Звучит выстрел. Пуля врезается в потолок… Брюсов отнимает браунинг… Расширенные, безумные глаза Нины. Она шепчет:
— И всё-таки я его убила… Его… и себя.
На сцене по-прежнему стоит Андрей Белый. На губах застыла страшная улыбка-оскал…
«Тройственный союз»… Андрей Белый — Нина Петровская — Валерий Брюсов… Александр Блок — Любовь Менделеева — Андрей Белый… Эротическое жизнетворчество, характерное для поэтической атмосферы начала XX века! Сама страсть понималась символистами как некая тайна, загадка, корни которой, писал Брюсов, «за миром людей, вне земного, нашего. Когда страсть владеет нами, мы близко от тех вечных граней, которыми обойдена наша „голубая тюрьма“, наша сферическая, плывущая во времена вселенная. Страсть — та точка, где земной мир прикасается к иным бытиям, всегда закрытая, но дверь в них». Отсюда — причудливые переплетения отношений, судеб, странные любовные союзы. Ведь страсть «не знает своего родословия, у неё нет подобных… Ценность страсти зависит не от нас, и мы ничего не можем изменить в ней. Страсть выше нас потому же, почему небо выше земли, которая в нём».
Отсюда же, по словам Владислава Ходасевича, «лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все „переживания“ почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны… Глубочайшая опустошённость оказывалась следствием этого эмоционального скопидомства. Скупые рыцари символизма умирали от духовного голода — на мешках накопленных „переживаний“… непрестанное стремление перестраивать мысль, жизнь, отношения, самый даже обиход свой по императиву очередного „переживания“ влекло символистов к непрестанному актёрству перед самими собой — к разыгрыванию собственной жизни как бы на театре жгучих импровизаций… Достаточно было быть влюблённым — и человек становился обеспечен всеми предметами первой лирической необходимости: Страстью, Отчаянием, Ликованием, Безумием, Пороком, Грехом, Ненавистью и т. д.».
Но и не только в символизме тут дело. Дело — в самой эпохе, болезненно-прекрасной, блестяще-трагической, объединившей театр и жизнь, восход и закат, любовь и смерть. Любовные романы, достигшие своей драматической полноты, нередко завершались депрессией или самоубийством. Да что далеко ходить за примером — в середине ноября 1906 года из Москвы приходит известие о смерти Михаила Свободина, застрелившегося ночью у дверей квартиры артистки Зимино-Петровской. Пройдёт время, и Анна Ахматова оплачет в «Поэме без героя» двадцатидвухлетнего Всеволода Князева, гусарского офицера «со стихами / И с бессмысленной смертью в груди», пустившего в себя пулю из-за безнадежной любви к актрисе и танцовщице Ольге Глебовой-Судейкиной.
Вернёмся, однако, к Максу и Маргарите, которые после очередного литературного раута возвращаются домой. Чувствуется, что Маргорю захватила эта декадентски-эротическая атмосфера…
— Ах, Макс, Макс, это какое-то чудо. У меня кружится голова. Какие всё-таки утончённые люди. Рядом с ними мы выглядим какими-то варварами.
— Извини, Аморя, но я так не считаю. Скорее варварами можно назвать тех, кто, живя сегодня, ощущает себя в древней Александрии. Меня же, знаешь ли, больше привлекает будущее.
— Тебя, Макс? То-то я заметила, что твоя любимая ночная прогулка в Париже — на Иль де Жюиф, где ты слушаешь голоса казнённых тамплиеров. Да и насчёт «александрийцев» ты раньше говорил иначе. Ты — лгун, Макс.
— Я лгун, Аморя. — Обнимает её. — Я — поэт.
— Почему ты не поднимаешься?
— Я ещё постою здесь. Подышу воздухом. — Виновато улыбается. — Моя астма совершенно не переносит узких комнат.
Поднявшись по лестнице и оказавшись в своей комнате-пенале, Маргарита подходит к окну. Уже совсем темно. Внизу, в парке шумят деревья. Раздаётся стук в дверь. Входит Вячеслав Иванов.
— Вы одна? Где Макс?
— Он остался подышать воздухом.
— Вы, наверное, удивлены? Мне почему-то захотелось вас увидеть. Безумно захотелось.
— Но… Вячеслав… — заполняя время, Маргарита подбирает слова, — я прочла вашу книгу. Она прекрасна… Сновидческая, космическая жизнь деревьев… Я как бы вошла в неё…
Иванов завладевает её руками:
— Встреча с вами — награда за мои ошибки, блуждания. Вознаграждение за боль.
— Вячеслав, что вы говорите?
— Мои стихи… Они так серьёзны… Трудны для понимания… Я поражён и благодарен (целует её руки).
— Вячеслав, перестаньте! Вам лучше уйти.
Замешательство длится целую вечность. Маргарита одна.
Что же это. Неужели здесь был Вячеслав Иванов?! Но сейчас на том же месте стоит Макс.
— К нам заходил Вячеслав?
— Да. Ты знаешь, Макс… Между мной и Вячеславом что-то происходит. Рождается какая-то близость. Что ты об этом думаешь?
— Ничего. Я рад этому. Спокойной ночи.
Да, так оно и было, судя по сохранившимся воспоминаниям Маргариты Сабашниковой. Примерно так. Вячеслав Иванов вёл свою игру. И не первую в этом роде. По свидетельству Кузмина, Иванов к ноябрю 1906 года «поставил крест на романе с Городецким», который ещё с июля был избран им и Лидией для «духовно-душевно-телесного» союза, символизировавшего зарождение некоего «хорового» сообщества людей. (Хитрый Городецкий, несомненно, преследовал здесь свои цели, рассчитывая на литературное покровительство Вячеслава Иванова, и, видимо, получив то, что хотел, ретировался.)
Мэтр петербургского дионисийства, вспоминает Маргарита Васильевна, «всё резче критиковал Макса. Зачастую я была вынуждена соглашаться, действительно, Макс чрезмерно увлекался парадоксальной игрой мысли. Но душа ныла. Когда я пыталась защищать Макса, Вячеслав утверждал, что Макс и я — существа разной духовной природы, что брак между нами, „иноверцами“, недействителен. (Не этим ли обстоятельством будет вызвана строка: „Не бойся врага в иноверце…“ в одном из стихотворений Волошина 1914 года?.. — С. П.) В глубине души у меня самой назревало такое чувство, Вячеслав лишь облекал его в слова…» Назревал очередной «тройственный союз» (Вячеслав, его жена Лидия и Маргарита), в котором обыденное переплеталось с мифом и ритуалом. Максу Волошину в этой «мистерии» места не было…
Что греха таить, Волошин действительно многим казался в этой «башенной» компании чужеродным телом или, по меньшей мере, забавным существом. Вот, например, фрагмент из дневника литератора Р. М. Гольдовской (урожд. Хин, которой Макс в 1913 году посвятит столь популярное впоследствии стихотворение: «Я мысленно вхожу в ваш кабинет…»): «Макс Волошин — даровитый человек, у него есть несколько действительно прелестных стихотворений, он обладает способностью к живописи, недурно образован, деликатен и воспитан… Но Бальмонт сделал из него раба всей декадентской компании… Грустно смотреть… как толстый, курчавый и бородатый Макс… заунывным аффектированным голосом тянет из себя перлы декадентской поэзии… или шепчет в экстазе, что у гениального поэта Ремизова… жена — колдунья… „и её зовут Довгелло!!“ Жена его — Марголенька — художница. Она худа, как щепка, белокура… бескровна…» (Сравним с характеристикой, выданной Маргарите Лидией: «…художница, талантливая портретистка… странное, поэтическое, таинственное существо, пленительной наружности».) Да и сама «Марголенька», вспоминая о выступлениях на «Башне» Ремизова, Городецкого, Кузмина и, понятно, Вячеслава Иванова с его «Вызыванием Вакха», не без осуждения констатирует: «Рядом со всем этим разнообразием стихи Макса воспринимались слишком сделанными, в них ощущалось мало лиризма, они были риторичны, сказывалось французское влияние».
Очередная «среда» у Вячеслава Иванова. Разговор идёт об Эросе. Выступает философ Николай Бердяев: «…пол свидетельствует о падшестве человека. В поле человек чувствует что-то стыдное и унижающее человеческое достоинство… В самом сексуальном акте есть что-то уродливое. Леонардо да Винчи говорит, что половой орган так уродлив, что род человеческий прекратился бы, если бы люди не впадали в состояние одержимости… Сексуальное увлечение само по себе не утверждает личности, а раздавливает её… Настоящая любовь — редкий цветок. Меня всегда пленяла жертва любовью во имя свободы, как, впрочем, пленяла и свобода самой любви. В дионисической стихии любви есть правда возвышения над властью закона…»
Повисает пауза. А Бердяев делает неожиданный разворот:
— Но, с другой стороны, мне всегда были противны люди, находящиеся в безраздельной власти любви… Любовь, которую подавили во имя свободы или жалости, приобретает особый смысл…
Протискиваясь меж рядами слушающих, Макс ищет Маргариту. До него долетают лишь обрывки речи. Выступление Бердяева подходит к концу. Начинается бурное обсуждение. В жарких спорах сквозит холодная ожесточённость. Контрапунктом к этому гаму представляются сейчас стихи Блока:
Твой голос слышен сквозь метели,
И звёзды сыплют снежный прах.
Ладьи ночные пролетели,
Ныряя в ледяных струях.
И нет моей завидней доли —
В снегах забвенья догореть,
И на прибрежном снежном поле
Под звонкой вьюгой умереть…
«Профиль средневекового рыцаря, мраморный лик, светлые глаза устремлены вдаль и, словно бы издали, — звучит голос». Рыцарь, заблудившийся «в нашей эпохе, где невозможно встретить божественный женский образ…» — таким, в частности, запомнился он Маргарите, «…лицо Александра Блока выделяется своим ясным и холодным спокойствием, как мраморная греческая маска. Академически нарисованное, безукоризненное в пропорциях, с тонко очерченным лбом, с безукоризненными дугами бровей, с короткими вьющимися волосами, с влажным изгибом уст, оно напоминает строгую голову Праксителева Гермеса, в которую вправлены бледные глаза из прозрачно тусклого камня. Мраморным холодом веет от этого лица» — таким запечатлеет портрет Блока Волошин.
Кажется, что в помещение проникает снег, словно бы вызванный стихами из «Снежной маски». Волошин, наконец, увидел Маргорю. Он идёт к ней, но между ними — люди, люди, люди, читающие стихи, спорящие, рисующие. Нервное подёргивание лица Бердяева. Снег усиливается. Макс лавирует, скользит по льду, пытается обойти толпу, но всякий раз натыкается на демонического, зловеще улыбающегося Вячеслава. Да позвольте, не сон ли это?.. Впрочем, сейчас уже не отличишь фантасмагорию от яви… Маргарита идёт к выходу. Её останавливает Вячеслав Иванов:
— Пожалуйста, прошу, не оставляйте меня! (Маргарита пытается вырваться.) Сегодня утром я спросил Макса, как он относится к растущей между мной и тобой близости. Он ответил, что это глубоко радует его.
Маргарита, задумчиво:
— То же самое Макс говорил и мне…
— Маргарита, пойми: Макс и ты — вы существа разной духовной природы…
Маргарита вырывает руку. Уходит. Но не тут-то было: у себя в «тоннеле» Маргоря застаёт Лидию:
— Лидия, ты?
— Я знаю: Вячеслав говорил с тобой!..
— Да, но я, право…
— Сядь. Ты вошла в нашу жизнь, ты принадлежишь нам. Если ты уйдёшь, останется мёртвое…
— Я не понимаю… Ты хочешь сказать, что я, что Вячеслав…
— Мы оба не можем без тебя!..
На другой день в гостиной Ивановых разговор продолжается уже в присутствии Вячеслава, который подводит под него теоретическую базу. Обращаясь к Маргарите:
— Ты должна понять и допустить. Двое, слитые воедино, в состоянии любить третьего. Подобная любовь — начало новой церкви, где Эрос воплощается в плоть и кровь.
— Странно. Пусть так, но вы сказали: двое полюбят третьего. Итого трое: вы и я. А как же Макс?
— Нет, только не он.
— Но я не могу оставить его.
— Ты должна выбрать, — это уже подключилась Лидия. — Ты любишь Вячеслава.
— Люблю? Я люблю. Но я не могу исключить из этой любви Макса.
Между тем мистерия соборного Эроса распространялась за пределы общения двух пар. Л. Д. Зиновьева-Аннибал посылает А. Р. Минцловой довольно-таки откровенное письмо, в котором говорит о своём намерении «изжить до последнего конца любовь двоих» и распахнуть «двери нашего Эроса прямо к Богу». И далее: «Это прямой путь, жертва на алтарь, где двое в совершенном слиянии переступают непосредственно грань отъединения и взвивается дым прямо в Небеса… Это впервые осуществилось только теперь, в январе этого года, когда Вячеслав и Маргарита полюбили друг друга большою настоящею любовью. И я полюбила Маргариту большою и настоящею любовью, потому что из большой, последней её глубины проник в меня её истинный свет. Более истинного и более настоящего в духе брака тройственного я не могу себе представить, потому что последний наш свет и последняя наша воля тождественны и едины…»
И всё же подобная любовь изначально воспринималась как благодать и проклятие, дерзновение и возмездие: «…Маргарита мнит себя гвоздём в распятии Вячеслава и проклятой, т. к. свет, который в ней, погашается и становится теплотою в нём… купель ли это крещения для Вячеслава или двери погибели?» Не случайно именно А. Р. Минцлова будет иметь с Максом, по приезде его в Москву в конце февраля, очень серьёзный разговор на эту тему. Анна Рудольфовна очень мудро подметит, что Маргарита — одна «из тех, которые должны жить в атмосфере страсти… привлекают, но сами ничего не дают и не отпускают». Что же делать? Понять, что «нельзя жить на середине», выбрать свой собственный путь, желательно ведущий подальше от этого «треугольника».
Понятно, что «добрый, трогательно заботливый Макс» был далёк от всей этой эротико-демонологической философии и практики, хотя и принял участие в диспуте на тему «Новые пути Эроса». Да и не всё выглядело в жизни поэта так уж утрированно драматично, не всё сводилось к эзотерико-любовно-демонической игре. Была работа Волошина над статьями о брюсовских переводах Верхарна (отношение критическое: «Верхарн — поэт творческих замыслов, Брюсов — поэт исполнений»), о творчестве Городецкого и Кузмина; было появление в печати работы «Индивидуализм в искусстве» и двойной статьи, впоследствии вошедшей в «Лики творчества»: «I. „Театр — сонное видение“. II. „Сестра Беатриса“ в постановке театра В. Комиссаржевской»; был отъезд на лечение в Мустамяки (Финляндия) Маргариты, которая, кстати, в ноябре 1906 года жаловалась отцу, что в последнее время тяготится «средами», что у неё «очень испортился характер и бывают приступы бешенства». Под новый, 1907-й, год Волошины наведались в Москву, где поэт бегал по издательствам и редакциям, общался с Брюсовым и Рябушинским, посетил спектакль «Бранд» по Ибсену в МХТ, присутствовал на репетиции «Драмы жизни» Гамсуна.
Конечно же, Волошин, хоть и краем глаза, следил за политическими событиями. Под впечатлением газетных сообщений об участившихся казнях революционеров-террористов он (пусть и не одобряя их действия) пишет стихотворение, начинающееся строкой: «Лежать в тюрьме лицом в пыли…» и предвосхищающее настроения поэта периода «лихой годины»:
Нельзя отшедших в злую тень
Ни потревожить, ни обидеть.
Но быть казнимым каждый день!
И снова жить… и снова видеть…
Да, это слова будущего поэтического летописца эпохи, которому суждено будет не только фиксировать происходящее, но «И каждый день и каждый час / Кипеть в бреду чужих мучений…».
Но это будет потом, а пока что драматический узел в отношениях четырёх людей всё более затягивается… Вернувшись в Петербург, Волошин за чаем увлеченно рассказывает хозяевам «Башни» о московских новостях. И что же Иванов? Он «скептичен, резок, насмешлив». И холодно-высокомерен: «Я тебя всё-таки люблю. Не уважаю, но люблю». А Маргариту Вячеслав упрекнёт в «малодушии, трусости», в том, что она «не может любить до конца». Макс ответит старшему поэту спустя три года четверостишием, последняя строка которого восходит к римскому поэту Катуллу («Да, ненавижу и всё же люблю…»).
Ещё не отжиты связавшие нас годы,
Ещё не прожиты сплетения путей…
Вдвоём, руслом одним, не смешивая воды,
Любовь и ненависть текут в душе моей.
Но важнее для него то, во что выльются отношения с Маргорей, которая откровенно называет Вячеслава Иванова своим учителем и, мало того, добавляет: «Я пойду за ним всюду», ведь он живёт сразу «на всех планах». Вот так. А ведь впору было задуматься, как в один-то план вписаться… Макс же, как обычно, сверхъестественно великодушен и благороден. Хотя, конечно же, очень переживает. 1 марта он заносит в дневник: «Певучая и сладкая скорбь. И ясно, и больно, и я не могу определить точной причины её… Я радовался тому, что Аморя любит Вячеслава, но не будет принадлежать ему. Я знаю теперь, что она должна быть его до конца. Или уйти. Но она не уйдёт… То, что я не смел требовать для себя, я должен требовать для другого. Тоска этой жертвы — я знаю её очень давно, с отрочества. Она приходила ко мне и повторялась, как предвестие, так же, как и тоска смертной казни. Одно наступило, другое тоже наступит. Это я знаю теперь…» И далее — уж совсем волошинское: «Я должен сам убедить её уступить тому, что я для себя не смел желать».
Поэт старается держать себя в руках: занимается по утрам гимнастикой, обливается холодной водой, медитирует. Он понимает, что судьба сама расставит всё по местам, пока же необходимо хотя бы на время разъехаться. Хорошо бы полечить нервы в Италии — через общение с искусством, а ещё более эффективная терапия — Коктебель, куда собирается ехать и находящаяся здесь же Елена Оттобальдовна. Главное — «не связывать планов своей жизни с Амориными планами». Аморя же, в сущности, разделяет эту позицию. Только другая география её привлекает: подлечиться в царскосельском санатории, а потом — поехать пожить в Богдановщину. Приближается мирная внешне развязка этой довольно-таки напряжённой драмы. 13 марта всезнающий Кузмин подводит итог: «У Ивановых все разъезжаются: Сабашникова в санаторию, Волошины в Крым, Диотима в Юрьев, кухарку увозят Волошины…»
Своеобразным «отчётом» поэта о периоде жизни, проведённом в «Башне», его философской квинтэссенцией стал доклад на тему «Пути Эроса», прочитанный 14 и 24 февраля, затем получивший распространение в форме реферата. Впрочем, эта тема давно интересовала Волошина; пребывание же у Иванова только стимулировало к ней интерес, вносило в отстоявшуюся концепцию дополнительные штрихи. Отталкивался же поэт, естественно, от платоновского диалога «Пир».
Платон был одним из наиболее близких Волошину по духу античных философов. Впервые его имя упоминается в «Журнале путешествия» за 1901 год в связи с обессмысливанием гимназическими преподавателями античной древности. Волошину, как известно, удалось освободиться от «пресной классической замазки» из академических штампов и творчески подойти к восприятию «мыслей божественного Платона». В 1904 году в «Истории моей души» поэт излагает свои впечатления от «Пира», оказавшего на него сильнейшее воздействие. Следы этого влияния мы находим в волошинской лирике 1900-х — начала 1910-х годов.
Платоновские идеи, несомненно, провоцировали дискуссии, ведущиеся на «Башне» В. И. Иванова, который, по свидетельству Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, предлагал «устроить по примеру „Пира“ собеседование о Любви». Содержание и сама атмосфера «башенных бдений» прямо или косвенно отразились в статьях Волошина, напечатанных в конце 1906 года под рубрикой «Лики творчества»: «„Ярь“. Стихотворения Сергея Городецкого», «„Александрийские песни“ Кузмина», «„Эрос“ Вячеслава Иванова». В последней поэт иллюстрирует стихи мэтра дионисийства фрагментами из платоновского диалога. В трактовке Волошина любовь предстаёт как вечное творчество, «великий творческий Демон» (подробнее об этом — чуть позже). Кстати, и у Платона Сократу представляется Эрот не как бог, а как один из демонов (гениев), занимающих промежуточное положение между богами и людьми (к волошинским «Демонам глухонемым» мы ещё обратимся) и имеющих многообразные проявления: «Мудрость — это одно из самых прекрасных благ на свете, а Эрот — это любовь к прекрасному, поэтому Эрот не может не быть философом…» Эрот — не предмет любви, а само «любящее начало» и начало творческое в том смысле, что именно оно «вызывает переход из небытия в бытие» — мысль, почти буквально высказываемая и Волошиным.
В лекции «Пути Эроса» поэт комментирует «Пир» Платона сквозь призму оккультно-теософских идей. Вслед за философом художник утверждает, что Эрос из «стихии пола» ведёт к «мужественным деяниям, знаниям и созерцанию вечной красоты». Таким образом подчёркивается, что пол и Эрос «нераздельны и антиномичны». Ведь пол — «это инволюция Бога в материю… это крестное нисхождение божества». Эрос же — «это эволюция. Путь от минерала к Богу — путь, ведущий через человека… Пол — расчленение, погружение, дифференциация, индивидуализация во множестве. Эрос — возврат к единству. Вечное слияние. Путь к Церкви. Отказ от своего низшего „Я“ во имя своего „Я“ высшего. Возвратный путь к Богу». Не только любовь к Маргарите Сабашниковой, но и весь жизненный путь Максимилиана Волошина — это «отказ от своего низшего „Я“ во имя своего „Я“ высшего», это «вечное слияние» — с другими людьми, с землёй, с космосом.
27 февраля Волошин читает свой доклад в Москве, в Литературно-художественном кружке. Если в Петербурге сама атмосфера «Башни» располагала к философско-мистическому восприятию этой темы, то в Москве обстановка сложилась совершенно иная. Более того — произошёл курьёз, с ехидцей описанный в воспоминаниях В. Ф. Ходасевича. Для серьёзной беседы «аудитория Кружка была слишком многочисленна и пестра. На вторники шли от нечего делать или ради того, чтобы не пропустить очередного литературного скандала, о котором завтра можно будет болтать в гостиных».
Как раз накануне лекции некая приятельница Ходасевича купила огромную охапку жёлтых нарциссов, «которых хватило на все её вазы и вазочки, после чего остался ещё целый букет… Не успела она войти — кто-то у неё попросил цветок, потом другой, и ещё до начала лекции человек 15 наших друзей оказались украшенными жёлтыми нарциссами. Так и расселись мы на эстраде, где места наши находились позади стола, за которым восседала комиссия. На ту беду докладчиком был Максимилиан Волошин, великий любитель и мастер бесить людей… В тот вечер вздумалось ему читать на какую-то сугубо эротическую тему…». Каково же было удивление аудитории, когда «из среды эпатированной публики восстал милейший, почтеннейший С. В. Яблоновский (известный журналист. — С. П.) и объявил напрямик, что речь докладчика отвратительна всем, кроме лиц, имеющих дерзость открыто украшать себя знаками своего гнусного эротического сообщества. При этом оратор широким жестом указал на нас. Зал взревел от официального негодования. Неофициально потом почтеннейшие матроны и общественные деятели осаждали нас просьбами принять их в нашу „ложу“. Что было делать? Мы не отрицали её существования, но говорили, что доступ в неё очень труден, требуется чудовищная развратность натуры. Аспиранты клялись, что они как раз этому требованию отвечают. Чтобы не разочаровывать человечества, пришлось ещё раза два покупать жёлтые нарциссы…».
Впрочем, обстановка в Литературно-художественном кружке действительно оставляла желать лучшего. Разношёрстная публика — почтенные профессора и хваткие борзописцы, равнодушные банкиры и дамочки-интеллектуалки, циничные шулера и самовлюблённые эстеты — приходила сюда явно не ради литературных впечатлений. Часто председательствующий на заседаниях Кружка В. Брюсов как-то пожаловался К. Чуковскому: «Вы должны принять в расчёт, что такое Кружок и его вторники. Это — воплощение всего, что есть в нашей жизни пошлого и несносного. Я на вторниках чувствую себя только что не несчастным, стоя „лицом к лицу“… перед „бессмертной пошлостью людской“». Отсюда — и его отношение к лекции Волошина: «Глупо. Со стороны Макса глупо, что он это читал этим. Со стороны же публики было глупо всё, что они говорили…» Да и ни к чему было «дразнить собак» сентенциями (к взглядам Макса никакого отношения не имеющими) типа: «По любви к юношам узнают служителей истинной любви». Тезис же (перекликающийся с философией Платона) «все мы гермафродиты в духе своём» был слушателям явно «не по зубам». Но Волошин не был бы Волошиным, если бы подыскивал для себя исключительно «подходящую» аудиторию. Он мог выступить где угодно и при этом никого не оставить равнодушным.
Поэтическим резюме «башенной» эпопеи стало стихотворение, написанное в дантевско-аллегорическом ключе, терцинами, в мае 1907 года («In mezza di cammin…»):
Блуждая в юности извилистой дорогой,
Я в тёмный Дантов лес вступил в пути своём,
И дух мой радостный охвачен был тревогой.
С безумной девушкой, глядевшей в водоём,
Я встретился в лесу. «Не может быть случайна, —
Сказал я, — встреча здесь. Пойдём теперь вдвоём».
Но, вещим трепетом объят необычайно,
К лесному зеркалу я вместе с ней приник,
И некая меж нас в тот миг возникла тайна.
И вдруг увидел я со дна встающий лик —
Горящий пламенем лик Солнечного Зверя.
«Уйдём отсюда прочь!» Она же птичий крик
Вдруг издала и, правде снов поверя,
Спустилась в зеркало чернеющих пучин…
Смертельной горечью была мне та потеря.
И в зрящем сумраке остался я один.
Присутствовавшая при чтении этих стихов Евгения Казимировна Герцык вспоминает: «Маргарита невесело смеялась, тихо, будто шелестела. „И всё неправда, Макс! Я не в колодец прыгаю — я же в Богдановщину еду“…
— И не звал ты меня прочь. И сам ты не меньше меня впился в Солнечного Зверя! И почему птичий крик? Ты лгун, Макс.
— Я лгун, Аморя, — я поэт.
Так дружелюбно они расходились».
Волошин ясно понимал: «Мучение и страдание только тогда велики, когда они — одно мгновение. Иначе это неврастения, а не трагедия». Подводя своеобразные итоги «романтическому» периоду и думая, как жить дальше, он пишет Маргарите: «За это время я полюбил тебя гораздо больше, глубже, мучительнее и беспокойнее, чем раньше. Мои внутренние требования к тебе и к твоей любви увеличились. Как сложится наша жизнь — я себе не представляю. Но свою жизнь я теперь буду беречь, потому что знаю, в чём она и в чём её сила и равновесие, которые я потерял было в эти годы. Я не хочу трагедий и плясок между кинжалами. Я хочу эпически ясного свободного подъёма, хочу строгого ритма в работе и жизни. Пляски между кинжалами чужды всему моему существу — и я лучше буду жить один».
Вячеслав Иванов также оставил на прощание (впрочем, это ещё не было прощанием) стихотворение с символической подоплёкой. «Вячеслав требовал от меня послушания, в правильности его идей я не должна была сомневаться, — вспоминает Маргарита. — В одном из сонетов, написанных им в то время для меня, он предостерегает Психею, подносящую светильник к лицу возлюбленного»:
Держа в руке свой пламенник опасный,
Зачем, дрожа, ты крадешься, Психея, —
Мой лик узнать? Запрет нарушить смея,
Несёшь в опочивальню свет напрасный?
Желаньем и сомнением болея,
Почто не веришь сердца вести ясной, —
Лампаде тусклой веришь? Бог прекрасный —
Я пред тобой и не похож на змея.
Вот такая самооценка… И не Змей, не Солнечный Зверь, а «Бог прекрасный». И что же на этом свете ждёт ослушниц? Скитание «по земле немилой» да выкликание «близкого друга», навек потерянного.
А что же Лидия? Что скрывалось за её игрой… Или это были искренние ощущения? «Возможно, она вовсе не верила в союз трёх, просто видела в этом единственный способ удержать мужа. Конечно, и она страдала. Помню её слова: „Когда тебя нет, во мне подымается какой-то внутренний протест против тебя. Но когда мы вместе, мне хорошо, я покойна…“»
Были ещё встречи (уже без Макса) с Вячеславом Ивановым на «Башне», были разговоры до утренней зари. Порой между супругами происходили бурные объяснения, во время которых каждый хотел привлечь Маргорю на свою сторону. «Из этих гроз оба выходили освежёнными, я же чувствовала себя опустошённой, потому что не понимала настоящей причины. Но одно мне было ясно: Лидия упрекала мужа в бездеятельности. „Я не хочу больше видеть твою праздную жизнь! — кричала она. — Что создал ты за эту зиму? Книжечку стихов „Эрос“ и двенадцать сонетов Маргарите — и это всё. Я стосковалась по строгой трудовой жизни!“»
Кстати, примерно в это время в издательстве В. Иванова «Оры» выходит альманах «Цветник Ор». В него были включены два коктебельских сонета Волошина, которые Вячеслав объединил под заглавием «Киммерийские сумерки». Но здесь же оказались сонеты самого Вячеслава и Маргариты, дающие обильную пищу для вполне конкретных ассоциаций. В. Брюсов не отказал себе в удовольствии съязвить: «А Оры! Оры! Какая деятельность! И какая откровенность речей. Одна другому: „Твоя страстная душа!“ Другой первой: „моя страстная душа!“ Затем: „смыкая тело с телом“. И ещё: „страсть трёх душ томилась и кричала“. И чтобы совсем было понятно: „Сирена — Маргарита!“»
Было объяснение Маргори с матерью, но выходило нечто невразумительное: «…я больше не расстанусь с Ивановыми, Вячеслав любит меня, Макс и Лидия согласны. Мать была в ужасе, нет, никогда — „только через мой труп“!» Была встреча с Ивановыми в имении Загорье Могилёвской губернии, где Маргарита почувствовала «отеческую нежность Вячеслава» и явную недоброжелательность со стороны Веры, старшей дочери Лидии от первого брака, которая явно заняла прочное место в новом тройственном союзе.
Состоялся довольно-таки странный разговор Маргариты с Анной Минцловой. Сабашникова заявила: «Для Вячеслава я готова на всё, только троих и четверых быть не может». Сивилла пошла на попятную: «Да, да, вы должны быть вдвоём с Вячеславом». «Почему же вы соединили меня с Максом? — наивно поинтересовалась Маргоря. — Я шла, слепо веря вам, против себя…» Ласковая колдунья нашлась: «Нет, я верила вам, во мне всё время был протест против вашего брака, но я верила вам…» Вот такие глубинные прозрения… «Так играют нами феи». Стоит ли им доверять?
Потом был Коктебель, куда Маргарита Сабашникова приехала 14 августа. Теперь уже Макс окружил свою ускользающую супругу «трогательным вниманием». Они вместе бродили по окрестностям, и только сейчас Маргоря поняла, насколько эти места суровы, величавы, красивы. Поэт отвёз жену в Судак, познакомил с сёстрами Герцык. Аморе там очень понравилось. Закинув голову, она шептала: «Да, да, мы как будто на дне мира…» Волошин, свидетельствует Евгения Герцык, «счастливым взглядом — одним взглядом — обнимал любимую девушку и любимую страну: больше она не враждебна его Киммерии!..». Но на душе, во всяком случае у Маргариты, было тяжело. Прогулки были печальны, ведь между ними, вспоминает она, оставался «призрак, держащий меня в плену».
А 17 октября 1907 года в Загорье скончалась от скарлатины Л. Д. Зиновьева-Аннибал. Порыв Сабашниковой бросить всё и быть рядом с Вячеславом был погашен Минцловой, которая поехала туда одна. Позднее Маргарита узнала, что Анна Рудольфовна обещала её матери сделать всё, чтобы воспрепятствовать её связи с Ивановыми. Кроме того, «ласковая колдунья» претендовала на роль единственной утешительницы.
К этому следует лишь добавить, что после смерти жены Вячеслав Иванов вступил в брак со своей падчерицей Верой Константиновной Шварсалон, а само прощание с умершей превратил в некий ритуал («Обручился с Лидией её смертью»), который означал и мистический брак, и приобщение ко Христу, и переход в иную жизнь. Сохранились записи, сделанные со слов Иванова: «И я лёг с ней на постель и обнял её. И так пошли долгие часы. Не знаю, сколько. И Вера была тут. Тут я простился с ней. Взял её волос. Дал ей в руки свой. Снял с её пальца кольцо — вот это, с виноградными листьями, дионисическое, и надел его на свою руку… Я попросил Над. Григ. Чулкову дать мне знак в дверях, когда наступят последние минуты, и ждал в соседней комнате. И когда мне она дала знак, я пошёл не к ней, а к Христу. В соседней комнате лежало Евангелие, которое она читала, и мне раскрылись те же слова, что она сказала: „Возвещаю вам великую радость…“ Тогда я пошёл к ней и лёг с ней. И вот тут я и слышал: острый холод и боль по всему позвоночному хребту, и с каждым ударом её сердца. И с каждым ударом знал, что оно может остановиться, и ждал. Так я с ней обручился. И потом я надел себе на лоб тот венчик, что ей прислали; принял схиму…»
Волошин с Ивановым больше не общался (мимолетные встречи не в счет); Маргарита видела Вячеслава в Петербурге и не узнала: «Он был в чьей-то чуждой власти». Макс продолжал звать Аморю в Коктебель: «Если тебе будет лучше без меня, я уеду на время». В Коктебеле она появится в сентябре 1913 года, уже совсем чужая…
В стихийный хаос — строй закона.
На бездны духа — пышность риз.
И убиенный Дионис —
В гробу пред храмом Аполлона!
Драматическое переплетение отношений, сложившихся на «Башне», нашло отражение в лирике и Иванова, и Волошина. Думается, нет надобности подробно анализировать поэтический пласт творчества двух художников, вызванный к жизни одними обстоятельствами. Отметим лишь определённые переклички в ряде стихотворений. Так, уже в первом сонете, открывающем цикл «Золотые завесы» Иванова, читаем:
Лучами стрел Эрот меня пронзил,
Влача на казнь, как связня Севастьяна;
И, расточа горючий сноп колчана,
С другим снопом примчаться угрозил.
Так вещий сон мой жребий отразил
В зеркальности нелживого обмана…
И стал я весь — одна живая рана;
И каждый луч мне в сердце водрузил
Росток огня, и корнем врос тягучим…
Волошин в предпоследнем, тринадцатом, сонете «Киммерийских сумерек»:
Был в свитках туч на небе явлен вновь
Грозящий стих закатного Корана…
И был наш день одна большая рана,
И вечер стал запекшаяся кровь.
Правда, раненой, «с древком в боку» здесь оказывается лирическая героиня («Ты на руках ползла от места боя / С древком в боку, от боли долго воя…»), а не герой, но общая атмосфера стихотворений, основные образы (жизнь и сон, зеркальность и явь, жребий и воля), размер и пафос совпадают. Волошинский сонет написан стилистически строже и лексически проще, однако центральный символ — Эрос (восторг и расплата, жизнь и смерть, смерть и воскрешение), — соединивший на время жизненные пути двух поэтов, сблизил их и в творческих исканиях.
Так или иначе, в жизни Волошина Вяч. Иванов сыграл две роли: разрушительную и созидательную. Первую — в отношении личной жизни Макса («Вячеслав как огонь входит в дом и сжигает его»); вторую — в плане литературного развития. «Один из главных наших учителей в поэзии» оказался таковым и для Волошина. Он впервые познакомил младшего поэта с античными стихотворными размерами, строфами и ритмами, показал на примере своих произведений, как применять эти размеры в русской поэзии.
Не случайно мы находим у Волошина и галлиямб (стихотворение «Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель…»), и алкеев стих:
Седым и низким облаком дол повит…
Чернильно-сини кручи лиловых гор.
Горелый, ржавый, бурый цвет трав.
Полосы йода и пятна желчи…
и сапфическую строфу:
Вещий крик осеннего ветра в поле,
Завернувшись в складки одежды тёмной,
Стонет бурный вечер в тоске бездомной,
Стонет от боли…
и даже редкий для русской поэзии пример архилоховой строфы:
Тёмны лики весны. Замутились влагой долины.
Выткали синюю даль прутья сухих тополей.
Тонкий снежный хрусталь опрозрачил дальние горы.
Влажно тучнеют поля.
От хозяина «Башни» пошло и увлечение Волошина гимнической поэзией, признание и утверждение заклинатель-ной функции слова. В. Иванов пишет в «Заветах символизма»: «…Напевное слово преклоняло волю вышних царей, обеспечивало роду и племени подземную помощь „воспетого“ героя, предупреждало о неизбежном уставе судеб, запечатлевало в незыблемых речениях богоданные законы нравственности и правового устроения и, утверждая богопочитание в людях, утверждало мировой порядок живых сил. Поистине, камни слагались в городовые стены лирными чарами, и помимо всякого иносказания — ритмами излечивались болезни души и тела, одерживались победы, умирялись междоусобия. Таковы были прямые задачи древнейшей поэзии — гимнической, эпической, элегической…»
В стихотворениях Волошина, написанных в конце 1900-х годов, заметен отпечаток античных гимнических традиций. В Древней Греции гимн представлял собой культовую песнь, посвящённую какому-либо божеству. Известны многочисленные гимны Аполлону (пэаны), Дионису (дифирамбы), женским божествам (парфении) и т. д. В русской поэзии начала XX века древнейшая традиция находит воплощение в творчестве В. Брюсова, К. Бальмонта, того же В. Иванова. В русле этого жанра воспринимаются волошинские стихотворения «Солнце» (1907), «Луна» (1907), а также ряд произведений из циклов «Алтари в пустыне» и «Киммерийская весна».
Мистическому мировосприятию Волошина импонировала связь гимна с молитвой, ритуалом, магией. В обращении древнего человека к гимну он усматривал потребность с помощью поэтического заклинания оградить себя от опасности, заручиться поддержкой могущественных, благодетельных сил. Волошина притягивали «светы» «иных миров», настраивали на связь с гиперфизической реальностью. Его разработка античного жанра — одна из попыток разгадать секрет мироздания, почувствовать связь между его различными сферами, проникнуть в тайны космоса, а также вызвать в прапамяти воспоминания о «великих межзвёздных дорогах».
Заклинательную функцию эпитета («святое око дня», «всезрящее», «невозвратимое») Волошин использует уже в стихотворении «Солнце» (речь о нём впереди), написанном не без влияния бальмонтовской «Книги Символов» — «Будем как Солнце» (1903) и ассоциирующемся с ивановской «Хвалой Солнцу» (1904). Но источник у всех этих стихотворений один: орфический гимн «Гелиосу» («Внемли, блаженный, всезрящий, имущий всевечное око…»). Гимн-воззвание к солнцу, гимн-заклинание, гимн-просьба, основанный на хореической музыкальности текста (хотя для гимна более характерны «тягучие», трёхсложные размеры), появится в творчестве Волошина спустя три года («Солнце! Твой родник…»). Здесь уже поэт откажется от развёрнутых характеристик гимнического адресата, некоей мрачной философичности, как в стихотворении 1907 года, заменив всё это призывами к созиданию жизни:
Солнце! Прикажи
Виться лозам винограда.
Завязь почек развяжи
Властью пристального взгляда.
Сонет «Луна», равно как и венок сонетов «Lunaria», представляют собой заклинания-молитвы, развёрнутые обращения-характеристики, насыщенные глубинными ассоциациями. Причём сам поэтический адресат, как правило, многолик, что отличает гимн Волошина от бальмонтовского «Восхваления Луны» (жанр которого старший поэт определял как «псалом»), многословного, велеречивого, но с устойчивыми образами. Эта многоликость заложена в самих традициях античного гимна. Так, для гимна «Гелиосу» характерно отождествление последнего с Аполлоном и Зевсом, что находит отражение и в некоторой расплывчатости, неуловимости волошинского адресата. Луна же у поэта соотносится с Дианой и Гекатой, в «Lunaria» к этим именам добавляются Селена и Афея.
Ещё более интересный, даже парадоксальный пример совмещения разных образов в одном даёт нам «Гностический гимн Деве Марии» (1907), кстати, посвящённый В. Иванову. Дева Мария, к которой обращается поэт, далека от новозаветного образа. Она соотносится с греческой Афродитой, древнеиндийской Майей, олицетворяющей обман, иллюзию, с оккультным образом Мула-Пракрити, символизирующим женское начало вселенной до его проявления в реальном мире (ещё один, апокрифический, вариант Софии), с Марой, буддийским божеством, выражающим зло и соотносимым со смертью. Таким образом, евангельский образ Марии возводится к женскому началу мира и вселенной, породившему «Крестные тайны / Во тьме естества». Не случайно гимн назван гностическим, то есть объединяющим идеи и образы христианства и древних языческих учений. Философско-поэтический эклектизм Волошина здесь налицо. Впрочем, это закономерно для поэта, верящего, как он пишет в «Автобиографии», «в реальное существование всех языческих богов и демонов», но не мыслящего их существования «вне Христа».
Есть здесь, однако, и биографическая подоплёка, связанная с четой Ивановых, склонных к лицедейству и перевоплощениям. «Мы должны были называть друг друга иными именами, носить особые одежды, создавая атмосферу, приподнимающую над повседневностью. Лидия называла себя Диотимой, мне дали имя Примаверы…» — писала об окружении новоявленной Майи — Лидии Зиновьевой-Анни-бал — Маргарита Сабашникова.
Пожалуй, наибольшего взлёта гимническая поэзия Волошина достигает в цикле «Алтари в пустыне» (1907–1909). Большинство из этих произведений отмечено мажорными настроениями. Тоску и полумрак недавник «Киммерийских сумерек» развеивают божественные лучи солнца. Вот, например, последняя строфа стихотворения «Станет солнце в огненном притине…»:
Ты, Ликей! Ты, Фойбос! Здесь ты, близко!
Знойный гнев, Эойос, твой велик!
Отрок-бог! Из солнечного диска
Мне яви сверкающий свой лик.
Эпитеты Ликей, Фойбос, Эойос (волчий, светлый, утренний) издревле связывались с Аполлоном (первоначально — солнечным божеством) и нередко использовались в посвящённых ему гимнах-пэанах. Причём эпитет «ликей (ский)» — «волчий» — характеризовал Аполлона как хранителя от волков и в то же время указывал на его древнее отождествление с волком.
Аполлон в восприятии поэта — целитель и защитник. К тому же повелитель муз и стихий, бог искусства и мировой гармонии:
Ты — целитель! Ты — даятель! Отвратитель тусклых бед!
Гневный мститель! Насылатель чёрных язв и знойных лет!
Лёгких Ор святые хоры ты уводишь, Кифаред!
Движешь камни, движешь сферы строем лиры золотой!
Порождённый в лоне Геи Геры ревностью глухой,
Гад Пифон у врат пещеры поражён твоей стрелой… —
читаем мы в стихотворении «Κληπχοι» (Призывы, греч.), в котором возникают буквальные переклички с древним пэаном.
Бог — «даятель» и «насылатель чёрных язв»… Не столь ли трагически двойственно, противоречиво искусство, поэзия, служение которым ведёт и к лавровому венку, и к терновому венцу?..
Среди других стихотворений, напоминающих древний пэан, обращает на себя внимание «Дэлос». Восхваление Аполлона строится здесь на описании его родины — плавучего острова Дэлос. Нетрудно убедиться, что Волошин сопоставляет мифологический пейзаж с реальным — своей духовной родины Киммерии. И вновь — переклички с античным гимном. Вот строки александрийского поэта Каллимаха, обращённые «К острову Дэлосу»:
Пусть бесплодна эта земля, ветрами продута,
Морем бичуема бурным, не коням приют, а гагаркам,
Что среди понта лежит неподвижно…
А вот строфы Волошина, обобщающего картину Дэлоса-Коктебеля:
Оком мертвенным Горгоны
Обожжённая земля:
Гор зубчатые короны,
Бухт зазубренных края.
…Ни священных рощ, ни кладбищ
Здесь не узрят корабли,
Ни лугов, ни тучных пастбищ,
Ни питающей земли.
Сущность же Аполлона в этом стихотворении также двойственна. Это «гневный лучник», судья и мститель, но он же и бог-врачеватель, «налагатель откровений», «предводитель Мойр и Муз», то есть олицетворение искусства и мировой гармонии. Распорядитель судеб и вожатый времени (что отражено также в волошинском эссе «Horomedon», своеобразном пэане в прозе).
Стихотворение «Сердце мира, солнце Алкиана…» (1907) имеет ещё одно название: «Гимн пифагорейцев». Как известно, пифагорейцы считали музыкальное искусство важнейшим средством этического воспитания, а гимны использовали в ритуально-магических действах. Волошин запечатлел здесь своё представление о раннепифагорейской астрономии и музыкально-гармоническом движении небесных сфер.
Сердце мира, солнце Алкиана,
Сноп огня в сиянии Плеяд!
Над зеркальной влагой Океана —
Грозди солнц, созвездий виноград.
С тихим звоном, стройно и нескоро,
Вознесясь над чуткою водой,
Золотые числа Пифагора
Выпадают мерной чередой.
Согласно немецкому астроному И.-Г. Медлеру, Алкиана (Алкиона, Альциона), наиболее яркая звезда в созвездии Плеяд, представляет собой своеобразный центр, вокруг которого вращаются «грозди солнц, созвездий виноград». Это вызывает определённые ассоциации с пифагорейской теорией, из которой следовало, что вся система звёзд движется вокруг Центрального Огня вселенной (у Волошина — «сноп огня»). Причём перемещение светил рождает гармонию, издаваемые ими звуки связаны с определёнными интервалами, сами же планеты разделены столь же гармонически выверенными пространствами.
Однако эту музыку сфер могли слышать только избранные, в частности тот же Пифагор да, возможно, древние халдеи.
Как рыбак из малой Галилеи,
Как в степях халдейские волхвы,
Ночь-Фиал, из уст твоей лилеи
Пью алмазы влажной синевы!
Поэт уподобляет себя «рыбаку из малой Галилеи», то есть самому Пифагору, который, по преданию, прошёл через несколько телесных воплощений и перед тем, как стать легендарным философом с острова Самос, побывал и смиренным галилейским рыбаком.
Волошин соотносит звёздные светила с «золотыми числами Пифагора». Аритоксен в сочинении «Об арифметике» утверждал, что «Пифагор ценил учение о числах больше, чем кто бы то ни было другой. Он продвинул его вперёд, отведя от практических расчётов и уподобляя все вещи числам…». Каждому числу (особенно первым четырём, так называемой пифагорейской тетрактиде, а также семёрке и десятке) придавалось сакральное значение, приписывалась божественная сущность. По мнению древних философов, определённые соотношения чисел и составляли первооснову мира. Пифагорейцы, пожалуй, первыми пришли к убеждению, что книга природы написана на языке математики. Таким образом, «золотые числа Пифагора» выражают, по мысли Волошина, сущность мироздания, музыкальную гармонию бытия.
Гимнический жанр оказался близок Волошину совмещением слова и музыкального напева, сочетанием философских прозрений с магическим заклинанием. В многостопных стихах, имеющих силу заклятья и обращенных к высшему существу, осуществлялся высший замысел поэзии, который исчерпывающе охарактеризовал Вячеслав Иванов в книге «Борозды и межи» (глава «Заветы символизма»). «Движешь камни, движешь сферы строем лиры золотой…» — почти теми же словами говорит о «божественной», всевластной природе поэзии и Максимилиан Волошин.
Разумеется, поэтические магистрали В. Иванова и М. Волошина сходились не только в этом пункте. М. Сабашникова вспоминает, что Иванов разработал целый курс поэтики для неё, Макса и Лидии. Самому Волошину хозяин «Башни» посвятил свою программную поэму «Сон Мелампа» (1907), написанную гекзаметром. Её герой — черноногий вещий Меламп, «схоронивший» и «взлелеявший» вечность. В какой-то мере ревнующий Волошина к его увлечению античностью, Иванов в то же время делает его сопричастным эзотерическому знанию о неизбывном круговороте душ в океане вечности. Стражи Мелампа, лесные змеи, разъясняют ему тайны вселенной:
…«Вещий!» он слышит, он чует: «внемли»: не едина вся вечность.
Движутся в море глубоком моря, те — к зарям, те — к закатам;
Поверху волны стремятся на полдень, ниже — на полночь:
Разно-текущих потоков немало в тёмной пучине,
И в океане пурпурном подводные катятся реки.
Тайно из вечности в вечность душа воскресает живая:
Вынырнет вольным дельфином в моря верховные, — глухо
Влажной могилой за ней замыкается нижняя бездна.
В духе вечность жива, и покинута духом мертвеет.
Так ты вечность одну схоронил, и другую взлелеял…
Наделённый новым знанием, Меламп как истый Поэт «смутился… о неволе земной», ощутил своё новое предназначение:
Душ разрешителем стал и смесителем Чуткое-Ухо,
Тенью грядущего, оком в ночи, незаблудным вожатым.
Сонного так боговещим соделали змеи Мелампа.
Нетрудно заметить в этих строках прелюдии поэтических мотивов Волошина, о которых речь впереди. Много позже (1939), оценив развитие этих мотивов в произведениях уже ушедшего из жизни поэта, Вячеслав Иванов в статье «Символизм» для итальянской «Энциклопедии» назовёт Волошина в числе тех поэтов-символистов (справедливости ради, надо сказать, что к символизму Волошин имеет весьма косвенное отношение), для которых характерно «строжайшее осознание… духовных задач». В молодые же годы, в период общения, Иванов относился к Волошину двойственно, признавая в нём «поэта большого дарования», но не утвердившегося в художественной самобытности.
В плане творческих взаимоотношений двух поэтов заслуживает внимания цикл стихотворений Волошина «Звезда Полынь». Каждое из них — впрямую или полемически — связано с лирикой Вячеслава Иванова. Так, уже упоминавшееся «Солнце» не может не вызвать в памяти ивановский цикл «Солнце-сердце», а стихотворение «Кровь» (1907) представляет собой «посвящение» на книге Иванова «Эрос», в которой, кстати, есть непосредственно перекликающееся с «Кровью» стихотворение «Двойник».
Тема двойника (двойничества), нередко связанная с символикой зеркала (зазеркалья), — одна из популярнейших в мировой литературе. Значительное место занимает она и в русской поэзии начала XX века. Ф. Сологуб, В. Брюсов, А. Блок, М. Цветаева… добавим сюда ещё Черубину де Габриак и В. Набокова… Исследование этой темы могло бы облечься в довольно объёмный философско-литературоведческий том… Обратимся, однако, к стихотворению Вяч. Иванова:
Ты запер меня в подземный склеп,
И в окно предлагаешь вино и хлеб.
И смеёшься в оконце: «Будь пьян и сыт!
Ты мной обласкан и не забыт»…
Казалось бы, «двойник» у Иванова — это тот же Эрос, будоражащий кровь и стимулирующий жизнь. Третья строфа звучит так:
И в подземном склепе я про солнце пою,
Про тебя, моё солнце, — про любовь мою.
Твой, солнце, славлю победный лик…
И мне подпевает мой двойник.
Однако недоумение вызывает последняя строфа:
Где ты, тёмный товарищ? Кто ты, сшедший в склеп
Петь со мной, моё солнце из-за ржавых скреп?
«Я пою твоё солнце, замурован в стене, —
Двойник твой. Презренье — имя мне».
Последние строки находят объяснение в ивановской философии времени, частично перекликающейся со статьями Волошина «Аполлон и мышь» и «Horomedon», а также с его стихотворениями из цикла «Звезда Полынь». Очевидно, Иванов считает, что, стимулируя жизнь, Эрос неумолимо её укорачивает, поэтому в каждую секунду своего существования человеческое «я» не равно самому себе.
Где я? Где я?
По себе я
Возалкал.
Я — на дне своих зеркал.
Человек постоянно имеет дело со своим двойником, ибо самовосприятие в каждый момент оказывается восприятием себя в прошлом, а стало быть — восприятием не оригинала, а двойника. «Что такое я как постоянная величина в потоке сознания… — пишет Иванов в статье „Ты еси“. — Я становлюсь: итак я не есмь. Жизнь во времени — умирание. Жизнь — цепь моих двойников, отрицающих, умертвляющих один другого…» Отсюда — их неприязнь и презрение друг к другу.
А вот двойник из волошинского стихотворения «Кровь»:
В моей крови — слепой Двойник.
Он редко кажет дымный лик, —
Тревожный, вещий, сокровенный.
Приникнул ухом… Где ты, пленный?
Ивановский «двойник» из тёмного «склепа» своего сиюсекундного существования прославляет солнце как вечную, неумирающую красоту жизни, Волошинский «двойник» говорит о «слепом огне», бушующем не вне, а внутри его. Символы солнца, огня объединяют стихотворения двух поэтов, но также и «разводят» их. Волошинское «посвящение» в данном случае не связано с привычным для него мотивом утверждения мгновения в вечности, их совмещения. Для уяснения смысла стихотворений «Солнце» и «Кровь», писал Волошин А. Петровой 1 января 1907 года, «я должен сказать, что человек древнее Земли и жил раньше на других планетах и что кровь возникла на той планете, что была древнее солнца… Кровь знает больше человека и помнит сокровенные тайны мироздания». Отсюда — образ «слепого Двойника» в крови поэта, «пленного Пращура», знающего тайны «покинутой вселенной». Кровь — это «слепой огонь», одухотворяющий современного человека (по Штейнеру, эфирное тело — тот же «двойник» — заключено в крови человека), делающий его причастным вечности; это своего рода живая память мироздания.
Замыкает цикл непосредственно перекликающийся со стихотворением «Кровь» сонет «Грот нимф» (1907). За этим сонетом (хоть и посвящённым поэту Сергею Соловьёву) вновь маячит тень Вячеслава Иванова, в нём дышит античность, его пронизывают оккультные идеи. «Грот нимф» обычно трактуют в свете философии позднегреческих мыслителей Нумения, Крония, Плотина и особенно Порфирия (III век н. э.), который в своём трактате «О пещере нимф» рассматривает уходящую в недра земли пещеру в космическом плане: как место круговорота душ — их нисхождения в мир и восхождения к небесным сферам и бессмертию. Известно, что соотнесённость пещеры с высшими, космическими силами была весьма характерна для мировосприятия древних греков. Да и не только их.
В I веке в Италии стали пользоваться большой популярностью персидские мистики, распространявшие культ солнечного божества Митры, являвшегося упрощением разработанного ранее учения Зороастра. Ритуалы Митры совершались в пещерах. Тот же Порфирий утверждает, что Заратуштра (или Зороастр) был первым, кто облюбовал пещеру как место для поклонения Богу, поскольку она является символом земли (низшего мира тьмы), а стало быть, устремление к божеству приобретает здесь наиболее страстный характер.
Обратимся непосредственно к волошинскому сонету:
О, странник-человек! Познай Священный Грот
И надпись скорбную «Amori et Dolori».
Выражение «Amori et Dolori» («Люби и страдай») перекликается с названием стихотворного цикла, посвящённого Маргарите Сабашниковой, — «Amori amara sacrum» («Святая горечь любви»), и кольцевым стихом венка сонетов «Corona Astralis»: «В мирах любви неверные кометы…». Трагедия любви, трагедия одиночества Поэта обусловлена тем, что он, заключающий в себе океан любви («Бог есть любовь», а Поэт — «себя забывший бог»), всегда терпит неудачу, соприкасаясь с чувствами людей, когда, образно говоря, навстречу этому океану протягивают чашку. Это трагедия вечного странника, или, по выражению поэта В. Бетаки, Серого ангела, желающего, но не могущего предостеречь людей от грядущих бедствий.
Но мы немного отвлеклись. Вернёмся к первой строфе «Грота нимф»:
Из бездны хаоса сквозь огненное море
В пещеры времени влечёт круговорот.
Сила, которая управляет этим круговоротом, осознаётся как Эрос. В самом сонете Эрос упоминается лишь однажды, в восьмом стихе:
И каждый припадёт к сияющей амфоре,
Где тайной Эроса хранится вещий мёд.
Но эта стихия, силовое поле Эроса, пронизывает все образы сонета и восходит к истокам древней космогонии.
Эрос, по определению Волошина, творческий Демон, «посредник между людьми и богами, который ведёт человека крестным путём страсти и смерти к познанию бессмертия и созерцанию вечной красоты». Именно Эрос управляет круговоротом душ в космических пещерах Времени, как явствует из стихотворения «Материнство» (1917):
…Свобода и любовь в душе неразделимы,
Но нет любви, не налагавших уз…
Тягло земли — двух смертных тел союз…
Как вихри мы сквозь вечности гонимы.
Эрос в понимании Волошина — не сладостный божок, а грозная, демоническая сила. Он, как пишет поэт в статье, посвящённой книге стихов Вячеслава Иванова «Эрос», «учит человека дерзать и преступать законы человеческие и божественные», но, проведя его «сквозь очистительное пламя всех страстей, всех преступлений и всяческого земного изобилья… наставляет его радостному смирению». И это, кстати, убедительно отражено в XII и XIII сонетах «Corona Astralis».
Что же касается сонета «Грот нимф», то это, по сути дела, развёрнутая эмблематика Эроса, который, по словам платоновской Диотимы, «в один и тот же день бывает цветут, полон жизни… а потом всё сразу теряет, умирает и воскресает снова» — что и составляет тайну пещеры, тот самый «вещий мёд», что хранится в «сияющей амфоре».
Мёд в представлении древних обладал магическими свойствами и даровал бессмертие. Мёд, как отмечал А. Ф. Лосев, есть символ очищения и принесения жертвы богам смерти, ибо души, устремляясь в мир, расстаются с бессмертием. Пчёлы Волошина в какой-то мере предвосхищают медуниц О. Мандельштама («Сёстры — тяжесть и нежность…», 1920), мифологических пчёл Персефоны, сосущих тяжёлую розу и олицетворяющих неразрывность категорий жизни и смерти.
«Реют пчёлы» и на страницах книги Вяч. Иванова. Реют «над кострами рдяных роз» («Сад роз») в «алом саду», открытом для богов. Пчелой облетает «цветник людских сердец» Эрос («Кратэр»). Мёд, по Иванову, означает любовь:
Ярь двух кровей, двух душ избыток,
И власть двух воль и весть двух вер…
Священная чаша, кратэр, в которой Эрос смешивает мужское и женское начала, предназначена богам, питающимся человеческой любовью. «Лестница природы такова: минералы отдают свет; растения вдыхают свет и отдают кислород; люди дышат кислородом и излучают из себя любовь… Эрос-Пчела облетает цветник людских сердец и питает богов собранным мёдом любви. Нектар и амврозия, которыми питались олимпийские боги, — это мужское и женское начало человеческой природы», — комментирует Волошин образную систему Иванова, связующую через посредство Эроса земное с божественным в пределах некоего чувственного (а порой — сверхчувственного) Эдема, но исключающую подземный мир, вобравший в себя космос. В волошинском же сонете — не слияние, соединение, а разведение, разъединение («Но смертным и богам отверст различный вход…»).
«Тайна Эроса», мёд — это ещё и творчество, поэзия, тот самый «ионийский мёд», который, по Мандельштаму, подарили человечеству «лирники слепые». Тот самый расплёсканный мёд, который Волошин в «Corona Astralis» сопрягает с «недопетыми песнями».
Поэзия, как и мёд, обладает магическими свойствами и близка Эросу. Поэзия, как поучала Сократа та же Диотима (которой, кстати, посвящены стихотворения Вячеслава Иванова «Змея», «Целящая» и «Кратэр», воссоздающие некое восхождение по ступеням любовного познания), есть «общая причина того, что из небытия переходит к бытию». О заклинательной функции поэзии В. Иванов много и убедительно рассуждал в своих статьях. Непосредственно эта функция осуществляется в его книге «Эрос» — «книге заклинаний, призывающих древнего бога на землю». Сам Волошин по этому поводу пишет: «Человек словом своим заклинает появление нового мира, подобно тому, как наш мир был создан словом Божественным».
Программным в этом отношении представляется стихотворение Волошина, начинающееся строкой: «Быть чёрною землёй. Раскрыв покорно грудь…» Оно было написано в сентябре 1906 года, в Богдановщине. Здесь та же пещера-космос. Согласно теософским взглядам, Бог растворён в природе, и, если человеку удаётся соединиться с ней, он сам становится божеством. Но Волошин в данном случае не заостряет на этом внимание. Пещера, земля принимает в себя и отражает космос, как человеческое тело заключает в себя дух, а поэт — слово. Творческий процесс отражается на космическом уровне. Сам поэт — и земля, и космос одновременно.
Более того, поэт — творец и творение. Эта мысль будет выражена Волошиным в финале поэмы «Космос» из книги «Путями Каина»:
Так будь же сам Вселенной и творцом!
Сознай себя божественным и вечным
И плавь миры по льялам душ и вер.
Слово сходит в землю, то есть в поэта, что даёт возможность «видеть над собой алмазных рун чертёж» — небесные космические письмена. Самое примечательное — то, что поэт уподобляет себя, как уже говорилось, «Матери-Земле», в которую «сойдёт» и в которой «распнётся Слово». Слово в значении Логос — имеется в виду предвечный образ Бога, «прямой образ ипостаси его», как пишет Вл. Соловьёв в своих «Чтениях о Богочеловечестве». Таким образом, поэтическое слово становится «божественным», а сам поэт «гробом», заключающим «тело Бога», воскресающим Эросом, сосудом Откровения.
Отсюда: поэт — носитель Грааля, который понимается Р. Штейнером как символ сокровенного знания, а у Волошина смыкается с Голгофой творчества. Отсюда же: книга — гробница стихов или, как говорит современный поэт и философ В. Микушевич, иероглиф поэта в его трагическом подражании Христу, что, собственно, и является сквозным мотивом венка сонетов «Corona Astralis».
Однако мистическое предзнаменование поэта даётся уже в сонете «Грот нимф». Особенно в последних его строках:
Наяды вечно ткут на каменных станках
Одежды жертвенной пурпуровые ткани.
У Порфирия это символизирует воплощение души в тело, то есть приобщение её к смертному земному миру. Каменные станки — это, безусловно, кости, одеваемые телесно-кровяной материей.
Напрашивается сравнение с аналогичными образами В. Иванова из стихотворения «Сад роз»:
Что земля и лес пророчит,
Ключ рокочет, лепеча, —
Что в пещере густостенной
Сёстры пряли у ключа.
Упоминаемые чуть ранее Наяды и Дриады — не более чем выражение «пророчественного гула природы, в котором звучат голоса судьбы» и которую, в свою очередь, олицетворяют «сёстры»-парки. Ни «пещера», ни «пряжа», по-видимому, не заключают в себе какой-то глубинной оккультно-антропософской семантики.
У Волошина в финале сонета «Грот нимф» подразумевается нечто большее по сравнению с трактатом Порфирия и совершенно иное по отношению к стихотворению Иванова. Может быть, что-то наподобие «багряных свитков зимнего тумана», отсылающих нас к историософскому плану стихотворения «Предвестия», или «венца багряных терний» из перевода верхарновского «Человечества», в котором поэт вбирает в себя все муки, беды и прегрешения людского рода.
Итак, космос, по Волошину, это и «сама земля со всеми её недрами, земля, дающая жизнь, но и дарующая смерть», если воспользоваться словами Лосева, комментирующего трактат Порфирия. Но именно так воспринимает Волошин свою Киммерию со всеми её пещерами, гротами и холмами. И здесь проступает ещё один поэтический план, наиболее ярко просматривающийся в стихотворении «Отроком строгим бродил я…» (1911) и возникающий в очерке Е. К. Герцык о Волошине и его поэзии. Киммерия в сознании поэта и художника ассоциируется с Матерью-Землёй, Геей, породившей Солнце, Луну и звёзды. Киммерия — это «земля утерянных богов», читай: языческих богов. Но это и «земля страстная», одетая в чёрные ризы, и по её долинам «розовеет миндаль», возможно, предвосхищающий мандельштамовское: «пасхальной глупостью украшенный миндаль» из старокрымского стихотворения («Холодная весна. Голодный Старый Крым…»), написанного четверть века спустя после «Киммерийских сумерек» Волошина.
«Я язычник во плоти и верю в реальное существование всех языческих богов и демонов, — процитируем ещё раз волошинскую „Автобиографию“, — и в то же время не могу его мыслить вне Христа». Отсюда — столь характерное раздваивание образов, такой широкий спектр значений в стихотворениях Волошина первого десятилетия XX века. Например, той же пещеры. От языческо-антропософской эмблемы в сонете «Грот нимф» до «пещеры заточенья» Бога в «Corona Astralis»: «Скрыт в яслях Бог. Пещера заточенья / Превращена в Рождественский Вертеп».
Согласно преданию, мир был сотворён весной. Весной приведены в движение Солнце, Луна и звёзды. Весной протекает действие в «Божественной комедии». И родной Коктебель представляется поэту «в весне распятым», так же, как Грот нимф сосредоточившим в себе рождение и смерть, смерть и воскресение.
Так же, как воплощены они в маслине, имеющей форму креста, словно бы переместившейся из священной Пещеры нимф на могилу Волошина. «И могила его, взлетевшая на вершину горы, — как написал в своём очерке А. Белый, — есть как бы расширение в космос себя преображающей личности». Преображающей, добавим мы, себя и мир в Слове.
Я вновь пришёл к твоим ногам
Сложить дары своей печали,
Бродить по горьким берегам
И вопрошать морские дали.
Однако вернёмся в 1907 год. Год, чрезвычайно плодотворный для Волошина в поэтическом отношении; год суровых душевных испытаний, «грустных, торжественных снов», обретения «власти дерзать и мочь».
19 марта Волошин с матерью выезжают из Петербурга в Москву, 23 марта они прибывают в Феодосию. Где-то на пути под стук колёс написалось (уже не в первый раз) стихотворение, в котором поэт предвосхищает встречу со своей духовной родиной. Встречу невесёлую, согласно настроению: «Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель… / По дорогам тёрн узорный и кустарники в серебре…» И всё же Макс надеется, что родные места приветят его, сольются с чувствами, станут душевной опорой. Он готов отдать им всего себя, раствориться в них:
Припаду я к острым щебням, к серым срывам размытых гор,
Причащусь я горькой соли задыхающейся волны,
Обовью я чобром, мятой и полынью седой чело…
В Феодосии состоялись обязательные — но от этого не менее приятные — встречи с А. М. Петровой и К. Ф. Богаевским. Конечно, шел разговор об искусстве, о живописи, вспоминались Бакст, Добужинский, Лансере, Сомов, которые, кстати сказать, весьма одобрительно относятся, по мнению Макса, к его собственным картинам. И ещё одна прозаическая, но при этом знаменательная деталь: Макс лечил «пассами» флюс у Александры Михайловны Петровой. Похоже, руки Волошина обретают волшебную силу воздействия.
А Коктебель действительно оказался «безрадостным». Более того, он «пустынен, суров… Горы инкрустированы снегом. Море ревёт… Никогда не видел Коктебеля таким грозным и неприветливым», — отмечает художник. К неприветливой погоде примешались житейские невзгоды: дом Елены Оттобальдовны обокрали, предварительно выбив окна и взломав замки. Не иначе как «ступни революции».
Впрочем, «революция» — в сердце поэта. Во всяком случае — брожение, тоска, беспокойство. Мысли о Маргарите не дают покоя. Прав ли он, решив не вмешиваться в естественное развитие событий?.. Во всяком случае, ум с сердцем явно не в ладу: «Я то отрекаюсь от тебя во имя твоей высшей свободы, то чувствую, что не могу больше жить без тебя». Как выйти из этой ситуации? Рецепт напрашивается сам собой: прогулки и пребывание наедине с природой, чтение и работа. Волошин садится за книги: читает Шопенгауэра, надеясь, что немецкий философ привьёт ему стоическое отношение к жизни, изучает «6 систем индусской философии», очевидно, с целью обрести более гибкое восприятие бытия. Макс ежедневно поднимается в горы — он уже понял: «Историческая насыщенность Киммерии и строгий пейзаж Коктебеля воспитывают дух и мысль». Спустя одиннадцать лет он напишет:
Сосредоточенность и теснота
Зубчатых скал, а рядом широта
Степных равнин и мреющие дали
Стиху — разбег, а мысли — меру дали.
Ну и, конечно, помогает физическая работа: принести воды, наколоть дрова, затопить печь, обиходить своё жильё. И вот уже он сообщает Маргарите: «Комната подметена, книги разложены. Моё гнездо приняло жилой вид».
Чуть позже ей же: «Обложился книгами и пишу и читаю весь день». Волошин пишет статью о сборнике стихов А. Блока «Нечаянная радость», работает над сонетом «Грот нимф», сообщая в письме: «Надо войти в таинственную Пещеру Нимф… где один вход для богов и один выход для людей. Это святая пещера зачатий». Однако из Пещеры нимф реальное чувство влечёт поэта к земной женщине: «Слишком люблю тебя и слишком боюсь потерять тебя, потому что не вижу в себе сил… совсем отказаться от пола, от радости тела». Макс сознаётся: «Я наивно думал, что, уехав в Коктебель, я овладею собой, откажусь от тебя. Но… вдруг почувствовал, что всё для меня пусто там, где тебя нет».
Волошин начинает купаться в море, хотя ещё только 31 марта. Зато какое «море жгучее и палящее… Запах гниющих трав — соли и йода. Выкупавшись, я сижу на песке, слушаю волны и думаю о тебе». Это лучше, чем окунаться в атмосферу петербуржских оккультных оргий или попадать под ледяной душ ивановской философии. Волошин с удовольствием листает оставленные Маргаритой дневники и признаётся ей: «Во мне всё живёт инстинктивный ужас жизни под одной кровлей с Ивановыми». Здесь, в этих местах, он свой. Ему легко дышится; тут — «простор, свобода», а в Москве и Петербурге — литературная борьба и столкновение амбиций, ложные страсти и демонические ритуалы.
Поэтический мир уже не кажется Волошину столь манящим, а поэты — притягательными, как прежде. Во всём проступает что-то злое, порой пошлое. Символисты, некогда выступавшие единым фронтом, успели основательно перессориться. Облюбовавшие журнал «Весы» «скорпионы» ополчились против «грифов», оккупировавших «Золотое руно». В своём дневнике Макс подмечает, что сила, «давшая такой могучий упор таланту Брюсова, — его честолюбие… желание быть признанным первым из русских поэтов. В этом его роман любви и зависти к Бальмонту. Теперь он считает Бальмонта побеждённым, но чует ещё более опасного противника в Вячеславе». Вероломно-дипломатичный Брюсов чисто внешне поддерживает со своими соперниками дружеские отношения. «Но в его руках его приверженцы — теперь Белый и Эллис, которых он растравляет, поджигает и спускает с цепи». Волошин настроен весьма иронически и по отношению к своему бывшему однокашнику по юридическому факультету поэту Эллису, который за короткое время успел побывать «поклонником Каткова, потом Маркса, потом Озерова, Бодлера и теперь Брюсова, которого он считает русским воплощением Бодлера…»
Удручает то, что москвичи давно враждуют с петербуржцами, хотя, казалось бы, чего им там, в литературе, делить?.. — наивно размышляет поэт. — Так нет, всё упирается в какие-то внешние, процедурные моменты. Одна игра противопоставляется другой. Андрей Белый разродился статьёй-фельетоном «Штемпелёванная калоша» с нападками на «петербургских мистиков», привыкших жить и влюбляться «над бездной». Волошин получил рукопись этой статьи 18 мая. Как реагировать ему, ещё недавно бывшему завсегдатаем «Башни»? По своему обыкновению Макс поднимается «над схваткой», отмечая лишь, что сочинение Белого «хорошо написано». Белый же, всегда ценивший в Волошине «округлителя углов», на этот раз фыркнул и в письме Блоку от 10 июля слегка потоптался на человеке, которого некогда уподоблял Оскару Уайльду: «М. Волошин, когда ему в глаза резко бросают осуждение, когда „громят“ его друзей, только пыхтит и обливается потом. „Я тут-де в стороне“…»
Вот из этого-то мира ложных истин, наркотических вдохновений, опутывающих мистических учений, вероломных выпадов поэт устремился сюда, к библейским холмам в «клоках косматых трав», к «страстной земле», вздувшейся валунами и скалами, к потухшему вулкану Карадаг, величественному и загадочному, в просторы «земли глухой и древней». Здесь — другой стиль поведения, жизни, одежды. Своей внешностью Волошин вновь напоминает «ассирийского жреца — длинная, ниже колен, рубаха, Зевсова голова увенчана полынным венком». Таким его видела съезжающаяся в летние месяцы «курортная» публика. Таким его запомнили друзья и знакомые.
Тогда же, весной 1907 года, художник ещё всматривается в окружающий пейзаж, стараясь «разглядеть» душу этих мест. Пусть «в Коктебеле Христа нет нигде»; зато тут «могилы Древних богов». «Здесь был священный лес. Божественный гонец / Ногой крылатою касался сих прогалин…». Юношеские впечатления всё же были довольно-таки поверхностными. Волошин только теперь начинает «действительно… приобщаться Коктебелю». Конечно же это его «горькая купель».
Но главное — одиночество поэта «стало творческим». Он слышит гул веков и включается в иное, мифологическое, измерение жизни:
Безлесны скаты гор. Зубчатый их венец
В зелёных сумерках таинственно печален.
Чьей древнею тоской мой вещий дух ужален?
Кто знает путь богов — начало и конец?
Крымский пейзаж наполняется антично-языческим ароматом, пронизывается дыханием вечности:
Размытых осыпей, как прежде, звонки щебни,
И море древнее, вздымая тяжко гребни,
Кипит по отмелям гудящих берегов.
И ночи звёздные в слезах проходят мимо,
И лики тёмные отвергнутых богов
Глядят и требуют, зовут… неотвратимо.
(«Здесь был священный лес. Божественный гонец…»)
Суровый, если не сказать — дикий, пейзаж Коктебельской долины соответствует настроениям поэта, причудливые и таинственные окрестности, очертания гор, напоминающие зверей и фантастических чудовищ, отвечают лирико-мистическому строю души:
…А груды валунов и глыбы голых скал
В размытых впадинах загадочны и хмуры.
В крылатых сумерках — намёки и фигуры…
Вот лапа тяжкая, вот челюсти оскал,
Вот холм сомнительный, подобный вздутым рёбрам.
Чей согнутый хребёт порос, как шерстью, чобром?
Кто этих мест жилец: чудовище? титан?..
(«Старинным золотом и желчью напитал…»)
Вот так, сквозь призму мифологии, в ореоле седой древности, входила в жизнь поэта крымская пустыня. Из недр глубокой истории почерпнул он и название этих мест. В статье «Константин Богаевский» (1912) он пишет: «Киммерией я называю восточную область Крыма от древнего Сурожа (Судака) до Босфора Киммерийского (Керченского пролива), в отличие от Тавриды, западной его части (южного берега и Херсонеса Таврического)». Когда-то эти места заселяли упоминаемые ещё Гомером киммерийцы («киммериян печальная область»), которые наряду с другими племенами и народами оставили здесь следы своего пребывания:
Наносы рек на сажень глубины
Насыщены камнями, черепками,
Могильниками, пеплом, костяками…
(«Дом Поэта», 1926)
Именно теперь Киммерия окончательно становится «личным космосом» поэта и художника. Значительные пласты его творчества связаны с этими местами. Волошин посвятил Киммерии более шестидесяти стихотворений (наиболее известные из них вошли в циклы «Киммерийские сумерки» и «Киммерийская весна»), восемь статей, не говоря уже об акварелях и сделанных на некоторых из них стихотворных надписях. Именно здесь постигает он «глубокое и горькое чувство матери-земли» и свою сыновность. Во взаимообщении земли и поэта ощущается лирический нерв цикла «Киммерийские сумерки» — земли, «смертельно утомлённой напряжённостью изжитых веков», древней «Гомеровой страны» и поэта как сына этой земли, который читает «смытое веками».
Я вижу грустные, торжественные сны —
Заливы гулкие земли глухой и древней,
Где в поздних сумерках грустнее и напевней
Звучат пустынные гекзаметры волны.
(«Над зыбкой рябью вод встаёт из глубины…»)
Заливы — это и реальные водные просторы, и «воспоминания» поэта (даже не самого поэта, а его духа) о далёком прошлом. Стирается грань между явью и сном, древностью и современностью. Сама природа диктует поэтический ритм, выражая себя через античный гекзаметр. «Земля, как и человек, способна видеть сны», — отмечал Волошин. Эта вереница снов соединяет античность с нынешним днём, делает человека «сегодняшнего» соучастником древнегреческой трагедии, всё ещё разыгрывающейся на этом мифологическом пространстве. Созданию особого, торжественно-приподнятого настроения, атмосферы героического эпоса, главным персонажем которого является сама мать-земля, способствует и используемый в данном случае шестистопный ямб (вместо более характерного для русского сонета ямба пятистопного). Показательны два заключительных терцета:
И парус в темноте, скользя по бездорожью,
Трепещет древнею, таинственною дрожью
Ветров тоскующих и дышащих зыбей.
Путём назначенным дерзанья и возмездья
Стремит мою ладью глухая дрожь морей,
И в небе теплятся лампады Семизвездья.
Что за трепещущий в темноте парус имеется здесь в виду — неизвестной лодки, ладьи самого поэта или корабля Одиссея? А может быть, подразумевается гора Парус… Или это символ (знак) высшего жизненного предназначения?..
«Итак — приходит к выводу Т. Кошемчук, — от слиянности с землёй, с морской стихией, мысль поэта устремляется вверх, к звёздам. И одинокий путь ладьи среди морей и ветров оказывается причастным не только земле, но и космосу. Возвышенный образ „лампады Семизвездья“ несёт в себе успокоение, доверие к судьбе, веру в то, что путь поэта прекрасен и верен» (Анализ одного стихотворения. Л., 1985).
Киммерия в жизни Волошина… Нет, скорее Киммерия — жизнь Волошина, самоё Волошин, его плоть, душа, творчество. Об этом лучше всего говорит он сам в уже упоминавшемся стихотворении «Коктебель» (1918):
Как в раковине малой — Океана
Великое дыхание гудит,
Как плоть её мерцает и горит
Отливами и серебром тумана,
А выгибы её повторены
В движении и завитках волны, —
Так вся душа моя в твоих заливах,
О, Киммерии тёмная страна
Заключена и преображена…
«Самоё имя Киммерии происходит от древнееврейского корня KMR, обозначающего „мрак“, употребляемого в Библии во множественной форме „Kimeriri“ (затмение), — пояснял Волошин. — Гомеровская „Ночь киммерийская“ — в сущности тавтология». И далее, в конце стихотворения, самое главное:
…Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны
И Коктебеля каменная грива;
Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поёт в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.
Киммерия создавала поэта. Поэт воссоздавал Киммерию в своём творчестве и слился с ней настолько, что даже в самой её природе запечатлел собственный образ.
Если поэтическое творчество Волошина не замыкается на киммерийской тематике, то его акварельная живопись вырастает из «родины духа» и сосредоточивается на ней (хотя, конечно же, не следует забывать о французских, испанских, итальянских рисунках Волошина, его работах пером, тушью, темперой, гуашью). Однако киммерийская живопись и поэзия неотделимы, они взаимодополняют одна другую. Это подметил ещё искусствовед Э. Ф. Голлербах в статье «Миражи Киммерии: Каталог выставки» (1927): «…художник и поэт в нём почти равносильны и, во всяком случае, конгениальны. Если бы когда-нибудь удалось осуществить безупречное полихромное воспроизведение пейзажей Волошина в сопровождении стихов автора, мы имели бы исключительный пример совершенного созвучия изображения и текста».
«Стихотворение — говорящая картина. Картина — немое стихотворение», — знал ли Волошин это древнее японское изречение?..
Конечно, киммерийские стихи поэта — это не пейзажная лирика. Они — слепок души этих мест, сегодняшний и вечный. То же самое можно сказать и о живописи. «Я раньше думал, что надо рисовать то, что видишь, — писал художник 18 августа 1904 года. — Теперь я думаю, что нужно рисовать то, что знаешь. Но раньше всё-таки необходимо научиться видеть и отделять видение от знания. Самый пронзительно расчленяющий ум должен быть у живописцев». Большое значение в живописи имеет анализ. Волошин склоняется к мысли о сходстве «живописного» ума с математическим. В рисунке должны преобладать сначала анализ, а затем «логизм». Только тогда рисунок обретает способность «рассказывать». В рисунке должен быть «сосредоточен весь ум человеческого глаза, его понятие о причинности, о тяжести, его опыт и знание предметов».
Именно эти особенности его художественного дара подметил столь взыскательный ценитель искусства, как А. Бенуа. В волошинских акварелях его привлекла «пленительная лёгкость» в сочетании с «отличным знанием природы». Лёгкость и умение просто говорить (писать) о сложном, скрывая «от зрителей капельки пота», Волошин перенял у японских мастеров живописи Утамаро и Хокусаи, представителей классической гравюры, с работами которых поэт познакомился ещё в Париже. Способность воспроизводить пейзажи по памяти укрепилась у художника в годы Первой мировой войны, когда любые зарисовки с натуры были запрещены. Эту особенность творческого метода Волошина подмечает и А. Бенуа: «…Волошин не писал этюдов с натуры, но строил и расцвечивал свои пейзажи „от себя“ и делал это с тем толком, который получается лишь при внимательном и вдумчивом изучении».
В его акварелях, считает А. Бенуа, возникает «не тот Крым, который может снять любой фотографический аппарат, а… какой-то идеализированный, синтетический Крым, элементы которого он находил вокруг себя, сочетая их по своему произволу, подчёркивая то самое, что в окрестностях Феодосии наводит на сравнение с Элладой, с Фиваидой, с некоторыми местами в Испании…» В живописи Волошина маститый художник находит немало фантазий на тему Коктебеля, «представляющих, при сохранении чрезвычайной типичности, нечто совершенно ирреальное. Это уже не столько красивые вымыслы на темы, заимствованные у действительности, сколько какие-то сны». (Отметим последнее слово, столь часто употребляемое самим Волошиным в философском плане.)
С одной стороны, пейзажи Волошина конкретны и узнаваемы. Они реалистичны в лучшем значении этого слова при всей условности использования цветов, ведь реализм в понимании художника — «это вечный корень искусства, который берёт свои соки из жирного чернозёма жизни». В заметках «О самом себе», написанных в 1930 году для каталога неосуществлённой выставки его акварелей, Волошин выражает своё кредо следующим образом: «Пейзажист должен изображать землю, по которой можно ходить, и писать небо, по которому можно летать, то есть в пейзажах должна быть такая грань горизонта, через которую хочется перейти, и должен ощущаться тот воздух, который хочется вдохнуть полной грудью, а в небе те восходящие токи, по которым можно взлететь на планере». Павел Флоренский назвал коктебельские пейзажи Волошина «метагеологией», а сам поэт гордился тем, что первыми ценителями его акварелей «явились геологи и планеристы, точно так же, как и тем фактом, что… сонет „Полдень“ был в своё время перепечатан в Крымском журнале виноградарства. Это указывает на их точность». С другой стороны, акварели Волошина — это философские произведения, к тому же несущие приметы истории страны. Об этом хорошо сказано в книге «Дом-музей М. А. Волошина: Путеводитель» (Симферополь, 1990): «Резко очерченные остроконечные скалы, мятущиеся облака. Ввинчивающиеся в небо деревья, напоминающие кипарисы Ван Гога, возможно, отражают настроения и чувства Волошина в бурном 1920 году…»
Поэт изначально смотрел на живопись «как на подготовку к художественной критике и как на выработку точности эпитетов в стихах». Вспомним, что Вячеслав Иванов называл поэзию Волошина «говорящим глазом». Эпитет у него, как правило, сопрягался с цветовым значением. Вот, к примеру, несколько волошинских надписей на акварелях:
Багряные своды вечерних дерев
И озера синее око.
В скорбном золоте листов
Гор лиловые молитвы,
И зазубренные бритвы
Дальних снеговых хребтов.
Зелёный воздух дня и охра берегов.
(Одесса)
И земля, и небо, и заливы
Угасают в жёлтой тишине.
И розовой жемчужиною день
Лежит в оправе сонного залива.
Как молоко свернувшееся — ряби
Жемчужных облаков.
Сквозь жёлтые смолы полудней
Сквозят бирюзой небеса.
Сквозь зелень сизую растерзанных кустов
Стальной клинок воды в оправе гор сожжённых,
В шафранных сумерках лиловые холмы.
Янтарный свет в зелёной кисее…
И хляби волн, и купол Карадага.
А это уже первый катрен четвёртого стихотворения цикла «Киммерийские сумерки»:
Старинным золотом и желчью напитал
Вечерний свет холмы. Зардели красны, буры
Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры.
В огне кустарники и воды как металл.
«Лиловые молитвы» гор, «зелёный воздух», «жёлтая тишина», «розовая жемчужина» дня… По-видимому, изучение техники французских импрессионистов и особенно постимпрессионистов привело Волошина к неожиданному выбору цвета, ориентированному не на внешнее сходство с явлением, а на выражение его скрытой сущности. «Красная земля и зелёные пятна — Гоген. Голубая скатерть, яблоки и тарелка — Сезанн. Горящие храмы, оттенённые фиолетовым, — Ван Гог», — так описывал художник свои впечатления от парижского Салона Независимых 1904 года (Весы, 1904, № 3).
П. Сезанна он назвал «Савонаролой современной живописи». Именно Сезанн открыл поэту секрет художественного аскетизма: «На искупительном костре своего творчества он сжёг всё внешне красивое. Все маскарадные наряды и маски, все чары века сего. Это аскет, подвижник, иконоборец. Его живопись — это обнажённая правда…» Отсюда — безотрадные «пейзажи его, написанные тяжёлыми глыбами…».
Впрочем, «безотрадность» сезанновской палитры не могла увлечь Волошина. Не ощущал он духовного родства и с «эпилептиком красок» Ван Гогом. Куда ближе русскому поэту Гоген, который так же «любил простое, реальное, конкретное, человеческое. Он любил вещество и его формы, а не идею. Он искал вовсе не новой живописи, а новых ликов жизни. И когда он нашёл их, полюбил и понял, тогда он мимоходом создал и новую живопись».
Вспомним здесь и Одилона Редона, самого, пожалуй, любимого Волошиным французского художника, превратившегося в «уста, через которые Вечность шепчет свои воспоминания». Добавим сюда же русских художников — Василия Сурикова с его чувством истории, тактом и психологизмом, «каменного и глыбистого» Николая Рериха с пронизанными холодным светом истины пейзажами, «скорбного, утончённого и замкнутого» Богаевского, создавшего «исторический портрет» Киммерии, — и мы, с известными оговорками, получим то соединение традиций, которое ощущается в работах Волошина.
Но, вероятно, самый главный урок Волошин-художник получил от знакомства с иконописью, изучения символики красок древнерусского искусства, о чём свидетельствует его статья «Чему учат иконы?» (1914). «Господствующими тонами иконной живописи, — утверждает Волошин, — являются красный и зелёный: всё построено на их противоположениях, на гармониях алой киновари с зеленоватыми и бледно-оливковыми. При полном отсутствии синих и тёмно-лиловых», характерных для европейского средневековья и активно используемых поэтом в цикле «Руанский собор». «Почти полное отсутствие именно этих двух красок в русской иконописи… говорит о том, — считает Волошин, — что мы имеем дело с очень простым, земным, радостным искусством, чуждым мистики и аскетизма».
Сам поэт выходил за пределы этих «противоположений», хотя и следовал определённым славянским традициям. «Совпадая с греческой гаммой в жёлтом и красном, славянская гамма заменяет чёрную — зелёной. Зелёную же она подставляет всюду на место синей. Русская иконопись видит воздух зелёным, зелёными разбелками даёт дневные рефлексы». Отсюда у Волошина — «зелёный воздух дня».
Вообще же, в киммерийских стихах поэта преобладают красный (рдяный), зелёный, лиловый (синий), коричневый (бурый) тона. В дневных пейзажах — оранжево-жёлтый. «Из них образуется для нас всё видимое: красный (у Волошина зачастую — коричневый. — С. Я.) соответствует цвету земли синий — воздуха, жёлтый — солнечному свету. Переведём это в символы. Красный будет обозначать глину, из которой создано тело человека — плоть, кровь, страсть. Синий — воздух и дух, мысль, бесконечность, неведомое. Жёлтый — солнце, свет, волю, самосознание, царственность… Лиловый цвет образуется из слияния красного с синим» — «чувство тайны», «цвет молитвы», зелёный — от смешения жёлтого с синим — «цвет растительного царства», надежды, радость бытия. Таким образом, в киммерийских стихах и акварелях Волошина предстаёт не только Мать-Земля со всеми её хребтами и недрами, но и — в символическом плане — весь спектр проявлений человеческого духа в его диалоге с мирозданием.
Цветовое наполнение волошинских акварелей постепенно менялось. На раннем этапе творчества художник использовал тёмные, коричневато-охристые тона, выражающие специфические оттенки киммерийской природы, а также лилово-синие, придающие ей загадочно-фантасмагорический облик. Однако палитра художника постепенно высветлялась. Появлялась ощутимая мягкость цвета, переходящего в серебристо-перламутровую гамму.
Разумеется, в поэзии Волошина отход от поверхностной точности, возвышение над местной конкретикой более ощутимы по сравнению с живописью. Киммерия для поэта — это прежде всего сгусток мировой истории:
В одно русло дождями сметены
И грубые обжиги неолита,
И скорлупа милетских тонких ваз,
И позвонки каких-то пришлых рас,
Чей облик стёрт, а имя позабыто…
(«Дом Поэта»)
Современный пейзаж вырастает из исторического, считает один из крупнейших западных славистов Е. Эткинд: в стихотворении «Над синевой зубчатых чащ…» (1913) «слово Гамадриада» поставлено не из кокетства учёностью, а потому что Киммерия некогда была частью Древней Греции и присутствие нимфы дерева мотивировано исторически. В стихотворении «Карадаг» (1918) вулкан изображён в процессе рождения: «Как разметавшееся пламя / Окаменелого костра»; это его, так сказать, археологический аспект. Другим является аспект историко-мифологический: спустясь в базальтовые гроты и вглядевшись в провалы, можно увидеть нечто подобное входу в Аид, и тогда — «Склонись, тревожный и немой, / Перед богами преисподней»«…Сквозь трезвый взгляд человека двадцатого века проступают „поэтические верования эллина“»[8]:
Доселе грезят берега мои:
Смолёные ахейские ладьи,
И мёртвых кличет голос Одиссея,
И киммерийская глухая мгла
На всех путях и долах залегла,
Провалами беспамятства чернея…
(«Дом Поэта»)
Есть у Волошина сонет, который так и называется: «Одиссей в Киммерии» (1907). В Доме-музее поэта до сих пор хранится доска, обломок корабля, на котором якобы проплывал мимо этих берегов царь Итаки. Волошин нашёл этот предмет, занесённый в Коктебельский залив из «моря древнего», и прикрепил его над тахтой в углублённой нише своей мастерской, что именовалась каютой (волошинский дом, достроенный в 1913 году, с лёгкой руки его хозяина, многие сравнивали с кораблём, а мастерскую с его рострой, готовой встретить набегающую волну). Именно в этой «каюте», лёжа под обломком «корабля Одиссея» и слушая шум прибоя, словно бы бьющегося в стены мастерской, написал своё известное стихотворение Осип Мандельштам: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915).
Киммерия — это ещё и «незнаемая» земля «Слова о полку Игореве». «Незнаемая» — то есть для Древней Руси неизвестная, в более широком смысле — загадочная, таинственная страна. В сонете «Гроза» Волошин стилизует слог и образность древнерусского художественного шедевра:
Запал багровый день. Над тусклою водой
Зарницы синие трепещут беглой дрожью.
Шуршит глухая степь сухим быльём и рожью,
Вся млеет травами, вся дышит душной мглой.
И тутнет гулкая. Див кличет пред бедой
Ардавде, Корсуню, Поморью, Посурожью, —
Земле незнаемой разносит весть Стрибожью:
Птиц стоном убуди и вста звериный вой.
С туч ветр плеснул дождём и мечется с испугом
По бледным заводям, по ярам, по яругам…
Тьма прыщет молнии в зыбучее стекло…
То Землю древнюю тревожа долгим зовом,
Обида вещая раскинула крыло
Над гневным Сурожем и пенистым Азовом.
Эта мифологичность Киммерии, её особость как арены «борьбы племён и смены поколений», её всевременность и «мрачный гений» исторических катаклизмов, а главное, её созвучность внутреннему миру поэта — всё это давало мощнейший творческий импульс.
«Киммерийские» циклы стихов — это его откровения Матери-Земле, молитвы её древнему лику, «припадение» художника к её «сосцам». Сроднившись с «горькой душой тоскующей полыни», поэт обращается к «сиянью древних звёзд», «потухшим солнцам», «скорбным» пределам «незнаемой страны». «Киммерийские сумерки» писались преимущественно в 1907 году. Стихотворения этого цикла отмечены печатью непреходящих переживаний, однако интимные чувства поэта уходят под спуд, образуя то самое силовое поле, что делает лирику философско-исповедальной. Природа словно бы оживает, сливаясь с душой поэта в одном лирическом ритме:
…Теперь на дол ночная пала птица,
Край запада лудою распаля,
И персть путей блуждает и томится…
Чу! В тёплой мгле (померкнули поля…)
Далёко ржёт и долго кобылица.
И трепетом ответствует земля.
(«Сехмет», 1909)
И наоборот. В ряде случаев сам поэт уподобляет себя Праматери-пустыне, размыкая её уста, «безгласные, как камень»; он ощущает себя мифологическим Океаном, омывающим «круг земли». Киммерия в восприятии Волошина — это часть планеты, затерянной в космических пространствах, элемент макрокосма. На этот аспект обратила внимание Е. К. Герцык, выделив такие строки поэта:
Отроком строгим бродил я
По терпким долинам
Киммерии печальной…
Ждал я призыва и знака,
И раз пред рассветом,
Встречая восход Ориона,
Я понял
Ужас ослепшей планеты,
Сыновность свою и сиротство…
(«Отроком строгим бродил я…», 1911)
По её мнению, поэт склоняется «к земле в её планетарном аспекте, к оторванной от своего огненного центра, одинокой. (Замечу в скобках, что это не декадентский выверт: то, что земля — стынущее тело в бесконечных чёрных пустотах, — это реально так же, как реальны города на земле, как реальна человеческая борьба на ней. Кому какая дана память!) Перелистав книгу стихов Волошина, нельзя не заметить, что самые лирические ноты извлекает из его души видение земли… В нём будит жалость и „терпкий дух земли горючей“, и „горное величие весенней вспаханной земли“…
В гранитах скал — надломленные крылья.
Под бременем холмов — изогнутый хребет.
Земли отверженной застывшие усилья.
Уста Праматери, которым слова нет!
И в поэте эта немота вызывает ответный порыв — делить её судьбу:
Быть чёрною землёй…
В своём физическом обличье сам Волошин, такой материковый, глыбный, с минералом иззелена-холодноватых глаз, как будто только что возник из земли, огляделся, заговорил…
История человека начинается для него не во вчерашнем каменном веке, а за миллионы миллионов лет, когда земля оторвалась от солнца, осиротела… Каждой частицей своего телесного состава он словно помнит великие межзвёздные дороги. Человек — „путник во вселенной“…» Поэт, продолжим мы за Е. К. Герцык, «проросший» сквозь тьму «горький дух», в котором «время спит, как в недрах пирамид»…
Однако вернёмся в 1907 год. Кстати сказать, именно Евгения Герцык (вместе с сестрой Аделаидой) стала одной из первых, кто оказал душевную поддержку Волошину в это тяжёлое для него время. Е. К. Герцык познакомилась с Максом ещё в Петербурге на «Башне». Как-то поздно ночью, в соответствии с традициями этого места, она сидела в кабинете Вячеслава Иванова над гранками книги «Эрос». Вячеслав по обыкновению что-то вещал, чему-то наставлял. Неожиданно бесшумными движениями «скользнула в комнату фигура в пёстром азиатском халате, — увидев постороннюю, Волошин смутился, излился в извинениях — сам по-восточному весь мягкий, вкрадчивый, казавшийся толще, чем был, от пышной бороды и привычки в разговоре вытягивать вперёд подбородок, приближая к собеседнику эту рыжевато-каштановую гущину. В руках — листок, и он читает посвящение к этим же стихам Вяч. Иванова. Читая, вращал зеленоватыми глазами. Весь чрезмерно пышный рядом с бледным, как бы обескровленным Вяч. Ивановым».
Естественно, в общем разговоре вскоре возник Коктебель. Евгения Казимировна, хоть и жила по соседству в Судаке, не слишком хорошо знала, что там делается: «Но разве живут в Коктебеле? Там на безлюдном берегу ни дома, ни деревца…» А он сказал: «Коктебель моя родина, мой дом — Коктебель и Париж, — везде в других местах я только прохожий».
Потом были встречи в Коктебеле, в Судаке, был приезд Маргариты Сабашниковой, были многочасовые прогулки и бесконечные разговоры. «В конце мая мы в Судаке, — вспоминает Е. К. Герцык, — и в один из первых дней он у нас: пешком через горы, сокращёнными тропами (от нас до Коктебеля 40 вёрст), в длинной, по колена, кустарного холста рубахе, подпоясанный таким же поясом. Сандалии на босу ногу. Буйные волосы перевязаны жгутом, как это делали вихрастые сапожники. Но жгут этот свит из седой полыни. Наивный и горький веночек венчал его дремучую голову». (Макс также оставил свои впечатления об этом походе: «Это было удивительно хорошо — эти 9 часов в раскалённой пустыне… мощно выгнутые гомеровские заливы, потом пустыня холмов и поляны сожжённой звонкой травы»), Волошин постоянно извлекал из рюкзака французские томики стихов и какие-то исписанные листочки, читал свои опусы, перемежая «нерифмованные античные лады» с привычными современными размерами. Евгении Казимировне запомнились эти стихи 1907 года: в них было «больше лиризма, меньше, чем обычно, назойливого мудрствования. Меньше фанфар». Она знала, что в символистских кругах волошинскую поэзию недолюбливали: «всё сделано складно, но чего-то чересчур, чего-то не хватает…»
Здесь, в Судаке, душа Макса потихоньку умиротворялась: многочасовые сидения на террасе за чайным столом в приятном женском обществе, стихи любимых французов, свои собственные. Когда Волошин уставал, его сменяла Аделаида Герцык, также знавшая толк в поэзии. Потом следовали рассказы Макса о странствиях по Германии, Испании, Андорре, о жизни парижской богемы. «Горничная убирает посуду, — пишет Е. К. Герцык, — снимает скатерть, с которой мы поспешно сбрасываем себе на колени книги и тетради. Приносится корзина с черешнями — черешни съедаются. Потом я бегу на кухню и приношу кринку парного молока. Волошин с сомнением косится на молоко (у них, в солончаковом Коктебеле, оно не водилось), как будто это то, которое в знойный полдень Полифем надоил от своих коз. И вот он пересказывает нам — не помню уже чью, какого-то из неосимволистов — драму: жестикулируя короткой по росту рукой, приводит по-французски целые строфы о Полифеме и Одиссее…»
Волошина очень влечёт парадоксальность сама по себе — касается ли это судьбы отдельного человека или целого народа. Поговорив о Реми де Гурмоне, изысканном эстете с лицом, обезображенным волчанкой, Макс переходит к новой и актуальной теме: революция, народ, исторические соответствия. Сбивчиво, взахлёб (уже далеко не первый раз) он выстраивает парадоксальную цепочку умозаключений: «Революция? Революция — пароксизм чувства справедливости. Революция — дыхание тела народа… И знаете, — Волошин оживляется, переходя на милую ему почву Франции, — 89-й год, или, вернее, казнь Людовика, — корнями в 14-м веке, когда происками папы и короля сожжён был в Париже великий магистр ордена Тамплиеров Яков Молэ, — этот могущественный орден замышлял социальные преобразования, от него и принципы: egalite и т. д. И вот во Франции пульсация возмездия, всё революционное всегда связано с именем Якова: крестьянские жакерии, якобинцы…»
И дальше всё в таком духе. А. В. Амфитеатров был далеко не единственным слушателем подобных любопытных импровизаций. «Исторический анекдот, остроумное сопоставление, оккультная догадка — так всегда строилась мысль Волошина и в те давние годы, и позже, в зрелые. Что ж, и на этом пути случаются находки. Вся эта французская пестрядь, рухнувшая на нас, только на первый взгляд мозаична — угадывался за ней свой, ничем не подсказанный Волошину опыт. Даром, что он в то время облекался то в слова Клоделя, то в изречения из Бхагавадгиты по-французски…» Что ж, с этими выводами Е. К. Герцык трудно не согласиться…
Вспоминая о том периоде общения с Волошиным, Евгения Казимировна подмечает одну важную деталь: Макс был не только великолепный словоохотливый рассказчик, но и прекрасный слушатель. Он вникал «в каждую строчку стихов Аделаиды, с интересом вчитывался в детские воспоминания её, углубляя, обобщая то, что она едва намечала.
Между ними возникла дружба или подобие её, не требовательная и не тревожащая. В те годы, когда её наболевшей душе были тяжелы почти все прикосновения, Макс Волошин был ей лёгок; с ним не нужно рядиться напоказ в сложные чувства, с ним можно быть никакой».
Именно с ней, с Аделаидой Казимировной, Макс мог поговорить о самом интимном, мог затронуть самые сложные психологические проблемы. «Объясните же мне, — пишет он ей, — в чём моё уродство? Все мои слова и поступки бестактны, нелепы; всюду, и особенно в литературной среде, я чувствую себя зверем среди людей, — чем-то неуместным… А женщины? У них опускаются руки со мной, самая моя сущность надоедает очень скоро, и остаётся одно только раздражение. У меня же трагическое раздвоение: когда меня влечёт женщина, когда духом близок ей — я не могу её коснуться, это кажется мне кощунством…» Из письма А. К. Герцык: «Если близость для Вас — неправда, то вспомните, что женщины… легко научаются любить по-другому, издали». И ещё одно: «Вы умеете всё претворять в красоту».
Между тем в Коктебель по приглашению Волошина собирается приехать из Ашфорда Вайолет Харт, которую Макс не видел с тех самых памятных, парижских, времён. Пока что он небезуспешно пытается загрузить себя работой: пишет статью, посвящённую драматургии Леонида Андреева, рецензию на «Трагический зверинец» Лидии Зиновьевой-Аннибал, из-под его пера одно за другим выходят киммерийские стихотворения, он с головой погружается в «гениальную оккультную драму» Вилье де Лиль-Адана «Аксель». Продолжается переписка с Маргаритой. 4 июня он ей пишет: «Хочу дружеской и товарищеской жизни с тобой… чтобы ты была самостоятельной, а не опекаемой… Я тебя считаю свободной и со мной не связанной».
В самом конце июня Волошина навещает Пешковский с супругой, в самом начале июля — Кандауров с семьёй, а 5 июля, наконец, появляется мисс Харт, которая сразу же «очаровала всех своей энергией, простотой и решительностью». Макс не преминул сообщить Маргоре: «Я чувствую к ней глубокую дружбу… Мои ласки дают ей страшную радость». И самое весомое: «Во мне восстанавливается прежнее великое равновесие». Несмотря на то что у него ещё не прошёл «ужас к „Башне“», где подвизается «круг людей, специализирующихся на психологических и половых экспериментах», Макс всё же передаёт через Сабашникову приглашение Вячеславу Иванову посетить с женой Коктебель. Мы знаем, что этого не случится.
Волошин с удовольствием показывает ирландской гостье свои «владения», простирающиеся далеко за пределы Коктебеля. Они посещают имения хороших знакомых Макса: Шах-Махай, Эссен-Эли под Старым Крымом, средневековый монастырь Сурп-Хач; наведываются и в Судак к Герцыкам. «Как-то среди лета, — вспоминает Евгения Казимировна, — Волошин появился в сопровождении невысокой девушки, черноволосой, с серо-синими глазами… Он оживлённо изобразил сцену её приезда: был сильный ливень, горный поток… разделил надвое коктебельский пляж… Он и Вайолет стояли по обе стороны его, жестами, беспомощными словами перекликались, наконец, она разулась и, подобрав платьице, мужественно ринулась в поток — он еле выловил её. „И первым жестом моего гостеприимства было по-библейски принести чашку с водой и омыть ей ноги“. Вайолет тихо сияла глазами, угадывая, о чём он рассказывал. Мы переходили на французский язык, на английский, но на всех она была немногоречива». На прогулках она «восхищённо кивала головой… козочкой перебегала по скалам и, усевшись на каком-нибудь выступе над кручей, благоговейно вслушивалась во французскую речь Волошина — речь свободно текущую, но с забавными ошибками в артикле».
В результате эта «тихая Вайолет так и осталась в России, прижилась здесь, через несколько лет вышла замуж за русского, за инженера» (лесовода, увлекающегося живописью, В. Я. Полунина). Буквально накануне свадьбы, трепетно сжимая руки Аделаиды Герцык, ирландская художница выдохнула: «Мах est un Dieu!» (Макс — это Бог, фр.). Ну а Макс в августе 1912 года напишет ностальгическое стихотворение, пронизанное неподдельным чувством:
Милая Вайолет, где ты?
Грустны и пусты холмы.
Песни, что ветром напеты,
Вместе здесь слушали мы.
Каждая рытвина в поле,
Каждый сухой ручеёк
Помнят глубоко до боли
Поступь отчётливых ног.
Помнят, как ты убегала
В горы с альпийским мешком,
С каждою птицей болтала
Птичьим её языком…
Вайолет Харт оставила карандашный рисунок Волошина и его незаконченный портрет маслом. Она успела пообщаться с приехавшей в Крым Маргаритой Сабашниковой, о чём последняя, не меняя своего стиля, сообщила в Москву матери: «В Коктебеле всё по-старому. Справа Манасеины, слева Юнге, впереди море, сзади помои. Я много у себя в комнате. Занимаюсь. На закате хожу с miss Hart на этюды или в горы… Вчера ездили в Оттузы на лодках с турками, нас укачало и рвало». А «про Макса» Вячеславу Иванову в начале сентября будет доложено следующее: «Мне тяжело было и будет с ним. У него мёртвое сердце… Он ничего не видит, не понимает в других». Что ж, остаётся только развести руками и констатировать, что расставание супругов было предопределено заранее; а ещё — задаться неразрешимым вопросом: как бы всё могло сложиться у Макса с Вайолет, не будь Маргариты?..
Очистившись в коктебельской «купели», Волошин вновь обращается мыслями к столицам. Из него, конечно же, не выветрился вкус к литературной жизни. 19 ноября он прибывает в Москву, встречается с Вячеславом Ивановым, Львом Шестовым, Андреем Белым и приходит с ним к «полному примирению». Что же касается Вяч. Иванова, то он, после долгих поцелуев, изрёк: «Между нами есть связь. Мы можем быть различны. Но… мы идём вместе». Был разговор с Ивановым о мистике, с Эллисом о снах; состоялось знакомство Макса с поэтессой Любовью Столицей; имел место завтрак у Брюсова. Литературные связи были вновь налажены и, обобщая свои московские впечатления, Волошин пишет: «Вся атмосфера теперь переменилась и очистилась. Нет того грозового напряжения и озлобленности, что была в мае. Белый примирился с Вяч. Ивановым, Эллис со мной…»
Теперь — очередь за Петербургом, куда поэт приезжает 6 декабря и где его настигает приступ астмы. В меблированных комнатах «Эрмитаж», на Невском проспекте, Волошин вынужден какое-то время вести столь несвойственный ему сидяче-лежачий образ жизни. Общаться со знакомыми приходится только посредством писем. Что ж, конец года получился несколько смазанным. Но сквозь декабрьское ненастье пробивались и светлые лучи. Волошин закончил статью «О теософии», суммирующую его взгляды на оккультные знания, несколько эссе, которые войдут в книгу «Лики творчества», большинство стихотворений цикла «Киммерийские сумерки». Макс получает в дар от Сергея Городецкого «как память старых дней» сборник стихов «Дикая воля», от Фёдора Сологуба — трагедию «Победа смерти». Состоялось знакомство поэта с Алексеем Толстым, тогда — начинающим литератором.
Но, если уж говорить об истинном просветлении духа, «катарсисе» 1907 года, то это Коктебель, место, где Волошин ощутил вечную тайну жизни земли, вызвав своим творчеством из небытия «лики тёмные отвергнутых богов». Именно здесь открылась ему космическая душа мироздания:
И тысячами глаз взирающая Ночь,
И тысячами уст глаголящее Море.
Сейчас мы стоим над колыбелью нового поэта.
Это подкидыш в русской поэзии.
Ивовая корзина была неизвестно кем
оставлена в портике Аполлона…
Какой же дар нам, феям-критикам,
положить в колыбель этому подкинутому
в храм Аполлона поэту? Нам думается,
что ей подобает только один — золотой,
неверный и нерадостный дар — слава.
29 декабря 1907 года в газете «Русь» появилась статья Максимилиана Волошина, посвящённая книге Валерия Брюсова «Пути и перепутья». Поэт с «лицом звериным», напоминающим «маску дикой рыси, с кисточками шерсти на ушах», с «хищным, кошачьим лбом» и «глазами раскольника», «злобным оскалом зубов, который придаёт его смеху оттенок ярости», давно привлекал художника как явление неординарное, неоднозначное, требующее к себе пристального внимания.
Волошин считает, что поэтом Брюсова сделала страсть, «опасная страсть, которая двигала Наполеонами, Цезарями и Александрами, — воля к власти». Брюсова нельзя назвать ни поэтом-мечтателем, ни поэтом-чародеем. Это — «поэт-завоеватель, создатель империи, установитель законов, основатель самодержавий». Анализируя условия, в которых развивался его талант, автор обращает внимание на то, что в Цветной бульвар (малая родина Брюсова) впадает целая система улочек и переулков, спускающихся с горы, «кишмя кишащей кабаками, вертепами, притонами и публичными домами». Всё здесь пропахло «запахами сифилиса, вина и проституток». Так что же? А то, что «вся юность Валерия Брюсова прошла перед дверьми Публичного Дома». Именно так — оба слова с заглавной буквы. Эту-то область жизни он и попытался воплотить в стихе. Однако, по мнению автора статьи, это «большое дерзновение, потому что в этой области у него не было предшественников и все традиции русской литературы были против него, тем более что он не искал здесь ни морали, ни жалости, а художественных обобщений и правды». Вообще же эти опыты «грубы и безвкусны».
Эти юношеские впечатления так и останутся, считает далёкий от всего этого Волошин, растворёнными в творчестве Брюсова. «Он не перейдёт на высшую ступень по отношению к женщине и любви. Женщина останется для него всегда проституткой (Священной жрицей), а любовь судорогой сладострастия (Ложем пытки). Но не подымаясь вверх, он бесконечно углубит эти явления жизни и свяжет их с биением мировой жизни». В волошинской статье запечатлены и другие мысли по поводу брюсовской поэзии, но сквозной мотив остаётся неизменным: «…в понимании любви он не может стать выше центуриона, приехавшего в Рим из далёкого лагеря, ландскнехта, вступившего в покорённый город, или моряка, на короткие часы сошедшего на землю в морском средиземноморском порту». Так уж получилось, что в сознание читателей газеты запал прежде всего образ юного Валерия Яковлевича, застывшего перед дверьми дома свиданий.
3 января Волошин получил письмо-протест от Брюсова, в котором московский мэтр благодарит коктебельского критика за высокую оценку его поэзии и укоряет за столь нелицеприятную характеристику самой личности творца: «Всё, что Вы говорите обо мне лично, меня очень сердит и кажется неуместным…» Далее Брюсов делает великодушный жест, заявляя, что мог бы сам послать официальный протест в редакцию, «но счёл, что это было бы обидно для Вас и захотел непременно передать его через Ваши руки, как Вы передали через меня в „Весы“ Вашу статью о моих переводах Верхарна…».
Сам же протест был выражен весьма категорично. Автор статьи, по мнению обиженного поэта, «вышел за пределы, предоставленные критике, и позволил касаться того, что лежит вне литературы… Довольно беглое, в общем, и ни в каком случае не интимное знакомство г. Волошина со мною не давало ему права рассказывать своим читателям небылицы о моём детстве, ему вовсе не известном…» (Позднее, в «Автобиографии» Брюсов напишет: «Мне было лет 12–13, когда я узнал „продажную любовь“».) Поэт-«ландскнехт» выразил надежду, что в дальнейшем сей бестактный критик будет писать о его, брюсовской, лирике и прозе, а не его, брюсовском, сюртуке или квартире.
Освобождаясь от эмоций, полемика приобретала теоретико-методологический характер. Убеждённый в своей правоте, Волошин в ответном «Письме» выразил «те руководящие идеи», которым он следует в опусах подобного рода. Он считает, что лик художника неотделим от личности человека. «Если я, как поэт, читаю душу его по изгибам его ритмов, по интонации его стиха, по подбору его рифм, по архитектуре его книги, то мне, как живописцу, не меньше говорит о душе его и то, как сидит на нём платье, как застёгивает он сюртук, каким жестом он скрещивает руки и поднимает голову… Отделять книгу от автора её, слово от голоса, идею — от формы того лба, в котором возникла она, поэта — от его жизни… как поэт Валерий Брюсов может требовать этого?..» Да, конечно, надо стремиться быть «добросовестным историографом людей и разговоров», но при этом чисто художественное отношение к объекту твоих литературно-публицистических интересов выведет материал на уровень легенды, некоей фантазии. Не случайно, французский писатель, мифограф Марсель Швоб использовал в подобных случаях словосочетание «vies imaginaires» (жизни воображаемые), то есть имеющие отношение к жизни реальной, но и выходящие за её пределы.
Против Волошина выступил в печати и А. В. Амфитеатров, который, похоже, так и не смог избавиться от того неприятного осадка, который оставила в его памяти парижская лекция «чудодея» об истоках французской революции. В той же газете «Русь» Александр Валентинович соотнёс «воображаемые жизни» с литературными сплетнями и усмотрел здесь «скверную моду богемы парижских модернистов». «Правильный» публицист и мемуарист, Амфитеатров не удержался от того, чтобы по поводу этой моды, взятой на Руси «нотою выше», основательно поворчать: «Нашли, что необыкновенно лестно обзывать друг друга сатирами, фавнами, центаврами, каторжниками, воспитанниками публичных домов, грешниками по Оскару Уайльду, грешниками по Сафо. Загуляли такие „лики творчества“, что и в масляничное заговенье взглянуть страшно…»
Конечно, к Волошину и его статье, в которой поэт намеревался вывести «макиавеллиевскую фигуру» одного из лидеров современной литературы, всё это не имеет никакого отношения. Хотя Максу всё же не поздоровилось: в результате этой перепалки его «Лики творчества» на какое-то время оказались чуть ли не под запретом. Однако из всей этой сумбурной дискуссии следует выделить только одно словосочетание: «жизни воображаемые». Эта установка Волошина на приоритет воображения и фантазии не только в поэзии, но и в самой жизни вскоре породит одну из самых громких литературных сенсаций и самых ярких мистификаций в истории русской культуры. Но не будем спешить…
Париж. Июнь 1907 года. Мастерская художника Себастьяна Гуревича. Молодой поэт Николай Гумилёв читает стихи из только что законченной им книги «Романтические цветы». Ему внимает девушка, которую никак не назовёшь эффектной. Полноватая. Но какие огромные, пытливые глаза… Гумилёв декламирует:
Над пучиной в полуденный час
Пляшут искры и солнце лучится,
И рыдает молчанием глаз
Далеко залетевшая птица.
Поэт и его слушательница пока ещё не подозревают, что уже совсем скоро они будут созерцать не городские строения за окном, а коктебельские горы, бескрайнюю гладь моря, а где-то у самого горизонта будет метаться, описывая круги, какая-то странная птица…
Заманила зелёная сеть
И окутала взоры туманом,
Ей осталось лететь и лететь
До конца над немым океаном.
Прихотливые вихри влекут.
Бесполезны мольбы и усилья,
И на землю её не вернут
Утомлённые белые крылья.
Гумилёв умолкает. Его косящий взгляд одновременно устремлён и на девушку, и куда-то мимо. Ей же вдруг показалось, что стихотворение — про неё, что это она — одинокая, белая, потерянная в своей безысходности птица. И она меняет тему:
— Расскажите мне ещё… про Царское.
— Но вы разве там не были?..
— Не важно. Мне нравится слушать вас.
— Мы обязательно поедем в Царское Село, Лиля… Там есть скамейка, где любит отдыхать Иннокентий Анненский… Представляете… Сани мягко так летят… по рыхлому, талому снегу…
Пауза. Гумилёв, вновь взглянув на девушку своим загадочным раздваивающимся взглядом, читает:
И когда я увидел твой взор,
Где печальные скрылись зарницы,
Я заметил в нём тот же укор,
Тот же ужас измученной птицы.
Но в глазах Лили — не укор. Восторг и ужас. Ей показалось, что на какое-то мгновение приподнялась завеса над её судьбой…
22 марта 1908 года, заглянув на «Башню», во время одного из заседаний, Волошин замечает девушку с большими, выразительными глазами. Неприметная внешне, даже некрасивая, она притягивала к себе каким-то ищущим взглядом. Во всём её облике было что-то беспомощное, но из сияющих глаз струились «светы» «иных миров». Макс скоро заговорил с ней и был приятно удивлён тем, как быстро установилось между ними взаимопонимание. Так произошло знакомство с Лилей (Елизаветой Ивановной Дмитриевой, в замужестве — Васильевой), в то время — слушательницей последнего курса Женского педагогического института, большой поклонницей старофранцузской литературы. Тот, первый, разговор не таил в себе ничего серьёзного. Макс дал Лиле какую-то теософскую книгу, они расстались. Потом еще пару раз виделись мельком, после чего Дмитриева уже сама назначила Максу встречу, во время которой они обстоятельно беседовали о жизни, смерти, поэзии, человеческом назначении. Выяснилось, что Лиля хорошо знает волошинские публикации, очень любит его стихи и сама намеревается идти «по этому пути».
Однако Волошину пока не до большеглазой девушки. 11 мая он уезжает в любимую Францию, по пути наведавшись в Гамбург к Маргарите Сабашниковой, которая повсюду неотступно следует за Рудольфом Штейнером. Чуть раньше, слушая его лекции в Берлине, Маргарита писала Анне Минцловой: «Это пророк… у него через глаза смотрит вечность». В Гамбурге Штейнер читал цикл лекций «Евангелие от Иоанна». На некоторых из них Волошин присутствовал. Сабашникова вспоминает, что после одной из лекций Макс задал вопрос, который очень его тогда занимал: «…не является ли Иуда, взявший на себя грех предательства, благодаря чему только и стала возможной жертва Христа, истинным спасителем мира? Штейнер решительно отверг эту идею». А Волошин в ноябре 1919 года напишет стихотворение «Иуда-апостол», в котором разовьёт эту тему: «И никто из одиннадцати не понял,/ Что сказал Иисус,/ Какой он подвиг возложил на Иуду / Горьким причастием».
Макс и Маргарита, по документам оставаясь супругами, внутренне всё более и более отдаляются друг от друга. В Гамбурге поклоннице Штейнера не по душе ни сам Макс, ни общение с ним, ни его философия. Похоже, что даже внешне он становится ей неприятен. После его отъезда она оставит запись: «Нам было очень тяжело вместе. Всё его существо глубоко негармонично… на улице все покатываются со смеху при виде этого толстяка в цилиндре и чудн
Волошин же не останется в долгу и в октябре 1908 года напишет матери: Маргарита «переживает всё время старое… ото всех требует определённой цели в жизни и безусловности и думает, что в человеке нужно любить только одно хорошее… Она не понимает, что такие требования можно ставить самому себе, но никак не другим, и что понятия добра и зла различны глубоко в каждом». Макса раздражает Аморино морализирование, её претензии на знание какой-то конечной истины, постоянные упоминания всуе имени Божьего…
Приехав в Париж, Волошин включается в привычную круговерть: посещает Гранд-Опера, где слушает оперу «Борис Годунов» в антрепризе Сергея Дягилева с Фёдором Шаляпиным в главной партии, записывается в Национальную библиотеку, заглядывает в ателье к Е. С. Кругликовой, где возобновляет знакомство с А. Н. Толстым. Об этих первых встречах двух писателей — Волошина и Толстого, — которым суждено будет продолжиться в Коктебеле, написано немало воспоминаний. Поэт Волошин сразу же взял шефство над только ищущим свой жанр Толстым. Начали с внедрения эстетики в жизнь. Нередко сам шокирующий публику своим видом, Макс тем не менее решил выступить, выражаясь современным языком, в роли имиджмейкера и отвёл графа в парикмахерскую. Россиянин мгновенно превратился в европейца, по крайней мере — внешне: бородка клинышком, усы сбриты, волосы причёсаны на косой пробор, фетровую шляпу сменил цилиндр. При Толстом остались лишь его энергия, остроумие, широта натуры.
Затем Макс взялся за литературное профилирование младшего товарища. Что пишет граф Толстой? Стихи? Прекрасно. И ещё — прозу? Чудесно. Только вот хорошо бы при этом иметь в виду… «Он посвящает меня в тайны поэзии, — вспоминает Алексей Николаевич, — строго критикует стихи, совершенно бракует первые прозаические опыты». А Вы пробовали писать пьесу? А что, если «вставить» туда хорошо знакомых людей с их индивидуальной речевой манерой…
Можно и в рассказ. А вообще, считает Волошин, граф Толстой должен воспользоваться своим происхождением и стать, может быть, «последним в литературе, носящим старые традиции дворянских гнёзд». Ведь теперь «все поэты и писатели — городские», надо противопоставить общему направлению свою тему, написать что-то объёмное, какой-нибудь большой цикл. Как известно, уроки эти пойдут Толстому на пользу: он вскоре выпустит цикл рассказов и повестей «Заволжье», создаст колоритные образы «помещиков-последышей».
Конечно же общение не сводилось только к литературным разговорам. Жена начинающего писателя Софья Исааковна Дымшиц-Толстая, специализировавшаяся в области живописи, приводит в своих воспоминаниях ряд колоритных деталей, характеризующих их парижское времяпрепровождение. Жили они в большом многонациональном пансионе, и Алексей Николаевич любил подчёркивать, что он из России, появлялся в шубе и меховой шапке, обедал плотно, как он говорил, «по-волжски». Плохо зная французский, граф Толстой тем не менее работал над собой: обогащал свой лексикон выражениями из парижского жаргона и вообще крепкими словечками. Однажды, зайдя поздно вечером к Волошину и убедившись, что дома у него пусто, «Алексей Николаевич вызвался пойти за вином и закусками в один из близлежащих магазинов. Пока он ходил, закрыли парадную, и консьержка отказалась впустить незнакомого ей визитёра. Тогда Алексей Николаевич поговорил с ней на парижском арго, требуя, чтобы его пропустили к „месье Волошину“. Та, вне себя от ярости, прибежала к Волошину, заявив, что она не может поверить, что „нахальный субъект“ у дверей в самом деле является его другом. Не менее удивлён был и Волошин. „Мой друг, — сказал он, — не говорит по-французски. Здесь какое-то недоразумение“. „О нет! — воскликнула консьержка. — Он говорит. И при этом очень хорошо“».
Софья Исааковна посещала мастерскую Кругликовой, художественную школу Ла Палетт, познакомилась с французским мастерами живописи — Гереном и Ле Фоконье, с русскими художниками К. С. Петровым-Водкиным и Н. А. Тарховым. Но чаще в круг их общения попадали поэты — тот же Волошин, символистский «мэтр» Бальмонт, «порывистый, несколько неврастенический импровизатор». В ресторанчике «Клозери де Лиля», излюбленном месте встреч литераторов, часто бывал молодой поэт Илья Эренбург, который «среди приглаженных и напомаженных французов-литераторов выделялся своей пышной шевелюрой. Мы однажды послали ему на адрес кафе открытку с надписью: „О месье маль куафе“ („плохо причёсанному господину“) — и эта открытка нашла Эренбурга».
Из всей этой художественно-литературной среды С А. Дымшиц-Толстая также выделяет Волошина, отмечая, что её муж очень ценил его глубокие знания. «Он любил этого плотного, крепко сложенного человека, с чуть близорукими и ясными глазами, говорившего тихим и нежным голосом. Ему импонировала его исключительная, почти энциклопедическая образованность; из Волошина всегда можно было „извлечь“ что-нибудь новое. Но вместе с тем Толстой был очень далёк от того культа всего французского, от того некритического, коленопреклонённого отношения к новейшей французской поэзии, которые проповедовал Волошин». Да и в плане весёлого времяпрепровождения Макс — не последний человек, будучи своим в любой компании, независимо от того, пьющие ли там собирались люди или трезвенники. В тот год Волошин, Толстой и Кругликова очень недурно отметили Национальный праздник — взятие Бастилии, — что впоследствии найдёт отражение в рассказе Алексея Толстого «14 июля».
Толстые — не единственные, с кем Волошин общается в Париже. Поэт очень рад приехавшей сюда Аделаиде Герцык, которая сообщает сестре, что Макс одним своим присутствием облегчает ей многое. «Он лёгок, не помнит прошлого… влюблён в Париж, всегда согласен показывать его и напоминает мне бестревожную судакскую жизнь». К тому же выясняется, что Макс — великолепный повар, а его главная «специальность» — суп из черепахи. Как всегда, художник часто бывает у А. В. Гольштейн, по-прежнему прислушивается к её мудрым советам, встречается с Рене Гилем, ему очень интересен столь ярко заявивший здесь о себе С. П. Дягилев, много нового из театральной жизни узнаёт он от К. С. Станиславского. Волошин сближается с молодым польским скульптором Эдвардом Виттигом, ваяющим бюст поэта. Промелькнули В. Брюсов и Н. Минский. Париж есть Париж — здесь людно, интересно, кипит творческая жизнь, но он уже не может долго обходиться без своей Киммерии, где слышен «Вещий крик осеннего ветра в поле», где шумит море, «Развивая древние свитки / Вдоль по пустынным пескам».
А на душе в общем-то слякотно. Время от времени накатываются неприятные воспоминания, связанные с Вячеславом Ивановым: «Теперь, когда всё личное к Вячеславу у меня исчезло (нет, не исчезло — погашено), теперь я знаю, насколько я ему и всему, что от него, враг. Не ему только: враг всем пророкам, насилующим душу истинами». Макс ощущает порой какую-то потерянность, его томит личная неустроенность. О Маргарите уже думать не хочется: она «бледная, холодноватая, далёкая». Волошин скрывает эти настроения, но иногда они прорываются наружу. Тот же А. Толстой вспоминает, что как-то раз, в августе 1908 года, встретил поэта, который был явно не в духе. «У него был нарыв, и он шёл ко мне за лекарством; его мучила перевязанная рука, потому что не мог рисовать и было безобразно». Толстой намекнул своему другу, что подобное бывает иногда от долгого воздержания. Волошин поднял на него ясные, удивлённые очи. Толстой, человек без комплексов, задал нескромный вопрос: «„А вы разве давно не имели женщины?“ — „Давно“, — и голос его сорвался. — „А как давно? — спросил я. — Года два?“ — „Больше… три“. — „Три… — протянул я и с уважением посмотрел на него. Разве я мог бы продержаться три года, когда три дня воздержания волнуют меня. — Почему же, неужели не было женщины?“ — „Я не могу, — когда меня не любят… или когда я не люблю. Не могу… это против моих убеждений. А меня никто не любил. Всё время один…“»
К тому же Макса удручает материальное положение. Журналистская работа не всегда позволяет сводить концы с концами. Всё время приходится занимать и перезанимать деньги. Но всё же радостные моменты в жизни берут верх. Лиля Дмитриева пишет ему: «Мне вдруг стало светло и радостно от сознания, что Вы есть и что можно быть с Вами». Она посылает Максу свои стихи, которым тот возносит хвалу, а их автора призывает не бояться жизни, «всё преображать в счастье». По-прежнему помогают теософские воззрения, которые поэт, по его словам, «углубил и по-своему связал их с реальной жизнью и с искусством». Ему открылась простая истина, которую художник выразил в письме к А. М. Петровой: «…для человека нет иного откровения, кроме того, что скрыто в каждом событии жизни, в каждом мгновении бытия…» С присущим ему оптимизмом поэт заявляет о том, что «все события надо встречать, как радостных гостей…».
Вот каким запомнился Волошин на одном из журфиксов в октябре 1908 года уже упоминавшемуся поляку В. Роговичу: «Молодой русский поэт, полный, спокойный и добрый богатырь, легко крутился, следя за тем, чтобы поляк не чувствовал себя чужим среди русских… везде был, всё видел, организовывал, угощал чаем или грогом… а тем временем с горячим нетерпением ждал, чтобы кто-нибудь попросил его прочесть „последние“ стихи. Зная эту невинную слабость поэта, мы делали ему такое предложение. Читал он красиво, часто порывисто, особенно если присутствовали Бальмонт, Брюсов или иностранные поэты, знающие русский язык. За „последним“ стихотворением следовало „предпоследнее“ и так далее…»
А спустя два месяца поэт выступает в качестве шафера на венчании Аделаиды Герцык с Дмитрием Жуковским, философом, переводчиком, издателем. Свои впечатления от этого события новобрачная передала так: «Мы ехали в церковь вчетвером, и всю дорогу Макс читал нам свои последние парижские сонеты. Вернувшись домой, выпили кофе и малаги… Дмитрий с Максом пошли на лекцию Бергсона». Как говорится, у них своя свадьба, у нас своя философия… Что ж, теперь все парижские дела можно было считать законченными. Оставалось только отправить багажом в Феодосию свои книги, ковры, мебель и конечно же скульптурную голову Таиах. В середине января 1909 года Макс Волошин, более-менее налегке, отправляется в Россию. Правда, на пути — Берлин, а там — Аморя. Но никакого нового смятения чувств не будет. Тем более что в настоящее время «она живёт религиозным Откровением… в этом теперь, когда я отошёл от теософии, между нами глубокое разделение», — сообщает художник матери.
27 января он уже в Петербурге. В начале февраля посещает «Башню», где со своими стихами выступает Михаил Кузмин. Происходят встречи с Алексеем Толстым и, разумеется, с Лилей Дмитриевой, завязывается знакомство с Николаем Гумилёвым, который дарит ему свой сборник «Романтические цветы». В начале марта Сергей Маковский вручает поэту свою книгу о русских художниках с надписью: «Одному из любимых поэтов, в залог будущего дружного сотрудничества». Что ж, сотрудничество действительно вскоре начнется — и в редакции журнала «Аполлон», и за её пределами… С тем же Маковским Волошин отправляется в Царское Село к Иннокентию Анненскому, который надписывает ему оттиск статьи «Античный миф в современной французской поэзии», а спустя неделю — книгу «Тихие песни». Макс выступает в «Салоне» (что на Университетской набережной) с чтением лекции «Аполлон и мышь», участвует в постановке сказки Ф. Сологуба «Ночные пляски» в Литейном театре (режиссёр Н. Евреинов), где в качестве актёров выступают С. Городецкий, И. Билибин, Л. Бакст, А. Толстой, М. Добужинский, О. Дымов, Б. Кустодиев, А. Ремизов, Г. Чулков и другие.
Макс всерьёз задумывается о том, какие работы он может предложить Маковскому в «Аполлон». Хорошо бы подготовить статьи о театре, о новых французских книгах, о Вилье де Лиль-Адане и Клоделе, переводы из Ренье и Сен-Виктора, Готье и Франса. Вскоре начнет издаваться ежемесячник «Остров» с участием И. Анненского, М. Кузмина, Ф. Сологуба, Н. Гумилёва. Что-то надо дать и туда. А ещё есть договорённость с издательством «Пантеон», где ждут монографии о Реми де Гурмоне и Анатоле Франсе как о критиках. С. Соколов (издательство «Гриф») не возражает против издания книги статей «о живописи и о Париже». В общем, перспективы хорошие. Конечно, не обходится без ложки дёгтя. Лекция «Аполлон и мышь», прочитанная вторично, уже в Москве, в пресловутом Литературно-художественном кружке 21 марта, прошла, что нехарактерно, «без скандала», но и «без публики». В «Русском слове» появилась заметка без подписи «Зелёная скука», в которой лекция Волошина не одобрялась и выражался протест против «модернистского» подбора лекторов.
Между тем наступает апрель. Пора вспомнить о родной Киммерии. На этот раз в Коктебеле предвидится немало «гостевых» дебютов. Волошин приглашает к себе Алексея Толстого с женой, Николая Гумилёва и Елизавету (Лилю) Дмитриеву, у которых в начале весны возникает что-то наподобие романа. Елизавета Ивановна вспоминает, что после одной из лекций Вяч. Иванова они с Гумилёвым поехали ужинать в «Вену». Николай Степанович много рассказывал об Африке, затем поехал её провожать, и тут оба они поняли, что произошла «встреча» и противиться судьбе невозможно. В течение марта-апреля старые парижские знакомые, возобновившие общение в Петербурге, встречаются практически постоянно.«…Все дни мы были вместе и друг для друга, — отмечает Е. И. Дмитриева. — Писали стихи, ездили на „Башню“ и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу». Если верить её словам, Гумилёв неоднократно просил Лилю выйти за него замуж, но та отказывалась, считая себя невестой другого человека (инженера-гидролога В. Н. Васильева). И при этом было чисто женское «упрямство — желание мучить». Завязывался клубок очень непростых отношений, в который совсем скоро будет вплетена и жизнь Волошина.
В середине апреля 1909 года Макс отбывает в Коктебель, где работает над статьями и переводами для журнала «Аполлон», первое редакционное собрание которого с участием С. Маковского, А. Волынсого, И. Анненского, А. Бенуа, Е. Браудо и других состоялось 9 мая. Волошину предстояло заведовать литературно-критическим отделом и, разумеется, выступать в качестве весьма плодовитого автора. Макс работает над переводом «Акселя» Вилье де Лиль-Адана, «Гимна музам» и драмы «Отдых седьмого дня» Поля Клоделя, готовит к печати свое стихотворение из «аполлоновского» цикла («Дэлос»), которое С. Маковский назовёт безупречным.
21 мая в Крым прибывают Толстые, а 30-го в Коктебеле появляются Н. Гумилёв и Е. Дмитриева. Последняя вспоминает: «Всё путешествие туда я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его „Гумми“… а он меня „Лиля“». А что же Волошин? В июне, в «Истории моей души», он напишет: «Дни глубокого напряжения жизни. Первые дни после приезда Толстых, а неделю спустя — Лили с Гумилёвым — было радостно и беззаботно. Мы с Лилей, встретясь, целовались». Дальше начинается самое интересное… Вера поэта «в жизнь, и в сон, и в правду, и в игру», его пристрастие к мистификациям и парадоксам приводит к курьёзному событию, всколыхнувшему литературную жизнь России.
Но сначала небольшая прелюдия. В 1825 году начинающий французский беллетрист и поклонник театра Проспер Мериме выступил перед читателями, «обрядившись» в одежды несуществующей испанской актрисы Клары Газуль. Чуть позже его соотечественницу Аврору Дюдеван, напротив, потянуло к мужскому обличью, и пред читательской публикой появился Жорж Санд. А в середине XIX века в Англии писательница Мэри Энн Эванс также спряталась за мужским псевдонимом Джордж Элиот. Во всех этих случаях мужчина превращался в женщину или женщина в мужчину, и никого это не шокировало, не приводило к эксцессам. Но когда русская поэтесса Елизавета Дмитриева опубликовала свои стихи под именем таинственной Черубины де Габриак, это наделало куда больше шуму по сравнению с транссексуальными метаморфозами Запада.
А ведь, казалось бы, чего только не случалось в литературно-поэтическом быте России Серебряного века!.. Здесь вам и мифотворчество, и жизнетворчество, и выступления под чужими масками… Начало положил Валерий Брюсов, в марте 1894-го выпустив сборник «Русские символисты» и ещё два подобных издания, где был, как уже говорилось, одновременно составителем и автором большинства стихотворений, раздробившись в бесчисленных псевдонимах, чтобы придать новому литературному явлению массовый характер. Владислав Ходасевич опубликовал в 1908 году стихотворение под псевдонимом «Елисавета Макшеева», который использовал и в дальнейшем. Эдуард Багрицкий в 1915 году напечатает в альманахе «Авто в облаках» свои стихи за подписью «Нина Воскресенская». Много всего повидала литературная Россия. Но случай с Черубиной де Габриак воспринимается и сегодня как уникальное явление. Так кем же была она, женщина, взбаламутившая литературную среду Петербурга?..
Елизавета Ивановна Дмитриева родилась 31 марта 1887 года в северной столице, в небогатой дворянской семье: отец — преподаватель, мать — акушерка, Лиля — их третий ребёнок. Обычная семья, однако в домашней атмосфере постоянно присутствовал некий надрыв; детство Лили было сопряжено с каким-то «театром жестокости». Рано умирает от чахотки отец, «очень замкнутый мечтатель, неудачник», отношения с матерью и братом складываются очень непросто. Семи лет девочка заболела костным туберкулёзом, что приведёт к пожизненной хромоте. Лиля увлекается сказками Гофмана, Андерсена, читает «Дон Кихота», с ранних лет поселяется в своём необычном, сказочно-мистическом царстве, у неё вырабатывается ощущение собственной исключительности, сопряженной со страхом перед реальной жизнью.
Но лучше откроем её «Автобиографию»: «…Я младшая, очень, очень болезненная, с 7 до 16 лет почти всё время лежала — туберкулёз и костей, и лёгких… Моё детство всё связано с Медным всадником, Сфинксом на Неве и Казанским собором… Моё первое воспоминание о жизни: возвращение к жизни после многочасового обморока — наклонённое лицо мамы с янтарными глазами и колокольный звон. Мне было 7 лет. Всё, что было до 7 лет, я забыла. На дворе август с жёлтыми листьями и красными яблоками. Какое сладостное чувство земной неволи!
А потом долгие годы… Я прикована к кровати и больше всего полюбила длинные ночи и красную лампадку у Божьей Матери Всех Скорбящих. А бабушка заставляла ночью целовать образ Целителя Пантелеймона и говорить: „Младенец Пантелей, исцели младенца Елисавету“. И я думала, что если мы оба младенцы, то он лучше меня поймёт.
А когда вставала, то почти не могла ходить… и долго лежала у камина, а моя сестра читала мне сказку Андерсена про Морскую Царевну, которой тоже было больно ступать. И с тех пор, когда я иду и мне больно, я всегда невольно думаю о Морской Царевне и радуюсь, что я не немая.
Люди, которых воспитали болезни, они совсем иные, совсем особенные. Мне кажется, что с 18 лет я пошла по пыльным дорогам жизни, и постепенно утрачивалось моё тёмное в
И мне хочется, чтобы кто-нибудь стал моим зеркалом и показал меня мне самой хоть на одно мгновение. Мне тяжело нести свою душу…»
Именно таким зеркалом и окажется в жизни Елизаветы Дмитриевой Максимилиан Волошин. Зеркалом, отражающим, углубляющим и расцвечивающим внутренний мир Лили-Черубины. В волошинской «Истории моей души» осталось немало записей, сделанных со слов Елизаветы Ивановны: «Однажды брат мне сказал:
— Ты знаешь, что случилось? Только ты никому не говори об этом: Дьявол победил Бога. Этого ещё никто не знает.
И он взял с меня слово, что я никому этого не скажу до трёх дней. Я спросила, что же нам делать? Он сказал, что, может быть, теперь было бы более выгодно, чтобы мы перешли на сторону Дьявола. Но я не согласилась. Через три дня он мне сообщил, что Богу удалось как-то удрать. Я тогда почувствовала маленькое презрение к Богу и перестала молиться…
Когда мне было 2 года, меня одевали как мальчика и голову мне стригли коротко до 10 лет. Брат меня заставлял просить милостыню, подходить к прохожим и говорить: „Подайте дворянину“. Полученные монеты я отдавала ему, а он бросал их в воду, потому что „стыдно было брать“. У него случались нервные припадки, порой с судорогами, с пеной у рта». Среди его любимых писателей был Эдгар По. Маленькой Лиле приходилось выслушивать многие страшные рассказы. В частности, «Колодец и маятник». «Но после каждой истории я должна была позволить бросить себя: у нас был сеновал — в отверстие в крыше — внизу лежало сено, но это было очень высоко — 2 этажа — и страшно. И я всё-таки просила его рассказывать.
Сестра тоже рассказывала мне истории, а потом за это разбивала одну из моих маленьких фарфоровых кукол. Чтоб ничего не было даром.
Сестра… требовала иногда, чтобы приносили в жертву огню самое любимое. И мы тогда сжигали все свои игрушки. Когда нечего было жечь, мы бросили в печь щенка. Но он завизжал, пришли взрослые и вытащили его. У мамы раз взяли браслет и бросили в воду. Потом сами пришли рассказывать и плакали. Нас никогда не наказывали. Я очень раздражала брата и сестру надменностью. Я садилась, болтала ногами и говорила: „А я всё равно самая умная и образованная“…
У меня долго сохранялись воспоминания о предшествующей жизни: я постоянно о них рассказывала в детстве, когда не хватало фантазии. Мне, конечно, никто не верил. Раз, приехав в Саратовской губернии в одно имение, я узнала и парк, и место, о котором рассказывала. Воспоминания прекратились с большой болезнью. У меня был дифтерит…»
Лиля училась в Василеостровской женской гимназии. С 13 лет писала стихи. Тогда же, в 1900 году, подверглась насилию со стороны какого-то знакомого матери. «Мне было 13 лет, когда в мою жизнь вошёл тот человек. Он был похож на Вячеслава. Его змеиная улыбка… Бледно-голубые глаза, которые становились совсем белыми, когда он гневался. Он был насмешлив и едок…И тогда начался кошмар моей жизни… Он хотел, чтобы всё во мне пробудилось сразу. Когда же этого не случилось, он говорил, что я такая же, как все. Он хотел, чтобы я была страшно образованна. Он, я потом поняла это, занимался оккультизмом, он дал мне первые основы теософии… И он был влюблён в меня, он требовал от меня любви; я в то время ещё не понимала совсем ничего… Его жена знала и ревновала меня. Она делала мне ужасные сцены. Все забывали, что мне 13 лет. Да… Макс, это было… Он взял меня… Мама любила его. И она была на его стороне… У неё, будто, было озлобление на меня, что я не полюбила его. Все были против меня, и я не знала, что делать. У меня было сознание, что у меня не было детства, и невозможность любви».
Закончив с медалью гимназию, Дмитриева поступает в Императорский Женский Педагогический институт, где изучает историю Средневековья и французскую литературу, осенью 1906 года в качестве вольнослушательницы посещает лекции на романском отделении Петербургского университета. Её привлекают испанистика и старофранцузский язык. Тогда же происходит знакомство со студентом В. Н. Васильевым, далёким от её духовных исканий, за которого Лиля тем не менее обещает выйти замуж. В июне 1907 года Елизавета Ивановна едет в Париж, позирует художнику С. А. Гуревичу, в студии которого, как уже говорилось, она встречается с Н. С. Гумилёвым, посвятившим Лиле стихотворения «Поединок» (с большой долей вероятности) и «Царица». Дмитриева слушает лекции в Сорбонне, читает литературные журналы, интересуется оккультизмом, пишет несколько вычурные стихи, в которых ощущается сказочно-пряное очарование Средневековьем (подступы к теме испано-француженки Черубины), воспеваются (в духе времени) томность страдания и красота умирания. Вот несколько строк из раннего: «Душа, как инфанты / Поблекший портрет… / В короне брильянты, / А счастья всё нет!»
В январе 1908 года умирает от заражения крови старшая сестра Лили — Антонина. Сразу же кончает жизнь самоубийством её муж. Все это добавляет новые трагические штрихи к облику молодой женщины.
К этому времени Лиля становится завсегдатаем на «Башне» Вяч. Иванова, на собраниях Поэтической Академии, вращается в творческой атмосфере символизма, мистических спектаклей и декадентского жизнестроения. В марте она знакомится, как мы помним, с Волошиным, встреча с которым коренным образом изменила её жизнь и ввела, правда, под чужим именем, в литературу. Но это будет чуть позже. А пока что Елизавета Ивановна читает книги по оккультизму и теософии, преподаёт русскую историю в Петровской женской гимназии, даёт частные уроки, переводит с французского и испанского.
«Жила-была молодая девушка, скромная школьная учительница… с маленьким физическим дефектом… — пишет Марина Цветаева. — Из её преподавательской жизни знаю один только случай, а именно вопрос школьникам попечителя округа:
— Ну кто же, дети, ваш любимый русский царь? — и единогласный ответ школьников:
— Гришка Отрепьев!
В этой молодой школьной девушке, которая хромала, жил нескромный, нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, а, как Пегас, земли не знал. Жил внутри, один, сжирая и сжигая. Максимилиан Волошин этому дару дал землю, то есть поприще, этой безымянной — имя, этой обездоленной — судьбу. Как он это сделал? Прежде всего он понял, что школьная учительница такая-то и её стихи — кони, плащи, шпаги — не совпадают и не совпадут никогда. Что боги, давшие ей её сущность, дали ей, этой сущности, обратное — внешность: лица и жизни. Что здесь, перед лицом его — всегда трагический, здесь же катастрофический союз души и тела. Не союз, а разрыв. Разрыв, которого она не может не сознавать и от которого она не может не страдать, как непрерывно страдали… и другие некрасивые любимицы богов. Некрасивость лица и жизни, которая не может не мешать ей в даре: в свободном самораскрытии души. Очная ставка двух зеркал: тетради, где её душа, и зеркала, где её лицо и лицо её быта. Тетради, где она похожа, и зеркала, где она не похожа…
Напечатай Е. И. Д. завтра же свои стихи, то есть влюбись в них, то есть в неё, весь „Аполлон“ — и приди она завтра в редакцию „Аполлона“ самолично — такая, как есть, прихрамывая, в шапочке, с муфточкой — весь „Аполлон“ почувствует себя обокраденным, и мало разлюбит, её возненавидит весь „Аполлон“. От оскорблённого: „А я-то ждал, что…“ — до снисходительного: „Как жаль, что…“ Ни этого „ждал“, ни „жаль“ Е. И. Д. не должна прослышать.
Как же быть? Во-первых и в главных: дать ей самой перед собой
Итак, в 1909 году скромная русская учительница с неказистой внешностью, Елизавета Ивановна Дмитриева, стала французской аристократкой и страстной католичкой, пишущей томные, изысканные стихи. Например, такие:
В овальном зеркале твой вижу бледный лик,
с висков опущены каштановые кудри,
оне как будто в золотистой пудре.
И на плече чернеет кровь гвоздик.
Искривлены уста усмешкой томной,
как гибкий лук, изогнут алый рот;
глаза опущены. К твоей красе идёт
и голос медленный, таинственно не звонкий,
И набожность кощунственных речей,
и едкость дерзкая колючего упрёка,
и все возможности соблазна и порока,
и всё сияние мистических свечей.
Нет для других путей в твоём примере,
нет для других ключа к твоей тоске,
я семь шипов сочла в твоём венке,
моя сестра в Христе и Люцифере!
Так появилась на свет эта загадочная женщина-поэтесса, «внешний автопортрет» которой, возможно, намечен в этом стихотворении. Ей была уготована короткая и яркая жизнь с драматическим финалом. Заключительный акт драмы разыграли двое: Максимилиан Волошин и Николай Гумилёв. Но это ещё впереди, а пока что мы вернёмся в летний Коктебель 1909 года…
В столовой волошинского дома пожилая женщина с короткими седыми волосами и орлиным профилем убирает что-то в буфет. Это Елена Оттобальдовна, Пра, мать поэта.
— Ты раньше часто встречался с Николаем Степановичем?
— Приходилось. Не часто.
Макс смотрит в окно. Прямо перед домом появляются Гумилёв и Дмитриева. Оба в белом. Он ведёт её под руку.
Гумилёв весь как натянутая струна. Черты лица застывшие, жёсткие. Лиля полностью в себе.
— Судя по всему, у Лили с Гумилёвым роман, — говорит Пра.
— Не думаю. Они старые друзья. Ещё по Парижу.
— Не нравится мне этот господин…
— Ну что ты! — оживляется Макс. — Знаешь, он тут недавно написал прекрасные стихи:
На полярных морях и на южных,
По изгибам зелёных зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей…
Пра смотрит на него с тревогой. В это время Николай Гумилёв, взобравшись на одну из скал, подымающихся над заливом, читает Лиле вторую строфу этого стихотворения:
Быстрокрылых ведут капитаны —
Открыватели новых земель.
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстрёмы и мель.
Он сейчас сам похож на одного из «капитанов», готовых устремить своё судно навстречу морской стихии.
— Как я вам завидую! Только не удивляйтесь — я ведь тоже пишу стихи. Но где уж мне до вас… Приносила их господину Маковскому, а он даже смотреть не стал. Вы бы, говорит, барышня, лучше по канве вышивали.
— В сущности, он прав. Поэзия — не женское дело…
Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд.
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат…
— Но ведь бывают же исключения?
— Нет, никаких исключений. Мужчина рождён, чтобы быть воином и поэтом, а женщина существует для услады поэта и воина!
Пытается обнять Лилю.
— Не надо, умоляю вас! Мы же договорились…
Ближе к вечеру, сидя на веранде, Макс и Лиля беседуют.
— …так прямо и сказал: для услады воина? (Смеётся.) Хорош конквистадор! Далеко пойдёт… Но ты не расстраивайся, Лиля! Хочешь, мы положим к твоим ногам весь Петербург?
— Кто это мы?
— Я и ты. Хочешь родиться заново — великим поэтом… поэтессой?
— …?
— Тебя устроит псевдоним «Черубина де Габриак»?
— Я что-то совсем ничего не понимаю…
— Вот гляди, — Макс снимает с полки корягу, — это Габриак, морской чёрт. Бывший корень виноградной лозы. Почему бы этому бесу не вочеловечиться? Почерневший от слёз херувим, то есть она, Черубина. Черубина де Габриак!
— Ты, как всегда, шутишь, Макс, фантазируешь… Но сегодня твои шутки какие-то обидные. И вообще — прав Гумилёв. Хватит с меня этих фиаско на почве поэзии!
— Отныне все фиаско в прошлом. Твоя новая попытка будет гениальной!
— Мне бы твой оптимизм! Пойми же ты, наконец: дело не в стихах, а в моей внешности. Да этот сноб, Маковский, меня и на порог больше не пустит. Он того и гляди составит штат журнала из балерин кордебалета. Не посмотрит на то, что они в лучшем случае умеют рифмовать лишь ногами. И родословной не спросит — сколько в их коленях аристократических колен!
— Так мы и сделаем из тебя аристократку! Итальянскую графиню. Нет, французскую.
— Жермену де Сталь?
— Черубину де Габриак.
— Опять ты за своё…
Но Волошин, увлёкшись своей задумкой, начинает импровизировать:
— Отец Черубины — француз из Южной Франции, мать — русская, сама она воспитывалась в монастыре, где-нибудь в Толедо…
Лиля язвит:
— Бабушка — внучка декабриста, прапрадедушка — ближайший сподвижник Колумба, двоюродную тётку казнили при Робеспьере за плохие стихи…
Волошин, не обращая внимания:
— А знаешь, какие стихи будет писать эта графинюшка? Вот послушай (придав своему облику томную женственность, читает):
С моею царственной мечтой
одна брожу во всей вселенной,
с моим презреньем к жизни тленной,
с моею горькой красотой…
— Но Макс… у меня так никогда не получится!
— Попробуй, Лиля. У тебя обязательно получится. Надо только перевоплотиться. Разыграть судьбу!
— Ты отнимаешь у меня мою жизнь.
— Да что ты, Лиля. Я дарю тебе ещё одну жизнь. Ты вдвойне живая. Считай, что «про тебя соврал художник».
— Ты добрый, Макс. Спасибо. Но всё же лучше и не пытаться…
Лиля уходит. Заглянув в соседнюю комнату, Волошин застаёт там сидящего на диване Толстого с книгой в руках.
— Алихан?
— Я хотел уйти, но можно было только через веранду. Не беспокойся, Макс. Всё останется между нами… троими…
Ночью в своей комнате Лиля сидит на тахте, поджав ноги. Пытаясь «поймать» тему, заданную Волошиным, девушка бормочет:
С моею царственной мечтой
одна брожу во всей вселенной,
с моим презреньем к жизни тленной,
с моею горькой красотой.
И королевой двух Сицилий… Сицилий… Нет, не то. Царицей звёзд и песнопений… Царицей… Царицей…
Слышится шорох. Лиля всматривается в тёмный угол комнаты. Кажется, там кто-то есть. Руки судорожно обнимают колени. Она явственно слышит слова, произносимые грустно и протяжно. Что это — звуковые галлюцинации, раздвоение личности?
Царицей призрачного трона
меня поставила судьба…
Венчает гордый выгиб лба
червоных кос моих корона.
Но спят в угаснувших веках
все те, кто были бы любимы,
как я, печалию томимы,
как я, одни в своих мечтах.
И я умру в степях чужбины,
не разомкнуть заклятый круг.
К чему так нежны кисти рук,
так тонко имя Черубины.
Свет луны падает на лицо таинственной незнакомки в чёрном платье и широкополой шляпе. Она загадочно улыбается. На тахте только скомканное одеяло…
Так и продолжалось коктебельское лето. Лиля Дмитриева всё больше времени проводила с Волошиным. Они оба погрузились в придуманный ими мир, мир их общей тайны. Отвергнутый Гумилёв на какое-то время задержался в Крыму. Он ходил мрачный и нелюдимый, ловил тарантулов и устраивал между ними настоящие сражения. Лиля казалась счастливой. Но, к сожалению, её болезненные душевные состояния время от времени давали о себе знать, о чём свидетельствуют дневниковые записи Волошина за июль 1909 года: «Это было вчера. Лиля пришла смутная и тревожная. Её рот нервно подёргивался… Мы сидели на краю кровати, и она говорила смутные слова о девочке… о Петербурге…
— Лиля, что с тобою было?
— Не знаю, я ведь спала…
— Нет, ты не спала.
— Макс, я что-то забыла, не знаю что. Что-то мучительное. Скажи, ты не будешь смеяться? Нет, если я спрошу… Скажи, Аморя твоя жена?.. Да… И она любила… Да, Вячеслава… Макс, я ведь была твоей… Да, но я не помню… Но ведь ты всё знаешь, ты помнишь… Тебе меня отдали. Я вся твоя. Ты помнишь за меня…
Она садится на пол и целует мои ноги. „Макс, ты лучше всех, на тебя надо молиться. Ты мой бог. Я тебе молюсь, Макс“».
Затем в сознании Лили возникает полумистический образ «Того Человека»: «Он появился между мною и окном… Я чувствовала холод от него. Точные слова не помню… Они словно звучали во мне… И Он сказал мне, что… пришёл… предупредить… Что если я останусь твоей, то в конце будет безумие для меня… И для тебя, Макс. Страшно сладкое безумие. Он сказал, что девочка может быть у нас, но и она будет безумна… Что её не надо… Макс… и что надо выбрать… Или безумие… сладкое! Или путь сознания — тяжёлый, больной…»
Проникать в тайны подсознания — удел психоаналитиков. Отметим лишь всё более тревожное состояние души коктебельской гостьи, её смутное ощущение какой-то надвигающейся катастрофы. Связано ли оно с предстоящим литературным розыгрышем, с присвоением чужой, несуществующей судьбы, мистической и одновременно более реальной, чем судьба самой Лили Дмитриевой? А может быть, всему виной — сумятица чувств? Или истоки психического разлада лежат где-то совсем в другой сфере?.. Воздержимся от конкретных умозаключений. Во всяком случае, эта судьба уже вступила в свои законные права; «уж занавес дрожит перед началом драмы»… Не будем и мы в нашем повествовании отступать от жанра драмы с элементами мистики или, если угодно, трагикомедии…
Петербург. Редакция «Аполлона». Изысканно-элегантный редактор журнала Сергей Маковский поправляет изящную линию усов. В миндалевидных глазах мерцает огонь страсти и любопытства. Рядом с ним Волошин.
— Вот видите, Максимилиан Александрович, я всегда говорил, что вы слишком мало внимания обращаете на светских женщин. От одной из них я получил сегодня потрясающие стихи:
С моею царственной мечтой
одна брожу по всей вселенной,
с моим презреньем к жизни тленной,
с моею горькой красотой…
Каково?! Это не то, что ваша девица-учительница, внушившая своим воспитанникам любовь к Гришке Отрепьеву…
— Откуда вам это известно?
— Да об этом судачит весь Петербург! Кстати, Максимилиан Александрович, а сами вы могли бы написать такие стихи?..
«Нам удалось сделать необыкновенную вещь, — вспоминал Волошин, — создать человеку такую женщину, которая была воплощением его идеала и которая в то же время не могла его разочаровать, так как эта женщина была призрак». При этом Макс оговаривается: «В стихах Черубины я играл роль режиссёра и цензора, подсказывал темы, выражения, давал задания, но писала только Лиля». Многие критики увидят в стихах Черубины нарочитое самопоклонение, будут проводить параллели с «Дневником Марии Башкирцевой», ещё недавно эпатировавшей читателей непомерной гордыней и дерзкими высказываниями. Если говорить о литературных корнях «графини», нельзя не упомянуть о любовной лирике Мирры Лохвицкой, любимой, кстати, поэтессы Елизаветы Дмитриевой. Кроме того, создавая образ романтической, экзотической Черубины, Макс и Лиля ориентировались на жизнеописание Святой Терезы (1588), страстной, независимой натуры, живущей в мире видений и мистических религиозных откровений.
Петербург. Квартира Маковского. Редактор-эстет болен. Шея обмотана толстым шарфом. Он томно полулежит среди огромных диванных подушек. Волошин — сама невинность — скромно восседает рядом на стуле.
— Она опять прислала стихи. И переложила их травами. Вот полюбопытствуйте. Неподражаемая вербена…
— Это полынь.
— Вы уверены?
— (Скрывая свою роль в этом цветочно-эпистолярном романе.) Впрочем, не берусь утверждать.
— Я всегда ценил в себе один талант: умение по почерку определять судьбу людей, их происхождение, возраст.
— Очень интересно.
— Вот извольте взглянуть (показывает письмо): на редкость выразительные линии. Что здесь можно заключить? Зовут Черубина де Габриак. Впрочем, это она сообщает сама. Отец, несомненно, француз. Что-нибудь из Южной Франции — Марсель, Тулуза. Мать — русская. Ну, а сама девушка получила монастырское воспитание…
— Да что вы говорите… И где?
— Думается — в Толедо.
Макс ошарашен, а Маковский продолжает делиться своими размышлениями:
— Страстная католичка. Питает интерес к староиспанской литературе. Имеет двоюродного брата.
— (Робко.) Двоюродную тётку.
Строгий взгляд Маковского пресекает всякую попытку корректив.
— Не перебивайте. В Петербурге никогда ранее не бывала.
Раздаётся телефонный звонок. Маковский вздрагивает.
— Это она. (Волошин понимающе кивает.) Да, графиня, это я. Да, получил. И буквально сражён вашими стихами. Не могли бы вы?.. Да, присылайте мне всё, что у вас есть, и то, что впредь появится. Да, буду счастлив, любезная Черубина Георгиевна. До свидания!
— Откуда вы знаете её отчество? Вы находите, что Георгий — южнофранцузское имя?
— Она сама мне так представилась.
— (Про себя.) Рискованный ход…
Ну а стихи «призрака» тем временем завоёвывают всё новых и новых поклонников. Свой голос с Таврической улицы подаёт хозяин «Башни». Высоко отзывается о стихах Черубины и другой маститый поэт, Иннокентий Анненский. В статье «О современном лиризме» он, в частности, напишет, что то «зерно, которая она носит в сердце, безмерно богаче зародышами, чем… изжитая… и безнадёжно-холодная печаль» Бодлера и Гюисманса. Открывшуюся ему поэзию Анненский характеризует как «эмалевое гладкостилье». «По русски ещё так не писали», — вторит ему поэт символистского толка Виктор Гофман, высказыавая, однако, сомнения: «Во-первых, начинающие поэтессы не пишут так искусно. А во-вторых, где же и кто, наконец, эта Черубина де Габриак?»
Петербург. Редакция «Аполлона». Взбудораженные стихами Черубины, сотрудники обмениваются их текстами.
— Вы мне переписали?
— Да, вот возьмите.
— Это потрясающе. Вы только послушайте:
Даже Ронсара сонеты
не разомкнули мне грусть.
Всё, что сказали поэты,
знаю давно наизусть.
Тьмы не отгонишь печальной
знаком Святого Креста,
а у принцессы опальной
отняли даже шута.
Здесь же и Вячеслав Иванов:
— Должен признаться — эта дама весьма искушена в мистическом Эросе!..
Иннокентий Анненский:
— Да, старую культуру и хорошую кровь нельзя не почувствовать! Но знаете: эта девушка, хоть отчасти, но русская — она думает по-русски.
Неожиданно «выстреливает» Алексей Толстой:
— А вам не кажется, что многое здесь — от Макса Волошина?
Волошин, который до того сладко улыбался и кивал, бросает на Алихана уничтожающий взгляд, и тот исчезает. К счастью, кто-то отвлекает внимание присутствующих от реплики Толстого:
— Господа, обратите внимание — она пишет о своей родословной. Даже описывает родовой герб:
Червлёный щит в моём гербе,
и знака нет на светлом поле.
Но вверен он моей судьбе,
последней — в роде дерзких волей.
— Где это, где?
— Да вон, на бумаге с траурным обрезом.
— Какой вкус, какой полёт чувства!
Кто-то пытается вовлечь в разговор Гумилёва, но тот, скрестив на груди руки, с презрением взирает на всю эту кутерьму. Наконец, Маковскому задают вопрос по существу:
— Сергей Константинович, так когда же выйдут стихи Черубины де Габриак?
— Я в отчаянии. Номер уже составлен. Иннокентий Фёдорович, не уступите ли вы, ну хотя бы две свои полосы?
— Ради такой очаровательной женщины…
Волошин, с удивлением:
— Откуда вы знаете, что она очаровательна?
Телефонный звонок. Все умолкают. Маковский срывает трубку:
— Это вы? Умоляю. Давайте договоримся о встрече. Что? На островах? Потом будете в театре? Но как мне вас… (Медленно кладёт трубку.) Сказала: я должен опознать её шестым чувством…
Петербург. Набережная. Волошин и Маковский возвращаются из редакции.
— Признаюсь вам: я написал ей ответ на французском языке. Только вот не знаю, куда его… Я попросил её порыться в старых тетрадях и прислать всё, что она до сих пор писала.
— Вы считаете, что и детские её стихи заслуживают внимания?
— Я уверен: они столь же совершенны. Очаровательная женщина.
— Почему вы так в этом уверены?
— Не знаю. Но мне постоянно видится её облик. Как жалко, что отец не передал мне свой талант живописца! Кстати о художниках… Сомов… он сегодня меня уверял, что готов с повязкой на глазах ездить к ней на острова в карете, чтобы писать её портрет. Он готов дать ей честное слово не злоупотреблять её доверием.
— Сомов? Откуда он знает, что она живёт на островах?
— Он только предполагает. Но при этом он обещает не допытываться, кто она такая и по какому адресу проживает.
— Весьма благородно с его стороны.
— Весьма глупо! Ведь он просит меня уговорить её позировать, а я понятия не имею, где её искать!
— Она что же — не оставила вам адреса?
— Только запах духов. Удивительно тонкий запах.
— И полыни.
— Полыни?
— Ах, простите — вербены…
Петербург. Старинный особняк. К дому приближаются Маковский и Сомов.
— Уже полдня ходим и хоть бы на метр приблизились к цели!
— Искусство, господин Сомов, требует немалой крови и нервов. Не мне вас учить.
— Не только нервов, но и денег. Я слышал, Сергей Константинович, что с помощью подкупа вы заручаетесь доверием невинных людей и уже опросили всех дачевладельцев Каменноостровского по поводу Черубины.
Маковскому крыть нечем.
— Ну что, рискнём?
Сомов дёргает звонок у парадной, и вскоре в дверях показывается дворецкий. С некоторым удивлением и тревогой смотрит он на господ явно богемного вида. Маковский берёт инициативу в свои руки:
— Вот что, голубчик, у нас к тебе конфиденциальный разговор.
Дворецкий напрягается.
— Мы из редакции литературного журнала «Аполлон». Нам сказали, что в этом доме (сверяется с бумажкой) проживает или, ну скажем, может проживать, молодая особа, графиня, приехавшая из Франции, поэтесса Черубина де Габриак.
Дворецкий бросает на любопытствующих господ подозрительный взгляд, но всё же отвечает:
— Их превосходительство графиня Нирод уехали за границу.
— А куда именно, любезный?
— В Париж.
— И давно она покинула Россию?
У обоих «сыщиков» хищно загораются глаза. Хитроумный слуга, смекнув, что господам нужны какие-то факты, в которые они очень хотят поверить, мгновенно перестраивается:
— Да ещё весной.
— Что же, она одна уехала?
— Никак нет-с. С мужем, Иваном Ардальонычем-с.
Видя, что оба посетителя разочарованы, добавляет:
— У их превосходительств — две внучки-с. В Париже проживать изволят-с. Да, вот… та, что помоложе, сейчас здесь, в Петербурге.
Маковский машинально суёт ему купюру и задаёт главный вопрос:
— Как зовут ту, что сейчас в Петербурге?
— Не извольте гневаться, ваше благородие… Мудрёное имя. Вроде как Жозефина. Но графиня называет её как-то ещё и по-другому.
Сомов, вручив старику ещё несколько бумажек, заговорщицким шёпотом:
— Не Черубиной ли?
— Да, ваше сиятельство. Именно так-с, Черавиной-с.
— И что же, мадемуазель Черубина сейчас дома?
— Никак нет-с. Уехали с утра. Верхом-с.
Литераторы, не солоно хлебавши, отбывают прочь.
Петербург. Квартира Маковского. И вновь телефонный звонок.
— Ах, это вы!
— Сегодня утром я написала стихи. Думаю посвятить их вам. Завтра вы их получите.
— Но я не могу ждать до завтра!
— Хорошо. Я прочту их вам прямо сейчас:
Лишь раз один, как папоротник, я
цвету огнём весенней, пьяной ночью…
Приди ко мне к лесному средоточью,
в заклятый круг, приди, сорви меня!
Люби меня! Я всем тебе близка.
О, уступи моей любовной порче,
Я, как миндаль, смертельна и горька,
нежней, чем смерть, обманчивей и горче.
— Черубина Георгиевна, милая Черубина, где я смогу вас увидеть? Вчера вечером я был на островах…
— И что же, сердце не подсказало, не направило вас ко мне?
— Мне кажется, я видел вас в автомобиле. На вас было одето…
— Я никогда не езжу в авто. Только верхом.
— Я знаю. Несколько часов назад ваш дворецкий сообщил мне, что вы отправились верхом, на прогулку…
— В Петербурге я не держу слуг… Очевидно, вас известили о моей тёзке… или двойнике…
Петербург. Кафе. Волошин, Толстой и взбудораженный Маковский.
— Сегодня я сражён окончательно! Она читала мне стихи. И мне же их посвятила.
Толстой:
— Так вы нашли её?
— Нашёл. Потом потерял. Короче говоря, это было чтение по телефону.
Волошин:
— А из телефонной трубки пахло полынью?
Маковский бросает на него свирепый взгляд.
— Ах, простите, вербеной.
— Знаете, мне не до шуток. Будь у меня сорок тысяч годового дохода, я бы решился за ней ухаживать.
— По телефону?
Волошин и Толстой смеются. Маковский сидит решительный и мрачный.
Стихи Черубины де Габриак были опубликованы (оттеснив, кстати, произведения И. Анненского) во втором номере «Аполлона» за 1909 год, а в третьем появился критический очерк не забывавшего подливать масло в огонь Волошина «Гороскоп Черубины де Габриак», где говорилось о свойственной ей «любви, безысходной и неотвратимой, о сатанинской гордости и близости миру подземному». А главное, что сейчас мы стоим «над колыбелью нового поэта», что Черубина де Габриак — «подкидыш в русской поэзии». Между тем в редакции не утихало брожение чувств. За несуществующей поэтессой была установлена настоящая слежка. На каждой премьере балета просматривались все ложи бенуара; на Каменноостровском продолжался опрос дачников; даже на вокзал к отходу поездов, отбывающих в Париж, посылались соглядатаи.
Редакция «Аполлона». Взъерошенный Маковский бросается навстречу входящему Волошину.
— Катастрофа! Она уезжает в Париж.
Волошин удивлён.
— Вы это точно знаете?
— Она мне прислала письмо. Бежим — надо успеть к отходу поезда!
Вокзал. Волошин и Маковский протискиваются сквозь толпу. Шеф «Аполлона» отдаёт распоряжения:
— Вы идите к концу поезда, а я покручусь здесь…
Спустя пару дней. Кафе. Те же персонажи.
— Она прислала мне письмо из Парижа.
— Как это ей удалось — так скоро?
Но эта деталь влюблённого редактора не интересует. Он читает письмо:
— «Милый друг! Я так и предполагала увидеть Вас на вокзале в качестве сыщика, возможно даже — с накладной бородой. Но не думала, что Вы прихватите с собой Вашего соглядатая, который высматривал меня в хвосте поезда…»
— Какая проницательность! Но как она могла увидеть одновременно, что делается возле головных и хвостовых вагонов?
— Ах, не забивайте себе голову всякой чепухой! Кстати, дальше она пишет о вас: «Кто он такой, этот Ваш друг, можно ли ему доверять?» Она пишет, что вы совершенно не похожи на поэта. Простите. И что вследствие вашей комплекции на таможне у вас наверняка бывают неприятности. Ещё раз простите.
— Что это она так заинтересовалась моей особой?
— Судя по загару, вы часто бываете в Крыму и вид у вас — дачевладельца.
— Потрясающе! Пожалуй, я поеду за ней в Париж, разыщу, приглашу на дачу, и… хотя у меня и нет сорока тысяч годового дохода…
Петербург. Скверик. Сидя на скамье, беседуют Макс и Лиля.
— Сегодня я сказал Маковскому, что разыщу тебя в Париже и… приглашу в Коктебель, в свои владения.
— Ты сделал паузу, Макс. Спасибо тебе за то, что затерялось между слов.
Оба некоторое время молчат.
— Ну как ты, Лиля? Устала от поэтических успехов?
— Назвался груздем… Кстати, Макс, моя «мать», то есть Черубинина, она умерла или нет? Я это совсем упустила, а в разговоре с Маковским ляпнула по телефону: «Моя покойная мать…» Я очень боюсь ошибиться в фактах «своей» биографии…
— Я что-то тоже подзабыл. Надо подумать…
Редакция «Аполлона». Маковский самостоятельно достраивает биографию Черубины, так что Волошину остается только соглашаться.
— Какая изумительная девушка! Я прекрасно знаю, что мать её жива и живёт в Петербурге, но она считает её умершей с тех пор, как та изменила мужу, и недавно так и сказала мне по телефону: «Моя покойная мать»…
— Она звонила вам из Парижа?
— А что тут особенного?..
Квартира Маковского. Редактор «Аполлона» не находит себе места. Иннокентий Анненский пытается его успокоить:
— Сергей Константинович, да нельзя же так мучиться. Ну, поезжайте за ней. Истратьте сто — ну, двести рублей, оставьте редакцию на меня… Отыщите её в Париже!
— Да не в этом дело. Я получил известие, что она заболела. Очень плоха, и если поправится, то, возможно, пострижётся… Уйдет в монастырь.
— Какое несчастье!
«Однако Сергей Константинович не поехал, — рассказывает Волошин, — что лишило историю Черубины небезынтересной страницы.
Для его излияний была оставлена родственница Черубины, княгиня Дарья Владимировна (Лида Брюллова). Она разговаривала с Маковским по телефону и приготовляла к мысли о пострижении Черубины в монастырь…. Кризис болезни Черубины намеренно совпадал с заседаниями Поэтической Академии в Обществе ревнителей русского стиха, так как там могла присутствовать Лиля и могла сама увидеть, какое впечатление произведёт на Маковского известие о смертельной опасности.
Ему ежедневно по телефону звонил старый дворецкий Черубины и сообщал о её здоровье. Кризис ожидался как раз в тот день, когда должно было происходить одно из самых парадных заседаний. Среди торжественной тишины, во время доклада Вячеслава Иванова, Маковского позвали к телефону. И. Ф. Анненский пожал ему под столом руку и шепнул несколько ободряющих слов. Через несколько минут Маковский вернулся с опрокинутым и радостным лицом: „Она будет жить!“…
Постепенно у нас накопилась целая масса мифических личностей, которые доставляли нам массу хлопот. Так, например, мы придумали на своё горе кузена Черубине, к которому Papa Mako ужасно ревновал. Он был португалец, атташе при посольстве, и носил такое странное имя, что надо было быть так влюблённым, как Маковский, чтобы не обратить внимания на его невозможность. Его звали дон Гарпия ди Мантилья. За этим доном Гарпией была однажды организована целая охота, и ему удалось ускользнуть только благодаря тому, что его не существовало. В редакции была выставка женских портретов, и Черубина получила пригласительный билет. Однако сама она не пошла, а послала кузена. Маковский придумал очень хороший план, чтобы уловить дона Гарпию. В прихожей были положены листы, где все посетители должны были расписываться, а мы, сотрудники, сидели в прихожей и следили, когда „он“ распишется. Однако каким-то образом дону Гарпии удалось пройти незамеченным, он посетил выставку и обо всём рассказал Черубине».
Петербург. Набережная. Николай Гумилёв замечает мелькнувшую в одной из арок фигуру Лили.
— Лиля! Куда вы пропали? Я уж начал подумывать — не уехали ли вы за границу?
Лиля невольно улыбается этому соответствию легенде.
— Нет. Я здесь. Учительствую.
— А как же стихи? Продолжаете писать?
— Да нет, как-то… После того нашего разговора что-то не тянет.
— Это вы зря. Впрочем, смотрите сами. Надумаете их издать — я бы мог составить протекцию.
— Вы это серьёзно?
— Ещё как! Я теперь правая рука Маковского. Он прислушивается к каждому моему слову.
— Что ж, рада за вас. Но не думаю, что мне понадобится ваша помощь. Тем более, я слышала, что у Маковского все интересы сосредоточены на французской графине. Говорят, она тоже пишет стихи.
— Не знаю. Я не охотник до женской поэзии.
Пауза. Лиля задаёт неожиданный вопрос:
— Кстати, как она вообще?
— Маковский сегодня на заседании сказал: «Она будет жить». Ему, дескать, сообщили.
— Что же. Это совсем неплохо…
Пустынный демонический Петербург. Петербург Достоевского и Андрея Белого. Петербург Черубины де Габриак, где, кажется, сами стены домов овеяны поэтическими снами и мистикой. В опускающихся сумерках движется, точнее, скользит фигура женщины в чёрном вечернем платье и широкополой шляпе. В одном из домов высвечивается окно. В комнате за столом сидит Лиля Дмитриева. Пытается что-то писать. То ли в её сознании, то ли где-то в отдалении звучат стихи:
Есть на дне геральдических снов
перерывы сверкающей ткани;
в глубине анфилад и дворцов
на последней таинственной грани
повторяется сон между снов.
В нём всё смутно, но с жизнию схоже…
Вижу девушки бледной лицо, как моё,
но иное и то же, и моё на мизинце кольцо.
Это — я, и всё так непохоже.
Лиля Дмитриева смотрит прямо перед собой. Она больше грезит, чем пишет.
Я так знаю черты её рук,
и, во время моих новолуний,
обнимающий сердце испуг,
и походку крылатых вещуний,
и речей её вкрадчивый звук.
Женщина в шляпе приближается к дому, в котором живёт Лиля…
И моё на устах её имя,
обо мне её скорбь и мечты,
и с печальной каймою листы,
что она называет своими,
затаили мои же мечты.
Лиля снова склоняется к бумаге. В прихожей раздаётся звонок. Она тревожно вскидывает голову, медленно поднимается и идет к двери…
(«Лиля, которая всегда боялась призраков, была в ужасе, — вспоминает Волошин. — Ей всё казалось, что она должна встретить живую Черубину, которая спросит у неё ответа…»)
Входит красивая женщина в вечернем платье. Хозяйка отпрянула.
— Кто вы?
Взгляд незнакомки проникнут добротой и печалью.
— Не бойся. Я — это ты. Истинная ты. Такой тебя не видят другие. Но они не видят ничего.
— Ты пришла покарать меня за то, что я присвоила чужую судьбу?
— Я здесь, чтобы помочь. Подарить тебя тебе, одержать победу над теми, кто не верит в тебя.
— Ты другая. Ты живёшь в другом, нездешнем мире.
— Я — это ты. Ты — это я. Павший ангел, который своим падением искупает вину за содеянное на земле.
— Наверное, я виновата. Я взяла на себя слишком много и должна быть наказана за гордость.
— Ты взяла на себя свободу. Свободу творить… себя и мир, достойный тебя.
— Но я недостойна этого нового мира. Я устала. Покинь меня. Дай мне возможность быть просто Лилей Дмитриевой, той, что преподаёт детям словесность и не мечтает ни о чём большем.
— Но ведь ты этого хотела — поэтической славы, признания?
Вместо ответа Лиля протягивает гостье листок, на котором перед её приходом что-то писала, отходит к окну, всем своим существом устремляясь в ночь, к мистическим провалам петербуржских дворов, мерцанию Невы, мрачной непреклонности каменных исполинов…
«Я ещё даже не знаю — поэт я или нет. Может быть, мне и не дано будет узнать это. Одно верно: я больше не в силах удержать истоки уходящего подземного ключа…Теперь от мира я иду в неведомую тишину и не знаю, приду ли. Я знаю, что уже давно умерла, и все вы любите умершую Черубину… девушку из Атлантиды, которая всё могла и ничего не сумела…»
А ведь не только Елизавета Ивановна боялась призрака загадочной поэтессы. Иннокентий Анненский однажды заявил: «Пусть она — даже мираж, мною выдуманный, я боюсь этой инфанты, этого папоротника, этой чёрной склонённой фигуры с веером около исповедальни, откуда маленькое ухо, розовея, внемлет шёпоту египетских губ. Я боюсь той, чья лучистая проекция обещает мне Наше Будущее в виде Женского Будущего…»
Редакция «Аполлона». Обстановка здесь накалена. Нанесён удар по честолюбию известных литераторов.
— Это переходит всякие границы. Черубина де Габриак выживает нас из журнала! У меня сократили целую полосу, у Анненского забрали…
— Я добровольно уступил своё место Черубине.
— Это делает вам честь, Иннокентий Фёдорович. Но я не собираюсь следовать вашему примеру. Я не настолько благороден. Да и было бы кому уступать!
— Не так давно, дорогой мой, вы превозносили творчество Черубины де Габриак. Ставили её выше Бодлера и Рембо.
— Напрасно иронизируете, Михаил Алексеевич. Насколько я знаю, в следующем номере должны пойти Ваши стихи. Вы уверены, что всё сойдёт гладко?
Постучавшись, Михаил Кузмин открывает дверь в кабинет редактора «Аполлона».
— Сергей Константинович, у меня к вам разговор…
Маковский смотрит на него вопросительно…
Спустя некоторое время кабинет Маковского. Раздаётся телефонный звонок. Маковский снимает трубку и — вялым голосом:
— А, это вы? Знаете, я хотел заказать вам поэму. Не догадываетесь, ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА, о ком? О Григории Отрепьеве…
Может быть, всё было и не совсем так. Это — лишь одна из версий случившегося. Но можно утверждать с определённостью: сюжет постепенно выходил из-под контроля драматурга и режиссёра. «Мы с Лилей стали замечать, что кто-то другой, кроме нас, вмешивается в историю Черубины. Маковский начал получать от её имени какие-то письма, написанные не нами. И мы решили оборвать.
Вячеслав Иванов, вероятно, подозревал, что я — автор Черубины, так как говорил мне: „Я очень ценю стихи Черубины. Они талантливы. Но если это — мистификация, то это — гениально“. Он рассчитывал на то, что „ворона каркнет“. Однако я не каркнул. А А. Толстой давно говорил мне: „Брось, Макс, это добром не кончится“.
Черубина написала Маковскому последнее стихотворение. В нём были строки:
Милый друг, Вы приподняли
Только край моей вуали…
Когда Черубина разоблачила себя, Маковский поехал к ней с визитом и стал уверять, что он уже давно обо всём знал. „Я хотел дать вам возможность дописать до конца вашу красивую поэму“. Он подозревал о моём сотрудничестве с Лилей и однажды спросил меня об этом, но я, честно глядя ему в глаза, отрёкся от всего. Моё отречение было встречено с молчаливой благодарностью».
По воспоминаниям Маковского, Елизавета Ивановна сама нанесла ему визит и высказала сожаление по поводу причинённой ему боли. «Было 10 вечера, когда раздался её звонок… В комнату вошла, сильно прихрамывая, невысокая, довольно полная темноволосая женщина, с крупной головой… Она была на редкость некрасива». Если верить Маковскому, Дмитриева сказала ему: «Сегодня, с минуты, когда я услышала от вас, что всё открылось, я навсегда потеряла себя: умерла та единственная, выдуманная мною „я“, которая позволяла мне чувствовать себя женщиной, жить полной жизнью творчества, любви, счастья. Похоронив Черубину, я похоронила себя…»
Так кто же всё-таки сыграл главную роль в разоблачении Черубины? Послушаем ещё раз Волошина: «Лиля обычно бывала в редакции одна, так как жених её, Воля Васильев, бывать с ней не мог: он отбывал воинскую повинность. Никого из мужчин в редакции она не знала. Одному немецкому поэту, Гансу Гюнтеру, который забавлялся оккультизмом, удалось завладеть доверием Лили. Она была в то время в очень нервном, возбуждённом состоянии. Очевидно, Гюнтер добился от неё каких-нибудь признаний. Он стал рассказывать, что Гумилёв говорит о том, как у них с Лилей в Коктебеле был большой роман. Всё это в очень грубых выражениях. Гюнтер даже устроил Лиле „очную ставку“ с Гумилёвым, которому она вынуждена была сказать, что он лжёт…»
Очевидно, Иоганнес фон Гюнтер и стал первым (среди новых персонажей) обладателем тайны неуловимой графини. Именно ему, возможно, и сказала Дмитриева в порыве экзальтированного откровения: «Знаете что: Черубина де Габриак — это я». А затем уже Гюнтер рассказал всё Михаилу Кузмину.
Петербург. Мариинский театр. В фойе театра входит Волошин. Дают «Фауста». Макс поднимается по лестнице. Наверху — мастерская художника Александра Яковлевича Головина. Там часто позируют поэты, сотрудники «Аполлона». Ведутся разговоры об искусстве, обсуждаются последние литературные новости. Волошин открывает дверь и заходит в мастерскую. Сегодня его очередь позировать…
Кабинет Маковского. В полузабытьи, подперев ладонью голову, за столом восседает редактор «Аполлона». Комната погружается в полумрак. Всё становится зыбким, нерезким. Медленно открывается дверь. На пороге возникает фигура женщины. Маковский вздрагивает и подаётся ей навстречу.
— Кто Вы?
— Где же Ваше шестое чувство? Я — Черубина де Габриак. Я слышала: Вы были невежливы с моей сестрой…
Маковский ниспадает на стул. Вглядывается в расплывающийся силуэт женщины, прекрасной в лучах уходящего дня. Губы пытаются что-то произнести, но слова застревают в горле.
— Вы искали меня, и вот я пришла сама. Пришла, чтобы уйти навсегда.
— Прошу Вас… Простите… я право…
— Вы разуверились в мечте, любезный Сергей Константинович, похоронили самое лучшее, что Вам подарила судьба. Но я спасаю Вас. Я ухожу, а в сердце Вашем навсегда останется незаживающий след Черубины…
Маковский на какое-то мгновение закрывает глаза, пытаясь стряхнуть наваждение. Через секунду, «прозрев», он видит пустую комнату…
Милый рыцарь Дамы Чёрной,
Вы несли цветы учтиво,
Власти призрака покорный,
Вы склонялись молчаливо.
Храбрый рыцарь. Вы дерзнули
Приподнять вуаль мой шпагой…
Гордый мой венец согнули
Перед дерзкою отвагой.
Бедный рыцарь. Нет отгадки,
Ухожу незримой в дали…
Удержали вы в перчатке
Только край моей вуали.
Мастерская художника Александра Головина, где часто позируют поэты, сотрудники «Аполлона», обсуждаются последние литературные новости. Здесь многолюдно. Бросается в глаза узкая фигура Гумилёва. Откуда-то змеится взгляд Вячеслава Иванова. В другом конце комнаты Волошин разговаривает с Толстым. Сегодня Максу изменяет его обычное добродушие. Он что-то явно выговаривает своему другу. Неожиданно взгляды Волошина и Гумилёва перекрещиваются. Николай Степанович беседует с кем-то из поэтов.
— И всё-таки по-русски так ещё никто не писал, — говорит ему собеседник.
— Да бросьте… Я довольно хорошо знаю эту особу: как женщина — в определённые моменты бытия — она обладает куда большими способностями, чем как поэтесса… Я мог бы рассказать…
Но докончить фразу ему не даёт Волошин. Стремительно подойдя к Гумилёву, Макс даёт ему пощёчину. (Сам Гумилёв, большой специалист в этой области наставлял его в прошлом году: «Сильно, кратко и неожиданно».) Шаляпин только что допел «Заклинание цветов». На мгновение зависла тишина. Тем отчётливей звучит реплика Анненского:
— Достоевский прав: звук пощёчины — действительно мокрый. (А ведь и сам Волошин задолго до этого написал: «…Заглушить позорный звук / Мокро хлещущих пощёчин…»).
— Ты мне за это ответишь, — как-то свистяще шепчет Гумилёв.
На лице Макса нет злости или сожаления. Как учитель к ученику, он обращается к автору «Капитанов»:
— Вы поняли — за что?
Тот смотрит на него с ненавистью.
22 ноября 1909 года. Пустынное место за Новой Деревней возле Чёрной речки. Вдоль дороги голые вербы. Застрял в сугробе автомобиль с Гумилёвым. Участники дуэли — противники и секунданты — дружно вытаскивают его из снега. Отмеривает шаги секундант Волошина А. Н. Толстой. Другой секундант — А. К. Шервашидзе. Со стороны Гумилёва — М. А. Кузмин и секретарь «Аполлона» Е. А. Зноско-Боровский.
— Стреляться в пяти шагах… и до смертельного исхода! — неожиданно заявляет Гумилёв.
К нему бросаются сразу несколько человек, спорят, увещевают; наконец, мрачный и гордый «конквистадор» даёт согласие стреляться в пятнадцати шагах. Михаил Кузмин робко выглядывает из-за дерева. Алексей Толстой перемеривает расстояние. Николай Гумилёв просит его шагать не столь широко… На предложение «помириться» он отвечает «глухо и зло»: «Я приехал драться, а не мириться».
Передавая пистолет Гумилёву, Толстой едва ли не по колено проваливается в рыхлый снег. Создатель «Капитанов» не спешит ему помочь. Стоя без шубы, в чёрном сюртуке и цилиндре, он окатывает своего противника волнами ледяной ненависти. Волошин стоит, широко расставив ноги и немного покачиваясь. Кажется, он не совсем понимает, что происходит. Ему стрелять первому. Осечка. Стреляет Гумилёв. Возможно, в воздух. Прекрасный стрелок, он всё же сознаёт, какую берёт на себя ответственность перед литературой и Богом. Михаил Кузмин не решается отвести от лица хирургический ящик. Ему страшно. Волошин взводит курок и спрашивает Гумилёва:
— Вы отказываетесь от своих слов?
— Нет.
Волошинский пистолет что-то заклинило. (Ещё бы: ведь обошлись «если не той парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то, во всяком случае, современной ему»). Толстому приходится разрядить его в снег.
— Пусть этот господин стреляет ещё раз, — требует Гумилёв, но не встречает поддержки.
Всё кончено. Никто не пострадал. На грязном мокром снегу остаётся забытая кем-то калоша… (Что даст повод Саше Чёрному закрепить за Волошиным прозвище: «Вакс Калошин»), Руки друг другу противники так и не подали. «Мы с Толстым довезли Макса до его дома и вернулись каждый к себе, — вспоминает А. К. Шервашидзе. — На следующее утро ко мне явился квартальный и спросил имена участников. Я сообщил все имена. Затем был суд — пустяшная процедура, и мы заплатили по 10 рублей штрафа. Был ли с нами доктор? Не помню. Думаю, что никому из нас не были известны правила дуэли…»
М. А. Кузмин записал в дневнике: «…не дойдя до выбранного места, расположились на болоте, проваливаясь в снегу выше колен. Граф распоряжался на славу, противники стали живописно с длинными пистолетами в вытянутых руках. Когда грянул выстрел, они стояли целы: у Макса — осечка. Ещё выстрел, ещё осечка. Дуэль прекратили. Покатили назад. Бежа с револьверным ящиком, я упал и отшиб себе грудь. Застряли в сугробе. Кажется, записали наш номер. Назад ехали веселее, потом Коля загрустил о безрезультатности дуэли…»
Волошин и Гумилёв встретились ещё раз летом 1921 года в Феодосии незадолго до гибели последнего. Гумилёв прибыл в Крым, сопровождая командующего морскими силами РСФСР контр-адмирала А. В. Немитца. Макс, по его же словам, высказал наболевшее: «Николай Степанович, со времени нашей дуэли произошло слишком много разных событий такой важности, что теперь мы можем, не вспоминая о прошлом, подать друг другу руки». Гумилёв пробормотал что-то в ответ, и бывшие дуэлянты пожали друг другу руки. Однако вместо того чтобы поставить на этом точку. Волошин «почувствовал совершенно неуместную потребность договорить то, что не было сказано в момент оскорбления:
— Если я счёл тогда нужным прибегнуть к такой крайней мере, как оскорбление личности, то не потому что сомневался в правде ваших слов, но потому что вы об этом сочли возможным говорить вообще.
— Но я не говорил. Вы поверили словам той сумасшедшей женщины… Впрочем… если вы не удовлетворены, то я могу отвечать за свои слова, как тогда…
Это были последние слова, сказанные между нами…»
А Елизавета Ивановна Дмитриева (Васильева), так и оставшаяся в истории литературы Черубиной де Габриак, признавалась в «Исповеди»: «После дуэли я была больна, почти на краю безумия. Я перестала писать стихи, лет пять я даже почти не читала стихов, каждая ритмическая строчка причиняла мне боль. Я так и не стала поэтом: передо мной всегда стояло лицо Н. С. и мешало мне.
Я не могла остаться с М. А. В начале 1910 года мы расстались, и я не видела его до 1917 года (или до 1916-го?). Я не могла остаться с ним, и моя любовь и ему принесла муку.
А мне?! До самой смерти Н. С. я не могла читать его стихов, а если брала книгу — плакала весь день… Он не был виноват передо мною, очень даже оскорбив меня, он ещё любил, но моя жизнь была смята им, — он увёл от меня и стихи, и любовь…»
Волошин посвятил своей коктебельской гостье стихотворение «К этим гулким, морским берегам…», венок сонетов «Corona Astralis», а также ряд стихов из цикла «Блуждания». Лиля жила в основном в Петербурге. Выезжала в Германию, Швейцарию и Финляндию по делам Антропософского общества, членом которого состояла. Переводила со старофранцузского. Позже жила в Екатеринодаре (Краснодаре). Служила в Кубанском университете, работала вместе с С. Я. Маршаком в Театре для детей. Иногда писала стихи. По большому счёту, её литературная звезда закатилась со «смертью» Черубины. Скончалась Елизавета Ивановна в ночь с 4 на 5 декабря 1928 года в Ташкенте, куда была сослана.
События осени 1909 года показательны как пример волошинского благородства, в частности, по отношению к женщине. Многие восторгались способностью и потребностью Макса создавать и расцвечивать новые поэтические миры. Но правы и те критики, которые видят в этой истории пример пагубности мифотворческих экспериментов Серебряного века. То, что муссировалось в литературной среде как анекдот, могло закончиться весьма печально для любого из участников дуэли, а саму «Царицу призрачного трона» привело к тяжёлым психическим последствиям.
И всё же именно её стихами, написанными через много лет после Петербургской драмы, мы завершим эту главу:
Ты сделай так, чтоб мне сказать: «Приемлю»,
как благостный предел, завещанный для всех,
души, моей души, не вспаханную землю
и дикою лозой на ней взошедший грех, —
Чтоб не склоняться мне под игом наважденья,
а всей, мне всей гореть во сне и наяву,
на крыльях высоты и в пропасти паденья.
— Ты сделай так, чтоб мне сказать: «Живу».
Кому земля — священный край изгнанья,
Того простор полей не веселит,
Но каждый шаг, но каждый миг таит
Иных миров в себе напоминанья…
…кто хочет искать пути, ведущие за пределы чувственного мира, тот скоро научится понимать, что человеческая жизнь приобретает цену и значение только через прозрение в иной мир.
Конец первого десятилетия XX века… Максимилиан Волошин — признанный большинством ценителей русской словесности поэт, известный критик: его статьи об искусстве и литературе вызывают жаркие дискуссии. Однако положение Волошина в литературной среде не назовёшь стабильным. Он ещё не выпустил ни одной солидной поэтической книги. Необходимость подстраиваться под чьи-то вкусы всегда была для Макса неприемлема. 29 ноября 1909 года он жалуется в письме А. М. Петровой: «„Аполлон“ к стихам моим охладел… Моего влияния там нет никакого… Вся атмосфера литературная, около него скопившаяся, мне тягостна, и Гумилёв был как раз одним из главных, установивших эту атмосферу литературного карьеризма, столь неподобающую искусству». Не приняли даже венок сонетов «Corona Astralis», а ведь это, вероятно, лучшее из того, что он создал как поэт.
Волошин мечтал популяризировать в «Аполлоне» современных французских писателей. И что же? В шестой номер взяли его переводы нескольких глав из «Яшмовой трости» Анри де Ренье, в девятый — перевод оды Поля Клоделя «Музы», и на этом дело застопорилось. Трагедия Вилье де Лиль-Адана «Аксель», а также драма Поля Клоделя «Отдых седьмого дня» не были востребованы. Изводят «беспрерывные уколы» в литературной жизни, мелкие склоки крупных авторитетов. Да и материальное положение, как всегда, «из рук вон плохо». В личной жизни — «та же запутанность и неразрешимость».
Вообще, создаётся ощущение, что Петербург — «главная реторта всероссийской психопатии». Возникает желание «бросить литературу в журналах и заняться чтением публичных лекций в провинции» — много денег не заработаешь, но хоть получишь «возможность узнать Россию». Намечается расхождение поэта с тем миром, в котором литературное творчество уступало место окололитературной борьбе, где систему художественных ценностей определяли «иерархи» — будь то В. Брюсов, Вяч. Иванов или С. Маковский, — на смену которым уже готов был венценосно заступить будущий глава акмеистов Н. Гумилёв. В самом конце «дуэльного» 1909 года А. В. Гольштейн писала Волошину из Парижа: «Я бы хотела взять Вас на руки и унести куда-нибудь от пошляков, подлецов, от всей вони и грязи, скопившейся во всех углах русской земли. Не Вам, Макс, справиться с этим „литературным“ миром и с этими обрывками человека…»
Да, отношение к Максу в этом мире капризных муз было неровным. За последнее время поэт очень сблизился с А. Головиным, заканчивающим большой портрет Макса; драматург, режиссёр и теоретик театра Н. Евреинов надписывает «дорогому Максимилиану Александровичу Волошину» свою книгу «Введение в монодраму»; писатель В. Гордин дарит «высокочтимому, глубокому, чуткому художнику и поэту нежнейших красивых песен» сборник рассказов «Одинокие люди». Вместе с тем есть люди, которые порицают Волошина за нарочитую парадоксальность выступлений, излишнюю красивость стиха, нелепость поведения. «И мышь, и Аполлон были мало к месту», — пишет о лекции «Аполлон и мышь» поэт В. Гофман; К. Богаевский, называя посвящённую его творчеству статью «великолепной», всё же находит в ней много лишнего и не приемлет легкомысленных отзывов об Айвазовском; зло подтрунивает над «Ваксом Калошиным» Саша Чёрный, а И. Бунин ехидничает по поводу личной жизни поэта: Волошин-де, «съезжаясь за границей с своей невестой, назначает ей первые свидания непременно где-нибудь на колокольне готического собора…».
Тема «Волошин и прекрасный пол» казалась многим «критикам» наиболее благодатной.«…Когда меня влечёт женщина, когда духом близок ей — я не могу её коснуться, это кажется мне кощунством», — признался однажды он. Возможно, с этим связана и та интригующая недомолвка в характеристике, которую дала поэту М. Сабашникова в разговоре с С. Маковским. На его вопрос, почему так странны дружеские приключения Волошина с женщинами, Маргарита Васильевна ответила: «Макс? Он недовоплощённый…» Недовоплощённый, с точки зрения расхожих представлений о мужской норме поведения. Ну и конечно же, применительно к их «специфическому» браку…
Удивительно, но странное восприятие Волошина — поэта, художника и человека — имело место и в последние десятилетия. Так (отвлечёмся немного от хронологии повествования), в своей обширной, можно сказать, монографической статье, предваряющей парижский двухтомник сочинений поэта (1982), Эммануил Райс, словно бы в пику Андрею Белому (Волошин — «целое единственной жизни; поэт-Волошин, Волошин-художник, Волошин-парижанин, Волошин — коктебельский мудрец, отшельник и краевед, даны в Волошине, творце быта…»), упрекает художника в том, что он «так и не сумел окончательно выбрать своего пути — между поэзией, живописью, эзотерикой, между историками, поэтами и богословами и, наконец, простым и искренним русским исканием Божьей правды, в его случае особенно мучительным, из-за оторванности его от русской стихии…»
Сам поэт и филолог, Эммануил Райс признаётся, что ему трудно «по этой же причине… о Максе Волошине писать. У него всё перепутано, всё вместе, всё сразу. Да к тому же часто не на своём месте». И словно бы боясь, что ему не поверят, критик спешит пожаловаться на то, что ему в лице Волошина предстоит иметь дело с «воплощённым беспорядком», а именно: «В беспорядочном нагромождении и переплетении всего со всем — масонства с католицизмом, Родена с Аввакумом и богемы с аскетизмом, как только схватишься за какую-либо из беспорядочно торчащих во все стороны нитей, за ней потянется всё сразу — клочок рыжего крымского чертополоха на обломке резного деревянного украшения из недостроенного Гётеанума и глубокомысленные размышления о перевоплощении рядом с непристойной шуткой парижских художественных кофеен…»
Что же здесь плохого? С каких пор узость и творческое однообразие возводили художнику в заслугу, а многосторонность и широту таланта порицали?! Может ли в одаренном человеке удручать многогранность его духовных интересов? Оказывается, по Райсу, может. Волошин — «глубоко несовершенное и несчастное существо, трудная для разрешения задача, поставленная судьбою перед ним самим». Вот так. Не больше и не меньше. То, что «все эти начала в нём уживаются вместе и одновременно», вовсе даже не возвышает художника и поэта, не делает его интереснее. «Это только одна из причин некой как бы недовоплощённости его облика».
Что же, Волошин в литературе один такой? Нет, есть ещё В. Розанов, который (попался под горячую руку) «так же бесформенно мягкотел…», правда, вылеплен Волошин «из иных и иначе замешанных материалов», — глубокомысленно замечает автор статьи. Дальше — больше. Вспомнив, очевидно, что определение «недовоплощённый» по отношению к Волошину принадлежит его жене М. В. Сабашниковой, Э. Райс упоминает о его (Волошина) «затруднениях в области половой жизни, о которых сохранились свидетельства лиц, близко его знавших» (интересно — кого ещё, кроме Сабашниковой?). Приводится тут же и мнение В. Ходасевича: «советская власть потому и пощадила Волошина, что не принимала его всерьёз как противника, рассматривая и его гневные обличения, и его личное бесстрашие как безобидное чудачество и даже юродство». (Жаль, что этот «советский гуманизм» не распространился на таких «чудаков» от поэзии, как Н. Гумилёв, О. Мандельштам, Н. Клюев…)
Однако вернёмся в начало XX века… 30 ноября 1909 года скоропостижно умирает И. Анненский. Смерть настигает его у входа в Царскосельский вокзал. 4 декабря поэта и переводчика, директора гимназии и учёного провожали в последний путь Маковский, Кузмин, Волошин, Толстой, Ауслендер, Дымов, Зноско-Боровский, Зелинский, Котляревский, Булич и другие… Максу запомнилось: «Белый катафалк с гробом, с венками лавров и хризантем медленно и тяжело двигался по вязкому и мокрому снегу; дорогу развезло; ноябрьская оттепель обнажила суровые загородные дали…»
Маковский же в своих воспоминаниях выделяет другой аспект, характеризующий Макса, с его точки зрения, не очень лестно: «После похорон я ехал на извозчике с Волошиным, развивавшим мне свой взгляд на смерть и на мёртвых… — „Люди, умирающие скоропостижно, не успевшие приготовиться к иному существованию в другом измерении, бесконечно изумлены в первое время… Многие от неожиданности, догадавшись внезапно, что они — мёртвые, сходят с ума…“ Волошин это „сходят с ума“ произнёс особенно улыбчивым голосом, и меня отшатнуло от него в эту минуту: он показался мне… уж очень бессердечно-умствующим философом, смакующим приключения своей фантазии даже перед гробом друга». Трудно сказать, насколько всё это правдиво. Вроде бы и похоже на Волошина, но ещё больше — на шарж…
Так или иначе, смерть «подземного классика», творчество которого в той или иной степени было близко как писателям-символистам, так и пришедшим им на смену поэтам-акмеистам, подвела итог целой литературной эпохе, характеризовавшейся относительным единством эстетических исканий. К концу же 1900-х годов в русской литературе намечается очередной раскол. Прежде всего, ослабляется роль символизма, представители которого уже не могут претендовать на роль духовных лидеров, задавать тон в поисках новых средств самовыражения. Да и не только в символизме дело… Евг. Аничков в статье «Последние побеги русской поэзии» (1908) констатирует повсеместный разброд и шатание в лагере русской словесности: «Нет более ни кружков, ни школ, ни близких направлений, которые не расшатались бы. Всякий только за себя и всякий против всех. Даже не разобрать в этом гомоне, кто, кого и за что изобличает».
К. Бальмонт в 1907 году сделал выпад в сторону младшего поколения писателей: «Змей показал райское древо, но люди не стали богами. Несколько сильных змеев родило многих малых змеёнышей, разных, но свившихся в один спутанный клубок» («Наше литературное сегодня»), «Младшие», естественно, не оставались в долгу и больно задевали «отцов» символизма: «Безверие, беспочвенность, безыдейность, какое-то шаткое туманное пятно», — так, явно перегибая палку, характеризует «колыбель русского символизма» будущий «синдик» акмеизма С. Городецкий («Аминь», 1908).
Не удержался от дискуссии и «прямой наследник Вл. Соловьёва». Прежняя школа и прежнее направление, пишет А. Блок, «были только мечтой, фантазией, выдумкой или надеждой некоторых представителей „нового искусства“, но никогда не существовали в русской действительности…» («Вопросы, вопросы, вопросы», 1908). Блок одним из первых в лагере символизма задумывается о закате, внутренней исчерпанности этого направления. Позднее, в предисловии к поэме «Возмездие» (1919), он напишет: «…1910 год — это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили, как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу; акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма. Лозунгом первого из этих направлений был человек — но какой-то уже другой человек, вовсе без человечности, какой-то первозданный Адам».
Вслед за первой русской революцией, считает поэт, наступило «неистинное мистическое похмелье»; истинная сопричастность Вечности, «несказанному», подлинная духовность были утрачены. «Восьмидесятники, — пишет Блок матери, — не родившиеся символистами, но получившие по наследству символизм с Запада (Мережковский, Минский), растратили его, а теперь пинают ногами то, чему обязаны своим бытием. К тому же, они — мелкие — слишком любят слова, жертвуют им людьми живыми, погружёнными в настоящее, смешивают всё в одну кучу (религию, искусство, политику и т. д.) и предаются истерике».
Предчувствовал грядущие изменения на литературном Олимпе и Вяч. Иванов. В докладе «Заветы символизма», прочитанном в Москве и Петербурге (март 1910), он противопоставил поэзию «магического внушения», лирику, основанную на восхождении от явления к сущности, от земных вещей к ноуменальной, сверхчувственной реальности, эстетическим представлениям XVIII–XIX веков, опирающихся на самодостаточность слова относительно разума, на «непосредственную сообщительность прекрасной ясности». Ныне, заключает Иванов, намечается поворот вспять. Современные поэты, раздавленные «данностью» хаоса, капитулируют перед внешним миром, впадают в иронию и отчаяние. Лишённые крыл, они не в состоянии освободиться от оков натурализма, хотя некоторые их произведения и не лишены «изящества шлифовального и ювелирного мастерства». Удел подобных авторов — возводить в «перл сознания» «всё, что ни есть красивого в этом, по всей видимости, литературнейшем из миров».
Вяч. Иванов с некоторой долей язвительности предвосхищает явление «русского Парнаса», «школы гармонической точности» (как назвала Л. Я. Гинзбург лирику, основанную на пушкинских традициях). И он не ошибся. Поэтика французских парнасцев (Ш. Леконт де Лиль, Т. Готье, А. Сюлли-Прюдом и др.) была действительно взята на вооружение будущими акмеистами и прежде всего их лидером Н. Гумилёвым.
Годом позже, анализируя сборник стихов Вячеслава Иванова «Cor Ardens» (Ч.1), Гумилёв сформулировал различие между поэтами «линий и красок» (Пушкин, Лермонтов, Брюсов) и Вяч. Ивановым: «Их поэзия — это озеро, отражающее в себе небо, поэзия Вяч. Иванова — небо, отражённое в озере». В первом случае, как считал ближайший литературный сподвижник Гумилёва С. Городецкий, имеется в виду «творчество, непосредственно воспринимающее сущее» и не затемняющее «его природы субъективными своими переживаниями и молниеносными впечатлениями». Во втором случае происходит растворение земных реалий и собственной поэтической индивидуальности в «сущем», «целом», поглощение «озера» «небом».
Литературные манифесты акмеистов предвосхитил М. Кузмин, не принадлежавший к какому-либо конкретному эстетическому направлению. В первом номере «Аполлона» за 1910 год появляется его статья «О прекрасной ясности». Автор делит представителей искусства на две категории: «несущих людям хаос, недоумевающий ужас и расщеплённость своего духа» и других — «дающих миру свою стройность». Вторые, при равенстве таланта, несомненно «выше и целительнее первых», особенно в смутное время, имеющее непосредственное отношение к автору и его читателям. Кузмин требует от писателя, каким бы художественным методом он ни пользовался, логики в замысле и построении произведения, точности и экономии в средствах, ясной гармонии и архитектоники. Выполнение этих условий приведёт художника к секрету «прекрасной ясности», «кларизма» (от лат. clarus — ясный), высшей цели искусства.
Такова была обстановка в литературном мире, когда в печати появилась книга стихов Волошина. 23 марта 1910 года В. Брюсов пишет литературоведу П. Перцову о «великом расколе» в кругу экс-декадентов — борьбе «кларистов» (С. Маковский, М. Кузмин и др.) с мистиками (В. Иванов, A. Белый, С. Соловьёв), о том, что издательство «Мусагет» решительно отмежевалось от «Скорпиона». Вот-вот должны были заявить о себе акмеисты. С. Городецкий, выступая в Литературно-художественном кружке, разнёс в пух и прах «Аполлон» вместе с его продукцией, после чего С. Маковский, уже в Петербурге, не подал ему руки. Поднимали голову эгофутуристы во главе с И. Северяниным. В 1908 году в еженедельнике «Весна» состоялся дебют «будетлянина» B. Хлебникова. А спустя два года поэт, художник, издатель и теоретик искусства Давид Бурлюк, вместе с братьями, Владимиром и Николаем, способствует рождению кубофутуризма…
Итак, 27 февраля 1910 года издательство «Гриф» в Москве выпускает книгу М. А. Волошина «Стихотворения. 1900–1910» тиражом 1200 экземпляров, с рисунками К. Ф. Богаевского. «Это лирика ума, лирика эмоций и созерцаний, схваченных рассудком», как отмечал рецензент газеты «Утро России»; «богатая и скупая книга замкнутых стихов, образ замкнутой души», по определению Вяч. Иванова. Это подведение итогов творчества поэта за первое десятилетие, художественный сплав традиций французской культуры и русской поэзии рубежа веков.
Сборник открывается характерным для молодого Волошина четверостишием. Это своего рода эпиграф ко всей книге:
…И мир, как море пред зарёю,
И я иду по лону вод,
И подо мной и надо мною
Трепещет звёздный небосвод…
Четыре строки порождают массу ассоциаций. Просматривается символистская концепция мессианства, избранничества поэта. Движение по лону вод вызывает определённые библейские аллюзии. Сразу же вспоминается: «Я только гроб, в котором тело Бога / Погребено». Или: «Не отходи смущённой Магдалиной — / Мой гроб не пуст…» Или: «Чьей рукой плита моя отвалена…» Поэт — это «освободитель божественных имён», божественной сущности, таящейся в людях, вещах, природе. Это бессмертный, неугомонный дух в его земной ипостаси, «себя забывший бог», тоскующий по Вселенной и вечности, но обречённый земным путям и трагедиям.
Поэтическое бытие воспринимается вне времени и пространства. Не случайно название небольшого цикла стихотворений: «Когда время останавливается». А пространство в данном случае лишается видимых границ. Звёздный небосвод, окружающий поэта, делает его соприродным космосу, «восхищает» от земли и обрекает на одиночество. Одиночество в философско-мировоззренческом плане — неизбывное состояние поэта. В дни мира и в дни войны…
И средь ладоней неисчётных
Не находил еще такой,
Узор которой в знаках чётных
С моей бы совпадал рукой, —
напишет Волошин в феврале 1913 года (нечётные числа воспринимались в эзотерическом смысле как мужские, чётные — как женские), а в ноябре 1919-го — завершит стихотворение «Гражданская война» хрестоматийно известной строфой:
А я стою один меж них,
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
«Иду по лону вод…» Движение. Устремление «туда — за грань». Странничество. Этот мотив — один из ведущих у поэта назвавшего себя в расширенном варианте этого стихотворения-«эпиграфа» «Вечный Жид». Это и реальные странствия «пилигрима», и духовные «блуждания», поиски философской истины. Свершая свой путь, восходя к вершинам познания, поэт и художник остаётся как бы наедине с морем (из которого, согласно преданиям, родилась жизнь), с целым мирозданием. Наедине с историей человечества.
«Трепещет звёздный небосвод…» Трепещет. Этот глагол выбран поэтом не случайно. Он не только позволяет ощутить необъятную, постоянно меняющуюся картину космоса, но и определяет саму природу поэзии, которая, если вдуматься суть мерцание, нечто колеблющееся. Пример подали те же символисты, которые, как считал их оппонент С Городецкий, старались использовать «текучесть слова…» Теории Потебни устанавливают с несомненностью подвижность всего мыслимого за словом и за сочетанием слов; один и тот же образ не только для разных людей, но и для одного и того же человека в разное время значит разное. Символисты сознательно поставили себе целью пользоваться главным образом, этой текучестью, усиливать её всеми мерами Символ таким образом приобретает потенциальную возможность вбирать в себя бесчисленное множество значений, сопрягать «всё со всем».
У молодого Волошина поэтика недоговорённого, ускользающего, ноуменальная (вертикальная) система образов характерны Для многих стихотворений. Самая яркая иллюстрация вышесказанного — «звёздный венок», первый сонет которого открывается запоминающейся строфой:
В мирах любви неверные кометы,
Сквозь горних сфер мерцающий стожар —
Клубы огня, мятущийся пожар,
Вселенских бурь блуждающие светы
Мы вдаль несём…
Неверные кометы, мерцающий стожар, мятущийся пожар блуждающие светы — безграничный, колеблющийся, неуловимый в своей сущности мир…
И все же не следует считать, что в первое десятилетие XX века символизм является доминирующим художественным методом Волошина. В 1910 году он определяет свою творческую манеру в статье «Анри де Ренье» как новый реализм — синтез традиционного реализма XIX века, импрессионизма («реалистического индивидуализма») и символизма. Подобно многим поэтам своего поколения, Волошин не ощущает прямой зависимости от французских символистов, хотя и переводит несколько стихотворений П. Верлена и С. Малларме, которого английский поэт и искусствовед Э. Люци-Смит считает ключевой фигурой европейского символизма, поскольку в его творчестве есть всё то, что составляет родовую печать этого метода: осознанная двуплановость мира, смысловой герметизм, символ, вызывающий резкий душевный сдвиг, отторжение сферы искусства от реальной жизни и т. д.
Волошин к подобной эстетической системе относится избирательно. Придерживаясь установки на синтез (синэстезию), он не принимает то, что делает лирику герметически замкнутой, «храмом для посвящённых». Ему чужды те художники слова, которые, подобно Малларме, заключают «свои идеи в алхимические реторты, магические кристаллы и алгебраические формулы», уводят поэзию внутрь самой себя, в самодовлеющие замкнутые формы. Волошину импонирует Анри де Ренье, разъявший формальный строй и разбивший причудливые «амфоры». Заслуга этого поэта в том, что он придал стиху символистов чувственную сказочность, «неторопливую прозрачность, а новым символам — чёткость и осязаемость».
Русский поэт надолго усвоит творческий принцип Ренье — «воссоздать, обессмертить в себе самом и вне себя убегающие мгновения», через мимолётное выразить вечное. Излюбленный образ французского писателя — золотые осенние листья, исчезающие от порыва ветра, но оставляющие «запах Славы и Смерти». Цвет Смерти и Солнца, запах Славы и Смерти, сочетание Смерти и Эроса — в этих антиномиях, по Волошину, заключена природа поэтического творчества. «Воистину мудр лишь тот, кто строит на песке, сознавая, что всё тщетно в неиссякаемых временах и что даже сама любовь так же мимолётна, как дыхание ветра и оттенки неба», — цитирует Волошин лирическую миниатюру Ренье, сопрягая её с известным стихотворением последнего в собственном переводе (1910):
Приляг на отмели. Обеими руками
Горсть русого песку, зажжённого лучами,
Возьми… и дай ему меж пальцев тихо стечь.
Потом закрой глаза и долго слушай речь
Журчащих вод морских и ветра трепет пленный,
И ты почувствуешь, как тает постепенно
Песок в твоих руках… и вот они пусты.
Тогда, не раскрывая глаз, подумай, что и ты
Лишь горсть песка, что жизнь порывы воль мятежных
Смешает, как пески на отмелях прибрежных…
Совмещение мгновения и вечности, преходящего и неизбывного, Смерти и Эроса должно сочетаться с внутренним сознанием своего «я» («…подумай, что и ты / Лишь горсть песка…»). Творческий импульс даёт возможность ощутить внутри себя «весь великий сон земли». Почувствовать божественную целокупность мира — значит дать изображение «Лика Невидимого» в «медалях» творчества, которые сделаны «из глины сухой и хрупкой», потому что в этой хрупкости скрыта правда, роднящая их с мимолётностью всех явлений. «Всё преходящее есть символ», а всё мировое целое «находит себе отображение лишь в текущих и преходящих формах». Божественные первообразы, платоновские эйдосы, идеальные сущности вещей и явлений напоминают о себе тем,
…что они были живым лицом
Того, что мы чувствуем в розах,
В воде, в ветре,
В лесу, в море,
Во всех явлениях
И в нашем теле
И что они, божественно, — мы сами…
Ортодоксальный символизм не устраивает Волошина своей тенденцией к усложнённым аллегориям, загадкам и шарадам, закрытому в себе образу, требующему разгадки. «Закристаллизованный» символ становится грубым и мёртвым. «Но с того момента, когда всё преходящее было понято как символ, исчезла возможность этой игры в загадки. Снова всё внимание художника сосредоточилось на образах внешнего мира», однако образах ускользающих, подобно прекрасной нимфе из лирико-философского этюда Ренье «Пленница»: «Ты убежала от меня, но я видел твои глаза, когда ты убегала. Рука моя знает вес твоей упругой груди, вкус, цвет… извив твоего исчезнувшего тела, за которым гонится моё желание…» Задача художника — закрепить стихом ускользающее мгновение.
Если традиционный реализм предполагает тщательную выписку деталей, подробностей и необходимость спрятать авторское «я» в обилии вещей, то новый реализм, считает Волошин, требует изображения не явлений мира, а получаемых от них впечатлений — так, чтобы через каждый образ проглядывало дно души поэта. Однако связь с символизмом ведёт к выражению в образе не только лирического «я», но и «мировой первоосновы человеческого самосознания».
Сам принцип художественного закрепления текущего мгновения, выхваченного из калейдоскопа жизни, восходит к эстетическим основам столь распространённого во Франции искусства импрессионизма, речь о котором шла выше. Однако в большей степени Волошина привлекает «логический переход от импрессионизма к символизму; впечатление одно говорит о внутренней природе нашего Я, а мир, опрозраченный сознанием человеческого Я, становится одним символом».
Следующая ступень — неореализм, метод, сопоставимый в образном плане с текучей поверхностью реки, на которой «видишь отражение неба, облаков, берегов, деревьев, а в то же время из-под этих трепетных световых образов сквозит тёмное и прозрачное дно с его камнями и травами». Внешний мир наслаивается на внутренний мир души художника и создаёт эффект двойного видения, глубинной перспективы. Сквозь настоящее просвечивает прошлое, мгновение раздвигает границы. Не так ли спустя десятилетие будет осознаваться и творчество самого Волошина, воспринявшего Смутное время, допетровскую эпоху сквозь призму усобицы XX века?..
Таким образом категория времени приобретает в волошинской философии творчества важнейшее значение, поэт трактует её в символико-мифологическом ключе. В 1909 году в альманахе «Золотое руно» (№ 11–12) было опубликовано небольшое эссе Волошина «Horomedon», представляющее собой, условно говоря, первую часть своеобразной трилогии, включающей в себя, помимо упомянутой, статьи «Анри де Ренье» и «Аполлон и мышь», вошедшие потом в книгу «Лики творчества». Сближает их наличие сходных философских мотивов, разрабатываемых поэтом в стихотворениях и очерках: время и творчество, мгновение и вечность, Аполлон и Дионис как единство противоположностей…
Покровителя искусств Аполлона обычно называют Мусагет — предводитель Муз. Волошин же использует применительно к эллинскому богу более редкий эпитет — Горомедон (Horomedon), что означает: вождь и распорядитель времени. В третьей строфе стихотворения «Дэлос», кстати, написанного, как и статья, в 1909 году, определения Аполлона суммируются. Вспомним ещё раз:
Гневный Лучник! Вождь мгновений!
Предводитель Мойр и Муз!
Налагатель откровений,
Разрешитель древних уз!..
Аполлон-Мойрагет. «Водитель судьбы», пророк и оракул. Не в этом ли назначение поэта? Ведь это о себе, о своём даре и призвании пишет Волошин:
Я люблю держать в руках
Сухие, горячие пальцы
И читать судьбу человека
По линиям вещих ладоней…
(«Отроком строгим бродил я…», 1911)
«Вождь мгновений», Горомедон. И это закономерно: только искусство, творческое горение духа позволяет человеку ощутить «мгновенья, полные, как годы». Творческое бытие — вне времени и пространства. Истинная поэзия — это жизнь души, а душа не знает никаких ограничений. Миг творческого озарения или любовного единения вбирает в себя вечность. Одно из стихотворений поэта открывается строкой-призывом: «Возлюби просторы мгновенья…»
Волошинское отношение к мгновению коренным образом отличается от брюсовского расточительного упоения жизнью («Берём мы миги, их губя»). У Волошина — не уничтожение, а созидание. Ведь каждый миг вбирает в себя вечность, а потому эти «лёгкие звенья» не должны «спаяться в трудную цепь».
Итак, единственная ощущаемая форма времени — знак вечности, по Волошину, — это мгновение, остановить которое неподвластно никакому Фаусту. Только поэт, художник может удержать «ускользание мгновения», создать «гробницу формы» для времени, протянув «алмазный мост между бытием и тем, что вне бытия» — жизнью духа, вдохновением, «шестым чувством», насылаемым Мусагетом. Так кто же такой этот покровитель искусств и вдохновитель творчества? Внешняя по отношению к поэту сила? Отнюдь нет. Аполлон-Горомедон — это само время, которое, согласно Платону, есть подвижный образ вечности и которое, как и вся Вселенная, внутри нас, о чём поэт напоминает и в стихотворении «Подмастерье» (1917). Время, о котором почитаемый Волошиным Поль Клодель говорит как о «внутреннем времени» (память есть «внутреннее зрение духа»). Это и есть искусство, творимое в потоке времени, самой истории, струящейся в наших нервах и артериях.
По убеждению Волошина, «вся история человеческих деяний записана в складках моего мозга, вся история зверя жива в бессознательных сокращениях моих мышц, очаг сердца поддерживает в моём теле температуру того Океана, из которого вышло всё живущее на земле, строение костей моих учит меня тому, как строились горы…» И нет ничего удивительного в том, что рука современного человека, сжимающая кремневый нож, испытывает и невольно «повторяет то напряжение мускулов плеча, которое наносит удар». Рукоятка древнего ножа с выступами для пальцев и есть та самая гробница формы, в которую вливается временной поток из прошлого и будущего и которая «расцветает неускользающим, но отныне от вещества рождающимся мгновением».
На этом поэт делает упор: мгновение, творческое озарение рождается от вещества. И не просто от вещества, неодушевлённой материи. Важно помнить, что
…всюду — и в тварях, и в вещах — томится
Божественное Слово,
Их к бытию призвавшее…
Задача поэта — назвать и вызвать «всех духов — узников, увязших в веществе…» (стихотворение «Подмастерье»), Да и сам поэт (как помним) — «только гроб, в котором тело Бога / Погребено…» За восемь лет до «Подмастерья» и за год до написания стихотворения «Склоняясь ниц, овеян ночи синью…», откуда взята приведённая выше строка, Волошин использует сходный философско-поэтический образ в комментируемом эссе: «О, радостное тело моё, ты лавина, которая сорвалась с уст Божьих в тот миг, когда времена времён были низвергнуты в бытие, ты лавина, образовавшаяся стремительным падением моего Я в вещество, ты моё прошлое, сжавшееся в плоть, оживотворённую кровью, которая в темноте моих жил несёт необъятности рассыпавшихся когда-то вне меня звёздных вселенных». Поэт — это «себя забывший бог», сосуд Откровения, заключающий в себе (Волошин с этого начинает свою статью) имя «того, кто не в небе, а в звёздных глубинах человеческой души…». И это вызывает ассоциации уже не только с языческим богом…
Художник — не творец, а подмастерье. Ведь как поэт он говорит языком Бога, как скульптор освобождает божественную сущность (имя), таящуюся в веществе, как музыкант даёт выход божественной гармонии, облекая её в звуки. То есть является подручным Творца. Об этом же, правда, несколько по-другому, говорит и близкий Волошину по духу творчества Вяч. Иванов: «Задачею поэзии была заклинательная магия ритмической речи, посредствующей между миром божественных сущностей и человеком… Средством же служил „язык богов“, как система чаровательной символики слова с её музыкальным и орхеистическим сопровождением…»
Всё это объясняет полемический тезис Волошина: «Живописец, скульптор, архитектор — ты не творец; ты лишь воспитатель вещества…» Ведь «всё, прежде чем начать существовать, как воля, как форма, как лик, раньше было словом», которое ныне «из глубины темницы подаёт свой голос поэту и ждёт от него своего имени, своего освобождения». Подаёт голос именно поэту, так как в ряду других искусств поэзии предоставлены большие возможности. Царственная наука слова «творит в стихии будущего», в то время как музыка — «искусство памяти», а пластика — выражение настоящего, просветление жизнью и пламенем духа «закланных» в веществе мгновений.
Не слишком ли всё это категорично? Смотря из чего исходить… Ведь перед нами не научное исследование философии творчества, а скорее лирико-эзотерические импровизации поэта.
Провидческую силу поэзии подтвердила судьба самого Максимилиана Волошина, предугадавшего апокалиптические события в истории России. Но ведь рассмотрел он их, ощутив единство времён, когда прошлое вдруг обернулось настоящим, явив грозное предупреждение будущему, то есть нам, сегодняшним. Таким образом, поэзии доступны те сущности, которые выражает собой пластика («Остановись, мгновенье!») и музыка («Вспомни самого себя!»). «Царственность» «науки слова» обусловлена не столько тем, что она «творит в стихии будущего», сколько тем, что слово — это «принесение в жертву самого себя», ибо «оно питается живою кровью возможного». С этим трудно не согласиться, как и с тем, что слова всегда в конфликте с человеческими деяниями. Аполлон-Мойрагет превращает поэта скорее не в Мелампа, а в Кассандру, слова которой, «найденные и точные, должны находиться в разладе с деяниями по самой природе своей». Слова эти (вспоминается поэма «Бунтовщик» из книги «Путями Каина») —
…голос вопиющего в пустыне
Кишащих множеств, в спазмах городов,
В водоворотах улиц и вокзалов —
В безлюднейшей из всех пустынь земли.
«Поэтому, — возвращаемся мы вновь к статье „Horomedon“, — только неверные слова могут быть согласованы с поступками…», с поведением «кишащих множеств». И далее — самое загадочное, многозначительное: «Слово не есть ли деяние, спасённое в самой сущности его, деяние, которому я не дал расточиться в напрасном свершении»… Как понимать этот парадокс? Возможно, следует вспомнить, что Волошин был не согласен с гётевским Фаустом, исправившим в библейском тексте основополагающий тезис: «В начале было Слово» на другой: «В начале было деяние…» Ему гораздо ближе Аксель из одноимённой трагедии Вилье де Лиль-Адана, воскликнувший: «Я слишком много думал, чтобы унизиться до действия!» То есть до прагматики. До низведения поэтических мгновений в пределы обыденности.
В статье, посвящённой творчеству Вилье де Лиль-Адана, которая открывает книгу «Лики творчества», М. Волошин приходит к выводу: «Творчество всегда есть избрание того, что могло быть и уже не случится в жизни» — таинство, не поддающееся ремесленническому «снижению», дискредитируемое в прагматическом мире расчёта и будничной логики. Однако, в отличие от покончившего с собой Акселя, русский поэт не отвергает искушения жизнью, хотя, подобно «французскому Кириллову», отдаёт себе отчёт в том, что помимо обычных людских соблазнов, это значит «принять… все горести, которые готовит нам завтра, все пресыщения, все болезни, разочарования…», а вместе с тем — «все гневы будущих времён», непонимание современников, разделить участь Серого ангела.
Позднее, в очерке «Анри де Ренье», поэт заговорит о соотношении жизни и смерти, деяния и слова уже по-другому: «…люблю человека за то, что он смертен, ибо смертность его здесь знак бессмертия, люблю мгновение, потому что оно проходит безвозвратно и безвозвратностью своей свидетельствует о вечности, люблю жизнь, потому что она меняющийся, текущий, неуловимый образ той вечности, которая сокрыта во мне…» Путь постижения вечного начинается с конкретных жизненных проявлений и «лежит только через эти призрачные реальности мира…» Для поэта Волошина земная жизнь в её мельчайших проявлениях и космос, жизнь Вселенной, едины. «Всё имеет значение… Каждое впечатление может послужить дверью к вечному», лишь бы всё преходящее «было понято как символ».
«Всё преходящее есть символ» — слова Мистического хора, звучащие в финале «Фауста» («Лишь символ всё бренное, / Что в мире сменяется…»). Задолго до французских «проклятых поэтов» Гёте пришёл к пониманию символа как «образа, сфокусированного в зеркале духа и, однако, сохраняющего тождество с объектом», как представления всеобщего частным «не как сон или тень, но как живое мгновенное откровение непостижимого». И, наконец, то главное в словах Гёте, что находил Волошин и в произведениях Ренье: «Истинное, совпадая с божественным, никогда не допускает непосредственного познания. Мы созерцаем его только в отблеске, в примере, в символе, в отдельных и родственных явлениях. Мы воспринимаем его как непонятную жизнь и не можем отказаться от желания всё-таки понять его». Лирическая тайнопись Волошина, автора «двойного венка» сонетов, убедительно иллюстрирует эту мысль.
Если французская культура прививала поэту дисциплину художественной формы, обогащала палитру изобразительных приёмов, то славяно-германская «безмерность духа» пронизывала его творчество изнутри, способствовала рождению философско-эзотерических концепций, вела к постижению мира как «открытой книги», которую, прочитывая, человек принимает в себя. Отсюда — известный волошинский тезис: «Человек — это книга, в которую записана история мира», — мы встречаем его среди записей 1907 года. Отсюда же — вольная интерпретация афоризма А. Бергсона: «Всюду, где есть жизнь, существует свиток, в который время вписывает себя». Под свитком подразумевается именно жизнь человека, художника, поэта.
Впервые запечатлеть «свиток» своей жизни, издать книгу стихов Волошин задумал, как уже отмечалось, летом 1904 года. В конце 1906 года появилась потребность издать сразу два сборника: мистических стихов, под названием «Ad Rosam» («К Розе») и «описательных, лирических и общественных», объединённых заглавием «Годы странствий». Но, как мы знаем, этому замыслу также не дано было осуществиться.
Заслуживает внимания само желание вычленить именно мистические стихи под заголовком, восходящим к символу Розенкрейцеров (Братства Розы и Креста). Процитируем в этой связи «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии» М. П. Холла: «Символом Братства Розенкрейцеров было изображение розы, распятой на кресте… Красный цвет розы говорит о крови Христа, а золотое сердце, скрываемое в середине цветка, соответствует духовному золоту, скрытому в человеческой природе… Роза символизирует сердце, а сердце всегда понималось христианами как эмблема добродетельной любви и сострадания точно так же, как природа Христа является персонификацией этих добродетелей». Предполагалось, что настоящим «Розенкрейцером или Масоном сделаться нельзя; им можно стать только путём роста и развёртывания своей божественной власти над собственным сердцем», через искупление человека, предполагающее соединение его низшей, временной природы с высшей.
Всё это свидетельствует, во-первых, о скрытых процессах, происходивших в душе поэта и не всегда прямо обозначавшихся в его разговорах и литературном творчестве; во-вторых — о его стремлении затронуть своими стихами лучшие, наиболее светлые стороны человеческой природы; в-третьих — о ранней приверженности Макса, выражаясь словами Цветаевой, к «тайному учению о тайном».
Две «определяющие особенности» поэта М. Волошина, проявившиеся в его книге «Стихотворения. 1900–1910», это «импрессионизм и оккультизм», как отметил в «Письмах о русской поэзии» М. Кузмин (Аполлон, 1910, № 7). Об импрессионизме Волошина, в частности его цикла стихов «Париж», мы уже говорили. Об оккультизме поэта можно говорить бесконечно. Поставим на место этого термина другие понятия — духовидение, или духовные искания, мистическое мировосприятие, эзотерические опыты, которые также неоднократно фигурировали в творческой биографии нашего героя, как и вообще в художественно-литературном обиходе Серебряного века. Постараемся выделить главное — применительно к первой книге стихов поэта.
Годом своего «духовного рождения» сам Волошин называет в «Автобиографии» год 1900-й, во многом связывая прививку духа с творчеством Вл. Соловьёва — его «Тремя разговорами» и «Письмом о конце всемирной истории». Однако в более широком смысле, как уже говорилось, философия и лирика Соловьёва, его софиология оказали существенное влияние на целое поколение молодых поэтов, в том числе и на М. Волошина. В первой книге его стихов это влияние весьма ощутимо. Волошин был близок к восприятию идеала старшего философа — «Жены, облечённой в Солнце» из «Откровения Иоанна Богослова», которая «должна явить истину, родить Слово». Основную идею теологемы Софии формировали в понимании Соловьёва традиции православной церкви. Как впоследствии и Волошин («Владимирская Богоматерь»), он в значительной мере опирался в своих построениях на иконописные образы.
Хотя само имя Софии ассоциировалось с церковью Святой Софии в Константинополе, византийское понимание божества как чисто идеальной субстанции не соответствовало, по мнению Соловьёва, исконной вере русского народа, который был склонен к телесно-чувственному его восприятию, что, в частности, нашло выражение в строительстве софийных храмов в Новгороде и Киеве. В качестве олицетворения Софии философ упоминает древнерусскую икону, на которой изображена сидящая в центре, на престоле, женская фигура, окружённая Богородицей, Иоанном Крестителем и вознесённым над ней Христом. Женская фигура — это, по сути дела, богочеловеческая идея, проявлениями которой являются Христос, Богородица и Креститель. Посвящая свои храмы Святой Софии, «субстанциальной премудрости Бога, — пишет Соловьёв в книге „Россия и вселенская церковь“, — русский народ дал этой идее новое выражение, неизвестное грекам (которые отождествляли Софию с Логосом)».
Ранее мы уже останавливались на стихотворении Волошина «Портрет» (1903), написанном как бы от лица возлюбленной. Женский образ соотносится здесь с иконописью («Я жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма»), однако скорее в эстетическом, чем религиозно-философском плане:
Там, где фиалки и бледное золото
Скованы в зори ударами молота,
В старых церквах, где полёт тишины
Полон сухим ароматом сосны…
Как обычно, большое значение поэт придаёт цвету. «Фиалки» и «бледное золото», голубой и жёлтый, вызывают ассоциации как с полотнами художников Раннего Возрождения, так и с цветами иоанновского масонства (цвет золота и небесной лазури). Заметим, что лазурь — излюбленный цветовой символ Вл. Соловьёва и А. Белого. Символ запредельности духа, ощутимой вечности. У Волошина в стихах, обращённых к Сабашниковой, преобладает синий цвет («И боль пришла, как тихий синий свет»; «Ты живёшь в подводной сини / Предрассветной глубины»), который суть «воздух и дух, мысль, бесконечность, неведомое» («Чему учат иконы»). Символика цвета в данном случае никак не связана с образом Софии.
Программным же произведением, посвящённым Вечной Женственности, можно считать стихотворение Волошина под названием «Она» (1909). Заглавный символ вбирает в себя весь «сон веков», весь строй художественно-мифологической образности. Микенская Афродита, Таиах, Мона Лиза… Фигурируют здесь и «лики восковых мадонн», ассоциирующиеся со скульптурой Богоматери, виденной поэтом в Севилье во время религиозного шествия (1901). Как уже говорилось, для Волошина «Царевна Солнца Таиах» — символ такого же плана, что и «Жена, облечённая в Солнце» для Соловьёва, понимающего этот образ как антропологически, так и богочеловечески, что служило поводом для обвинения философа в разночтениях. Но если у Волошина вечная женственность уравновешивается бытийным началом («улыбкой женщин в миг объятья»), то у Соловьёва преобладает всё же космический принцип. Однако в обоих случаях главным остаётся выражение сверхжизненной, победительной красоты, разрушающей злые силы и ведущей к спасению мира.
Высоко ценил Соловьёва как «ясновидца» и носителя «Христова импульса» Рудольф Штейнер. Немало места в его духовных поисках занимают размышления о «Девственной Софии» (что отразилось в лекциях «Евангелие от Иоанна»), которую он называет «самодухом человека»: София — это «очищенная часть человеческой души, вполне освобождённая от всякого ложного эгоизма, от всех нечистот; душа, которая способна родить в себе Слово Божье, т. е. Христа, как выражает это Павел».
Именно Рудольф Штейнер с его антропософскими откровениями в значительной мере определил следующий «период больших личных переживаний романтического и мистического характера» в жизни Максимилиана Волошина (о влиянии Вячеслава Иванова уже говорилось). Разумеется, далеко не всё здесь представляется ясным. Скорее напротив. Даже близко знавшая поэта Марина Цветаева, называя Макса «знающим», «пантеистом», «гётеянцем», не пытается нащупать «мост к его штейнерианству, самой тайной его области», о которой ничего не знает, «кроме того, что она в нём была, и была сильнее всего». Что ж, будем судить о глубине погружения поэта в эту «область» по его стихам. Но сначала, никоим образом не претендуя на полноту изложения всего свода антропософского учения, остановимся на его частных моментах, имеющих отношение к Волошину.
Как уже отмечалось, Рудольф Штейнер и его последователи считали, что человек в стадии своего земного воплощения является промежуточной фазой эволюции его духовного «я». Кроме физического мира, доступного чувственному восприятию, существуют и другие сферы. Материальный мир представляет собой лишь сгущение элементов этих сфер. Материя вторична, она возникла и развилась из духа. Это же можно сказать и о земном шаре. Прежде чем дойти до своей нынешней стадии, он проходил через три фазы телесного воплощения, перемежаемые состоянием чистой духовности. Первое планетарное воплощение земли — Сатурн (Сатурническая стадия), второе — Солнце, третье — Луна. (При этом не следует путать и отождествлять эти воплощения земного шара с небесными телами Солнечной системы, имеющими те же названия.)
На первой стадии своего существования Земля, лишённая вещественности, не содержит в себе ничего плотного, жидкого и даже газообразного. Она окружена некоей специфической сферой, состоящей из духовных существ — «духов воли», «духов мудрости», «духов движения», «духов огня» и т. д. На самой Земле обитают «тепловые существа», являющиеся прапрародителями будущего человечества.
В Солнечной фазе Земля приобретает уже газообразную основу; предшественники человеческих существ принимают определённую форму, а вместе с ней — зачатки сознания, способности движения и ряд других свойств. На Лунной стадии сгущение духа ведёт к появлению жидкой субстанции, а дочеловеческие существа уже обладают желаниями, сознанием (близким по своей природе к сновидению) и дыханием.
В своём четвёртом воплощении Земля проходит три этапа развития: доатлантический, атлантический и послеатлантический (современный, или послеледниковый). Окончательно формируется земная твердь, жидкая среда, воздух, завершается процесс образования человечества.
Без знания этой антропософской концепции невозможно, как уже говорилось, даже приблизиться к восприятию волошинских стихотворений «Сатурн», «Солнце» и «Луна». Пожалуй, наиболее показательным в этом плане представляется сонет «Сатурн» (1907), потому приведём его полностью:
На тверди видимой алмазно и лазурно
Созвездий медленных мерцает бледный свет.
Но в небе времени снопы иных планет
Несутся кольцами и в безднах гибнут бурно.
Пусть тёмной памяти источенная урна
Их пепел огненный развеяла как бред —
В седмичном круге дней горит их беглый след.
О, пращур Лун и Солнц, вселенная Сатурна!
Где ткало в дымных снах сознание-паук
Живые ткани тел, но тело было — звук,
Где лился музыкой, непознанной для слуха,
Творящих числ и воль мерцающий поток,
Где в горьком сердце тьмы сгущался звёздный сок,
Что тёмным языком лепечет в венах глухо.
Здесь открывается целая галерея образов антропософской космогонии, и почти духовное состояние Земли на первой стадии своего существования (у Волошина — сгущение звёздного сока), и идея Штейнера о том, что в космическом становлении человека участвуют духи воли («творящих числ и воль мерцающий поток»), и то, что Земля и нечто предшествующее человечеству состояло сначала из «воли», потом из «тепла», наконец, из «света» («мерцающий поток») и звука («живые ткани тел, но тело было звук»). Не случайно очень высоко ценила этот сонет Анна Минцлова. Сразу же после его написания в апреле 1907 года она направила поэту письмо, в котором просила его рассказать о «Сатурне» — «о том Сатурне, где витали — не люди ещё, нет! но призрако-люди…».
Практически у всех народов мира встречаются мифы, где главный персонаж — Луна, находящаяся в тех или иных отношениях с Солнцем. Если Сатурн характеризовался, в частности алхимиками, как андрогин, подчёркивалась неопределённость его рода, то Солнце и Луна ассоциировались с конкретными родо-половыми признаками. Солнце — начало мужское, божественное, сопрягающееся со штейнеровским представлением о Христе Иисусе, «Солнечном духе», поящем «злое сердце мрака» «своею солнечною кровью» (Штейнер видел в Христе «солнечное существо, совершившее на земле мистерию Голгофы», напоившее землю своей кровью и открывшее новую эру в её истории). Но столь же правомочны параллели и с Иисусом Христом, которого православный тропарь величает «Солнцем Правды». Луна, напротив, начало женское, «люциферическое», что неоднократно подчёркивал сам Волошин, начало зловещее, враждебное человеку. Но для каждого из этих образов-сим-волов характерно и равновесие противоположностей. Луна — «хрустальный труп» (смерть), но и «владычица зачатий» (жизнь). Солнце — «невозвратимое», свет уходящий, гаснущее светило. Оно — одинокий «тоскующий гигант», хотя лучи его направлены ко всему и всем. (Не могут не возникнуть ассоциации и с самим поэтом: с его одиночеством, особенно в дни войны, с молитвами за «тех и других».)
Приверженцы антропософских знаний считали, что перед самым моментом земного воплощения человеческое «я» переживает мгновение ясновидения: перед ним как бы развёртывается свиток его будущей жизни. Не это ли подразумевается в первой строфе стихотворения «Солнце»?
Святое око дня, тоскующий гигант!
Я сам в своей груди носил твой пламень пленный,
Пронизан зрением, как белый бриллиант,
В багровой тьме рождавшейся вселенной.
«Багровая тьма рождавшейся вселенной», очевидно, соответствует второй, Солнечной, стадии существования Земли, когда она принимает газообразный характер, а дочеловеческие существа приобретают определённую форму и начальную степень сознания. Вторая строфа, по-видимому, связана с постоянно возникающей у Волошина темой ухода в «чресла ночи» (вечности) и возвращением человеческого «я» к земной жизни, к «Истоку Дня». Впрочем, возможны и другие варианты прочтения «Солнца», на что, собственно, и ориентирует третья строфа:
Невозвратимое! Ты гаснешь в высоте,
Лучи призывные кидая издалёка.
Но я в своей душе возжгу иное око
И землю поведу к сияющей мечте!
Трактовка её может быть как интимно-лирической, так и пространно-романтической, как специфически антропософской, так и христианско-эзотерической. Не исключены связи с теософской концепцией существования двух солнц — Солнца земного и Солнца Вечного, духовного, являющегося источником высшей мудрости.
Возникают ассоциации и со скандинавской мифологией, с её верховным богом Одином, который должен был отдать свой глаз в залог приобретения высшей мудрости и знания. Глаз этот и есть «Солнце, всеосвещающее и всепроникающее, тогда как другой глаз — Луна, чьё отражение смотрит из Глубины и которая, заходя, погружается, наконец, в Океан» (Е. П. Блаватская «Тайная доктрина»). Это уже мостик к сонету Волошина «Луна», предоставляющему столь же (если не более) богатый материал для интерпретации.
Этот сонет посвящён не столько Луне как третьей стадии существования Земли, сколько одному из центральных образов различных астрологических и демонологических теорий. «В наиболее распространённых и точных интерпретациях Солнце рассматривается в качестве космической редукции к мужскому могуществу, а Луна — к женскому началу. Это означает, что активные качества (рефлексия, здравомыслие и сила воли) относятся к солнечным, а пассивные (воображение, чувство и восприятие) — к женским… С неизменным постоянством Солнце как астральное тело обнажает сущность вещей, в отличие от Луны, отражающей лишь меняющиеся явления» (X. Э. Керлот «Словарь символов»). Чувственность и переменчивость Луны соотносится у Волошина со стихией воды («Царица вод, любовница волны!»), ночная ипостась — с «тоской любви» и меланхолией, зыбкость и призрачность — со сновидениями. В первом сонете венка сонетов «Lunaria» (1913) Волошин сконцентрирует эти настроения:
Тоской любви в сердцах повторены
Твоих лучей тоскующие струны,
И прежних лет волнующие луны
В узоры снов навеки вплетены.
Луна как символ женского начала. Луна, ассоциирующаяся с магией и смертью, заключающая в себе нечто зловещее («Луна есть оккультная Тайна из Тайн и скорее символ зла, нежели добра», как определяла её Блаватская), — этот образ так или иначе соответствовал тогдашним (1907) настроениям поэта. Эмоционально закономерным представляется его обращение к «яростной Гекате», трёхликой богине мрака и преисподней, ночных призраков и чародейств. Возможно, в поэтическом сознании Волошина это соотносилось с мрачными таинствами и болезненными ритуалами литературной жизни Петербурга.
В сонете, однако, просматривается и специфически антропософский смысл. Согласно штейнеровским воззрениям, от Земли в момент образования жидкой субстанции отделяется небесное тело, из которого формируется Солнце. В период же возникновения твёрдой материи от Земли отторгается Луна, концентрирующая в себе те элементы, которые способствовали бы чрезмерному земному затвердению, что, в свою очередь, исключило бы возможность вселения душ в тела. Не с этими ли положениями связана концовка сонета «Луна»:
…И сладостен и жутко безотраден
Алмазный бред морщин твоих и впадин,
Твоих морей блестящая слюда —
Как страстный вопль в бесстрастности эфира…
Ты крик тоски, застывший глыбой льда,
Ты мёртвый лик отвергнутого мира!
Таким образом, считают антропософы, Луна оказывает существенное влияние на развитие человеческого рода. Луна, как и олицетворяющая её Диана, — «владычица зачатий», родовспомогательница, что особенно ощутимо во втором сонете венка:
…Узывная, изменчивая, — ты
С невинности снимаешь воск печатей.
Внушаешь дрожь лобзаний и объятий,
Томишь тела сознаньем красоты
И к юноше нисходишь с высоты
Селеною, закутанной в гиматий.
…Вздуваешь воды, чрева матерей
И пояса развязываешь платий,
Кристалл любви! Алтарь ночных заклятий!
Именно с отделением Луны от Земли возникает разделение человечества по половому признаку.
Сообщая М. В. Сабашниковой о задуманных стихах «планетного» цикла, Волошин, в частности, пишет: «При разрыве с каждой планетой бывает страшная трагедия, которая и заложена в той стихии, которая выработалась на этой планете. Кровь — трагедия Сатурна. Зрение и ощупь — трагедия Солнца. Пол — трагедия Луны». Шесть лет спустя в венке сонетов «Lunaria» поэт ещё более расширит мифологическую и «научную» базу своей символики, возведя её к древнегреческой философии Фалеса и Анаксимандра, поэтическому творчеству Гесиода и Феокрита, астрономическим построениям Кеплера и Гримальди, математике Джероламо Кардано и конечно же «Тайной доктрине» Е. П. Блаватской.
«Солнце» нередко объединяют с уже упоминавшимся стихотворением «Кровь» («…кровь возникла на той планете, что была древнее солнца…»). Человеческий дух сопричастен тайнам вселенных; кровь также «знает больше человека»:
…И мысль рванулась… и молчит.
На дне глухая кровь стучит…
Стучит — бежит… Стучит — бежит…
Слепой огонь во мне струит.
Огонь древней, чем пламя звезд,
В ней память тёмных, старых мест.
В ней пламень чёрный, пламень древний.
В ней тьма горит, в ней света нет,
Она властительней и гневней.
Чем вихрь сияющих планет…
С антропософской точки зрения прочитываются и заключительные, несколько загадочные, строки этого стихотворения:
Зачем во тьму кровосмешений,
К соприкасаньям алых жал
Меня — Эдипа, ты послал
Искать зловещих откровений?
И здесь требуется небольшой теоретический экскурс. Ещё Блаватская делала упор на различии между преходящей видимостью человека и его подлинным существом. Она сравнивала истинное метафизическое «я» человека с актёром, а являющуюся на земле личность — с ролью, которую он исполняет на жизненной сцене. Как у актёра бывает много ролей, так и человеческая сущность выражает себя на земле через многие проявления.
…И бродит он в пыли земных дорог, —
Отступник жрец, себя забывший бог,
Следя в вещах знакомые узоры.
Он тот, кому погибель не дана,
Кто, встретив смерть, в смущеньи клонит взоры,
Кто видит сны и помнит имена, —
напишет Волошин в одиннадцатом сонете «Corona Astralis». Поэт — «себя забывший бог», Серый ангел, тоскующий по вечности.
У Волошина в четвёртом стихотворении цикла «Когда время останавливается» есть такие строки:
Да, я помню мир иной —
Полустёртый, непохожий,
В вашем мире я — прохожий.
Близкий всем, всему чужой.
Ряд случайных сочетаний
Мировых путей и сил,
В этот мир замкнутых граней
Влил меня и воплотил.
Считается, что каждая прежняя земная жизнь непосредственно связана с последующим воплощением. Новые переживания человека, его внутренний мир в определённой степени зависят от тех, что были в прежней жизни. «В жизни человеческий Дух, — пишет Р. Штейнер в книге „Теософия“, — является повторением самого себя, с плодами своих прежних переживаний в прошлых жизнях». Эта взаимно-относительная связь земных воплощений в чём-то сродни индийской карме. Кармический закон, определяющий цикл телесных воплощений, очевидно, и имеет в виду поэт, уподобляя его античному року, а себя самого — Эдипу, брошенному в мир зловещих предопределений.
Забежим немного вперёд. В написанном десятью годами позже стихотворении «Материнство» (1917) эти умонастроения получат дальнейшее развитие:
Кто нас связал и бросил в мир слепыми?
Какие судьбы нами расплелись?
Как неотступно требуешь ты: «Имя
Своё скажи мне! Кто ты? Назовись».
Не помню имени… но знай: не весь я
Рождён тобой, и есть иная часть,
И судеб золотые равновесья
Блюдёт вершительная власть…
Помимо антропософии, толчком к появлению этого стихотворения послужило и частное событие (правда, мистического свойства) — сон Елены Оттобальдовны, рассказанный сыну в письме от 27 июня 1915 года. «Она видела, что она будто меня настойчиво спрашивает: „Макс, скажи мне своё имя?., имя?..“ — пересказывал материнский сон Волошин художнице Ю. Л. Оболенской в письме от 9 сентября 1915 года. — Спрашивает много раз, с отчаянием. А я молчу».
Сон матери поэта отсылает нас и к диалогу Платона «Кратил», где философ рассматривает вопрос о «правильности имён», устанавливаемых не человеческим, а божественным разумом. Каждое «правильное» имя заключает в себе эзотерический смысл. Посвящение в глубинный смысл имён, согласно платоновскому Сократу, есть обретение тайного знания вещей и явлений. «Кто знает имена, тот знает и вещи» и «кто постигнет имена, тот постигнет и то, чему принадлежат эти имена». Но есть и оборотная сторона этого знания. «Кто видит сны и помнит имена, — / Тому в любви не радость встреч дана, / А тёмные восторги расставанья!» — так характеризует Волошин в «Corona Astralis» трагедию поэта, «себя забывшего бога», ослеплённого «светом дня» (истины) и томимого памятью о «покинутой Вселенной».
Антропософские мотивы слышатся и в последующих строках стихотворения «Материнство»:
Кто, возлюбив другого для себя,
Плоть возжелал для плоти без возврата,
Тому в свершении расплата:
Чрез нас родятся те, кого, любя,
Связали мы желаньем неотступным…
В антропософском понимании путь к новому земному воплощению проходит через несколько стадий: период очищения человеческого «я», затем долгий процесс самоусовершенствования за счёт перехода во всё более высокие области духовного мира и, наконец, постепенное образование нового астрального тела. В дальнейшем оно попадает под контроль высших духовных сил, которые и руководят последующим этапом возвращения «я» к земной жизни, направляя астральное тело к той паре земных людей, которые ему предназначены и могут дать соответствующую оболочку из физического и эфирного тел, то есть осуществить новое земное рождение.
«Как вихри мы сквозь вечности гонимы…» — этот навеянный антропософией образ «стягивает» многие произведения Волошина разных лет.
«„Материнство“ образует параллель к „Пещере“», — писал поэт А. М. Петровой 17 июля 1917 года, посылая ей стихотворение. А двумя годами раньше, сразу после его написания, в послании к М. С. Цетлин от 15 сентября 1915 года пояснял: «Мне кажется, что в мировой гармонии у чувственности — явления по самому существу противоположного любви — нет иного объяснения, кроме того, что так в нашем мире проявляется чьё-то желание воплощения». Антропософский смысл «Пещеры» приобретает, пожалуй, ещё более отчётливое звучание:
О, для чего с такою жадной грустью
Мы в спазмах тел палящих ищем нег,
Устами льнём к устам и припадаем к устью
Из вечности текущих рек?
Наш путь закрыт к предутренней Пещере:
Сквозь плоть нет выхода — есть только вход.
А кто-то, за стеной, волнуется и ждёт…
Ему мы открываем двери…
«Пещера», в свою очередь, «образует параллель» с более ранним стихотворением «Грот нимф», речь о котором шла выше. По поводу этого сонета Волошин, как мы помним, писал Сабашниковой: «Дух должен причаститься плоти… Надо войти в таинственную Пещеру Нимф, где водные нимфы ткут пурпуровую пряжу жизни, где один вход для богов и один выход для людей. Это святая пещера зачатий…»
Таким образом, Волошин не остался в долгу перед лесными змеями из ивановского «Сна Мелампа», открывшими эзотерические тайны вселенной («Тайно из вечности в вечность душа воскресает живая»). Подобно тому как Меламп в жизни, поэт в своём творчестве сделал попытку стать «тенью грядущего, оком в ночи, незаблудным вожатым».
После разрыва с Маргаритой Сабашниковой пессимистические, антропософско-мистические настроения художника усиливаются. Их кульминацией можно считать венок сонетов «Corona Astralis» (1909). Это, по словам Волошина, его «отношение к миру», заключающее в себе синтез религии, науки и философии. Это сплав знания и откровения, разума и эзотерических прозрений, уверенности художника в своих духовных возможностях и его преклонения перед тайнами вселенной и вечности.
О, пыль миров! О, рой священных пчёл!
Я исследил, измерил, взвесил, счёл,
Дал имена, составил карты, сметы…
Но ужас звёзд от знанья не потух.
Мы помним всё: наш древний, тёмный дух,
Ах, не крещён в глубоких водах Леты!
Было бы неверно прочитывать венок сонетов исключительно односторонне — с позиции антропософии, буддизма или ортодоксального христианства. Здесь необходимо учитывать все возможные точки зрения.
И всё же определяющим, исходным пунктом восприятия «Звёздного венка» следует признать антропософское ясновидение, контакты с гиперфизической реальностью, астральными мирами, ощущение Вселенной внутри себя:
Гробницы Солнц! Миров погибших Урна!
И труп Луны, и мёртвый лик Сатурна —
Запомнит мозг и сердце затаит:
В крушеньях звёзд рождалась мысль и крепла,
Но дух устал от свеянного пепла, —
В нас тлеет боль внежизненных обид!
(VI)
«Боль внежизненных обид» отсылает нас к образу Эдипа из стихотворения «Кровь». Здесь та же расплата души за прожитые когда-то жизни — кармический рок.
«Ах не крещён в глубоких водах леты / Наш горький дух, и память нас томит…» Память Серого ангела не может быть поколеблена «крещением» в реке Лете, дающей забвение. Она вбирает в себя не только прошлые жизни души, но и («Мы помним всё…») фрагменты до- и внечеловеческого бытия: «бег планет» и «мысль земли».
Потому-то не подлежит «звёздный дух» «забвению ночей». Отсюда — столь частые у Волошина: «день немеркнущих ночей», «светы» «полночных солнц» и т. д., что соответствует духовному озарению, ясновидению, разрывающему «тьму» обыденного мировосприятия.
В «Звёздном венке» отчётливее, чем где-либо, ощущается драма человеческого духа, наследника всей вселенной: тоска и память о вечности не дают ему полностью «причаститься земле», по которой он, утративший цельность духа и воплощённый в грешное тело, проходит «изгнанником, скитальцем и поэтом». Этот «бездомный долгий путь назначен» ему «судьбой»; «себя забывший бог» должен выдержать земные испытания.
Закрыт нам путь проверенных орбит,
Нарушен лад молитвенного строя…
Земным богам земные храмы строя,
Нас жрец земли земле не причастит.
Безумьем снов скитальный дух повит.
Как пчёлы мы, отставшие от роя!..
Мы беглецы, и сзади наша Троя,
И зарево наш парус багрянит…
В мистико-антропософском пространстве этого второго сонета выделяется мифологический образ пчелы, пчелиного роя. Известно, что в орфическом учении пчёлы были воплощением души, не только по ассоциации с мёдом, но и потому, что они перемещаются роем, подобно душам, которые, как полагали орфики, «роем» отделяются от божественного Единого, божественной Сущности, чтобы в дальнейшем, пройдя через бесчисленные переселения и перевоплощения, окончательно вернуться в неё. Волошинские же пчёлы отстали от роя, выпали из предустановленного круговорота («Закрыт нам путь проверенных орбит»), а изначально гармоническое Единое обернулось разрушенной Троей, к которой, казалось бы, нет возврата…
Но ведь пребывание в «пустыне земли», «в пыли земных дорог» не более чем шаг в звёздных коридорах вечности, лишь миг в космосе Божественного Откровения. И не случайно в статье «Horomedon», написанной в один год с венком сонетов, упоминается евангелист Иоанн, который, созерцая «целую вселенную», в которой заблудился человеческий дух, пишет: «В начале было Слово… И Слово стало плотью!» А уже спустя двенадцать лет сам поэт, пройдя «сквозь муки и крещенье / Совести, огня и вод», будет готов пожертвовать этим Словом-плотью: «Если ж дров в плавильной печи мало: / Господи! Вот плоть моя» («Готовность»).
Пока же Волошин отмечает неизбывный трагизм положения поэта в мире, его вечную земную неустроенность. Венок сонетов — это весть об уготованной ему миссии Искупителя человеческих пороков и заблуждений.
Изгнанники, скитальцы и поэты, —
Кто жаждал быть, но стать ничем не смог…
У птиц — гнездо, у зверя — тёмный лог,
А посох — нам и нищенства заветы…
(VIII)
Тема Поэта-Искупителя звучит, перекликаясь с евангельскими мотивами. Третья и четвёртая строки приведённой строфы восьмого сонета недвусмысленно отсылают нас к тексту Нового Завета: «…лисицы имеют норы и птицы небесные — гнёзда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8, 20). Четвёртая же строка второго сонета («Нас жрец земли земле не причастит») не может не напомнить соответствующее место из Евангелия от Иоанна (8, 23): «Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; Вы от мира сего, Я не от сего мира». Поэтому и не суждено поэту, в отличие от «земных богов», то есть царей, кумиров, иначе говоря — сильных мира сего, причаститься земле, обрести покой в своём земном бытии.
Однако неправомерно сводить венок сонетов только к эмблематике (иероглифу) тернового венца, а «Грааль скорбей» воспринимать в строго евангельском (или штейнеровском) плане. Столь же ощутима здесь и не раз упоминаемая перекличка с образом рыцаря Лоэнгрина, оставившего замок Монсальват (возникающий, кстати, и в одном из ранних, «парижских» стихотворений), чтобы взять на себя людские беды и обиды.
Сам же Святой Грааль, воистину открыт бесконечному множеству толкований. Трактовка его может быть и чисто христианской (чаша, в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого Спасителя), и оккультно-мистической, соотносимой с древними мистериями. Возможны ассоциации с языческим мифом, согласно которому Святой Грааль является чем-то вроде ковчега или сосуда, в котором сохраняется жизнь мира.
Для Волошина обретение Святого Грааля, видимо, было связано с вечным поиском духовной истины. Если же из множества смыслов «Corona Astralis» выделить главный, то с большой долей вероятности можно сказать, что Голгофа Иисуса Христа приравнивается поэтом к Голгофе творчества. «Экстаз безвыходной тюрьмы» и «всех скорбей развёрнутое знамя» ему нужнее, чем «мирный путь блаженства» и «забвенья Леты». Подобно лирическому герою Верхарна, которого русский писатель неоднократно переводил, поэтический двойник Волошина как бы фокусирует в себе все муки и духовные блуждания человечества. Поэт своей болью, крестом вдохновения искупает грехи и заблуждения людей. Уже здесь — предвосхищение судьбы Волошина в революционной и послеоктябрьской России, его подвига самопожертвования.
Завершающий первую поэтическую книгу Волошина венок сонетов «Corona Astralis» — не что иное, как венок поэту. Это верхарновский «венец багряных терний» (или «из терний заветный венок» Брюсова), но это и тот самый «лавр дельфийский», о котором упоминал Гораций, предвидя своё продолжение в веках, в вечности.
Это обращение к человеку с пожеланием обрести Высшее Духовное Солнце, покинуть «темницу мгновенья» и причаститься вечности.
Я весь — внимающее ухо.
Я весь — застывший полдень дня.
Неистощимо семя духа,
И плоть моя — росток огня…
…И я спешу, смущаясь, мимо,
Не подымая головы,
Как будто не привыкло ухо
К враждебным ропотом молвы,
Растущим за спиною глухо;
Как будто грязи едкой вкус
И камня подлого укус
Мне не привычны, не знакомы…
Отзывы на сборник Волошина, как и следовало ожидать, оказались противоречивы. «Книга ума, а не чувства, тонкой ювелирной работы, а не вдохновенья», — выразил расхожую точку зрения анонимный критик (предположительно — С. Городецкий) в журнале «Золотое руно» (1909, № 11–12). «Стихи Максимилиана Волошина — не столько признания души, сколько создания искусства», — высказался в «Русской мысли» В. Брюсов. Была приятно удивлена стихами поэта Е. С. Кругликова: «Я тебя считала менее глубоким». «Ваша поэтическая личность не изменилась, но она стала более мощной и яркой», — заметила поэтесса М. Моравская. М. Янковская, подруга детства Маргори, высоко оценила психологический дар Волошина, отметив, что только женщине может быть понятен пафос стихотворения «Если сердце горит и трепещет…». «Как мне нужна теперь торжественная печаль Вашей музы!» — пишет из Витебской губернии А. Герцык.
Женщины, как видим, были более лояльны к творчеству Волошина, нежели мужчины, многие из которых упражнялись в злопыхательстве. 16 апреля 1910 года в газете «Русское слово» была опубликована статья священника, публициста Г. Петрова «Духовное обнищание», в которой он выступил против «всех этих Бенуа в живописи и Максов Волошиных в поэзии», этаких гурманов, «самодовольных, сытых, избалованных жизнью бюргеров». В. Буренин в «Критических заметках» брезгливо обронил, что «Стихотворения» Волошина «сильно попахивают керосином, книжною пылью, затхлостью музеев». В. Волькенштейн увидел в сборнике одни подражания, киммерийские сонеты воспринял как «переводы с французского» и отделался общей фразой: книга «изысканная, сложная, но лишённая поэтической силы» (Современный мир, 1910, № 4). В. Полонский умело соединил плюсы и минусы: М. Волошин — «изысканнейший, утончённейший, культурнейший из всех поэтов», но, увы, «оторванный от живой жизни», он «находит удовлетворение в игре эстетическими бирюльками» (Всеобщий ежемесячник, 1910, № 5). Промелькнула и рецензия Вячеслава Иванова, в которой он (уже вторично) отозвался о Волошине и его книге строго и несколько свысока: «Волошин — поэт большого дарования и своеобразных, горьких чар», но «его вкус не безупречен, а общее тяготение его поэзии — не жизненно».
Приятным диссонансом этому брюзжанию прозвучала похвала некоего критика, обозначившего себя тремя буквами «С-ов», который отметил способность Волошина «смотреть, чутко слушать и красиво зарисовать. И всё это прочувствовать: и пустыню, и море, и Ташкент, и Париж…».
Что ж, всему этому оценочному недоброжелательству по отношению к поэту есть вполне понятные объяснения, суть которых чётко выразил автор первой крупной работы о Волошине Е. Ланн: «Собратья его, союзники по символизму… не могли не чувствовать, что символизм для него какая-то временная остановка, что поэт неустанно изживает символизм… прорубает себе шире и шире выход за его пределы». Да и в собственно символистских, эзотерических творениях художника далеко не каждый мог разглядеть и прочувствовать «весь тайный строй сплетений, швов и скреп».
Волошин относился ко всей критике спокойно и даже с некоторым юмором: «Все признают меня если и бездарным, то во всяком случае „культурным“ поэтом». Макс, судя по его письму к А. В. Гольштейн, чувствует себя на распутье, «очень безрадостно, но тихо». Драма Лили Дмитриевой стала и его драмой, творческой и личной: «Я никогда не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя, — пишет ему Елизавета Ивановна 15 марта 1910 года. — …Макс, ты выявил во мне на миг силу творчества, но отнял её от меня потом…» В конце этого месяца она пишет ему более спокойное письмо: «Не мучайся, не печалься… ты мне друг, близкий и нежный… Как мужа люблю Волю» (Всеволода Васильева. — С. П.). Волошин, кстати сказать, был хорошо знаком с В. Н. Васильевым и характеризовал его следующим образом: «Это юноша бесконечной доброты и самоотвержения, который бесконечно любит её. Но, кроме сердца, у него нет ничего — ни ума, ни лица». С Волей у Макса установились прекрасные отношения, всё стало «разрешимо и теперь даже легко. Но это всё совсем неразрешимо в душе Лили и рождает в ней смертельную тоску и жажду безумия и забвения во внешней жизни». В середине мая Е. И. Дмитриева сообщает А. М. Петровой: «Эта зима привела меня к Богу». Она чувствует себя «бесконечно виноватой» перед Максом, признаётся, что «стала ломать то чувство любви, которое было уже у меня к другому, обоих измучила и ничего никому не дала…». Что касается Маргариты Сабашниковой, то она всё дальше уходит в прошлое. К ней у Макса «давно нет никакой боли, никакого упрёка».
Как всегда, в период душевной смуты единственной отдушиной поэта становится Восточный Крым. Ещё в январе Волошин писал А. М. Петровой: «Не могу больше выносить Петербурга, литераторов, литературы, журналов, поэтов, редакций, газет, интриг, честолюбий и т. д. Хочу замкнуться надолго в серьёзной и большой работе… Думаю надолго, совсем надолго уединиться в Киммерию». И уже 1 февраля 1910 года поэт выезжает из Москвы в Феодосию, а оттуда — в Коктебель. Правда, те же настроения поначалу преследуют его и там. Первые же стихи складывающегося цикла «Блуждания» посвящаются Лиле Дмитриевой.
Твоя душа таит печали
Пурпурных снов и горьких лет.
Ты отошла в глухие дали, —
Мне не идти тебе вослед… —
писал Волошин ещё в Петербурге 26 января. Однако оказалось, что не «отошла». В феврале, уже в Коктебеле, рождаются строки:
…Смирясь, я всё ж не принимал,
Забвенья холод неминучий
И вместе с пылью пепел жгучий
Любви сгоревшей собирал…
В марте лирико-драматический сюжет дополняется новыми поэтическими штрихами:
Напрасно обоюдоострый меч,
Смиряя плоть, мы клали меж собою:
Вкусив от мук, пылали мы борьбою
И гасли мы, как пламя пчельных свеч…
Такое ощущение, что неумирающее чувство разбивает строгие формы стиха:
Стыдом и страстью в детстве ты крещена,
Для жгучей пытки избрана ты судьбой
И в чресла уголь мой тебе вжёг
Неутолимую жажду жизни…
Поэт осознаёт, что сопротивляться предначертаниям судьбы невозможно, «И впредь раздельных нам путей нет…». Раздельных — не в любовно-бытовом, в космическом, вечном смысле… Вероятно, понимала это и Лиля-Черубина, написавшая в «Золотой ветви» (с посвящением: «Моему учителю»):
Моя любовь твоей мечте близка
во всех путях, во всех её касаньях,
твоя печаль моей любви легка,
твоя печаль в моих воспоминаньях.
Моей любви печать в твоём лице,
моя любовь в магическом кольце
вписала нас в единых начертаньях.
«Средь звёздных рун в их знаках и названьях / моя любовь твоей мечте близка». И это уже непоколебимо. Венок семистиший «Золотая ветвь» был опубликован в журнале «Аполлон» (1909, № 2). Переклички со «Звёздным венком» Волошина здесь весьма ощутимы…
Между тем в родных местах душа художника успокаивается, гармонизируется. «Киммерийская весна» входит в сердце и в творчество поэта.
К излогам гор душа влекома…
Яры, увалы, ширь полей…
Всё так печально, так знакомо…
Сухие прутья тополей,
Из камней низкая ограда,
Быльём поросшая межа,
Нагие лозы винограда
На тёмных глыбах плантажа,
Лучи дождя, и крики птичьи,
И воды тусклые вдали,
И это горькое величье
Весенней вспаханной земли…
Раздвигаются киммерийские шири, распахиваются коктебельские выси, открываются жизненные перспективы; сама природа, кажется, этому способствует: «…И ветви тянутся к просторам, / Молясь Введению Весны, / Как семисвечник, на котором / Огни ещё не зажжены».
Всю весну Волошин следит за отзывами на свою книгу, заканчивает статьи о театре, главным образом французском. Он анализирует пьесы Т. Бернара, А. Дюма-сына, Р. Коолюса, Э. Фабра, Ж. Фейдо, А. Эрмана, дает оценку такому сложному явлению, как театр А. Антуана. Наведывается в Судак и в Феодосию. Поэтическое вдохновение посещает его не так уж часто, а если и посещает, то в домашней обстановке надолго не задерживается. Елена Оттобальдовна пребывает в постоянном раздражении, а хозяйство, как свидетельствует Макс, «доводит её до исступления». Поэтому в доме «нет ни тишины, ни спокойствия, ни уединения». Какая уж тут работа!
Впрочем, читать всё же удаётся. А читает Волошин, как обычно, запоем, выбирая книги согласно одному ему ведомой логике. Ветхий Завет, Евангелие, Еврейская грамматика, французы. Макс штудирует «Творческую эволюцию»
А. Бергсона, проявляет интерес к трактату «О подражании Христу» Фомы Кемпийского, думает следующей зимой заняться Китаем и китайским языком — одолевает «старая тоска по Азии». Запали в душу строчки из письма Б. Лемана, полученного 10 мая: «Надо Вам научиться говорить своё, а не чужое через себя». Евангелие даёт больше в плане откровений, чем «Познание сверхчувственных миров» Штейнера. Макс и сам пересматривает многие из своих прежних позиций. 17 мая он отвечает Леману, что восстал против теософии как «парниковой, искусственной выгонки душ». Всё это, однако, не сводится к прямолинейному процессу… Макс жалуется на несвойственную ему «инертность и апатию». Что там говорить — период духовных «блужданий» далёк от завершения…
Внешних событий в жизни мало. Они замещаются впечатлениями от разговоров, встреч, поездок. 15 июня Волошин вместе с Богаевским и Кандауровым выезжают на лошадях к станции Семь Колодезей и дальше — в Кенегез, в имение Дуранте. Эти экзотические, дикие места не могут не врезаться в память: «Скифский вал — остатки стены, замыкающей Босфорское царство. Плоское уныние этой земли заставляет невольно обращать глаза к небу. Там облака подымаются и с Чёрного, и с Азовского моря». Гора Опук, к востоку от Кенегеза, «в ужасающей пустынности солончаков и мёртвых озёр. Во времена Страбона на её хребте стояли циклопические развалины Киммерикона… Морские заливы кишат змеями…. Когда в полдень солнце круто останавливается над Опуком и мгла степных далей начинает плыть миражами… посетитель реально переживает „панический“ ужас полудня». Волошин верен себе: древность он оживляет, смотрит на мир Страбона глазами художника, реальный взгляд на вещи обогащает мистическими ощущениями.
Летняя страда творчества и путешествий завершилась неожиданно: в середине июля Волошин упал с велосипеда и сильно повредил правую руку. О том, чтобы писать или рисовать, на какое-то время приходится забыть. Но как же без работы? В Коктебеле надолго оставаться нельзя. Он должен быть в столицах, поближе к газетам и журналам. Начиная с осени Макс начинает регулярно публиковаться в газете «Утро России»: «Имел ли Художественный театр право инсценировать „Братьев Карамазовых“? — Имел», «Об искусстве актёров (по поводу лекции кн. С. Волконского в Художественном театре)», «Каким должен быть памятник Толстому», «Закон и нравы (из жизни Запада)». Тематика — разнообразная, но преобладают статьи о театре, увлечение которым всё более возрастает. Ещё в мае Волошин высылает барону фон Дризену, театральному деятелю и редактору «Ежегодника Императорских театров», корректуры второй части статьи «Современный французский театр». В начале сентября Дризен пишет Максу из Петербурга, приглашая участвовать в театральной секции Общества народных университетов, ожидает новых «интересных этюдов о французской драме».
Но Волошина интересует не только французский театр. Откроем его книгу «Лики творчества». Здесь мы находим статьи, посвящённые «Братьям Карамазовым», «Горю от ума» в постановке Московского художественного театра, трагедии «Гамлет», общетеоретическим проблемам: «Театр как сновидение», «О смысле танца», «Лицо, маска и нагота» и др. М. Волошин никогда не был ни драматургом (в его творческом наследии нет ни одной пьесы), ни режиссёром (хотя в марте 1909 года принимал участие в постановке пьесы Ф. Сологуба «Ночные пляски» в Литейном театре). Да и театральным критиком поэта по большому счёту не назовёшь. Однако вся творческая жизнь Волошина нерасторжимо связана с понятием игры как философско-эзотерической категории, с театром как особым ракурсом восприятия мира и человеческой истории. Его тягу к театру как к особому способу мировосприятия не следует смешивать с присущим ещё юному Волошину чувством эстрады, его склонностью к лицедейству и розыгрышам. Хотя в этой связи нельзя не вспомнить о гимназических постановках из Гоголя и Тургенева, его бесконечных спектаклях-мистификациях в Коктебельской художественной колонии и самом грандиозном поэтико-драматическом миракле под названием «Черубина де Габриак».
Обо всём этом есть смысл говорить особо, остановившись на теме: театральность, лицедейство как вторая натура Волошина. Не случайно крупнейший биограф поэта В. П. Купченко адресует ему характеристику, данную Бальзаком Барбе д’Оревильи: «Никто никогда не знает, играл ли этот таинственный человек всю свою жизнь лишь роль (всегда благородную и невинную), или был искренен, и в какой мере игра смешивалась в нём с искренностью, или искренность с игрой». Сразу же оговоримся, что всё вышесказанное не имеет никакого отношения к лицемерию, жизненной дипломатии, привычке держать камень за пазухой.
Не следует забывать, что к середине 1900-х годов большой популярностью в символистских и околосимволистских кругах стала пользоваться идея «искусства-жизнестроения», ассоциировавшаяся в первую очередь с театром. Она, в частности, обсуждалась на «Башне» у Вяч. Иванова 3 января 1906 года в связи с проектом создания театра «Факелы», выдвинутым С. Дягилевым. Теорию искусства как преображения жизни в той или иной степени разделяли не только символисты (Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок); она была близка и таким далёким от них, таким разным деятелям театра, как В. Мейерхольд и Н. Евреинов; впоследствии, сильно видоизменённую, её подхватят поэты-футуристы.
Однако, когда дело дошло до практики, обратившиеся к драматургии символисты оказались далеки от решения подобной задачи. Да и сама эта драматургия не достигла уровня мировых шедевров. «Мертвенным совершенством веет от трагедии Сологуба („Дар мёртвых пчёл“. — С. П.), — пишет в своей рецензии М. Волошин, как бы подводя определённые итоги. — Законченность, тяжёлое богатство и значительность речи приводят на память золотые лепестки погребальных венцов…» Особняком в ряду неярких символистских театральных опытов стоят произведения Л. Андреева и А. Блока.
Как драматург Леонид Андреев занимает в начале века второе место после Чехова, если принимать во внимание популярность писателя и количество его постановок. Однако сценическая жизнь его пьес не была столь уж удачной. Во всяком случае, среди них было значительно больше отвергнутых тем же МХТ, чем состоявшихся спектаклей. В 1907 году на сцене появляются пьесы «Жизнь Человека» и «Чёрные маски», а в 1909 году — «Анатэма». «Ненавистник голого символа и голой бесстыжей действительности», Андреев ищет, по его собственному признанию, «в реальном — ирреального». Однако уход в «ирреальное» оказался чреват потерей психологической убедительности, тяготением к схемам и абстракциям, что в конечном итоге и привело драматурга к разрыву с Московским Художественным театром.
Просчёты Андреева-драматурга были обусловлены обще-эстетическими изъянами. Сопоставляя его с Ф. Сологубом, М. Волошин отмечает, что последний «захватывает всю семицветную радугу света от ультракрасных до ультрафиолетовых лучей. Леониду Андрееву доступны только высшие ноты напряжения звука… Этот хриплый и прерывающийся крик надрывает сердце своим отчаянием. В этом, а не в искусстве письма тайна того впечатления, которое производит Андреев». Художник же, по мнению критика, прежде всего музыкант. Он познаёт законы жизни, её гармонию вне зависимости от своего отношения к ней. Недостаток Андреева-художника как раз и заключается в том, что он, как считает Волошин, этих законов не ищет, а стало быть, не в состоянии нащупать почву, из которой вырастет дух. Если взглянуть на творчество писателя с этой точки зрения, то Л. Андреев даже не символист, поскольку быть символистом значит «в обыденном явлении жизни провидеть вечное, провидеть одно из проявлений музыкальной гармонии мира». «Поэтому символизм неизбежно зиждется на реализме и не может существовать без опоры на него».
Тем не менее Волошин отдаёт должное пьесе Андреева «Жизнь Человека», выводя её за пределы символистской драматургии, «ибо герой трагедии — воля, а не безвольная и слепая марионетка, нервно выкрикивающая слова протеста». Поэта привлекает центральный символ пьесы: сгорающая свеча, которую держит в руке Некто в сером, олицетворяющий не только безучастную судьбу, но и враждебные человеку законы жизни. Волошин предлагает оригинальную трактовку этого символа: «Понятие насильственного государственного закона Леонид Андреев возводит до степени мистического закона, управляющего Вселенной, и преходящий общественный строй России он считает прообразом устройства всего мира… „Некто в сером“ — это не борьба и не закон — это представитель закона, космический жандарм с андерсеновской свечкой жизни в руке».
В Александре Блоке Волошин ценил прежде всего «вышедший из моды тип поэта-мечтателя», не утратившего дар претворения слова в «мечты и сны». Для Блока «и мечты и сон» являются безвыходными состояниями духа. Его поэзия — «поэзия сонного сознания» — тезис, как мы увидим дальше, принципиально важный для волошинского понимания театра, поэзии, искусства как такового. Волошин не оставил своих заметок о блоковской драматургии, по-видимому, не заинтересовавшись ею, хотя известно, что с пьесами поэта он был знаком. В октябре 1906 года Волошин присутствовал на чтении Блоком его драмы «Король на площади» у В. Ф. Комиссаржевской, а в конце декабря — на репетиции «Балаганчика». В январе следующего года Блок приглашает Волошина к себе на прослушивание «Незнакомки», а в мае 1908 года на чтение драмы «Песня судьбы» у Чулковых.
Как драматург Блок вышел из лирики и задачу драматургии видел в том, чтобы запечатлеть «современные сомнения, противоречия, шатание пьяных умов и брожение праздных сил» (статья «О драме», 1907). Теперь уже зрителя не удовлетворяют «пленительно нереальные», по выражению Реми де Гурмона, драмы М. Метерлинка с их «ребяческими схемами», пафос которых сводится к тому, чтобы «ничего не знать, не понимать, не бояться, не надеяться ни на что, кроме далёкого». Произведения Метерлинка не дотягивают до уровня подлинной трагедии, писал Блок, поскольку «здесь действуют не люди, а только души, почти только вздохи людей». Героями современной драмы не могут быть «безвольные, слабые люди, влекомые маленьким роком, обречённые маленькой смерти, терзающиеся от маленькой любви…».
Парадоксально, но все эти упрёки можно отнести и к самому Блоку как драматургу. Волошин, что характерно, был более лоялен к театру Метерлинка, суть которого он выявил на примере анализа его пьесы «Сестра Беатриса» в постановке театра В. Ф. Комиссаржевской и «Miserere» С. Юшкевича на сцене Художественного театра. Волошин называет Чехова и Метерлинка еретиками современной драматургии, поскольку на место традиционного действия они «подставили» состояние и настроение. Метерлинк же дал зрителю образцы симолистского театра в лучшем значении этого слова. Ведь театральное действо «само по себе не может совершаться нигде, как во внутренней, преображающей сфере души зрителя — там, где имеют ценность уже не вещи и существа, а их знаки и имена. В душе зрителя всё, что происходит на сцене, естественным процессом сознания становится символом жизни». К достоинствам постановки «Сестры Беатрисы» поэт относил то обстоятельство, что итоговое «примирение» происходило «не на сцене, а в нас — в нашей душе, видевшей этот сон».
Театр Александра Блока формировался, питаясь соками символистской драмы и в то же время отторгаясь от неё. Показательный пример — пьеса «Балаганчик» (1906), которая заключает в себе весьма ощутимую пародийную тенденцию. Основной приём Блока-драматурга — столкновение двух планов: пародируемого (символистского) и реального, представленного в монологах Автора. Концепция пьесы — иронико-пессимистична: разрушен искусственный театрально-символический мир (окно, в которое бросается Арлекин, оказывается нарисованным на бумаге), профанированы мистические откровения («Бледная Подруга», «дева из дальней страны» оказывается «картонной невестой»), увлечение Средневековьем («Он весь в строгих линиях, большой и задумчивый, в картонном шлеме, — чертит… на полу круг огромным деревянным мечом») и античностью («Арлекин выступает из хора, как корифей»), поставлено под сомнение наличие самой реальности («Бумага лопнула. Арлекин полетел вверх ногами в пустоту»). Но вместе с тем «Балаганчик» — драма символистская: здесь всё — относительно, многопланово, а главное — пьесу пронизывает «идея-иллюзия», постоянно слышится мотив сновидения («Здесь живут в печальном сне»), обволакивающего и «распыляющего» сценическую реальность.
Атмосфера сна, фантасмагории, «сомнамбуличность» характерны не только для этой пьесы, но и для других драм А. Блока, персонажи которых словно бы застыли в оцепенении перед загадкой жизни и смерти, — «Короля на площади» (1906), «Незнакомки» (1906), определяемой как «драма видений», «Песни судьбы» (1908), героиня которой «убегает в метель и во мрак» и, наконец, для «средневековой» пьесы «Роза и Крест», на декадентский лад поэтизирующей «Радость-Страданье». И в ней тоже «Кружится снег… Мчится мгновенный век… Снится блаженный брег…».
«Сновидческая» атмосфера этих блоковских произведений соответствует воззрениям на театр М. Волошина, даёт благодатный материал для его философских концепций. Везде, где бы он ни затрагивал темы игры и театра, поэт употребляет по отношению к ним синоним «сновидение». Мысль о том, что «логика сна тождественна с логикой сцены», первоначально была высказана Волошиным в статьях: «Лики творчества. 1. Театр — сонное видение. 2. „Сестра Беатриса“ в постановке театра В. Ф. Комиссаржевской» (Русь, 1906, 9 дек., № 71). Спустя год в журнале «Золотое руно» (1907, № 11–12) было опубликовано его эссе «Откровения детских игр» как отклик на статью А. К. Герцык «Из мира детских игр», где писательница увидела «тайный механизм создания мифов», а ум ребёнка уподобляла (как вслед за ней и Волошин) «сонному сознанию человечества», в котором «понятия игры, мифа, религии и веры неразличимы».
Затем на одной из «сред» у Николая Васильевича фон Дризена 10 декабря 1909 года (эти «среды» были посвящены вопросам истории и теории театра) Волошин высказал мысль о том, что «театр — это сложный и совершенный инструмент сна», что основа всякого театра — драматическое действие, причём действие и сон — «это одно и то же». По некоторым свидетельствам, все присутствующие, в том числе официальные оппоненты докладчика — К. Арабажин, Н. Евреинов, С. Городецкий, во-первых, заступились за режиссёра, который, по словам Волошина, в «гармоническом» спектакле «не виден, не ощутим и неизвестен», а потому выпадает из основополагающей триады — поэт, актёр, зритель, определяющей природу театра (в период становления режиссуры это звучало кощунственно); во-вторых, отвергли главный тезис докладчика о театре как сне.
И, наконец, в статье «Театр и сновидение», опубликованной в московском театральном журнале «Маски» (1912–1913, № 5), Волошин подводит под свои рассуждения глубинную теоретическую основу, ссылаясь прежде всего на мысль Ницше о том, что театр — это аполлиническое сновидение, наброшенное, как покров, на мир дионисийского безумия, на работу Вячеслава Иванова «Эллинская религия страдающего бога», на исследования французского биолога Рене Кентона, английского психолога Хавлока Эллиса, его соотечественника Грэма Кеннета и других. В этой статье Волошин развивает и оттачивает свою теорию, сводя её к следующим положениям:
«Между творчеством детских игр и тем состоянием духа, в котором человечество создавало сказки и мифы, — нет никакой разницы. Игра — это одна из форм сновидения… Это сновидение с открытыми глазами…
В игре творческий ночной океан широкими струями вливается в узкую и скупую область дневного сознания.
Тот, кто сохраняет среди реальностей дневной обыденной жизни… способность их преображения в таинствах игры, кто непрестанно оплодотворяет жизнь токами ночного, вселенски-творческого сознания, тот, кто длит детский период игр, — тот становится художником, преобразителем жизни».
Театр, по мысли Волошина, вырастает из трёх видов «взаимно сочетающихся» сновидений: из творческого преображения мира в душе драматурга, из дионисической игры актёра и пассивного сновидения зрителя. Его следует воспринимать «как исторический пережиток того периода истории, когда дневное сознание выделялось из сонного в Дионисовых оргиях», и как ту реторту, «в которой и теперь ежеминутно совершается преображение текущих реальностей жизни»; он «является органом сонного сознания в его чистом виде».
Была ли эта позиция Волошина характерной для эстетических воззрений начала XX века или, напротив, выпадала из общепринятой системы взглядов? Сам поэт, как с ним обычно и происходило, оставался и в этой сфере кому-то «близким», но малопонятным, а большинству — и вовсе «чужим». На распутьях театрального мира он стоял практически в одиночестве. Будучи далёким от экспериментов авангардистов, Волошин отверг и символистский театр, не увидев в нём жизненной основы. «Есть нелепость в самом понятии „символический театр“, потому что театр по существу своему символичен и не может быть иным, хотя бы придерживался самых натуралистических тенденций, — пишет он в рецензии на спектакль „Miserere“ Юшкевича. — …Вводить нарочитый символизм в драму, это значит вместо свежих плодов кормить зрителя пищей… наполовину переваренной». Символистская пьеса исключает из своей сферы зрителя, а для Волошина это неприемлемо, ведь зритель должен стать непременным участником спектакля. Поэт пускает критическую стрелу и в адрес М. Метерлинка, его «театра для марионеток» как жанра, поскольку «живой актёр, живой человек — сам по себе слишком громадный органический символ, и одним присутствием своим он подавляет мозговые символы драматурга».
Волошинская театральная концепция была, вне всяких сомнений, оригинальной, провоцирующей полемику. И в большинстве случаев не находила поддержки. Так, именно к Волошину обращены заметки В. Брюсова в материалах к лекции «Театр будущего» (1907): «Менее всего должно театральное представление превращаться, как того требуют некоторые, в слепое в
Встречались и, прямо скажем, издевательски-пародийные отклики на волошинские статьи. «Вот к чему должна вести революция в театре. Там надо спать… — пишет фельетонист газеты „Новое время“ (1906, 10 дек.). — Следует удалить со сцены разнообразие обстановки, талантов, здравого смысла. Чем глупее пьеса, тем лучше, чем механичнее её исполнение, тем легче заснуть». Ему вторит рецензент «Обозрения театров». Иронизируя над волошинской фразой «В театре надо уметь внимательно спать», он пишет: «Отныне будут говорить: „Страдаю бессонницей… ничего не помогает… Придётся взять абонемент в театр В. Ф. Комиссаржевской“» (1906, 11 дек., № 29).
Впрочем, была и поддержка. «Почему бы драме не стать ритмическим сновидением…» — писал Ф. Сологуб в статье «Театр одной воли». Принцип театра как сновидения соответствовал и воззрениям В. Мейерхольда, который благожелательно цитировал первую статью Волошина в примечаниях к списку своих режиссёрских работ. В какой-то степени Мейерхольд использовал волошинскую теорию в своём спектакле «Жизнь человека». «В глубине замысла: все как во сне…» — писал он Л. Андрееву во время работы над постановкой.
Среди зарубежных авторов, на которых мог обратить внимание Волошин, помимо Ницше и указанных выше психологов, следует назвать австрийского писателя-символиста Гуго фон Гофмансталя (статья «Сцена как сновидение»). Пьесы Гофмансталя наряду с произведениями Г. Ибсена, Г. Гауптмана, А. Стриндберга, М. Метерлинка, А. Шницлера, С. Пшибышевского были весьма популярны в России начала века. Конфликт в них строится на столкновении реальности с выдуманным, театрализованным миром, в котором пребывают герои, вследствие чего в конечном итоге они и терпят крах.
Эстетические взгляды Гофмансталя излагаются, согласно распространённой стилистике рубежа веков, в декадентско-романтическом ключе. Сцена, в его представлении, должна быть «грёзою из грёз», в противном случае она — лишь позорный столб, к которому привязано нагое видение поэта, «отвратительно проституируемое толпой». Поэт, драматург, режиссёр, любой, «кто воздвигает сценическую картину», должен обладать силой мечты и богатым воображением. «Глаз его должен быть творческим глазом, подобно глазу сновидца, который всё, что бы ни видел, воспринимает полным особого значения». Статья Гофмансталя была напечатана в следующем после волошинской публикации номере журнала «Маски», а потому не могла повлиять на возникновение концепции Волошина. Русский поэт развивал свою систему взглядов как бы параллельно с умозаключениями австрийского писателя.
В России же ближе других к Волошину в этом отношении был Вяч. Иванов. Для обоих поэтов театр есть «дионисическое очищение», а зритель — бессознательный соучастник действа. Но ивановская идея театра как мистерии противоречила созерцательно-бездейственному плану волошинской теории, согласно которой от зрителя требовался лишь «внимательный сон». Кроме того, Вяч. Иванов считал неприемлемым теоретическое допущение, будто «толпа… созерцающих событие должна быть загипнотизирована созерцанием», то есть, по сути дела, парализована, а потому лишена возможности получить необходимый заряд энергии со сцены; Иванов выступал против «подавления живых сил присутствующего множества», о чём он писал в своей работе «О кризисе театра». Соотношение драмы и сновидения рассматривал в своих трудах и А. Белый («Театр и современная драма», сборник «Арабески»), но вкладывал в эту схему совершенно иное содержание.
Театральные воззрения М. Волошина не были чем-то внешним по отношению к его поэтическому творчеству. Они смыкаются с обще-эстетическими, философскими установками поэта, органически вплетаясь в его лирику. Поэзия, как и театр, связана, по Волошину, со сновидениями («Кто видит сны и помнит имена…»; «Я пленён в переливных снах…»). Их суть и назначение едины: творческое преображение мира, постижение «иных миров» в состоянии, когда «творческий ночной океан… вливается в… область дневного сознания». В любом случае — «это сновидение с открытыми глазами». Разница лишь в том, какой тип игры (или сновидения) преобладает: «Тип игры действенной, буйной, выражающейся в движениях, соответствующей оргическому состоянию дионисийских таинств» или аполлинический «тип спокойного созерцания проходящих картин».
С этих же позиций подходил поэт и к истории. «Грядущее — извечный сон корней». Сама Россия, по Волошину, грезит — «русский сон под чуждыми нам именами». Стихотворение «Русская революция» (1919) — одно из самых «сновидческих» у Волошина. В России всё очень страшно и всерьёз, и в то же время мнится, будто: «Враждуют призраки, но кровь / из ран её течёт живая». Историю поэт воспринимает в антропософско-мистическом плане. Подобно душе человека, душа истории постоянно возрождается, меняя свои формально-временные обличия, выражая себя в перекликающихся сновидениях. История, как считал поэт, это драматическое действо, развивающееся по сценарию небесного Драматурга, обращаясь к которому «из недр обугленной России», поэт заявляет: «Ты прав, что так судил». Поэтому даже в хаосе революционных событий он находил «указание на провиденциальные пути России». Такое мировосприятие побуждало поэта равно приветствовать «и революцию, и реакцию, и коммунизм, и самодержавие…».
Вернёмся, однако, в предвоенную эпоху. Разумеется, находясь в Коктебеле, работая в Москве и Петербурге, Волошин пишет не только о театре. Его, в частности, занимает драма ушедшего недавно из жизни Льва Толстого. В статье «Судьба Льва Толстого» поэт приходит к следующим умозаключениям. Читатель всегда ищет трагического единства в жизни и творчестве художника. Такое единство постигается только после его смерти. Последние годы жизни и смерть Толстого «закончили лик его судьбы» и окончательно раскрыли драматические противоречия жизни. Сознательная воля Толстого «хотела растворения в народе, самоотдачи и жертвы до конца». А судьба вела его «вопреки всему к полноте земного достатка, к спокойному благополучию, благосостоянию и довольству». Жизнь Толстого соприродна тому чуду, от которого отказался Христос: писатель, «с глубокой верой в свою сыновность Божию, кидается много раз… с крыши храма, и каждый раз ангелы поддерживают его, не дают прикоснуться к земле…», причём ангелы эти принимают подчас дьявольские лики. Причина этого «не христианского, а чисто магического эффекта» заключается в одностороннем понимании слов «не противься злому»: «Если я перестаю противиться злому вне себя, то этим создаю только для себя безопасность от внешнего зла, но вместе с тем и замыкаюсь в эгоистическом самосовершенствовании. Я лишаю себя опыта земной жизни, возможности необходимых слабостей и падений, которые одни учат прощению, пониманию и принятию мира… Не противясь злу, я как бы хирургическим путём отделяю зло от себя и этим нарушаю глубочайшую истину, разоблачённую Христом: что мы здесь на земле вовсе не для того, чтобы отвергнуть зло, а для того, чтобы преобразить, просвятить, спасти зло. А спасти и освятить зло мы можем, только принявши его в себя и внутри себя, собою его освятив». Эти слова станут программными для самого поэта, которому суждено будет в недалёком будущем окунуться в пучину нешуточных страстей и испытаний.
А пока что в жизни Волошина всё относительно спокойно, гладко. Горизонты будущего не омрачают никакие тучи. Из прошлого всплывают жанровые сцены — фарса и мелодрамы. 12 октября 1910 года в Санкт-Петербургском окружном суде разбирается дело о дуэли Волошина с Гумилёвым; в качестве свидетелей вызываются Зноско-Боровский, Кузмин, Толстой, Шервашидзе, а на другой день в «Петербургской газете» появляется заметка «Дуэль из-за поэтессы» с решением суда: Гумилёв приговорён к семи дням домашнего ареста, Волошин — к одному. Об этом поведали также «Газета-копейка» («Дуэль между литераторами») и «Русское слово» («Дело литераторов-дуэлянтов»).
А «литератор-дуэлянт» тем временем наведывается в Религиозно-философское общество (в Москве, на Смоленском бульваре), слушает курс ритмики А. Белого, его же лекцию «Трагедия творчества у Достоевского», курс «филологический и эзотерический об Орфее» В. Нилендера, циклы лекций о Фете Б. Садовского и о Бодлере Эллиса. Сам Волошин выступает с докладом о «Братьях Карамазовых» в Женском клубе. Относительно умиротворённое состояние души передаётся поэтом в переводе одного из стихотворений Ренье:
Нет у меня ничего,
Кроме трёх золотых листьев и посоха
Из ясеня,
Да немного земли на подошвах ног,
Да немного ветра в моих волосах,
Да бликов моря в зрачках…
В оригинальном стихотворении «Склоняясь ниц, овеян ночи синью…» (7.XI. 1910) Волошин благодарит провидение за назначенный ему жизненный путь:
…Я не просил иной судьбы у неба,
Чем путь певца: бродить среди людей
И растирать в руках колосья хлеба
Чужих полей.
…Благодарю за неотступность боли
Путеводительной: я в ней сгорю.
За горечь трав земных, за едкость соли
Благодарю.
Вот таким умиротворённым, гармоничным, великодушным предстал Макс перед восемнадцатилетней дебютанткой в поэзии Мариной Цветаевой, знакомство с которой останется красивой мелодией в жизни обоих поэтов. Естественно, никто, лучше самой Марины Ивановны, рассказать об их первой встрече не смог бы. Москва. Дом в Трёхпрудном переулке. «Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе вьющейся недлинной бороды.
Вкрадчивый голос: „Можно мне видеть Марину Цветаеву?“ — „Я“. — „А я — Макс Волошин. К вам можно?“ — „Очень!“»
И далее — разговор о первой книге стихов Марины «Вечерний альбом», на который (разбирая женскую поэзию начала XX века) Макс уже отозвался в печати. Эту статью Волошин и принёс начинающему автору. Нельзя сказать, что Цветаева дебютировала ярко. Мало кто тогда обратил внимание на это молодое дарование. Волошин был чуть ли не единственным, кто разглядел в гадком утёнке большого поэта. И вот уже они сидят в её комнате (точнее, в комнате сестры Аси), Марина читает принесённый газетный опус — что-то о «романтике сущности вне романтической традиции… Вся статья — самый беззаветный гимн женскому творчеству и семнадцатилетию».
Между мужчиной и девушкой с первых же минут устанавливаются интимно-доверительные и вместе с тем — целомудренные отношения. Волошин — с «улыбкой явного расположения…
— А вы всегда носите это?..
— Чепец? Всегда, я бритая.
— Всегда бритая?
— Всегда.
— А нельзя ли было бы… это… снять, чтобы я мог увидеть форму вашей головы. Ничто так не даёт человека, как форма его головы.
— Пожалуйста.
Но я ещё руки поднять не успела, как он уже — осторожно — по-мужски и по-медвежьи, обеими руками — снял.
— У вас отличная голова, самой правильной формы, я совершенно не понимаю…
Смотрит взглядом ваятеля или даже резчика по дереву — на чурбан — кстати, глаза точь-в-точь как у врубелевского Пана: две светящиеся точки — и, просительно:
— А нельзя ли было бы уж зараз снять и…
Я:
— Очки?
Он, радостно:
— Да, да, очки, потому что, знаете, ничто так не скрывает человека, как очки.
Я, на этот раз опережая жест:
— Но предупреждаю вас, что я без очков ничего не вижу.
Он, спокойно:
— Вам видеть не надо, это мне нужно видеть.
Отступает на шаг и, созерцательно:
— Вы удивительно похожи на римского семинариста. Вам, наверно, это часто говорят?
— Никогда, потому что никто не видел меня бритой.
— Но зачем же вы тогда бреетесь?
— Чтобы носить чепец.
— И вы… вы всегда будете бриться?
— Всегда.
Он, с негодованием:
— И неужели никто никогда не полюбопытствовал узнать, какая у вас голова? Голова, ведь это — у поэта — главное!.. А теперь давайте беседовать.
И вот беседа — о том, что пишу, как пишу, что люблю, как люблю — полная отдача другому, вникание, проникновение, глаз не сводя с лица и души другого — и каких глаз: светлых почти добела, острых почти до боли… не глаз, а сверл, глаз действительно — прозорливых… две капли морской воды, в которой бы прожгли зрачок… две искры морского живого фосфора, две капли живой воды». Разговоры о Бодлере, Рембо, Ренье, Ростане, Наполеоне… Гадание по руке… Всё это пять часов кряду. Наконец, прощание и фраза: «Я скоро опять приду». А затем — по контрапункту — общение с прислугой:
«— Да неужто вам, барышня, не стыдно — с голой головой — при таком полном барине, да ещё кудреватом таком! А в цилиндре пришли — ай жених?
— Не жених, а писатель. А чепец снять — сам велел.
— А-а-а… Ну, ежели писатель — им виднее. Очень они мне пондравились, как я вам чай подавала: полные, румяные, солидные и улыбчивые. И бородатые. А вы уж, барышня, не сердитесь, а вы им видать — ух! — пондравились: уж так на вас глядел… в са-амый рот вам! А может, барышня, ещё пойдёте за них замуж? Только поскорей бы косе отрость!»
Да, умудрённая жизнью няня Марины отнеслась к Максу с большим почтением, чем в своё время юные горничные Маргариты… Проходит день, и Марина Цветаева получает от Макса письмо. Естественно, со стихами (приведём стихотворение в том виде, в каком привела Цветаева в воспоминаниях «Живое о живом»):
К Вам душа так радостно влекома!
О, какая веет благодать
От страниц Вечернего Альбома!
(Почему альбом, а не тетрадь?)
Отчего скрывает чепчик чёрный
Чистый лоб, а на глазах очки?
Я отметил только взгляд покорный
И младенческий овал щеки.
Я лежу сегодня — невралгия,
Боль, как тихая виолончель…
Ваших слов касания благие
И стихи, крылатый взмах качель,
Убаюкивают боль: скитальцы.
Мы живём для трепета тоски…
Чьи прохладно-ласковые пальцы
В темноте мне трогают виски?
Ваша книга — это весть оттуда.
Утренняя благостная весть.
Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко слышать: чудо — есть!
Это невинно-трепетное стихотворение Волошина было довольно своеобразно истолковано старшей подругой Марины Лидией Тамбурер. Опытная женщина, по профессии зубной врач, одобрительно отзывалась о тех строках, где речь шла о «душе», «альбоме» и «благодати», но потом насторожилась: «А, вот видите, он тоже заметил и, действительно, странно: такая молодая девушка, и вдруг — в чепце! (Впрочем, бритая было бы ещё хуже!) И эти ужасные очки! Я всегда вам говорила…» Но настоящее потрясение поднаторевшая в амурных историях дама получила от строк: «Чьи прохладно-ласковые пальцы / В темноте мне трогают виски?» Её возмущению не было границ: «Фу, какая гадость! Я говорю вам: он просто пользуется, что вашего отца нет дома… Это всегда так начинается: пальцы… Мой друг, верните ему письмо с подчёркнутыми строками и припишите: „Я из порядочного дома и вообще…“ …Вот что значит расти без матери! А вы (заминка), может быть, действительно, от избытка чувств, в полной невинности, погладили его… по… виску? Предупреждаю вас, что они этого совсем не понимают, совсем не так понимают.
— Но — во-первых, я его не гладила, а во-вторых, — если бы даже — он поэт!
— Тем хуже. В меня тоже был влюблён один поэт, так его пришлось — Юлию Сергеевичу (мужу. — С. П.) — сбросить с лестницы.
Так и ушла с этим неуютным видением будущего: массивного Максимилиана Волошина, летящего с нашей узкой мезонинной лестницы — к нам же в залу».
Незаметно пролетела зима. Макс часто бывал в Трёхпрудном, присылал Марине книги, некоторые из них (например, «Встречи господина де Брэо» Анри де Ренье) смущали юную девушку, а её праведную подругу — и подавно: «Милый друг, это просто — порнография!.. За это, собственно, следовало бы ссылать в Сибирь, а этого… поэта, во всяком случае, ни в коем случае, не пускать через порог!..» Марина заявляет своему новому другу письменный протест, а на следующий день появляется он сам с большим пакетом под мышкой: «Я не знал, что вам не понравится, вернее, я не знал, что вам понравится, вернее, я так и знал, что вам не понравится — а теперь я знаю, что вам понравится». И из-под мышки появляются пять томов романа Дюма о Жозефе Бальзамо. «На этот раз Макс знал, что мне понравится.
(Выкладывая пятый том:
— Марина Ивановна! Как хорошо, что вы не так пишете, как те, кого вы любите!
— Максимилиан Александрович! Как хорошо, что вы не так себя ведёте, как герои тех книг, которые вы любите!)»
Цветаева вскоре поняла: Макс охотно дарил близким своих любимых людей и писателей. В тот период жизни он был «под ударом» Анри де Ренье. Но на Марину «удар» не подействовал, точнее, оказал обратное действие. «Не только я ни романов Анри де Ренье, ни драм Клоделя, ни стихов Франси Жамма тогда не приняла, а пришлось ему, на двадцатилетие старшему, матёрому, бывалому, провалиться со мной в бессмертное младенчество од Виктора Гюго и в моё бренное собственное и бродить со мною рука об руку по пяти томам Бальзамо, шести Мизераблей и ещё шести Консуэлы и Графини Рудольштадт Жорж Занд. Что он и делал — с неизбывным терпением и выносливостью, и с только, иногда, очень тяжёлыми вздохами, как только собаки и очень тучные люди вздыхают: вздохом всего тела и всей души. Первое недоразумение оказалось последним, ибо первый же том мемуаров Казановы, с первой же открывшейся страницы, был ему возвращён без всякой обиды…» Правда, на этот раз поэт получил нагоняй от собственной матери: «В семнадцать лет — мемуары Казановы, Макс, ты просто дурак!» Елена Оттобальдовна кротостью нрава не отличалась…
Помимо общения с Цветаевой, Волошин в этот период посещает вернисаж «Бубновый валет» на Большой Дмитровке с участием Н. Гончаровой, В. Кандинского, П. Кончаловского, А. Лентулова, И. Машкова, Р. Фалька, выставку полотен «независимых» на Лубянской площади, выставку картин Союза русских художников на Большой Дмитровке с участием М. Сарьяна, к творчеству которого Макс проникается всё большим интересом. Он выступает оппонентом по докладу С. Глаголя «Искусство и действительность» в Литературно-художественном кружке, бывает на собраниях Общества свободной эстетики (в помещении Литературно-художественного кружка), выступает там с чтением стихов и собственного перевода трагедии «Аксель».
Возобновляются взаимоотношения с редактором «Аполлона» Маковским, который заказывает Волошину рецензии на новые книги и статьи-хроники культурной жизни. Макс с удовольствием берётся рецензировать стихи и прозу А. Толстого, рассказы А. Ремизова, в которых видит явления нового постсимволистского искусства, близкого новому реализму. В области же театра поэт, по его собственному признанию, стоит «за чистую театральность». Волошин по-прежнему «всеяден»: пишет о поэтах, прозаиках, театральных постановках, выставках художников (Маковский заказывает ему статьи о «независимых» и «передвижниках»). Маковскому же поэт посылает эссе о скульптурах: «Бюст Энгра» А. Бурделя, «Этюд» А. Голубкиной, «Задумчивость» А. Майоля, «Марфа Посадница» Д. Стеллецкого и др. В Кружке 18 января читает лекцию «Новые течения во французском экзотизме».
Но одной Москвы Волошину мало. Его неуёмной художественной натуре требуется больший простор. 19 января, едва переведя дух после «французского экзотизма», Макс отбывает в Нижний Новгород. В зале Общественного клуба он выступает с чтением лекции о «Братьях Карамазовых», «Царе Эдипе» и проблеме отцеубийства. Сбор от лекции должен пойти в пользу учащихся Владимирского реального училища. В зале — дикий холод, что отмечает даже газета «Волгарь». Интересующихся проблемой отцеубийства в Нижнем не так уж много. Вторая лекция М. Волошина, как явствует из газеты, «откладывается до Великого поста» (21 февраля), сам лектор возвращается в Москву, а газета «Нижегородский листок» на основании выступления Макса помещает статью «„Братья Карамазовы“ и „Эдип“».
Волошина завораживает загадка «Древнего Рока», «разоблачение таинственной воли, руководящей людьми». Не случайно спустя шесть лет в стихотворении «Материнство» он напишет: «Кто нас связал и бросил в мир слепыми? / Какие судьбы нами расплелись?..» В трагедии Эдипа поэт ощущает ужас человека, «который узнаёт, что он, убегая от самого ужасного, на самом деле шёл ему навстречу»; при этом он поднимает вопрос о закономерности подобного исхода. Для художника остаётся загадкой, «чья же воля, такая проницательная, ясновидящая и насмешливая, подготовила с такой злостной утончённостью те пути, которые привели Эдипа к исполнению всех прорицаний Аполлона». Раскрыть «психологию и моральное значение рока», «тайный смысл судьбы», осознать символический подтекст мифа об Эдипе не под силу современному человеку, считает Волошин, ибо ему недоступен язык символов, эзотерический смысл «несчастного случая», к которому сводят трагедию фиванского царя.
Центральным с эзотерической точки зрения является, по Волошину, эпизод со Сфинксом. «Как высшее воплощение загадочности Сфинкс хранит запредельный смысл, который всегда должен оставаться вне понимания человека» (X. Э. Керлот). Его загадка обманчива в своей простоте. «Очевидно, в этой криптограмме Сфинкса, — считает Волошин, — были записаны непонятным для нас способом священные откровения и пророчества о прошлой, настоящей и будущей судьбе человека». Существует версия о том, что загадка Сфинкса связана с пифагорейской теорией чисел. «Числа 4, 2 и 3 дают вместе число 9, которое есть число человека, а также число низших миров. 4 представляет невежественного человека, 2 — интеллектуального, а 3 — духовного. Младенец (4) развивается во взрослого на двух ногах (2), и сила его ума искупается и освещается волшебным добавлением посоха мудрости (3). Сфинкс, следовательно, является тайной Природы, средоточием секретной доктрины, и все, кто не могут решить проблемы или угадать ответ, исчезают. Прохождение через Сфинкса означает бессмертие» (М. П. Холл) и постижение тайны человечества. Достичь этого можно, по Волошину, «только став выше человечества, то есть освободившись от уз телесной, плотской преемственности, которая замыкает нас в тесные ряды сменяющихся поколений, другими словами — символически убив отца».
Так или иначе загадка разгадана, и Эдип, по мысли Волошина, неизбежно приобщается «древнему первичному тайному познанию человечества, сосудом которого является женщина. По представлениям древних, в крови человека скрыто было тайное… Знание. Женщина-мать является охранительницей тайн крови, потому что она — то звено, которое фактически, кровью связывает сменяющиеся поколения. В кровосмесительстве древние видели нарушение тайн крови. Поэтому Эдип, поднявшийся отцеубийством до разгадки вопроса о конечных судьбах человека, вступает в брак со своею матерью». «Люди меня сочетали, не зная, что делают, / С матерью в мерзостном браке», — говорит софокловский Эдип в Колоне. «Мрак… Матерь… Смерть… Созвучное единство…» — слышится у Волошина («Материнство»). Учитывая все это, по-новому воспринимаются строки этого же, многократно цитированного стихотворения: «Не помню имени, но знай, не весь я / Рождён тобой, и есть иная часть, / И судеб золотые равновесья / Блюдёт вершительная власть». Об этой «вершительной власти» и рассуждает Волошин. В познании тайны, «насильственно раскрывающем свои первоистоки, греки видели нечто кощунственное и преступное. Кровь, которая несёт в себе тайны человека, не может видеть солнца — она свёртывается и чернеет…» (В стихотворении «Кровь»: «В ней пламень чёрный, пламень древний. / В ней тьма горит, в ней света нет…»). «Так и Эдип, познавший тайны крови, не имеет права видеть солнце — он вырывает себе глаза. Вещий провидец должен стать слепым, как кровь»: «В моей крови — слепой Двойник. / Он редко кажет дымный лик…»
Образ Эдипа, познавшего тайны мироздания и «конечных судеб человека», в контексте вышесказанного разрастается до вселенских масштабов. Обрести «тайное древнее Знание» можно лишь путём духовного прозрения, никак не связанного со зрением физическим. В то же время процесс поисков истины, открытия самого себя ассоциируется с блужданиями и заблуждениями, страданиями и конечным одиночеством. Жизненный путь сына Лая представляется поэту универсальной моделью человеческого бытия. Судьба фиванского изгоя так или иначе наводит на размышления и об участи другого «вещего провидца», духовно зрячего «пасынка России», ставшего «живым укором» её истории.
Трагедия Карамазовых — это также трагедия отцеубийства, считает Волошин. Она заключается в том, что все три брата — прежде всего Карамазовы, «в том, что они чувствуют в себе отцовскую плоть, насыщенную грехом и извращениями, в том, что для того, чтобы перестать быть Карамазовыми, они… должны в себе преодолеть своего отца». Однако эта трагедия небезысходна. Ведь кроме убиения отца и отречения от плоти существует возможность «возлюбить её, освятить, преобразить, одухотворить её… принять и всею своею жизнью оправдать свою физическую наследственность».
Дилемма, стоящая как перед Дмитрием, так и перед Иваном, одна: «или самим духовно погибнуть, или отца убить. А убийство мыслью или желанием, в той атмосфере, в какой развивается действие романа, становится реальным убийством». Лакей Смердяков становится орудием «волений» Дмитрия и Ивана. Причём Дмитрий принимает обвинение в отцеубийстве «как законное возмездие за всю свою жизнь и за желание убить. Поэтому в его гибели есть возможность и обетование воскресения». Нарастание ужаса в душе Ивана напоминает то, что происходит с Эдипом; он обвиняет брата и вдруг начинает осознавать, что отцеубийца — он сам. «Это постепенное разоблачение его виновности совершается так же постепенно, неизбежно и страшно, как у Софокла».
Алёше же предназначено не убить, а преобразить в себе Карамазова, «стать спасителем грешной и изолгавшейся плоти Феодора Павловича». Именно ему суждено испытать мистическое причащение земле («…он целовал её, плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступлённо клялся любить её во веки веков…» — вспомним волошинское: «И в первый раз к земле я припадаю…»). Без этого света трагедия Карамазовых была бы столь же безысходна, как судьба Эдипа. Однако в этом экстазе любви к земле и плоти, ко всему сущему «Достоевский раскрывает тот путь, которым карамазовщина может быть преодолена без отцеубийства; тот путь, на котором требование: „оставь отца и мать и иди за Мною“, не нарушает, а утверждает заповедь: „чти отца своего и матерь свою“».
Волошин тонко чувствовал историческую актуальность романа Достоевского. Он знал, что это произведение должно было стать прологом к другому роману, охватывающему всю жизнь Алёши. Суть его — в ответе на вопрос, «как бы должен был разрешиться в обстановке обыденной жизни этот пророчественный момент экстаза, какими путями должна была разрешиться борьба Алёши с отцовскою злою плотью». Причём действие этого второго романа должно было происходить в 1880 году, в напряжённой общественной обстановке, сходной с атмосферой 1905 года. Волошин предполагает, что многое в нём могло напоминать роман «Бесы», но что «вопросам, оставшимся неразрешёнными в „Бесах“, здесь должно было быть дано разрешение». Что ж, поэту и самому придётся вскоре искать пути разрешения вопросов, связанных с российской бесовщиной XX века.
Вернувшись в Москву, Волошин живёт в прежнем ритме: посещает вернисаж 18-й выставки Товарищества московских художников, присутствует на «Вечере старинного водевиля» в Литературно-художественном кружке, наряду с В. Брюсовым выступает в качестве оппонента на лекции Ф. Де ла Барта «Психология литературной богемы», высылает С. Маковскому хронику о выставках и театральные отчёты. Макс вновь жалуется на то, что «журнальная и газетная работа» (а это «не больше чем ремесло») не оставляет ему времени для занятия настоящим искусством. Стихи писать некогда. Хоть бы уж этот поденный труд оплачивался «Аполлоном» не ниже, чем газетами, ведь он ради «московской хроники» отказался от «художественной хроники» в «Русской мысли». Да, ситуация всё та же: высокое вдохновение — редкий гость в его жизни, унизительная нужда — постоянный. И это при такой литературно-журналистской загруженности! К тому же Макс часами общается с самыми разными людьми — поэтами и непоэтами, общается неформально, отдавая всю душу, занимается порой литературным наставничеством.
Макс, «ненасытностью на настоящее, заставлял человека быть самим собой, — вспоминает М. Цветаева. — Знаю, что для молодых поэтов, со своим, он был незаменим, как и для молодых поэтов — без своего. Помню, в самом начале знакомства, у Алексея Толстого литературный вечер. Читает какой-то титулованный гвардеец: луна, лодка, сирень, девушка… В ответ на это общее место — тяжкое общее молчание. И Макс вкрадчиво, точно голосом ступая по горячему: „У вас удивительно приятный баритон. Вы — поёте?“ — „Никак нет“. — „Вам надо петь, вам непременно надо петь“. Клянусь, что ни малейшей иронии в этих словах не было; баритону, действительно, надо петь».
В этой же связи нельзя не вспомнить историю Марии Паппер, образ которой Волошин возвёл «в ранг химер», а Цветаева обессмертила в своём очерке «Живое о живом». Поэтесса Мария Паппер заходила со своими стихами к самым разным маститым поэтам — Брюсову, Белому, Ходасевичу. Была и у Волошина. Очевидно, рассчитывала на протекцию. Сценарий этих встреч был всегда одинаков. Появляется дама в огромных мужских калошах, независимо от времени года, «а из калош на тоненькой шейке, как на спичке, огромные тёмные глаза, на ниточках, как у лягушки. Она всегда приходит с чёрного хода, ещё до свету, и прямо на кухню. „Что вам угодно, барышня?“ — „Я к барину“. — „Барин ещё спят“. — „А я подожду“. Семь часов, восемь часов, девять часов… Иногда кухарка, сжалившись: „Может, разбудить барина?..“ — „Нет, зачем, мне и так хорошо“. Наконец, кухарка, не вытерпев, докладывает: „К вам барышни одни, гимназистки или курсистки, с седьмого часа у меня на кухне сидят, дожидаются… Я их и чаем напоила…“» И начинается самое главное. Появляется огромный, департаментский портфель, извлекается кипа стихов. Мария Паппер читает. Десять часов, одиннадцать, двенадцать. «Вдруг, нервный зевок, из последних сил прыжок, хватаясь за часы: „Вы меня — извините — я очень занят — меня сейчас ждёт издатель — а я — я сейчас жду приятеля“. — „Так я пойду-у, я ещё при-иду-у“». Дверь закрылась, «хозяин блаженно выхрустывает суставы рук и ног, и вдруг — бурей — пронося над головой обутые руки — из кухни в переднюю — кухарка:
— Ба-арышни! Ба-арышни! Ай, беда-то какая! Калошки забыли!
…Иногда ей эти калоши летят вслед… Иногда, особенно если с верхнего этажа, попадают прямо на голову…»
Этот литературный анекдот — о визите Марии Паппер к Ходасевичу, — рассказанный Волошиным Цветаевой, вполне жизнеподобен. Возможно, нечто похожее случилось между самим Волошиным и «химерической» стихослагательницей. Известно лишь, что у Макса на память осталась её книжка стихов «Парус», а в газете «Утро России» (1911, 5 февраля) появилась его статья «О модных позах и трафаретах (Стихи г. Игоря Северянина и г-жи Марии Паппер)». Дальше — без комментариев…
Выставки, спектакли и генеральные репетиции, оппонирования, рецензии на постановки «Вассы Железновой» в театре Незлобина и «Грозы» в Малом театре, увлечение пластическими танцами, репетиции которых проходят в студии Е. Рабенек на Малой Басманной, где Волошин, воспользовавшись оказией, читает лекции. Бал «Ночь в Испании» в залах Купеческого клуба (постановка П. Кончаловского и Г. Якулова), вернисаж Общества акварелистов на Петровке, в галерее Лемерсье. Круговорот лиц и ног, картин и декораций. А ещё — постоянное ощущение сильной и покоряющей энергетики со стороны девушки, похожей на «римского семинариста»… Бежать бы куда-нибудь от этой суеты или… бездумно погрузиться в водоворот чувств и событий…
Обманите меня… но совсем, навсегда…
Чтоб не думать, зачем, чтоб не помнить, когда…
Чтоб поверить обману свободно, без дум,
Чтоб за кем-то идти, в темноте, наобум…
И не знать, кто пришёл, кто глаза завязал,
Кто ведёт лабиринтом неведомых зал,
Чьё дыханье порою горит на щеке,
Кто сжимает мне руку так крепко в руке…
А, очнувшись, увидеть лишь ночь да туман…
Обманите и сами поверьте в обман.
Весна между тем вступила в свои права. Девушка с обликом «римского семинариста» собирается в Крым, в Гурзуф. Волошин, естественно, зовёт её к себе, в Коктебель. Самому Максу ещё надо уладить кое-какие дела в Москве: написать статью о А. Голубкиной, рецензию на спектакль МХТ «У жизни в лапах» по пьесе К. Гамсуна, заключить с издательством «Сфинкс» договор о переводе четырёх новелл А. де Мюссе. Художник Л. Браиловский приглашает его в Малый театр — вначале на осмотр декораций, а затем и на сам спектакль «Горе от ума». Эрудиция и оригинальный художественный вкус Волошина, что и говорить, весьма востребованы… Но всё это уже не увлекает; поэта «охватило то странное и смутное весеннее состояние, которое мешает всякой работе». 29 апреля он вместе с Еленой Оттобальдовной отбывает в Феодосию. 1 мая Волошин — в Коктебеле, а сёстры Герцык выезжают из Москвы в Судак. Вскоре ожидается приезд Марины Цветаевой, которой и предоставим слово:
«Пятого мая 1911 года, после целого чудесного месяца одиночества на развалинах генуэзской крепости в Гурзуфе… после целого дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма, я впервые вступила на коктебельсую землю, перед самым Максиным домом, из которого уже огромными прыжками… нёсся мне навстречу — совершенно новый, неузнаваемый Макс», в «хитоне», сандалиях и полынном веночке, «Макс широченной улыбки гостеприимства, Макс — Коктебеля». Сразу же состоялось знакомство с Еленой Оттобальдовной. Женщины, судя по всему, друг другу понравились. А на другой день Коктебель воистину проявляет себя как место свершения встреч и судеб. Марина оказывается почти героиней романтической пьесы. На берегу моря ей встречается удивительной красоты юноша с тёмными глазами в пол-лица, который дарит девушке сердоликовую генуэзскую бусину. Это семнадцатилетний Сергей Эфрон, который в скором времени станет мужем Марины Цветаевой.
Во владениях Макса, на берегу Чёрного моря, московская барышня чувствует себя счастливой. Возможно, это лучшие дни её жизни. Интереснейшие беседы с Волошиным, прогулки, розыгрыши, всю её переполнявшие чувства… С Максом они почти неразлучны, у него постоянно наготове неожиданный афоризм, увлекательный рассказ, занятное поучение: «Есть духи огня, Марина, духи воды, Марина, духи воздуха, Марина, и есть, Марина, духи земли.
Идём по пустынному уступу, в самый полдень, и у меня точное чувство, что я иду — вот с таким духом земли… Макс был настоящим чадом, порождением, исчадием земли. Раскрылась земля и породила: такого, совсем готового, огромного гнома, дремучего великана, немножко быка, немножко бога, на коренастых, точёных как кегли, как сталь упругих, как столбы устойчивых ногах, с аквамаринами вместо глаз, с дремучим лесом вместо волос, со всеми морскими и земными солями в крови („А ты знаешь, Марина, что наша кровь — это древнее море…“), со всем, что внутри земли кипело и остыло, кипело и не остыло… Макс был именно земнородным, и всё притяжение его к небу было именно притяжением к небу небесного
— Три вещи, Марина, вьются: волосы, вода, листва. Четыре, Марина, — пламя».
А у Марины с огнём, пламенем стал уже ассоциироваться сам Макс. «Выскакивал или не выскакивал из него огонь, этот огонь в нём был — так же достоверно, как огонь внутри земли. Это был огромный очаг тепла, физического тепла, такой же достоверный тепловой очаг, как печь, костёр, солнце. От него всегда было жарко — как от костра, и волосы его, казалось, так же тихонько, в концах, трещали… О него всегда хотелось потереться, его погладить, как огромного кота, или даже медведя…»
Ну а Коктебель постепенно заполняется. Во второй декаде мая приезжают кузен Волошина Михаил Лямин, Вера Эфрон, некая женщина с двумя внуками, которая осталась в анналах как «Пиковая дама», француз Жулиа, влюблённый в Лилю Эфрон и, по-видимому, имеющий на неё виды. Этот союз не входит в планы компании, поэтому Лилю «выдают замуж» за Макса — первая, но далеко не последняя коктебельская мистификация. Француз ревнует, нервничает и в конце концов отбывает восвояси. Эта история отразилась в одном из шуточных сонетов:
Француз — Жульё, но всё ж попал впросак.
Чтоб отучить влюблённого француза,
Решилась Лиля на позор союза:
Макс — Лилин муж: поэт, танцор и маг.
Ах! сердца русской не понять никак:
Ведь русский муж — тяжёлая обуза.
Не снёс Жульё надежд разбитых груза:
«J’irai périr tout seul à Kavardak!»[9]
Все в честь Жулья городят вздор на вздоре.
Макс с Верою в одеждах лезут в море.
Жульё молчит и мрачно крутит ус.
А ночью Лиля будит Веру: «Вера,
Ведь раз я замужем, он, как француз,
Ещё останется? Для адюльтера?»
Коктебельские «спектакли» следуют один за другим. У каждого участника в них своя роль, точнее, амплуа. За Еленой Оттобальдовной окончательно закрепилось прозвище Пра — праматерь, прародительница всех обитателей дачи. Сама дача получает название «обормотник», а её обитатели, естественно, становятся «обормотами»; в отличие от «нормальных» дачников они ведут себя весьма раскованно: женщины носят шаровары, ходят босиком или в сандалиях, в море залезают кто в чём — иногда нагишом. У «обормотов» есть даже свой гимн («Стройтесь в роты, обормоты…»), распевая который они то и дело нарушают покой «нормальных» дачников:
…Седовласы, желтороты,
Всё равно, мы обормоты!
Босоножки, босяки,
Кошкодавы, рифмоплёты,
Живописцы, живоглоты,
Нам — хитоны и венки!
От утра до поздней ночи
Мы орём, что хватит мочи,
В честь правительницы Пра!
Эвое! Гип-гип! Ура!
Дом Волошина. Пол веранды как живым ковром покрыт телами спящих собак. Переступая через них, кутаясь в шаль, по веранде прохаживается Марина. Собаки ворчат, но своих мест не покидают. Цветаева стоит лицом к морю. В саду тем временем появляется Сергей Эфрон. Первым делом бросает взгляд на веранду, и лицо его освещается нежной улыбкой. «Вот и он», — шепчет Марина. Уже совсем рассвело.
Вот он встал перед тобой;
Посмотри на лоб и брови
И сравни его с собой!
То усталость голубой,
Ветхой крови.
Марина выходит в сад. Сергей устремляется ей навстречу. За ними приветливо шумит море.
Торжествует синева
Каждой благородной веной.
Жест царевича и льва
Повторяют кружева
Белой пеной…
Летний кабинет. Тонкая кисточка в руках грузного человека завершает акварель — фантастический и вместе с тем вполне реальный пейзаж Коктебельской бухты. Макс, откинувшись в кресле, с удовлетворением рассматривает только что законченную работу. В этот момент слышится женский голос:
— Ася приехала!
Анастасия, шестнадцатилетняя сестра Марины Цветаевой, в строгом дорожном костюме, протягивает руку Максу:
— Ася.
Они идут по аллее. Макс несёт Асин чемодан. Он, как обычно, в длинной, до колен, холщовой рубахе; чуть ниже колен видны холщовые же штаны, открывающие мощные загорелые икры ног. Рядом — Марина, в сандалиях и шароварах. Сёстры смеются.
— Хорошо доехала? А у нас тут… ну, увидишь!.. У Макса гостит испанка, Кончита. Ни слова не говорит по-русски… Что удивляешься? Шаровары? Тут все так ходят — удобно. Особенно — по горам. (Вдруг.) Ася, ты видела Игоря Северянина? Нет? (Радостно.) Ну, увидишь! Идём! Макс, я покажу Асе комнату!
Марина забирает у Макса чемодан и продолжает делиться впечатлениями:
— Тебе многое тут сперва покажется странным, но потом привыкнешь. Однако кое-что ты должна знать заранее. Кончита влюблена в Макса и устраивает ему сцены ревности. Он очень смущается, но никогда её не обижает. Между ними, конечно, ничего нет. Потом, тут Игорь Северянин.
— Ты говорила…
— Ты рада?
— Да-а… — неуверенно тянет Ася.
— Он, конечно, глуп, но талантлив и очень красив. Глуп, но зато красив! Красив, но глуп! (Вдруг, страстно.) Я никогда не была так счастлива, как сейчас. Никогда!
Они остановились. Рядом терраса с тяжёлыми столбами, но без перил. Марина поставила чемодан на гравий дорожки.
— Разбирать вещи сейчас не будешь? Слушай, сшей себе шаровары!
— Да не хочу я шаровары. Мне они и на тебе не нравятся. Ни за что не надену!
— Тише! — шипит Марина, показывая куда-то в сторону. — Смотри! Игорь Северянин! Обрати внимание, какая манерная походка. Но красив, как чёрт!
Отведя лозу дикого винограда, на дорожку выходит Сергей Эфрон. Тонкая рука с длинными пальцами убирает со лба прядь волос. Он идёт, картинно ставя ноги в чувяках. Широкий пояс облегает узкий стан. Немного не дойдя до сестёр, он останавливается, бросает несколько театральный взгляд на Марину, затем медленно нагибается к кусту роз. Вдохнув запах «царицы цветов», «Северянин» продолжает свою прогулку. Марина и Ася смотрят ему вслед.
— Как красив! — восторженно вздыхает Марина. — И как глуп! Сколько достоинств в одном человеке! (И уже другим тоном, сестре.) — Пошли ко мне, переоденешься. Скоро обед. Я представлю тебя Пра!
Длинный деревянный стол без скатерти на крытой галерее. За столом — человек двадцать. Во главе стола величественно восседает Елена Оттобальдовна. Марина представляет ей сестру:
— Пра! Моя сестра Ася!
Пра окидывает новоприбывшую с головы до ног и, высокомерно подняв подбородок:
— Непохожи. А говорили: есть сходство… Ася? Отлично. Славная девочка. Надо её только немного обобормотить. Дайте Асе тарелку.
Пра зачерпывает большой ложкой лапшу с неестественно огромного блюда и, полив маслом, передаёт Асе. Взяв тарелку, Ася с восторженным изумлением, разглядывает сидящую напротив красавицу с веером в руке.
— Это Кончита! — говорит сестре Марина. — Что, хороша испанка?
— Тише! — одёргивает её смущённая Ася.
— Да она же ничего не понимает!
Кончита, играя веером, бросает на Макса зазывные взгляды. Марина шёпотом представляет сестре сидящих за столом:
— Вон тот юноша, — она указывает глазами на сидящего поодаль молодого человека с высоким лбом и чёрной гривой, — секретарь президента Андоррской республики.
— Между прочим, клептоман — берегите кошелёк, — предупреждает, не разжимая губ, художник Константин Кандауров.
— А вон тот господин…
— …сыщик из Одессы, — перебивает её Кандауров. — Выражайтесь осторожно!
— А этот?
Неподалёку от них сидит представительный господин с нафабренными усами. Своим безукоризненным европейским костюмом он явно выделяется из вольно одетой компании.
— О! — Марина многозначительно подняла палец. — Это герой сегодняшнего дня! Месье Жульё, француз. Тоже, кстати, по-русски — ни слова.
Кончита хохочет, поверх веера испепеляя Макса страстными взглядами. Неожиданно на галерее появляется странная фигура — среднего роста молодая женщина, задрапированная в длинную тунику. Она стоит, опираясь на огромный бутафорский меч.
— Это Мария Паппер. Считает себя гениальной поэтессой. Хотя стихи ужасные, — поясняет сестре Марина. — Меч где-то раздобыла. Между прочим, тоже влюблена в Макса.
— А он?
— Макс? Влюблённый? Это же невозможно.
Между тем Мария Паппер с мечом подходит к сидящему Волошину. Свободной рукой властно обнимает его за шею и целует в губы. Хлопнув веером, Кончита вскакивает со своего места. Её глаза мечут молнии.
— О, Мадонна, Кончита, Сервантес! Мулетта торреро! Себастьяно мадридо фламенко!
С Марией Паппер случается истерика. Из складок туники появляется пистолет.
— Как, Макс! Ты дал ей повод надеяться?! Это после всего, что между нами было! О-о-о! — Выронив меч, она падает на скамью, сотрясаясь от рыданий. Дуло пистолета, направленное, было, на Макса, застыло где-то у правой груди…
Вскочив со своих мест, все бросаются к Марии, пытаясь утешить. Кто-то завладевает пистолетом. Ася и мсье Жульё испуганно наблюдают за происходящим. И тут вбегает некто взъерошенный:
— Все на берег! Там… — не в силах продолжать, хватается за сердце. Кто-то услужливо протягивает ему стакан с водой. — Там! Кончита! Утопилась!
— Круг! Спасательный круг! — зычно требует Макс. Ему почему-то протягивают табуретку. — Да не табуретку! Круг!
Табуретка летит за пределы веранды. Макс выбегает следом за ней. Все мечутся в бестолковой сумятице, кто-то бежит вверх по деревянной лестнице. Кто-то трубит в охотничий рог. Мелькают в воздухе откуда-то взявшиеся подушки. Появляются носилки. Пра величественно взирает на всю эту вакханалию. Мсье Жульё вжался в стену и с опаской смотрит на «сыщика», невозмутимо стоящего рядом. Внезапно все замирают. У входа на галерею — Макс с бесчувственной Кончитой на руках. Он великолепен: полосатый купальный костюм обтягивает необъятный живот, через плечо — гигантский спасательный круг. Правда, на обоих нет ни капли воды. В наступившей тишине Макс вносит Кончиту на галерею и кладёт на скамейку. Все окружают их в скорбном молчании. Мария Паппер опускается на колени перед бездыханной испанкой. Кончита открывает глаза, шепчет чуть слышно:
— Альмавива Керрубино… — и затихает.
— Она говорит, что прощает вас. Будьте счастливы, — деликатно кашлянув, переводит Кандауров.
— Это Константин Бальмонт, — шепчет Марина сестре. — Тот самый. У него испанские предки.
— О, Кончита, — рыдает Мария Паппер, целуя руку утопленницы.
Испанка вдруг резко садится, обводит всех лукавым взглядом и громко поёт:
Она здесь удивилась,
И очень огорчилась:
Она — ха-ха!
Искала жениха.
Вскочив со скамейки и схватив недавнюю соперницу за руки, кружит её. Обе поют:
Она — ха-ха!
Искала жениха.
Все танцуют кто во что горазд. Пра сидит во главе опустевшего стола, величественная и неподвижная. Марина кружит сестру в танце и давится смехом:
— Аська, Кончита — это Лиля Эфрон, Паппер — это Вера. Они — сёстры Северянина. А Северянин — это Серёжа Эфрон.
— Красивый и глупый?
— Он чудный, Серёжа. Ты увидишь. Мы вечером будем у меня. Приходи!
Заражённая общим весельем, Ася тоже подпевает: «Она — ха-ха! Искала жениха!»
— Послушай, а кто этот, мсье Жульё?
— А он на самом деле мсье Жульё (или Жулиа), француз. Приехал Лилю-Кончиту сватать. Вот мы и затеяли спектакль, чтобы его отвадить. Интересно, проймёт его или нет?
— А Бальмонт настоящий?
Тем временем мсье Жульё подходит к художнику и шепчет ему что-то на ухо. Потом, вежливо поклонившись, покидает галерею. «Бальмонт» вскидывает руку, останавливая танец:
— Господа! Должен сообщить вам пренеприятное известие. Мсье Жульё вынужден нас покинуть, так как в Париже его ждут неотложные дела.
Галерея дрожит от общего хохота…
Но свет, как говорится, на Жульё не сошёлся… Уже в середине июня в расположение «обормотов» прибывают Белла и Лёня Фейнберги, брат и сестра, а с ними Маня Гехтман, которые легко вписываются в сложившуюся компанию. Мария Лазаревна («Лазаретовна») Гехтман — москвичка, пианистка; Леонид Евгеньевич Фейнберг — тогда начинающий художник, автор воспоминаний о летнем Коктебеле 1911–1913 годов. Именно он в своём очерке рассказывает о том, что Макс по случаю дня рождения собственноручно сколотил фанерный ящик — вроде почтового — и прибил его к стене на террасе. «Было предложено всем желающим опустить в гостеприимную щель любые шутливые (а также и серьёзные) стихи и рисунки, карикатуры, смешные пожелания — любые творческие подарки». Почин положил сам автор идеи, опустив в ящик семь «Коктебельских сонетов» за подписью «Неизвестный». Стихи эти являют пример того, как можно «несерьёзное» содержание облечь в строгую форму сонета, что дано далеко не каждому. Фейнберг в своих мемуарах комментирует эти шутливые опусы, среди которых хочется выделить сонет на тему совместного принятия пищи, одним словом — «Обед»:
Горчица, хлеб, солдатская похлёбка,
Баран под соусом, битки, салат,
И после — чай. «Ах. Если б шоколад!» —
С куском во рту вздыхает Лиля робко.
Кидают кость; грызёт Гайдана Тобка;
Мяучит кот; толкает брата брат…
И Миша с чердака — из рая в ад —
Заглянет в дверь и выскочит, как пробка.
— Опять уплыл недоенным дельфин?
— Серёжа! Ты не принял свой фитин! —
Серёже лень. Он отвечает: «Поздно!»
Идёт убогих сладостей делёж.
Все жадно ждут, лишь Максу невтерпёж.
И медлит Пра, на сына глядя грозно.
Не знаю, как насчёт «барана под соусом», но остальные перечисленные блюда вполне могли быть на этом столе. Аппетит Макса с детства не уменьшился, так что и грозный взгляд Елены Оттобальдовны вполне реален. Собак на Волошинской даче и рядом водилось много. Гайдан — чёрная мохнатая дворняжка, любимица Марины Цветаевой. Тобик — большой неприглядный пёс, напоминающий фокстерьера-переростка, «личная собственность» Михаила Лямина, психически больного племянника Елены Оттобальдовны. Боясь быть отравленным, Миша предпочитал общему столу питание на чердаке, а на Тобке проверял качество продуктов и надёжность «противоядий».
В доме, свидетельствует Фейнберг, царила атмосфера «обманов», мистификаций и мифотворчества. Среди мифологических персонажей фигурировал дельфин, «который будто бы приплывал, чтобы его доили и его молоком лечили слабогрудого Серёжу Эфрона. Кроме того, Макс… уверял, что может вместе с Верой ходить по воде, как посуху, хотя для удачи такого опыта требуется помощь — особое благоговейное настроение зрителей». Были «мистические танцы». Были «магические действа». «Весь „вздор на вздоре“… разыгрывался необычайно серьёзно и совершенно. Сам Волошин был превосходным актёром. Все Эфроны были театрально одарены и могли блестящее разыграть любую мистификацию».
Жертвой волошинского мифотворчества едва не стала Марина Цветаева. Как-то он ей сказал:
— Марина, ты сама свой главный враг.
— Согласна.
— Вредишь себе сама и с избытком.
— Ну это мы уже слышали. Можешь переходить к главному. Я ведь вижу: ты опять что-то задумал.
— Задумал, Марина. В тебе кипит жизнь, как минимум, десяти поэтов и сплошь замечательных. А ты не хочешь (вкрадчиво) все свои стихи о России, например, напечатать от лица… ну хоть какого-нибудь Петухова? Ты увидишь (разгораясь), как их через десять дней вся Москва и весь Петербург будут знать наизусть. Брюсов напишет статью. Яблоновский напишет статью. А я напишу предисловие. И ты никогда (подымает палец, глаза страшные), ни-ког-да не скажешь, что это ты, Марина (умоляюще), ты не понимаешь, как это будет чудесно! Тебя — Брюсов, например, — будет колоть стихами Петухова: «Вот, если бы госпожа Цветаева, вместо того, чтобы воспевать собственные зелёные глаза, обратилась к родимым зелёным полям, как господин Петухов, которому тоже семнадцать лет…» Петухов станет твоим наваждением… тебя им замучат, Марина, и ты никогда — понимаешь? — никогда — уже не сможешь написать ничего о России под своим именем, о России будет писать только Петухов, — Марина! Ты под конец возненавидишь Петухова!
А потом (уже совсем захлебнувшись), нет! зачем потом, сейчас же, одновременно с Петуховым мы создадим ещё поэта — поэтессу или поэта? — и поэтессу и поэта, это будут близнецы, поэтические близнецы, Крюковы, скажем, брат и сестра. Мы создадим то, чего ещё не было, то есть гениальных близнецов. Они будут писать твои романтические стихи.
— Макс! а мне что останется?
— Тебе? Всё, Марина. Ты будешь, как тот король, Марина, во владениях которого никогда не заходило солнце…
Марина скромно, как школьница на уроке, поднимает руку:
— Макс, можно? Можно я пока побуду просто Мариной Цветаевой?
Да, синдром «Черубины», похоже, ещё долго не оставлял Макса. Но, к счастью, мифотворчество Волошина не всегда приобретало экстремистские формы.
Макс и Марина плывут на лодке. На вёслах два турка. Справа громоздятся серо-чёрные шероховатые скалы, вершины которых устремлены к солнцу. Макс, сидя на носу лодки, запрокидывает голову:
— Смотри, Марина, — Реймсский и Шартрский соборы…
Марина, сидящая на корме, поднимает голову. Прямо по курсу открывается десятисаженный грот, глубоко врезавшийся в грудь горы.
— А это, Марина, вход в Аид. Здесь Орфей спускался за своей Эвридикой.
Лодка входит в грот. Света нет, лишь голубые искры воды, расбрасываемые вёслами по базальтовым стенам. Он и она молчат. Слышны только всплески вёсел, звонко отдающиеся в каменных сводах.
— В Аид, Марина, нужно входить одному. И ты одна вошла, Марина. Я, как эти турки, не в счёт, я только средство вроде этих вёсел.
Марина заворожённо всматривается в мерцающий сумрак. Она улыбается:
— А знаешь, Макс, когда моя жизнь обернётся чёрным ходом, когда я столкнусь с чернейшими людскими ходами, я буду помнить, что у меня в Коктебеле был вход в Аид. Счастливый. С тобой. И как бы без тебя…
Много чего происходило тем летом, например многолюдная поездка в Феодосию, посещение галереи Айвазовского. Было путешествие на мажаре в Старый Крым, были морские прогулки на лодке вдоль Карадага — в Сердоликовую бухту и к Золотым воротам. Однажды, во время общей прогулки, отбились от группы и заблудились Макс и Марина — по вине извилистых троп и непрерывных бесед. В результате оказались «после многочасового восхождения — неизвестно на какой высоте над уровнем моря, но под самым уровнем неба, с которого непосредственно… на головы льёт сильный отвесный дождь, на пороге белой хаты, первой в ряду таких же белых.
— Можно войти переждать грозу?
— Можно, можно.
— Но мы совершенно мокрые.
— Можно ошаг посушить.
Так как снять нам нечего: Макс в балахоне, а я в шароварах, садимся мокрые в самый огонь и скромно ждём, что вот-вот его загасим. Но старушка в белом чепце подбрасывает ещё кизяку. Огонь дымит, мы дымимся.
— Как барышня похош на свой папаш! (Старичок.)
Макс, авторски-скромно:
— Вс
— А папаш (старушка) ошень похош на свой дочк. У вас много дочк?
Макс уклончиво:
— Она у меня старшая.
— А папаш и дочк ошень похош на свой царь.
Следим за направлением пальца и сквозь дым очага и пар одежды различаем Александра III, голубого и розового, во всю стену.
Макс:
— Этот царь тоже папаш: нынешнего царя и дедушка будущего.
Старичок:
— Как вы хорошо сказаль: дэдушек будущий! Дай бог здорофь и царь, и папаш, и дочк!
Старушка, созерцательно:
— А дочк ф панталон.
Макс:
— Так удобнее лазить по горам.
Старичок, созерцательно:
— А папаш в камизоль.
Макс, опережая вопрос о штанах:
— А давно вы здесь живёте?
Старички (в один голос):
— Дафно. Сто и двадцать лет.
Колонисты времён Екатерины».
Пройдёт пятнадцать лет, и Волошин в стихотворении «Дом Поэта» нарисует грустную картину случившегося в последующий период истории Крыма: «За полтораста лет — с Екатерины — / Мы вытоптали мусульманский рай, / Свели леса, размыкали руины, / Расхитили и разорили край. / Осиротелые зияют сакли; / По скатам выкорчеваны сады. / Народ ушёл. Источники иссякли. / Нет в море рыб. В фонтанах нет воды». История и современность. Забавное и трагическое. Всё рядом, всё переплетено…
Но тогда, в летние месяцы, незадолго до Первой мировой войны, жизнь казалась спокойной, безоблачной, даже праздничной. «Полдневные походы» и «полночные приходы». Шутки, стихи, прогулки. Люди и собаки. Собак в Коктебеле было слишком много. У каждого было прозвище: Лапко, Одноглаз (Одноглазка), Шоколад, Гайдан, Тобик… Все они любили Макса. И Марину… «„Марина! Ты знаешь, что я к тебе вечером шёл“ (вечером на коктебельском языке означало от полуночи до трёх). — „Как — шёл?“ — „Да, шёл и не дошёл. Ты расплодила такое невероятное количество… псов, что я всю дорогу шёл по живому, то есть по каким-то мёртвым телам, которые очень гнусно и грозно рычали. Когда же я, наконец, протолкался через эту гущу и захотел ступить к тебе на крыльцо, эта гуща встала и разом, очень тихо, оскалила зубы. Ты понимаешь, что после этого…“»
Но Макс имел к собакам особый подход. Он, по воспоминаниям Цветаевой, разговаривал с ними так же, как с людьми. Даже — с самыми свирепыми, жившими в горах овчарами, которые могли разорвать на части велосипедиста вместе с велосипедом. Макс (тоже, кстати, велосипедист) становился в экстремальных ситуациях, по выражению Цветаевой, главноуговаривающим. Прежде всего он отводил самого лютого из псов в сторону:
«— Ты, как самый умный и сильный, скажи, пожалуйста, им, что велосипед, во-первых, невкусен, во-вторых, мне нужен, а им нет. Скажи ещё, что очень неприлично нападать на безоружного и одинокого. И ещё непременно напомни им, что они овчары, то есть должны стеречь овец, а не волки, — то есть не нападать на людей. Теперь позволь мне пожать твою благородную лапу и поблагодарить за сочувствие (которое, пока что, вожак изъявил только рычанием).
Так ли уж убеждён был Макс в человечности овчара или озверевшего красного или белого командира, во всяком случае, он их в ней убеждал, — считала Марина Ивановна. — Не сомневаюсь, что когда, годы спустя, к его мирной мифической даче подходили те или иные банды, первым его делом, появившись на вызовы, было длительное молчание, а первым словом:
— Я бы хотел поговорить с кем-нибудь
«Это лето было лучшим из всех моих взрослых лет», — подвела итог «обормотских» месяцев Марина Цветаева. Её ждала Москва, где ей предстояло вскоре стать женой Сергея Эфрона. А Макс Волошин осенью отправляется в Париж, в свою излюбленную богемно-литературную круговерть. И снова — работа в Национальной библиотеке, бесчисленные статьи, «большие» и «малые» вернисажи, светское и религиозное искусство, театры, Бальмонт, Мерсеро, Редон, Виттиг… Рядом с Максом появляются милые интересные женщины, к которым он питает вежливые симпатии: певица-эстонка Айно Тамм, танцовщица, художница Вера Равич, танцовщица школы Е. И. Рабенек Наталья Милюкова, которой Волошин посвятил известное стихотворение, начинающееся строфой: «То в виде девочки, то в образе старушки, / То грустной, то смеясь — ко мне стучалась ты, / То требуя стихов, то ласки, то игрушки, / И мне даря взамен и нежность, и цветы». А Милюкова впоследствии напишет ему в письме: «Добрые семена и советы, что Вы сеяли в душе Ваших маленьких парижских подруг, не пропали даром! По крайней мере, в душе „девочки-старушки“ они пустили глубокие корни».
Как всегда, в памяти художника «мерцают отсветы событий, встреч и лиц». Но не слишком ли быстро люди и чувства уходят в прошлое? Удаётся ли ему задержаться с кем-то в «просторах мгновенья»? «Мне кажется, что я ещё никогда так не отдавался людям, как теперь, и никогда так не любил каждого встречного человека», — признаётся поэт матери в декабре 1911-го. В целом же парижская жизнь Волошина течёт по давно прописанному сценарию, в котором чередуются привычные «картины», где те или иные персонажи то выступают на авансцену, то уходят за кулисы. В январе 1912 года ведущую роль уже не в первый раз сыграл К. Бальмонт, чьё двадцатипятилетие литературной деятельности отмечалось в ресторане на бульваре Сен-Дени. Волошин принял активное участие в организации чествования: не только рассылал приглашения гостям, но и написал стихотворение, посвящённое юбиляру, — «Напутствие Бальмонту». «Пловец пучин времён, Бальмонт» как раз собирался отправиться в кругосветное путешествие.
«Мы в тюрьме изведанных пространств…» — обращается Волошин к «поэту пленительнейших песен», «жаждущему сказочных убранств» — как в жизни, так и в поэзии, Бальмонту-путешественнику, которому мало земных пространств, которого влекут Лемурия и Атлантида. Это же относится и к самому автору стихотворения — «страннику», «мечтателю», «путнику по вселенным» Максу Волошину, так же видящему о «Лемурии огненной и древней / Наисокровеннейшие сны».
И всё же — есть ли какой-то положительный смысл в бесконечных путешествиях, плаваниях, «глотаниях широт»? Вспоминаются строки Бодлера из его поэмы «Плаванье»: «Бесплодна и горька наука дальних странствий. / Сегодня, как вчера, до гробовой доски — / Всё наше же лицо встречает нас в пространстве: / Оазис ужаса в песчаности тоски». Лирический герой Волошина постоянно стремится раздвинуть «стены пасмурной тюрьмы» своего сегодняшнего бытия. «Одною силой жизни». Но в отличие от «обманутых пловцов» Бодлера, он не боится обнаружить в увиденном мрачные слепки собственного «лица». Волошинские «скитанья без возврата» наполняют душу «щемящей радостью». К тому же «тюрьма изведанных пространств» растворяется в творческо-эзотерических снах («Явь наших снов земля не истребит»). Поэту знакомо чувство, «как будто жизни звенья / Уж были порваны…», и открывается путь к «иным мирам», в «звёздный улей веков и веков». Обращаясь к Бальмонту, Волошин подразумевает и самого себя: «Не столетий беглый хоровод — / Пред тобой стена тысячелетий / Из-за океана восстаёт».
«„Эллины, вы перед нами дети…“ — / Говорил Солону древний жрец. / Но меж нас слова забыты эти…» Макса Волошина, поэта, мистика, историософа вдохновляли легенды об Атлантиде, изложенные Платоном в диалогах «Критий» и «Тимей». О гибели Атлантиды говорится в реферате Волошина «Демоны разрушения и закона», где автор предупреждает о возможной мировой катастрофе, которую безумное человечество приближает, создавая орудия смерти. Связь «между сокровенным преданием и исторической достоверностью» художник пытается установить в статье «Архаизм в русской живописи». Фраза из платоновского «Тимея» — «Вы, эллины, дети» — приводится в статье «Клодель в Китае» и поэтически интерпретируется в «Напутствии Бальмонту», который так же, как и Макс, преклонялся перед древней восточной культурой, заключающей в себе подлинную мудрость.
Итак, в середине января Бальмонт через Лондон отправляется в кругосветное путешествие, а Волошин в конце этого же месяца едет в Берлин, а оттуда — в Москву. В Берлине поэт присутствует на докладе Р. Штейнера, а в Москве посещает выставку общества «Бубновый валет» с участием братьев Бурлюков, П. Кончаловского, А. Лентулова, И. Машкова, Г. Фалька, А. Экстер и других. Здесь же экспонируются работы П. Пикассо, К. Ван Донгена и В. Кандинского.
Ещё в сентябре 1911 года Волошин опубликовал в «Московской газете» статью «Кубисты», в которой говорил о них как о временном явлении, недолговечной группе художников, объединившихся, «чтобы легче войти в искусство». В «Истории моей души» Макс приводит оценку кубистов столь почитаемым им О. Редоном: «Это схоластическая шутка». Сюда же включает и свои поэтические строки: «В мире вожделений безобразных / Кощунство юной красоты». При этом поэт отмечал наличие хорошего вкуса у Ле-Фоконье и А. Лота, «большую силу в передаче движения» у А. Глёза, живописную красоту композиций у Ла Френе. Ныне же предстояло дать оценку кубизму русскому, творческому методу, объединившему поэтов, художников, театральных деятелей.
Не будет преувеличением сказать, что поэзия кубофутуристов возникла из художнической практики и пролагала пути в тесном взаимодействии с другими искусствами. «Мне начинает казаться, — признавалась Елена Гуро, — что в поэзии я что-то поняла, что уже раньше поняла в рисунке». «Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью», — призывал В. Хлебников. В различного рода авангардистских выставках начиная примерно с 1908 года вместе с Бурдюками принимали участие известные художники, входившие позднее в те или иные группы и объединения: А. Экстер, М. Ларионов, Н. Гончарова, А. Лентулов, П. Кончаловский, И. Машков. К театрально-поэтическим начинаниям футуристов имели непосредственное отношение К. Малевич, Г. Якулов, М. Ле-Дантю, О. Розанова. Геометрическими построениями из кубов и цилиндров, с расписанными (словами и буквами) плоскостями, художник П. Митурич пытался передать хлебниковское: «Пространство звучит через Азбуку». Сами пластические искусства приобретали у футуристов театрально-игровой характер.
К концу первого десятилетия XX века в России становятся известны выставлявшиеся в Одессе, Киеве, Петербурге, Москве, Риге картины Пикассо, Брака, Матисса, Руссо, Синьяка и других представителей европейского модернизма. Организаторы «Гилеи» (объединения футуристов) Бурлюки пытаются перенять опыт кубизма и осмыслить его. Одной из таких попыток стала статья Д. Бурлюка «Кубизм» (1912), в которой он рассматривает «канон сдвинутой конструкции». Вместе с братом Владимиром Давид Бурлюк пишет работы, представляющие собой «пейзаж с нескольких точек зрения»; художники-авангардисты увлекаются «обратной перспективой», нашедшей выражение в столь ценимом также и Волошиным восточном искусстве (византийская икона, японская гравюра и т. п.), а также поисками «четвёртого измерения» (время как одна из координат многомерного мира), когда незримое за пределами трёх измерений становится ощутимым.
Кубизм передавал ощущение вечного движения, изменения, то состояние, когда, по словам В. Хлебникова, «вещи приблизились к краю», за которым что-то смутно вырисовывающееся, одновременно пугающее и желанное. «Исходные крайности», знаменовавшие собой крушение традиционной системы ценностей и зримого устойчивого мира, приводили к пластике беспредметности, превалирующей над психологизмом и вещной конкретикой старой живописи (супрематизм К. Малевича). Поэзия вбирала в себя новые веяния, идущие из живописи, скульптуры, театра, кино, превращаясь в своеобразный синтез искусств. Возникла ситуация, когда слово, подойдя вплотную к живописи, «перестало звучать» (Б. Лившиц).
Отсюда — установка футуристов на передачу содержания по «начертательной и фонической характеристике» слов, разнообразие шрифтов и выделение отдельных слов посредством разноцветных букв и раскраски фона. Из живописи в поэзию пришёл и принцип симюльтанизма — одновременного восприятия всех элементов картины вместо последовательного. Слоги, слова и фразы симюльтанистских стихов (калиграммы, идеограммы) располагались таким образом, что образовывали геометрические фигуры или рисунки. Во французской живописи лидером этого течения был знакомый Волошина по Парижу Р. Делоне, в поэзии — Г. Аполлинер и Б. Сандрар, стремившиеся создать пространство, которое «перестало бы разделять»; в России новые веяния подхватили художник Г. Якулов и филолог А. Смирнов.
«Сомнамбулический» мир Александра Блока и поэтов его круга был совершенно чужд представителям новой волны. Они стремятся навстречу многообразию быта, увлекаются афишей и плакатом, делают коллажи из газетных заголовков. Мотив сновидения, порой трансформирующего, порой «парализующего» реальность, уступает место её «удвоению», «утроению», рассмотрению «под увеличительным стеклом». В поэтических и театральных опытах авангардистов всё сдвинуто и перемешано, как и в самой действительности. В них врывается сама жизнь, грубая и неупорядоченная. Участники объединения «Ослиный хвост» (М. Ларионов, Н. Гончарова, Е. Сагайдачный и другие) стараются, по свидетельству М. Волошина, заимствовать краски «от предметов, ими изображаемых: парикмахеров они пишут розовой губной помадой, фиксатуарами, бриллиантинами и жидкостями для ращения волос, солдат — дёгтем, грязью, юфтью и т. д. Этим им удаётся передать аромат изображаемых вещей и возбудить тошноту и отвращение в зрителе». В. Бурлюк не брезгует тем, чтобы вывалять только что написанную картину в свежем чернозёме для придания ей колорита «естественности».
Пристрастие к примитиву, в частности к «бытовой иконописи» прачечных, парикмахерских и других провинциальных заведений, оказавшей такое сильное влияние на творчество М. Ларионова, Н. Гончаровой, М. Шагала, побуждало Д. Бурлюка на последние деньги скупать вывески кустарной работы. Он и его брат Владимир были убеждены в том, что этрусские истуканы ни в чём не уступают Фидию. Н. Гончарова видела истоки кубизма в скифских бабах, русских куклах и негритянской скульптуре.
Несмотря на заведомую эпатажность лозунгов кубофутуристов, они не были догматиками и формалистами. Будетлянство представляло собой самотворящую реальность, её поэтико-театрализованное сгущение («Мир как стихотворение» В. Хлебникова, «Наше переходящее сегодня» Б. Лившица), постоянно меняющееся, не вписывающееся ни в какие схемы бытие. Бунтарство и конфликтность изначально присущи самой природе авангардистского искусства, которое, по определению В. Кандинского, «есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путём борьбы… создать новый мир, который зовётся произведением. Каждое произведение возникает и технически так, как возник космос, — оно проходит путём катастроф».
Отвергая любые сдерживающие творческую индивидуальность каноны, русские авангардисты ориентируются на город (В. Маяковский) и праславянскую фольклорную почву (В. Хлебников), стремятся к синтезу всех национальных художественных стилей. Н. Гончарова в своём цикле «Художественные возможности по поводу павлина» показывает объект изображения в китайской, египетской, византийской, лубочной и футуристической манере (на что обращает внимание и Волошин в статье «Ослиный хвост»), а М. Ларионов демонстрирует Венеру негритянскую, турецкую, испанскую, еврейскую и т. д.
Девизом русского футуризма становится афоризм У. Уитмена: «Слова моей книги — ничто, порыв её — всё». Отсюда — избыточность и в то же время незавершённость авангардистской эстетики, соответствующая динамичности и незавершённости самой действительности. «Сонное сознание» уступает место «энергийной силе».
Подобно символистам, поэты-футуристы творили свою жизнь как произведение искусства. Стиль жизни дополнял, а зачастую и определял впечатление, производимое их литературными работами. Не случайно тот же Маяковский оказался режиссёром собственной трагедии в жизни, литературе и на театре. В спектакле «Владимир Маяковский», поставленном в петербургском «Луна-парке» (декабрь 1913 года), поэт выступил как автор, режиссёр и исполнитель главной роли. Полноценным героем этой монодрамы был сам поэт, а его партнёры по сцене — лишь картонажными фигурами, носившими перед собой щиты с изображением данного персонажа. Действующие лица пьесы воспринимались как аллегорические, и в то же время за ними угадывались конкретные личности: Человек без уха — музыкант (М. Матюшин), Человек без головы — заумный поэт (А. Кручёных), Человек без глаза и ноги — художник-кубист (Д. Бурлюк), Старик с чёрными сухими кошками — мудрец и пророк (В. Хлебников), умеющий высекать искру искусства, подобно тому как высекали искры, поглаживая чёрных кошек, древние египтяне. Таким образом в трагедии даётся групповой портрет русского кубофутуризма с ярко выраженным профилем Маяковского.
С этим портретом русского кубофутуризма Волошину довелось ознакомиться 12 февраля 1912 года на диспуте, организованном «Бубновым валетом» в Большой аудитории Политехнического музея. Председательствовал П. Кончаловский. Присутствовали В. Маяковский, В. Хлебников, А. Кручёных, В. Шкловский и др. В качестве докладчиков выступали В. Кандинский, Н. Кульбин и Д. Бурлюк, изложившие свои творческие принципы и идеи нового искусства. М. Волошин, участвовавший в диспуте как оппонент выступающих, не стал принимать или опровергать основные положения докладов. По сути дела, он, как свидетельствует Б. Лившиц, попытался «установить преемственную связь между кубизмом и импрессионизмом». Волошин при этом исходил из принципа притяжения-отталкивания, характеризуя кубизм как реакцию на импрессионизм, которую «нельзя обойти молчанием, насмешками и отрицанием». Можно ли говорить о кубизме как о новом, серьёзном явлении искусства или это не более чем «любопытные лабораторные опыты» — покажет время, считал Волошин. В прениях выступили Н. Гончарова и М. Ларионов, а П. Кончаловский подарил «дорогому Максу Волошину свой первый труд переводчика» — книгу Э. Бернара «Поль Сезанн», как бы подведя мирные итоги дискуссии.
25 февраля Волошин выступил на очередном диспуте «Бубнового валета» в Политехническом музее с докладом «Сезанн, Ван Гог и Гоген как провозвестники кубизма». Второе сообщение сделал Д. Бурлюк: «Эволюция понятия красоты в живописи». В качестве оппонентов значились А. Кручёных и В. Маяковский. Как вспоминает тот же Б. Лившиц, «Волошин так увлёкся биографией трёх великих французов, что упустил из виду основную цель своего доклада: установление родословной кубизма… Переполненная, как и в первый раз, аудитория недоумевала, какое отношение имеет всё это к „Бубновому валету“».
Лившиц, безусловно, прав: «Привлечение Волошина, выказавшего себя культурным оппонентом на первом диспуте, преследовало определённую цель. Русские кубисты, занимавшие в „Бубновом валете“ доминирующее положение, решили доказать, что они не безродные люди в искусстве, что у них есть предки, генеалогия, и что в случае нужды они могут предъявить паспорт. Волошин, которому для осмысления кубизма было необходимо связать его преемственно с пуризмом, охотно взял на себя эти несложные геральдические изыскания». Не их вина, что на диспуте «случился конфуз»: Макса занесло «в свою стихию», и он забыл о сверхзадаче выступления.
Правда, в статье «Современные портретисты», опубликованной в журнале «Русская мысль» (1911, № 6), Волошин затрагивает вопрос генеалогии кубизма. Он говорит о «Валетах» как о неореалистах, «принявших импрессионизм с поправками Сезанна, Ван Гога и Матисса», трактующих человека как натюрморт, «только несколько более сложный», старающихся «обобщить и упростить в основных плоскостях и очертаниях человеческое лицо совершенно таким же образом, как они упрощают яблоко, тыкву, лейку, ананас, хлеб», умеющих сделать свои «портреты-карикатуры» художественно интересными. «Ослиный хвост», по мнению критика, стоит на той же «художественной платформе», несмотря на внешние раздоры двух объединений (статья «Ослиный хвост»). На вернисажах «Ослов» встречается «много интересного и талантливого». Однако, «учителеборствуя», они еще не вышли за пределы «подмастерства». «„Хвосты“ не ищут и не задаются определёнными замыслами — они пробуют. И все пробы выставляют. Среди этих проб есть очень удачные по выразительности, как „Ледоколы“ и „Гроза“ Гончаровой, „Маркитантка Соня“ и „Купающиеся солдаты“ Ларионова и почти все рисунки Барта».
Б. Лившиц в своей книге «Полутораглазый стрелец» характеризует М. Волошина как человека, «правда, далёкого от крайних течений в искусстве, однако отличавшегося известной широтою взглядов и чуждого групповой политике Грабарей и Бенуа». Это не совсем так. «Округлитель острых углов», Волошин, терпимо относясь к левым течениям в искусстве, не скрывал своей идейной близости к «мирискусникам», лидер которых, А. Бенуа, энергично отбивался в газете «Речь» от выпадов радикально настроенной «бубновоослиной» молодёжи. Ещё совсем недавно стоящие в авангарде художественного вкуса, «галдящие бенуа» (по выражению Д. Бурлюка) оказались в роли ретроградов и консерваторов. Надо отдать должное А. Бенуа: порицая в «Художественных письмах» 1912 года эстетический авантюризм кубофутуристов, в статьях 1913 года он проявил более гибкую позицию, сродни волошинской. Маститый художник отметил, что среди этих «скандалистов» есть немало даровитых людей; пусть пошалят, перебесятся — а там видно будет: «грешно допускать мысль, что они все окажутся пустоцветами». Что же касается Волошина, то его жизненно-творческие пути ещё пересекутся с эстетическими начинаниями «Валетов» год спустя.
Ну а пока что, едва дождавшись середины апреля, Макс спешит в Коктебель. В «Крымском курортном листке» проходит сообщение об открытии с 1 мая столовой «на даче Волошиной». Обед из двух блюд — 60 копеек (18 рублей в месяц). Этим летом на берега восточного Крыма прибывают Толстые, Новицкие, Лентуловы, историк литературы А. Круглов с семьёй, инженер В. Н. Павлов, построивший дачу неподалёку от Волошиных, художник В. П. Белкин со своей невестой — пианисткой В. А. Поповой, танцовщица-босоножка Инна Быстренина и её сестра Ольга — пианистка, актёр Ю. Л. Ракитин. Естественно, организовывались концерты — и на коктебельских верандах, и в Феодосийской гимназии, и в Летнем саду. Было даже турне по Крыму, в котором наряду с Максом принимали участие Алексей Толстой, Быстренины, Вера Попова, скрипач Ян Крейза, Анастасия Гурвич (декламация), Юрий Ракитин, специализировавшийся на монологе Репетилова из «Горя от ума», другие. Увы, курортную публику трудно было зажечь «большим» искусством. В «феодосийской газете» даже появилась заметка об артистическом вечере 12 июля, на котором «было скучно и тоскливо». Правда, «по-прежнему прост и красочен был Макс Волошин». Никуда не денешься — фактура…
Кстати сказать, именно тогда, летом 1912 года, Леонид Фейнберг, видимо, окончательно освоившись в доме Волошина, создаёт два его портрета: один — углём, внешний, другой — словом, внутренний. Вот некоторые из записей юного художника: «Одна из ценнейших черт его характера была непрерывная власть над собой. Он никогда не выходил из себя. Никогда ни гнев, ни досада, ни раздражение, ни смех, ни даже весёлость не брали верх над его внутренним самообладанием, над внутренней плавностью его бытия… Слишком часто встречающийся, даже в наилучших воспоминаниях, образ Макса, этакого безгранично благодушного добряка-медведя, мне думается, снижает его образ. Я никогда не видел Макса, бегущего кому-либо навстречу с распростёртыми объятиями. Основная внешняя черта его была — плавность… мягкая, доброжелательная плавность… Незыблемая плавность волевых решений. Неизменная плавность всей жизненной, даже житейской системы. Плавность быта.
Полностью противопоказан Волошину был любой вид робости. Макс был смелым, беспредельно смелым. Но это не была внешняя смелость, показная отвага. И когда — значительно позднее — он сказал:
…Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи, — вот плоть моя! —
это не было простой поэтической формулой. Я убеждён: так чувствовал Волошин всю свою жизнь…
На первый взгляд, Макс казался человеком могучим, титанически сверхмощным. (В этой связи нельзя не вспомнить одно место из воспоминаний Е. А. Бальмонт: „Если он толкал кого-нибудь лбом в спину, этот человек не мог устоять на ногах. Как-то раз надо было спешно вызвать Бальмонта из его комнаты — он читал, сидя в своём кресле, и медлил идти — Макс подошёл к нему сзади и лбом выдвинул кресло с читающим в нём Бальмонтом в другую комнату“. — С. П.). Глазам легко было обмануться. На самом деле Макс был болен, чем-то серьёзно болен. Тучность его не признак здоровья, а симптом тайной болезни… Ему нельзя было много есть. Я не знаю названия той болезни обмена веществ, приводившей его плоть к такой повышенной тучности. Но болезнь была, и притом врождённая… Иногда случалось, что Максу относили обед в комнаты на втором этаже, когда он не хотел отрываться от работы… Я смотрел, как, погружённый в свои мысли, Макс неторопливым и точным движением черпал ложкой суп — и подносил его ко рту. С невольной мальчишеской улыбкой я сказал Максу о своём наблюдении. Он, оторвавшись от еды и владевшей им думы, внимательно взглянул на меня и серьёзно, почти строго сказал: „Каждая еда — причастие!“ — и вернулся к своим занятиям».
Немало писалось о бережном отношении Макса к книгам и о том, увы, беспределе, который нередко устраивали по отношению к книгам его гости. Л. Фейнберг вспоминает, что однажды Лиля Эфрон «умудрилась забыть на пляже одну из волошинских книг. Это… была одна из не очень толстых книг, плохо сброшюрованных, — коктебельский бриз легко мог её разметать по каменистому прибрежью. Так или иначе, Волошин набрёл на свою книгу, бережно собрал её. Книга была спасена.
Макс взял драгоценную беглянку к себе — обратно — и сказал, что при таком отношении к его книгам он не может позволить пользоваться библиотекой. Что есть книги незаменимые, которыми он дорожит. Что эта книга подверглась большой опасности — одна из таких нужных ему книг.
Но интердикт Макса вызвал взрыв негодования со стороны революционно настроенных Эфронов.
— Ну, Макс! Ты просто-напросто заядлый собственник. Моя книга, моя библиотека! Такого отношения мы не ожидали от тебя!
Но Макс — с кротким упорством — продолжал стоять на своём:
— Пожалуйста! В пределах библиотеки можете читать любую книгу. Там очень удобно: есть диван и стулья, можно читать и сидя, и лёжа. Но выносить книгу из библиотеки (теперь это ясно) — значит её разрушать.
Эфроны продолжали возмущаться. Я с ужасом следил, как разгорается ссора… И вдруг — они перестали разговаривать с Максом. И Макс с ними… Мне думается, что Эфроны, конечно, любили Макса, но до конца его не принимали. Они его не понимали „до конца“… Он не был, это они могли заметить, активным революционером. Его философия, его практика жизни — всё это было им чуждо».
В конце июля в Коктебеле учреждается пост Общества спасения на водах, «переданный в заведование» Максу Волошину. Примерно тогда же открывается кафе «Бубны», названное так в честь объединения «Бубновый валет», отрядившего своих художников для разрисовки стен «лавки-кофейни», душой и владельцем которой был грек А. Г. Синопли. Отныне именно «Бубны» станут центром богемно-артистической жизни Коктебеля. Сам Волошин вместе с Алексеем Толстым, Лентуловым, Белкиным и другими поклонниками здешних мест принимал активное участие в шутливо-художественном оформлении этого заведения. Что из этого вышло — чуть позже…
Вообще же, искусство воздействует на человека по-разному. Искусство искусству рознь… И каждый воспринимает его по-своему.
16 января 1913 года душевнобольной Абрам Балашов, имеющий, кстати, отношение к иконописи, в Третьяковской галерее изрезал ножом картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Варварство, вандализм — все газеты, выражавшие соболезнование Илье Ефимовичу, были единодушны в оценке случившегося. Волошин же (стоит ли этому удивляться?) пошёл наперекор общественному мнению. Его заинтересовали психологические мотивы, заставившие Балашова совершить этот дикий поступок. Позднее в небольшой книжке «О Репине» (65 страниц) он писал: «Меня интересует вовсе не степень душевной болезни Абрама Балашова, а тот магнит, который привлёк его именно к этой, а не к иной картине. Его крик: „Довольно крови! Довольно крови!“ достаточно ясно говорит о том, что выбор его не был ни случаен, ни произволен. За минуту перед этим он простоял довольно долго перед суриковской „Боярыней Морозовой“, но на неё он не покусился».
В статье «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина», Волошин рассуждает о категории ужасного в искусстве, преступающей пределы художественного. По-своему сочувствуя художнику, писатель тем не менее упрекает его в излишнем натурализме, влияющем на подсознание человека. Равным по силе и способу воздействия (в данном случае на читателя) ему представляется рассказ «Красный смех» Л. Андреева. Поэт противопоставляет этим произведениям творчество В. Сурикова, в частности его картину «Утро стрелецкой казни», в которой нет изображения самой казни, льющейся крови. Суриков «дал строгий и сдержанный пафос смерти. Он-то сумел положить между зрителем и художественным произведением ту черту, которую нельзя переступить. Его картины сами защищают себя без помощи музейных сторожей». Кстати, сам Суриков поддержал позицию Волошина. Ознакомившись с рукописью статьи, он высказался за необходимость её публикации.
Однако с этой точкой зрения не были согласны большинство критиков и ценителей искусства. Многие из них выступили с резкими нападками на Волошина. Это положение усугубилось после выступления поэта на диспуте в Политехническом музее, устроенном группой «Бубновый валет» 12 февраля 1913 года. Председательствовал А. Б. Якулов. Среди присутствующих были: Елена Оттобальдовна, М. Цветаева, М. Кювилье, Р. Гольдовская. После докладчика выступил сам Репин, обвинивший Волошина в «тенденциозности», его ученик Д. Щербиновский и — в качестве оппонентов — Д. Бурлюк, Г. Чулков и А. Топорков. Со стороны Репина выступил А. Мильман. Поначалу всё складывалось солидно и благородно. Волошин предварительно представился Репину и открыто обозначил свою критическую позицию. Репин сказал: «Я нападений не боюсь. Я привык» — и пожал Максу руку. Волошин прочитал доклад «О художественной ценности пострадавшей картины Репина» в своей обычной плавно-рассудительной манере. В ответ Репин, известный своей резкостью и категоричностью в оценках, обвинил представителей нового искусства («всех этих „кубистов“, „бубновых валетов“ и „ослиных хвостов“») в том, что они подкупили Балашова. Солидаризируясь с новым поколением художников, но отнюдь не являясь его знаменосцем, Волошин (готовый продолжать дискуссию в любом месте и при любых обстоятельствах) тем не менее счёл своим долгом ответить Репину под знаком «Бубнового валета», ни членом, ни сторонником которого не состоял. Другой возможности для обсуждения этого архиважного, с точки зрения докладчика, вопроса не было.
Поэта обвинили в несвоевременности выступления. «Как бы ни относились к знаменитой картине, — писал один из рецензентов журнала „Русская художественная летопись“ (1913, № 3), — нельзя же отрицать, что она яркое выражение художества своего времени, и потому, конечно, ей место не в паноптикуме, как утверждал Волошин. Но, разумеется, совсем бестактно было если не самое присутствие Репина, то его „взволнованное“ выступление и особенно — вторичное обвинение новейших художественных настроений как почвы для художественного вандализма».
Вспоминает Р. Гольдовская: Волошин «читал превосходный, умный реферат… В публике находился и сам Репин, который вёл себя глупо и недостойно… кричал сверху, что Волошин порет дичь… Что кучка варваров „подкупила“ глупца уничтожить „произведение национального искусства“… Публика неистово аплодировала и неистово свистела — вообще поведение аудитории было трактирное».
Сам Волошин воспринял эту историю как случай, характеризующий «психологию возникновения и развития лжи». В своих воспоминаниях он приводит фрагменты выступления И. Е. Репина: «Я не жалею, что приехал сюда… Автор — человек образованный, интересный лектор… Но… тенденциозность, которой нельзя вынести… Удивляюсь, как образованный человек может повторять всякий слышанный вздор. Что мысль картины зародилась на представлении „Риголетто“ — чушь! И что картина моя — оперная — тоже чушь… Я объяснял, как я её писал… А обмороки и истерики перед моей картиной — тенденциозный вздор. Никогда не видал… Моя картина написана двадцать восемь лет назад, и за этот долгий срок я не перестаю получать тысячи восторженных писем о ней, и охи, и ахи, и так далее… Мне часто приходилось бывать за границей, и все художники, с которыми я знакомился, выражали мне свой восторг… Значит, теперь и Шекспира надо запретить?.. Про меня опять скажут, что я самохвальством занимаюсь…»
Волошин заметил, что Репин всё более и более терял самообладание. Он сам попытался объяснить идею своей картины: выходило, что главное в ней не ужас, а любовь отца к сыну и потрясение Иоанна Грозного оттого, что вместе с сыном он погубил свой род и, возможно, своё царство. Дальше пошла невнятица: «И здесь говорят, что эту картину надо продать за границу… Этого кощунства они не сделают… Русские люди хотят довершить дело Балашова… Балашов дурак… такого дурака легко подкупить…» Ученик Репина Щербиновский своим эмоциональным, бессвязным выступлением ещё больше накалил атмосферу. Он говорил о том, что не может молчать, когда его гениальный учитель плачет, когда он ранен. «Мне пятьдесят пять лет, а я младший из учеников Репина, я мальчишка и щенок…» Охарактеризовав себя, ученик попытался воздать должное учителю и сравнил его почему-то с Веласкесом, после чего решил пуститься по рельсам теории, но тут же с них съехал. Он говорил, что рисунок есть понятие, никакими словами не определимое, что «искусство — это такая фруктина…». Дальнейшее законспектировать было никак невозможно…
Волошин вовсе не отказывал произведению Репина в яркости и значительности, но он был против его сравнения с шедеврами Рембрандта, Рафаэля и Веласкеса. Он выступал против «канонизации» картины, делающей её «рассадником дурного вкуса». Впрочем, мало кто из критиков был настроен на объективный анализ случившегося. Никто не полемизировал с поэтом по сути поставленного им вопроса. В заключение диспута Волошин вновь взял слово: «Прежде всего, я хочу поблагодарить И. Е. Репина, хотя теперь и заочно, так как он уже покинул аудиторию, за то, что он сделал мне честь, лично явившись на мою лекцию. К сожалению, отвечая мне, он совсем не коснулся вопросов моей лекции по существу: он не ответил ни на устанавливаемое мною различие реального и натуралистического искусства, ни на поставленный мною вопрос о роли ужасного в искусстве. В последнем же вопросе, нарочно подчёркиваю и упираю на это, заключается весь смысл моей лекции и моих нападений на картину Репина».
Уже на следующий день началось «преображение действительности» в хроникёрских отчётах. Возникла ситуация, когда, по словам Волошина, свидетели начинают путать, «кто за кем гнался: арлекин за негром или негр за арлекином». Постепенно подключались те, кто на лекции не был, но успел прочитать отчёты. Таким образом, произошло вторичное пересоздание истории. И уже выходило, что сам диспут — «явление, по реальным последствиям бесконечно меньшее, чем исполосование репинской картины, но по своему внутреннему содержанию гораздо более отвратительное». И — пошло-поехало: «То, что произошло третьего дня, было безмерно постыднее, гаже, оскорбительнее, чем неосмысленный поступок безумного Балашова…»
На третий день те, что не были на лекции, не читали отчётов, но ознакомились со статьями, понесли уже полный бред: «В лапы дикарей попал белый человек… Они поджаривают ему огнём пятки, гримасничают, строят страшные рожи и показывают язык. Приблизительно подобное зрелище представлял из себя „диспут“ бубновых валетов, на котором они измывались над гордостью культурной России — И. Е. Репиным». Дошло до того, что один из особо изощрённых адвокатов культуры решил преподнести публике портрет главного из «дикарей», и в газете появилась фотография Макса в длинной холщовой блузе, босиком, с ремешком в волосах. Из комментария следовало, что это «Максимилиан Волошин, громивший Репина на диспуте. На фотографии он изображён в „костюме богов“. В таком виде он гулял в течение прошлого лета в Крыму, где этот снимок и сделан».
Потом пошла просто истерия. Газеты пестрели заголовками: «Комары искусства», «Гнев божий», «Полнейшее презрение», «Бездарные дни», «Репин и геростратики». Раздавались голоса из публики, вспоминает Волошин: «Старого Репина, нашу гордость, обидели, и за него надо отмстить!»… «Присоединяем наши голоса к прекрасному крику негодования против неслыханной выходки наших мазилок!» «…Нам, допускающим озлобленных геростратов совершать их грязную вакханалию, должно быть стыдно!» И — множество подписей известных и неизвестных лиц, присоединяющихся к протесту против глумления над Репиным и его картиной…
Волошина лягали все, кому не лень. 18 февраля появилась эпиграмма «Называет себя он поэтом…» за подписью «Р. Меч» (Р. А. Менделевич), заканчивающаяся словами: «Но „валетным“ служа идеалам, / О рекламе мечты он таит; / Он себя „обессмертил“ скандалом / И отныне он стал знаменит!»
В. Маяковский, выступавший оппонентом уже на втором диспуте общества «Бубновый валет» — «О современном искусстве» (24 февраля), брезгливо обронил: «Репин — такой же художник, как Волошин — поэт» и обозвал последнего лакеем «Бубнового валета», «который даже скандала не сумел устроить». Лишь в газете «Приазовский край» появилась статья Н. Лаврского «И. Е. Репин и его критики», в которой автор вознамерился проследить «давно начатую» переоценку творчества Репина, да Н. Туркин (тот самый домашний учитель Макса) помещает в «Московской газете» статью «Театр и критика», где упоминает своего бывшего подопечного Волошина (которому «в настоящее время считается хорошим тоном шикать») как чуткого «критика-художника». К этому следует добавить оценку К. Бальмонта, который, получив в Париже статью Волошина о Репине, готов был, по словам его жены, подписаться под ней обеими руками.
Позднее, в очерке «О самом себе», Волошин напишет: «В 1913 году у меня произошла ссора с русской литературой из-за моей публичной лекции о Репине. Я был предан российскому остракизму, все редакции периодических изданий для меня закрылись, против моих книг был объявлен бойкот книжных магазинов». Волошин не упоминает о том, что Д. Бурлюк в «Открытом письме русским критикам» защитил его от нападок бульварной прессы, пытавшейся обвинить поэта в безвкусице, продажности и двуличности.
Завершалась полоса относительно «мирного» течения истории. Как писала в «Поэме без героя» А. Ахматова: «Приближался не календарный — / Настоящий Двадцатый Век» — век страшных потрясений и катастроф. В масштабе надвигающихся событий «репинской истории» суждено было уменьшиться до размеров забавного пустяка, довольно выразительно, однако, характеризующего положение вещей в русской культуре кануна Первой мировой войны.
Однако до войны оставалось ещё полтора года. И в жизни Макса далеко не каждое событие оставляло горький осадок. Как и раньше, происходит много интересных встреч, в его «орбиту» попадают обаятельные люди, милые женщины. Одна из них — Мария Павловна Кювилье, Майя, с 1916 года — княгиня Кудашева, во втором браке — жена Ромена Роллана. Дочь француженки-гувернантки, в те годы московская гимназистка, пишущая стихи, она совершенно покорена личностью Волошина. Да, конечно, обаяние, мудрость, поэтический талант. И в дом его открыты двери и для уже давно пишущих, и для только начинающих…
Он чем-то напоминает ей Одиссея, манящего в заветную даль и одновременно уставшего от плаваний, знающего всё и, однако, оставившего именно ей, Майе, последнюю неразгаданную загадку. Макс ценит её чувство и принимает «в свою душу, как близкую». Майя с нетерпением ждёт каждой новой встречи. Они часто общаются, читают друг другу стихи (невзирая на ранги, кто здесь учитель, а кто — ученица). Какие отношения? Скажем так, тёплые. А впрочем, кто возьмётся дать точную характеристику?..
29 января Майя идёт на встречу с Максом и, будучи культурной девушкой, оставляет запись: «Приду сегодня, как Беттина к Гёте». Нужны ли комментарии? И вскоре после этого — вполне красноречиво: «Я — новая, потому что на моём лице были Ваши ласковые руки и Ваши поцелуи». Волошин, как всегда, сдержанно-целомудрен и в то же время благодарен девушке за её чувство: «Я знаю, что на чувство „влюблённости“, когда не разделяешь его, принято отвечать отходом и холодностью… Но я считаю, что нельзя перед таким чувством захлопывать двери, но надо принять его и постараться пронести, не обманывая… И мне хотелось дать Майе всё, что могу дать». А Майя уже немного ревнует Макса, особенно к женщинам-поэтессам: «Правда, что Вы любите меня больше Марины?» Она встречается с Мариной Цветаевой, беседует с ней о Максе…
7 февраля Волошин пишет одно из программных своих стихотворений: «Как некий юноша, в скитаньях без возврата…» Особый пророческий пафос заключает в себе первый терцет этого сонета: «Бездомный долгий путь назначен мне судьбой. / Пускай другим он чужд… я не зову с собой, / Я странник и поэт, мечтатель и прохожий».
«Марина сказала те же страшные слова про Вас, — пишет ему в тот же день Майя. — „В Вашем мире я прохожий“. И дальше: „Мой ласковый бог, Вы не уйдёте?“» На что Волошин отвечает, что да, действительно, он «прохожий», но ведь можно быть любому прохожему спутником… 23 февраля М. Кювилье пишет поэту: «Мой господин, мой ласковый друг… Вы ищете своих — разве я не сестра Вам? (В цитированном выше сонете есть стих: „Я в каждой девушке предчувствую сестру…“ — С. П.)… Любимый, всевластный и всетерпеливый, я Вас люблю!..» Макс же, отвечая на письма Майи, остаётся верен себе, пытаясь ей внушить, что «не умеет любить так, как люди любят». Он учит девушку медитировать, молиться, выходить «из преходящего — относительного», «подавлять и не показывать» другим «дурные настроения».
Волошин по-прежнему много бывает на людях, выступает со стихами, общается с сёстрами Цветаевыми, Эфронами, Толстыми. Почти всегда рядом с ним — М. Кювилье. Об одном из вечеров вспоминает Р. Гольдовская: «Майя читала по-французски… — такие далёкие, лунные баллады. Читал и Макс — как всегда хорошо и… аффектированно, он отчеканивал каждое слово. Милый, добрый, ласковый, всезнающий, всех любящий — и ко всем равнодушный Макс!.. Учёный эклектик, перипатетик, поэт, художник, философ, хиромант и божий человек, юродивый „без руля и без ветрил“ — русский „обормот“ с головой Зевса и животом Фальстафа…»
Между тем выходит уже упоминавшаяся книга Волошина «О Репине»; автор намеревается устроить турне по провинции с чтением лекции «Жестокость в жизни и ужасы в искусстве». За организацию лекций берётся М. Гарри, известный московский антрепренёр. Первый пункт — Смоленск: 21 марта Макс выступает в Благородном собрании. Впечатления лектора — отрицательные. «Дела плохи, — пишет он матери. — Сбор 50 р. Газеты бойкотируют». Положительные эмоции — только от прогулки по городу, который «очень хорош», посещения Тенишевского музея и знакомства с археологом И. Борщевским. Но Макс не унывает. На следующее утро он прибывает в Витебск, однако билеты на лекцию продаются плохо, да и сама она переносится на 24 марта. Волошин направляется в Вильно, где читает лекцию в Железнодорожном кружке. Характер и уровень аудитории его, как видно, не очень волнует. И, наконец, вернувшись в Витебск, Макс выступает в Гражданском клубе. Эффект, на который рассчитывал поэт, очевидно, достигнут не был. В «Смоленском вестнике» появилась статья «Вопросы жизни и литературы» с пересказом лекций Чулкова («О смысле жизни и тайне смерти») и Волошина, а в «Северо-западном голосе» — «„Жестокость в жизни и ужасы в искусстве“ (лекция г. Волошина)». Краткие отчёты, без столичных эмоциональных перехлёстов. «Репинская история» закончилась. 7 апреля Волошин с матерью выезжают из Москвы в Крым…
18 апреля «Южные ведомости» сообщили о приезде в Коктебель нескольких дачевладельцев, среди которых упоминается «поэт-декадент М. Волошин». В конце месяца туда же приезжают М. Цветаева и С. Эфрон с маленькой дочерью, поселившиеся в отдельном двухкомнатном домике. Здесь Марина создаёт два своих известнейших стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…» и «Идёшь на меня похожий…».
В Коктебеле начинается последнее предвоенное лето… Открывает новый сезон кафе «Бубны». Волошин читает книги о готике, ходит в горы. В его доме идут штукатурные и малярные работы; заканчивается отделка мастерской с антресолями и нескольких комнат на первом этаже. Летом 1913 года Дом Поэта примет свой канонический облик. А пока что, в течение мая, в «страну синих скал» прибывают В. Рогозинский, М. Латри, П. Лампси, В. и Е. Эфрон, К. Богаевский, который с нетерпением ожидает приезда художников К. Кандаурова и Ю. Оболенской, М. и Е. Фельдштейн (Ева Фельдштейн — тоже художница), Л. Фейнберг и, наконец, М. Кювилье.
Приехав к Волошину в третий раз, Л. Фейнберг сразу же заметил, что дом Макса сильно изменился: «За этот сезон Пра и Волошин сумели к дому с юго-востока пристроить обширный добавок — апсиду, сложенную из красивого, не до конца обтёсанного камня… Там новая, большая — в два этажа ростом, мастерская Макса… Голова Таиах стояла в самой глубине мастерской, как бы в более узком её ответвлении. Над ней — потолком, навесом — проходила галерея. И в этом своего рода узком и коротком полукоридоре или полугроте стояло два дивана друг против друга. И над ними, помнится, по обе стороны две цепи японских деревянных гравюр: Хиросигэ, Хокусай, Утамаро; ещё выше — знакомые мне оттиски и репродукции… грустный, томящийся демон Одилона Редона… и другие…»
Фейнберг поразил хозяина, прочитав ему наизусть все его пятнадцать сонетов «Corona Astralis». Однако и Макс приготовил свой сюрприз: им уже был закончен второй венок сонетов, «Lunaria», с которым он познакомил своих гостей. Слушателей, как вспоминает Фейнберг, «было немного, человек пять-шесть. Среди нас — Пра, Марина Цветаева, Эфроны-сёстры… В центре нашего круга, точнее — сегмента — спиною к окну — Макс: спокойно-тёмное лицо, плавно-волнистое море волос, спокойный голос, прекрасно выговаривающий — строка за строкой — прекрасные стихи… Мне никогда не приходилось слышать лучшего чтения стихов. Я слышал прекрасных чтецов, например, Яхонтова. Но значимость его декламаций коренилась именно в достоинствах чтения. Поэтому лучше всего было слушать у Яхонтова знакомые стихи, которые знаешь по памяти. Тогда — с особой силой можно было оценить изящное совершенство его трактовки.
Здесь совсем другое. Низкий баритон (отнюдь не бас) голоса Макса не акцентировал трактовки: выделял, обрисовывал образ, смысл каждой строки, и каждые четырнадцать строк слагались в чёткий, компактный, особый конгломерат. Сумма контрастов здесь ещё большая, чем в первом венке. В самом отношении к героине, Луне, скрыта несовместимость: любование противопоставлено антипатии, признание красоты — ужасу, гибель — надежде.
Поэт не выдвигал себя на первый план. Он оставался в тени. Особенно от меня — тёмным силуэтом на фоне светло-серого окна. И только голос, плавный, внешне спокойный, но внутренне певучий, отчётливо доносил образы, содержание каждой строки. При этом — поражающее, ничем не затемнённое, не поколебленное чувство стиха, совершенство просодии, совершенство самой поэзии…»
После чтения воцарилось молчание. Все были потрясены. Только Елена Оттобальдовна осталась верна себе. Похвалив «венок» в целом, она заявила, что с одной строчкой — всё же не согласна. Речь шла о втором сонете, завершающих «триолях»:
От ласк твоих стихает гнев морей,
Богиня мглы и вечного молчанья,
А в недрах недр рождаешь ты качанья,
Вздуваешь воды, чрева матерей
И пояса развязываешь платий,
Кристалл любви! Алтарь ночных заклятий!
В чтении Макса предпоследняя строка тогда прозвучала так: «И раковины делаешь пузатей».
— Как хочешь, Макс! «Пузатей» — недопустимо. Вносит комический элемент в очень строгие строки. Эту строчку ты должен изменить.
— Очень трудно! Может быть — «рогатей»?
— Нет, Макс! Звучит ещё смешней… «Пузатей» — в этом что-то мягкое. Не подходит к раковине.
— Но, мама… ведь это вправду так и есть. Раковины увеличиваются в связи с фазами луны.
— Однако, Макс, ты пишешь не научный трактат и не учебник. Стихи… у них другие законы. К ним другие требования. «Пузатей»… это недопустимо в твоём венке!
Как обычно, непреложный вердикт Пра… К её мнению склонялась и Марина Цветаева, правда, не выражая свою точку зрения столь явно. Сам же Фейнберг, автор этих заметок, промолчал, хоть и не был согласен с критикой, поскольку эпитет «пузатый» применяется и по отношению к твёрдым предметам: «пузатый комод», «пузатый самовар»…
В памяти молодого художника осталось увлечение Волошина хиромантией. «И большинство друзей Макса настойчиво просили его посмотреть линии их ладоней, „погадать“. Но Макс очень редко соглашался… Однако несколько раз я был свидетелем, как Макс, согласившись на просьбу, у кого-нибудь „смотрел ладонь“. И у меня создалось впечатление, что это для него не так просто, что такое „гадание“ для Макса связано со своего рода „медитативным напряжением“».
В своих стихах Макс не раз говорит о чтении линий руки. «Раскрыв ладонь, плечо склонила…» И ещё детальней:
Мой пыльный пурпур был в лоскутьях,
Мой дух горел: я ждал вестей,
Я жил на людных перепутьях
В толпе базарных площадей.
Я подходил к тому, кто плакал,
Кто ждал, как я… поэт, оракул —
Я толковал чужие сны…
И в бледных бороздах ладоней
Читал о тайнах глубины
И муках длительных агоний…
В отличие от Л. Фейнберга, М. Кювилье появилась здесь в первый раз. Она ходила в белой головной повязке, очень смущалась и, по-видимому, тосковала. Всезрячая и всепонимающая Елена Оттобальдовна утешала-урезонивала девушку: «Ну зачем вы его выбрали? Толстый, с проседью, в папаши вам годится! Любить никого не может». Но — сердцу не прикажешь… Майя участвует в общих начинаниях «обормотов», в компании с Максом, Богаевским, Кандауровыми, Нахман, Оболенской и другими совершает восхождение на Карадаг, любуется открывающимися видами, а её мать, обеспокоенная слухами о том, что девушка «шастает» по горам вдвоём с Волошиным, заклинает Макса (в письме, по-французски) «не компрометировать ребёнка». Но на характер коктебельской жизни трудно повлиять, тем более — извне. Поднимаясь к Сюрю-Кая на этюды вместе с Богаевским, Кандауровым и Оболенским, Волошин берёт туда и Майю, которая боязливо держится за его руку. Появляется она и в мастерской, во время работы художников. Однажды возникла с подсолнухом в руке. Вышла очень эффектная мизансцена, послужившая поводом для появления известного волошинского стихотворения:
Над головою подымая
Снопы цветов, с горы идёт…
Пришла и смотрит… Кто ты? — Майя.
Благословляю твой приход.
В твоих глазах безумство.
Имя Звучит, как мира вечный сон…
Я наважденьями твоими
И зноем солнца ослеплён.
Войди и будь. Я ждал от Рока
Вестей. И вот приносишь ты
Подсолнечник и ветви дрока —
Полудня жаркие цветы.
Дай разглядеть тебя: волною
Прямых лоснящихся волос
Прикрыт твой лоб, над головою
Сиянье вихрем завилось,
Твой детский взгляд улыбкой сужен,
Недетской грустью тронут рот,
И цепью маленьких жемчужин
Над бровью выступает пот.
Тень золотистого загара
На разгоревшихся щеках…
Так ты бежала… вся в цветах…
Вся в нимбах белого пожара…
Кто ты? Дитя? Царевна? Паж?
Такой тебя я принимаю:
Земли полуденный мираж,
Иллюзию, обманность… — Майю.
Майя Кювилье, очаровательная, несколько капризная девушка, непродолжительный мираж юности. В восприятии поэта она ассоциируется с Майей из индийской мифологии, воплощающей иллюзорность бытия, некую божественную грёзу. Символ Майи встречался в поэзии Волошина и раньше. В письме к М. Сабашниковой от 23 июля 1905 года он включил в эту мифологему «обманы рдяного человеческого дыхания, обманы воспалённых слов», окутывающие человека в городе. В письме к ней же от 10 сентября того же года Волошин называет Майей «цепь жизни», «тягу всего человеческого»: страдания любви, оковы чувства и чувственность, всё то, что он тогда готов был принять. В приведённом выше стихотворении поэт вновь истолковывает этот образ в индуистском ключе, понимая Майю «как мира вечный сон» — нечто желанное, манящее, недосягаемое, ускользающее…
Художница Юлия Леонидовна Оболенская в Коктебеле оказалась впервые в мае 1913 года, сразу же познакомившись с Еленой Оттобальдовной.«…в сафьяновых сапогах, в шароварах, с серой гривой, орлиным профилем и пронзительным взглядом. „Комнаты плохие, — отрывисто заявила она, — удобств никаких. Кровати никуда не годятся. Ничего хорошего. А, впрочем, сами смотрите. Хотите — оставайтесь, хотите — нет“. Мы остались». Знакомство с Волошиным получилось не менее оригинальным. Найдя на балконе сборник Клоделя, принадлежащий Юлии Леонидовне, Макс «с негодованием унёс его к себе, привыкнув, что бесцеремонные „обормоты“ постоянно растаскивали его ценную библиотеку. Когда я пришла выручать пропавшую книгу, он был очень смущён»: его предположение, что в России Клодель есть только у него, не оправдалось.
Поначалу Оболенской было немного не по себе. Но вскоре приехала её подруга, художница Магда Нахман, появился остроумный, находчивый Константин Васильевич Кандауров, театральный художник, организатор выставок, «московский Дягилев», как называл его Макс, и тут же начались розыгрыши, «пасквили на коктебельские темы», «концерты-кабаре», чтения стихов «на капитанском мостике и в мастерской», прогулки по горам, хождения на этюды — и вот уже художница «оказалась зачисленной в почётный „Орден обормотов“».
Естественно, велись разговоры о живописи и поэзии. Некоторые свои впечатления Ю. Оболенская записала, например, то, что Макс считал «цвет какой-то безусловной величиной, не изменяющейся ни от времени дня, ни от глаза индивидуального художника… По-моему, его взгляд — взгляд поэта, а не живописца, который, как ребёнок, все вещи видит в первый раз и не обязан знать, почему эта гора жёлтая, — ему достаточно, что она рассказывает его глазу жёлтым цветом. Это зрительное впечатление для него достовернее, чем вытекающая из знания мысль о связи красного цвета горы с её вулканическим происхождением…». При этом Юлия Леонидовна находила в Максе «совершенно очаровательную лукавую жизненность». Заинтересовали её и мысли поэта о том, что знания, «чтобы быть живыми, должны являться в ответ на запросы и возникать постепенно…».
В это время Волошин заканчивает статьи о художниках Сапунове и Сарьяне, пишет стихи, серьёзные и шуточные. Много внимания требуют и постоянно прибывающие гости, с которыми он совершает экскурсии и по земле, и по небу. Посетивший художника Михаил Редлих (тогда — студент, а впоследствии — врач) вспоминает: «Очень интересны были его „путешествия по звёздному небу“. Он очень хорошо знал множество созвездий… и рассказывал античные легенды, связанные со звёздным небом, — из египетской, ассирийской, греческой и римской мифологий… Как-то я спросил его, нет ли у него чего-либо по физике, по строению атома. Он мне тут же дал две книги Густава Лебона — „Эволюция материи“ (СПб., 1911) и „Эволюция сил“ (СПб., 1910). Позднее, беседуя с ним о прочитанном, я увидел, как широко и глубоко он осведомлён в этом, тогда новом, вопросе науки».
Впрочем, на «небесных материях» долго не зацикливались. Много интересного сулила и грешная земля. Работало артистическое кафе «Бубны» (сродни петербургской «Бродячей собаке»), где можно было собираться без всяких светских церемоний, читать стихи или просто дурачиться, повышая настроение и себе, и «нормальным» дачникам.
Посетители кафе или даже просто проходящие мимо не могли не познакомиться с «героями» здешних мест. Шаржированное изображение А. Толстого, а рядом — надпись: «Прохожий, стой! Се — граф Алексей Толстой!» И неподалёку: «Бесстыжий Макс — он враг народа. / Его извергнув, ахнула природа». (Стихи почти пророческие: Волошину попасть во «враги народа» не пришлось лишь по причине «своевременной» смерти.) Определённую пользу от подобного творчества получал и хозяин заведения — его ассортименту создавалась бесплатная реклама: «Мой друг, чем выше интеллект, / Тем слаще кажется конфект». Рекламировались и сами «Киммерийские Афины» с их «афинянками». Привлекал внимание набросок томной дамы, этакой гетеры в греческой тунике, который сопровождался весьма завлекательной подписью: «Многочисленны и разны / Коктебельские соблазны!»
Кто только не вкусил этих соблазнов… Художница Е. П. Кривошапкина, бывавшая в «Киммерийских Афинах» начиная с осени 1913 года вплоть до лета 1916-го, вспоминает, что уже шла война, а в коктебельском Доме Поэта продолжалась прежняя жизнь — колоритная, творческая, подчас «хулиганская». Наведывались в Коктебель уже получившие известность Осип Мандельштам (ставший там, по словам М. Цветаевой, всеобщим баловнем, окружённый «ушами на стихи и сердцами — на слабости»), Владислав Ходасевич, желчный, въедливый, ничего не прощающий, тонкий лирик, проницательный критик. По-разному сложатся их судьбы, а пока…
Пока же всех привечает волошинская мастерская, где всё так же загадочно улыбается Таиах…
— Макс, я немного ревную к твоей музе. — Это юная Марина Цветаева на мгновение застыла перед бюстом египетской царицы и метнулась к лестнице…
— При чём здесь Макс?! — пронёсся следом за ней Сергей Эфрон.
Молодой, но вальяжный Алексей Толстой нашёл забавное место в книге, прыснул от смеха… Здесь же вечно обижающийся на что-то Осип Мандельштам.
— Совершеннейшая чепуха и безвкусица, — вразумляет он свою собеседницу. — Прошу вас никогда больше не петь этот идиотский куплет про меня и «Крокодилу»!
— Как прикажете, Осип Эмильевич!
Мандельштам падает на диван, закинув руки за голову и бормоча ругательства… Рядом нервно жестикулирует Ходасевич… Распахивается дверь, впуская новых гостей. Объятия. Экспромты. Смех…
На посёлок опускается густая южная ночь. На небе чётко вырисовываются знакомые Максу созвездия.
— Господа… скорее, скорее… море горит! — восклицает кто-то из женщин.
Сад заполняется людьми, «ненормальные» дачники бегут на берег и застывают перед удивительным зрелищем: море действительно «горит», высверкивая жёлтыми и серебристыми всполохами.
— В «Бубны», господа!
Чей-то профессиональный баритон врывается в ночь, подхваченный хором:
По берегу ходила
Большая Крокодила,
Она, она Зелёная была!
В курорт она явилась
И очень удивилась.
Сказать тебе ль —
То был наш Коктебель!
Хор всё более азартно продолжает:
От Юнга до кордона,
Без всякого пардона
Мусье подряд
С мадамами лежат.
У чопорного дачного домика умолкшие «обормоты» останавливаются. Ходасевич запевает дребезжащим «козлиным» тенорком:
Привет тебе-е-е, приют свяще-е-нный…
Где светлый ангел обита-а-а-а….
Закашлялся. Сергей Эфрон подаёт сигнал, и округа оглашается дикими кошачьими воплями. С треском распахивается окно, и появляется голова с папильотками. Это хозяйка «нормальной» дачи, оперная певица М. А. Дейша-Сионицкая.
— Безобразие! Я буду жаловаться в Феодосию! Полицмейстеру!
Хохочущие «обормоты» продолжают:
Забралась она в «Бубны»,
Сидят там люди умны.
Но ей и там
Попался Мандельштам!..
Осип Эмильевич разворачивается и шагает в противоположную сторону… Обиделся…
— Осип, полно тебе! — кричит вслед гордому поэту Эфрон.
— Милые дамы! — даёт команду «Баритон».
Две юные балерины, воздушные и прекрасные, бегут за Мандельштамом, догоняют, падают перед ним на колени:
— Осип Всемильич! Вы у нас самый умный, самый талантливый, самый желанный!
Мандельштам смотрит куда-то за горизонт, потом обращает лицо к честной компании. Пора подключиться и Волошину:
— Господа! Вместо: «Люди умны» поём: «Под звуки многотрубны». Начали!
И хор с охотой исполняет:
Забралась она в «Бубны»
Под звуки многотрубны,
Но ей и там
Попался Мандельштам.
Все замолкают, вопросительно глядя на Осипа. Поколебавшись какое-то время, Осип Эмильевич в сопровождении юных сильфид нагоняет компанию.
Явился Ходасевич,
Заморский королевич,
Она его…
Не съела ничего.
Опустившись на колени, хохочущий Ходасевич ищет упавшее с носа пенсне:
— Господа, так и знайте: пенсне не найду — стихов читать не буду!
Все ползают в поисках пенсне. А пение между тем продолжается:
Она здесь удивилась
И очень огорчилась:
Она — ха-ха!
Искала жениха.
И — все вместе:
Максимильян Волошин
Был ей переполошен,
И он, и Пра
Не спали до утра.
Ходасевич в темноте спотыкается, и его подхватывают под руки. Слышно, как он смеётся и говорит, что уж если он упадёт, то не встанет и уж стихи читать точно не будет.
Общий хохот, шутки… А хор допевает последний куплет:
Ей скоро надоели
Все встречи в Коктебеле,
Она открыла зонт,
Поплыла в Трапезонд.
Вот уже и «Бубны». Знакомые «обормотские» художества. Необъятный мужчина в оранжевом хитоне и надпись: «Толст, неряшлив и взъерошен / Макс Кириенко-Волошин». А если перевести глаза выше: вершина Сюрю-Кая, на одной ножке стоит балерина: «Вот балерина Эльза Виль — / Классический балетный стиль» (кстати, балерина Мариинского театра). Было и назидательное: человечек в котелке, чёрном костюме со стоячим воротничком, при усах; под ним — устыжающее: «Нормальный дачник, друг природы. / Стыдитесь, голые уроды!»
…Молодые люди, местные и пришлые, и балующиеся стихами, и осмотрительно далёкие от них, сдвигают столы в угол, сооружая сцену. Пришедшие, уже в который раз, изучают стенную роспись. Да, владелец кафе, грек Синопли, внакладе не останется: «Как приятно в зной и стужу / Есть двенадцатую грушу». Или: «Желудку вечно будут близки / Варёно-сочные сосиски».
Тем временем на сцене — Владислав Ходасевич: белый лоб, чёрная прядь.
По вечерам мечтаю я
(Мечтают все, кому не спится).
Мне грезится любовь твоя,
Страна твоя, где всё — из ситца…
Горячо аплодирует «Баритон», а на возвышение уже взбирается Осип Мандельштам. Вскинув горбоносую голову, он читает:
Целый день сырой осенний воздух
Я вдыхал в смятеньи и тоске.
Я хочу поужинать, и звёзды
Золотые в тёмном кошельке!
И дрожа от жёлтого тумана,
Я спустился в маленький подвал.
Я нигде такого ресторана
И такого сброда не видал…
Тем не менее хлопают. Не принимают на свой счёт.
— Марина, ты прочтёшь что-нибудь? — спрашивает Макс у Цветаевой.
— Конечно, но только вместе с Асей.
Вспоминает Е. П. Кривошапкина: «Потом, стоя рядом плечо к плечу, Марина и Ася Цветаевы читали стихи Марины. Стихи, полные „колыбелью юности“, Москвой, обе юные и весёлые. После них читал Волошин. Для собравшихся здесь в большом количестве „нормальных дачников“ надо было читать о любви. И когда он закончил строками:
Люби его метко и верно —
Люби его в самое сердце! —
аплодировали много и громко. Сзади — чьё-то ехидное хихиканье и слова: „Сорвал-таки Макс аплодисменты“»…
На сцене — босоногие, воздушные балерины в ярко-алых туниках, и танец их — исступлённо-чувствен… Публике, судя по всему, понравилось…
Пока «ненормальные» киммерийцы развлекались с «гетерами», «нормальные дачники» тоже не дремали. То обстоятельство, что на коктебельском пляже «Без всякого пардона / Мусье подряд / С мадамами лежат», да ещё те и другие легкомысленно одеты, точнее, раздеты, смущало благонамеренных граждан. Главной ревнительницей пуританских взглядов на одежду и манеры слыла та же певица Большого театра М. А. Дейша-Сионицкая. Она всячески допекала и срамила «обормотов», подавала петиции в соответствующие инстанции, требуя их урезонить. «Представителем озорства, попрания всех законов, божеских и человеческих, упоенного „эпатирования буржуа“ был поэт Максимилиан Волошин, — вспоминает В. Вересаев. — Вокруг него группировалась целая компания талантливых молодых людей и поклонниц, местных и приезжих… Девицы из этой обормотской компании ходили в фантастических костюмах, напоминавших греческие, занимались по вечерам пластическими танцами и упражнениями. Иногда устраивались торжественные шествия в горы на поклонение восходящему солнцу, где Волошин играл роль жреца, воздевавшего руки к богу — солнцу… Устраивали кошачьи концерты представителям враждебной партии, особенно Дейше-Сионицкой». Что было, то было. Не случайно в письме к Ю. Оболенской поэт жаловался на то, что «неистовая Дейша» собирает «подписи среди крестьян и нормальных дачников под постановлением о том, чтобы выселить» их с матерью «из Коктебеля на вечные времена».
Это про неё, уже в 1917 году, Волошин написал довольно-таки злые, «крокодильи» куплеты:
Из Крокодилы с Дейшей
Не Дейша ль будет злейшей?
Чуть что не так —
Проглотит натощак…
У Дейши руки цепки,
У Дейши зубы крепки.
Не взять нам в толк:
Ты бабушка иль волк?
Ну а в предвоенное лето высоконравственная «Крокодила», будучи основательницей общества благоустройства дачного посёлка Коктебель, добилась разделения пляжа на отдельные участки, на границах которых были воздвигнуты столбы с надписями: «Для мужчин» и «Для женщин». Со свойственным ему свободомыслием Волошин выступил против купального произвола властей и замазал белилами указания на целомудренных «губернаторских столбах», как выразилась Ю. Оболенская.
История с «губернаторскими столбами» попала в газеты. Думается, есть смысл — для воссоздания колорита эпохи — привести здесь заметку «М. Волошин и исправник», опубликованную в петербургских «Биржевых ведомостях» 2 июля 1914 года: «С поэтом-модернистом Максимилианом Волошиным, прославившимся своим выступлением против И. Е. Репина, приключилась маленькая обывательская история.
Как известно, психология г. Волошина не мирится с какими-либо признаками человеческой культуры, поскольку она, например, является в форме сложных костюмов и т. д.
Нередко можно видеть целые группы голых мужчин бронзового цвета, в одних древнегреческих хитонах и венках на головах — то идёт Волошин с друзьями.
Исправник потребовал отделить места купаний мужчин и женщин и предложил тамошнему курортному обществу установить столбы с соответствующими надписями. Столб был установлен как раз против дачи М. Волошина. Тот, не вытерпев нововведения, замазал соответствующие места. Вмешались власти, и в результате Волошин привлечён теперь к ответственности за уничтожение знаков, установленных властью. Дело передано судье, а пока Волошин прислал объяснение исправнику:
„Против моей Коктебельской дачи, на берегу моря, во время моего отсутствия, обществом курортного благоустройства самовольно поставлен столб с надписью „для мужчин“ и „для женщин“. Самовольно потому, что приморская полоса принадлежит не обществу, а гг. Юнге, на это разрешение не дававшим. С другой стороны, распоряжения общества, членом которого я не состою, не могут распространяться на ту часть берега, которая находится в сфере пользования моей дачи. Не трогая самого столба, я счёл необходимым замазать ту неприличную надпись, которой он был украшен, так как, я думаю, вам известно, что данная формула имеет определённое недвусмысленное значение и пишется только на известных местах. Поступая так, я действовал точно так же, как если бы на заборе, хотя бы и чужом, но находящемся против моих окон, были написаны неприличные слова.
Кроме того, считаю нужным обратить внимание г. исправника, что зовут меня Максимилианом Волошиным-Кириенко, а имя Макс является именем ласкательным и уменьшительным, и употреблять его в официальных документах и отношениях не подобает“». (Уездный исправник М. Солодилов направил запрос о пляжном столбе «г-ну Максу Волошину, поэту-декаденту».)
Кстати, самого губернатора история с «губернаторскими столбами», судя по всему, не слишком задела. Тем более — губернаторшу. Однажды, по воспоминаниям Вересаева, она, будучи проездом из Феодосии в Судак, заехала пообедать к Волошину. А исправник Солодилов (тот самый) дежурил в это время у коляски. После отъезда своей подопечной Солодилов подошёл к поэту, взял его дружески под руку и сказал: «Максимилиан Александрович, вам тогда не понравилось, что я назвал вас Максом. Пожалуйста, называйте меня Мишей».
Этот редкий дар — умение сходиться с людьми, расположить к себе самые разные натуры, не держать зла в душе — в скором времени так пригодится Волошину…
Уже шла война — там, в Европе, а здесь, в Крыму, выясняли свои отношения «нормальные» и «ненормальные» дачники, не подозревая о том, что будет происходить на этих благословенных землях в недалёком будущем. А пока пляж, море и горы, несмотря на «губернаторские столбы», оставались общей территорией…
«Сквозь сеть алмазную зазеленел восток…» В предрассветной мгле по горной тропинке поднимаются трое. Их плечи оттянуты тяжёлыми этюдниками. Двое — худощавые мужчины, уже в годах, третья — молодая женщина. Это Богаевский, Кандауров и Юлия Оболенская. У всех голые до колен загорелые ноги, на Юлии — шаровары.
— Скорее, господа, — подаёт голос Богаевский, — сейчас взойдёт солнце, а нам ещё мольберты раскладывать!
Компания, взбодрившись, берёт с ходу очередной подъём. Оболенская скандирует в такт ходьбе:
Идут на этюды скелеты по руслу сухому реки,
Идут на этюды скелеты, и мерно стучат позвонки.
А над морем между тем взошло солнце. Коктебельская долина понемногу оживает. Высокий мужчина с измождённым лицом входит в море, ждёт, пока отхлынет волна, и набирает полное ведро камней. Это барон Каульбарс, безнадёжно заболевший «каменной болезнью». Впрочем, не он один. Практически все попадавшие в Коктебель проводили время в поисках необычных камешков, почитая за счастье i обрести своего «куриного бога» с дырочкой. Дома барон вываливает свою добычу на стол, внимательно изучает каждый экземпляр, затем несёт всё это обратно и вновь наполняет ведро. И так каждый день… На берег выскакивают двое юношей в купальных костюмах и начинают метать диск. Это два московских студента, которых иначе, как «дискоболами», никто не называет.
Выходят из дома и направляются куда-то в сторону «профиля Волошина» Марина Цветаева и Сергей Эфрон. Она, вспоминает Е. П. Кривошапкина, «одета так же, как и Оболенская, на загорелых мальчишеских ногах татарские чувяки. Ветер треплет её стриженые волосы. Невысокая, худощавая, широкая в плечах, она кажется мальчишкой, подростком. Но — серьёзен взгляд через пенсне, на руке широкий браслет с бирюзой… Так и ушли они из моей жизни в сторону Карадага… Были потом две-три мимолётные встречи в Москве, да были ещё письма, которыми мы обменялись с Мариной в трудный 1918 год. Тогда нам удалось кое-что узнать о наших близких, исчезнувших в океане революции и гражданской войны… О начале революции Волошин писал:
Шатался и пал великий
Имперский столп;
Росли, приближаясь, клики
Взметённых толп…
В том году толпы пока молчали, веселились „обормоты“…».
Не знать, не слышать и не видеть…
Застыть, как соль… уйти в снега…
Дозволь не разлюбить врага
И брата не возненавидеть!
«Годы перед войной я провожу в коктебельском затворе, что даёт мне возможность вновь сосредоточиться на живописи…» — читаем мы в «Автобиографии». Строго говоря — не только на живописи. Волошин задумывается об издании второй книги стихов, переводит своих любимых французов. Эти годы были ознаменованы для поэта серией удачных публикаций. В начале марта 1913 года в домашнем издательстве М. И. Цветаевой «Оле-Лукойе» выходит уже упомянутая книжка Волошина «О Репине». Автор предпослал ей статью из газеты «Утро России»: «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина». Была также включена глава, в которой описывался скандальный диспут в Политехническом музее. Спустя год появились ещё три книги Волошина: «Лики творчества. Том 1», куда вошли статьи художника о французской культуре (он планировал ещё три тома — о русской литературе, живописи и театре, но задумка тогда не осуществилась), а также в его переводе сборник рассказов Анри де Ренье «Маркиз д’Амеркёр» (московское издательство «Альциона») и книга «Боги и люди» Поля де Сен-Виктора (издательство М. и С. Сабашниковых, серия «Страны, века и народы»). Последняя включала в себя произведения на самые разные темы, объединяя миф и историю — Венера Милосская и египетские мумии, Аттила и Диана де Пуатье, Дон Кихот и Манон Леско… Отметим, что Волошин, по сути дела, был первым, кто открыл для России этих ярких французских писателей.
Не уклоняется Макс и от живого слова, кипящей вокруг него сегодняшней культурной жизни. В Феодосии, совместно с Мариной и Асей Цветаевыми, скрипачом Могилянским, певицей Бленар и другими, участвует в «Вечере поэзии и музыки» (15 декабря 1913 года). Поэт много размышляет о готике, приводит в порядок свои рукописи и, как всегда, принимает гостей. Среди них в сентябре 1913 года оказывается и М. В. Сабашникова. Маргарита Васильевна по-прежнему боготворит Штейнера, много рассказывает об эвритмии, о предстоящем строительстве Антропософского здания в Дорнахе. В отношениях с Максом — ничего ностальгического. Маргоря испытывает к нему и его матери нечто вроде жалости: эти люди ей по-прежнему чужды. Хотя, как оговаривается Сабашникова в письме к Петровой, она «глубоко тронута отношением Макса, вижу, какой он хороший, одинокий, но мне страшно трудно переносить его движения, его голос, его манеру рассказывать». Да, прошлое не вернёшь…
Маргарита Васильевна рада за Александру Михайловну Петрову — ведь та вступила в Антропософское общество. Кстати, и Макс вновь проявляет интерес к этой «науке религиозных откровений». Перечитывает книги Учителя. Ещё до приезда Сабашниковой он спрашивал Петрову по поводу «штейнеровских условий» для вступления в Общество. С тем же вопросом он обращается в Мюнхен к Т. Г. Трапезникову, искусствоведу и антропософу, и тот выказывает готовность выступить его «поручителем». Хотя, конечно же, Макса волнует не только Штейнер, не только Восток с его философией, не только Запад и французы. Ведь он — русский поэт; и для него «Пётр, Достоевский, Пушкин —…это вся Россия».
Вообще, в последнее время он много размышляет — о себе, о жизни, о литературе, о человеке. Ещё в декабре 1911 года Волошин писал матери: «…я каждого человека беру с его положительной стороны… стремлюсь в каждом… найти те стороны, за которые его можно полюбить… Только этим можно призвать к жизни хорошие черты человека, а не осуждением его недостатков». Он понимает, что «не нужно судить людей, что не нужно выбирать, а брать тех, кого приносит судьба» (примерно тогда же, из письма А. М. Петровой). Спустя два года Макс развивает эти мысли. В письме к Ю. Л. Оболенской от 8 ноября 1913 года Волошин говорит о своём стремлении к «принятию человека ради него, а не ради себя». Он пишет о «растительной», то есть органически присущей человеку радости, о чуде, о Христе, утверждает, что не мыслит смерти без воскресения. Может быть, мы в этом мире, рассуждает поэт, вовсе не для исправления сущего, а для того, чтобы «понять» — смысл вещей, природу собственного предназначения, некий общий, всех касающийся Замысел.
Новый год, год развязывания Первой мировой войны, начался для поэта весьма знаменательно…
Дорога на Коктебель. Тащится сквозь метель запряжённый двумя хилыми лошадёнками рыдван. Крутит, вертит, запорошивает резкий и злой норд-ост. Лошади скользят, рыдван того и гляди опрокинется, а в нём дружно хохочут Марина, Ася и Сергей. Эфрон придерживает объёмистую корзину… Продолжим словами Марины Цветаевой: «…так бы Макс нас и не дождался, если бы не извозчик Адам, знавший и возивший Макса ещё в дни его безбородости и половинного веса и с тех пор, несмотря на удвоенный вес и цены на феодосийском базаре, так и не надбавивший цены… Лошади на свежем снегу скользили… но чего не могут древнее имя Адам, пара старых коней и трое неудержимых седоков, которым всем вместе пятьдесят четыре года. Так или иначе, до заставы доехали. Но тут-то и начались те восемнадцать вёрст пространства — между нами и Максиной башней, нами и новым 1914 годом. Метель мела, забивала глаза и забивалась не только под кожаный фартук, но и под собственную нашу кожу, даже фартуком не ощущаемую». Шевелится снеговая стена спины Адама:
— Ну как, панычи, живы?
— Не знаю, не уверен, — отвечает за всех Эфрон.
— Ася?
— Да, Марина! Так будем ехать после смерти!..
Рыдван в очередной раз завалился…
— Ждать недолго, — резюмирует Сергей.
Седоки смеются. Метёт метель… «Холодно не было, нечему было, ничего не было, ехали голые весёлые души, которым не страшно вывалиться, которым ничего не делается… Ехала, впрочем, ещё веская достоверная корзина, с которой всё делается и которой есть чем вывалиться. Если мы тогда — все с конями, с повозкой, с Адамом — не сорвались в небо, то только из-за новогоднего фрахта Максиного любимого рислинга, который нужно было довезти… Не вывалил норд-ост, не выдал Адам. Дом. Огонь. Макс».
— Серёжа! Ася! Марина! Это невозможно. Это невероятно.
— Макс, а разве ты забыл:
Я давно уж не приемлю чуда.
Но как сладко видеть: чудо есть!
Пришлось, однако, откорректировать строчку!..
Нетопленый дом оживает. Воет чугунная печь. Хозяин ставит на стол чашки без ручек, кладёт ножи без черенков.
— Мама, уезжая, всё заперла, чтоб не растащили, а кому растаскивать? Собаки вилками не едят…
У Марины закружилась голова. Всё как будто бы реально — и в другом измерении: «Мы на острове. Башня — маяк. У Макса под гигантской головой Таиах его маленькие преданные часики. Что бы они ни показывали — правильно, ибо других часов нет. Ещё двадцать минут, ещё пятнадцать…» Под рукой у Макса старая, многочитаная Библия.
— Макс, давай погадаем на грядущий, 1914-й! Что нас ждёт?
Макс наугад раскрывает книгу, читает:
— «И явилось на небе великое знамение — жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд.
Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения.
И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим.
Хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать её младенца…»
Сергей зябко поёжился:
— Ничего себе, новогоднее предзнаменование…
Марина, глядя на огонь в печи:
— Красный дракон…«…Дабы, когда она родит, пожрать её младенца…»
И в этот миг стрелки под головой Таиах сошлись на двенадцати. С уютным мирным звоном соприкоснулись одна чашка с отбитой ручкой и три стакана…
— За 1914-й!
— За счастье!
Макс, глядя в никуда:
— За первый год, год начала…
— Начала чего, Макс?
Неожиданно — Ася:
— Макс, тебе не кажется, что как-то странно пахнет?
— Здесь всегда так пахнет, когда норд-ост…
Произносятся тосты под рислинг. За Новый год, за Коктебель, за благополучный норд-ост.
— А теперь, Марина, стихи!
Но тут из-под пола вырывается струйка дыма. «Сначала думаем, что заметает из-под печки. Нет, струечка местная, именно из данного места пола — и странная какая-то, лёгкими взрывами, точно кто-то, засев под полом, пускает дымные пузыри. Следим. Переглядываемся, и Серёжа, внезапно срываясь:
— Макс, да это пожар! Башня горит!»
Странно, но у Волошина «отсутствующее» лицо. Остальные засуетились:
— Внизу ведро? Одно?
— Да неужели ты думаешь, Серёжа, что можно затушить пожар вёдрами?
Но делать нечего. С двумя вёдрами и кувшином Сергей, Марина и Ася несутся к морю, возвращаются с водой, заливая лестницу… Туда и обратно. И ещё, и ещё…
…Неподвижный Волошин внимательно смотрит куда-то по ту сторону огня. Огонь в столовой. Пожар, охвативший города и сёла… Неслышно палят орудия. Кто-то падает. Блики огня. Пригнувшись к земле, пробирается одетый в военную форму Сергей Эфрон… На краю окопа под неприятельскими пулями неторопливо раскуривает папиросу Николай Гумилёв… Волошин смотрит в огонь… Горит храм… Гётеанум или Реймсский собор?..
Марина врывается в мастерскую. Макс как стоял, так и не шелохнулся.
— Макс, очнись! Ведь сгорит же! Твой дом не должен сгореть!
Кажется, первый проблеск жизни в глазах Волошина… А Цветаева с остальными — опять к морю… Обратно вверх по лестнице… Дальше — свидетельские показания Марины Цветаевой: «…молниеносное видение Макса, вставшего и с поднятой — воздетой рукой, что-то неслышно и раздельно говорящего в огонь.
Пожар — потух. Дым откуда пришёл, туда и ушёл. Двумя вёдрами и одним кувшином, конечно, затушить нельзя было. Ведь горело подполье! И давно горело, ибо запах, о котором сказала Ася, мы все чувствовали давно, только за радостью приезда, встречи года, осознать не успели». Как, впрочем, не осознали и того, что произошло позднее…
Под утро узнают (придёт печник), что печь от пола отделял вместо фундамента один слой кирпича. Ну а печник Василий произнесёт вещее: «Если в первый день Нового года был пожар, значит, весь год будет гореть».
«Ничего не сгорело: ни любимые картины Богаевского, ни чудеса со всех сторон света, ни египтянка Таиах, не завилась от пламени ни одна страничка тысячетомной библиотеки. Мир, восставленный любовью и волей одного человека, уцелел весь. Хозяин здешних мест, не пожелавший спасти одно и оставить другое, Максимилиан Волошин, и здесь не пожелавший выбрать и не смогший предпочесть, до того он сам был это всё, и весь в каждой данной вещи, Максимилиан Волошин сохранил всё».
Все заснули там, где их настигла усталость. Только Макс снова берёт Библию, раскрывает…
— «…И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю,
И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?
И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца.
…И дано ему было вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем…»
Макс задумчиво, скорее сострадательно смотрит на спящих гостей. Поднимает голову и… не может оторваться от взгляда, направленного откуда-то из вечности, загадочного взгляда Таиах. Египетский лик освещён багровыми всполохами огня…
Зима и весна пролетели, как всегда, заполненные творчеством и суетой. Макс продолжает размышлять над философией Штейнера: она «такая освободительная, всеобъемлющая, учащая любить и преображать жизнь». 15 апреля приходит открытка из Дорнаха от Т. Г. Трапезникова: «Приезжай — здесь очень хорошо». Спустя два дня М. В. Сабашникова пишет оттуда же А. М. Петровой, замечая вскользь: «Очень жду Макса». Волошин и сам планирует уехать в Дорнах в июле и пробыть там до осени; его влечёт «мечта о великой коллективной работе»… Он хочет принять участие в строительстве Гётеанума, как Штейнер — последователь натурфилософии Гёте — назвал храм Святого Иоанна, цель которого, если брать общий смысл, заключалась в единении религий и наций. Душой строительства этого «свободного университета науки о духе» был сам Штейнер, предназначавший его для оккультных мистерий и эзотерических проповедей. Антропософский храм должен был стать «отпечатком звучащего в нём Слова».
Последние мирные недели… Но что-то зловещее, невидимое уже сгущалось в воздухе. В психологической атмосфере «тяжёлого лета 1914 года чувствовалось нарастание катастрофы, — напишет художник в статье „Скрытый смысл войны“ (1919–1920), — и не в фактах, не в событиях, а в той сосредоточенной духоте, которая бывает только перед грозой… Семейные драмы, пожары, смерти детей, распады многими годами спаянных союзов, шквалы неожиданной любви — всё это прошло в течение нескольких летних недель через жизнь нашего круга, до тех пор чуждого этим переживаниям». Ему вторит А. Толстой: «Легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошли всякие размеры… по всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи… Было похоже, что к осенним дождям готовится какая-то всеобщая расплата и горькие слёзы». Сам писатель безнадёжно влюбился в балерину М. П. Кандаурову, нежные чувства к которой питал и журналист А. В. Эйснер, также живущий у Волошина. Алексей Николаевич совсем потерял голову, ходил с револьвером, намереваясь застрелиться. Дядя балерины К. В. Кандауров переживал бурный роман с Ю. Л. Оболенской. Марина и Ася Цветаевы, согласно письму той же Ю. Оболенской к М. Нахман от 9 июля 1914 года, «перессорились со всеми дачниками, с Максимилианом Александровичем, дерзили, грубили, создавали тьму сплетен».
Сам Волошин воспринимал все эти душевные выверты и разрывы привычных связей в качестве «предвестников больших народных катастроф», полагая, что теперь следует ждать войны либо революции. И дождались: 15 июня в сербском городе Сараево прозвучали роковые выстрелы: наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена София фон Хохенберг были убиты членом террористической организации «Молодая Босния». До начала Первой мировой войны оставался ровно месяц… Ну а тогда, в июне, получив два письма из Дорнаха от Маргариты Васильевны, Макс Волошин начинает собираться в дорогу. Ему хочется резко сменить обстановку, поскольку от этого лета, как напишет он позднее Ю. Оболенской, «осталось глубокое сознание своего бессилия. Мы все точно в каком-то предрассветном сне томились и не могли проснуться…».
Елена Оттобальдовна относится к предстоящему отъезду сына, мягко говоря, без энтузиазма: «К Штейнеру едешь… думаешь лучше стать — не станешь. Ты весь — ложь и трусость. И не пиши мне, пожалуйста. Раньше я говорила тебе, что для меня в жизни был только ты. Теперь ты больше для меня не существуешь. Понял?» Да уж, воистину: «…твой каждый день Господь / Отметил огненным разрывом» («Материнство»). 8 июля поэт уезжает в Феодосию, а оттуда — в Севастополь. 9 июля Ю. Оболенская пишет из Коктебеля М. Нахман в Бахчисарай: «Какое ужасное для всех лето…У Максимилиана Александровича назрела страшная драма с Пра: он уехал, быть может, на много лет из России и с Пра не простился. Она не хотела его видеть». В газете «Утро Москвы» появилась ехидная заметка: «Очередной трюк поэта Волошина».
Утром 10 июля поэт прибывает в Одессу, едет поездом в городок Рени на Дунае, садится на пароход «Бессарабец» и плывёт до румынского города Галаца. Далее — городок Брассо (по-румынски Брашов, у подножия Трансильванских Альп), оттуда в переполненном поезде — на Будапешт. «Над равнинами Венгрии пылал тихий алый вечер, и первый серп с правой стороны». 12 июля Австро-Венгрия, использовав в качестве предлога сараевское убийство, разрывает дипломатические отношения с Сербией. А уже 13-го, вспоминает поэт, «встречались воинские поезда, переполненные солдатами», направляющиеся к русской границе. В Будапеште, оставив чемодан в гостинице, Волошин побежал осматривать город. Всюду — возбуждённые толпы народа, знамёна и барабаны, крики. Быть беде?.. 15 июля, прибыв в Вену, поэт узнаёт из немецкой газеты о том, что Австро-Венгрия объявила Сербии войну.
Ну, вот и всё. Обратной дороги нет. Обменять рубли на гульдены невозможно, «русские деньги не имеют больше курса». Библиотека Альбертина, где Волошин собирался поработать над книгой «Дух готики», закрыта. Мирное время кончилось. Правда, в Мюнхене, куда Макс прибыл спустя пару дней, работали художественные выставки, функционировало «немецкое варьете», но всё это уже не могло поднять настроение: 17 июля в России была объявлена всеобщая мобилизация.
Вместе с тем поэт приближается к своей цели. 18 июля в полупустом вагоне он приезжает в Базель, а ещё через час оказывается в Дорнахе, в то время как за его спиной «обрушивались все мосты и захлопывались все пройденные двери». А на Волошина вдруг нахлынули ностальгические воспоминания. Ведь это всё «этапы путешествия с Маргорей из Парижа. И Базельский вокзал, где мы прощались летом 1905 года. И я уезжал в Париж по Дорнахской долине, не зная, что ещё будет. Мой весь скептицизм действительно погас. Я чувствовал себя одним из нечистых животных, запоздавших и приходящих в ковчег последним».
…И кто-то для моих шагов
Провёл невидимые тропы
По стогнам буйных городов
Объятой пламенем Европы.
Уже в петлях скрипела дверь
И в стены бил прибой с разбега,
И я, как запоздалый зверь,
Вошёл последним внутрь ковчега —
(«Под знаком Льва», 1914)
ковчега, то есть Иоаннова здания, международного центра антропософского движения.
Итак, «Дорнах — тишина, луга, деревья, холмы». Даже не город — «типичная швейцарская деревня, соседняя с Арлсгеймом. Отдельные швейцарские домики, разбросанные среди лугов и рощ, по которым проходили сельские дороги. Внизу по долине проходила железная дорога, здесь наверху шёл трамвай в Базель. Центром всех антропософов было „капище“, где встречались за едой все представлявшие воюющие страны Европы». Трапезников его уже ждёт. Они вместе направляются к Маргарите. И потом, пишет Волошин, «мы с Аморей по тёмным лугам и тропам, с детской колясочкой, идём за моими вещами на вокзал и везём их вдвоём обратно». Похоже на идиллию… Хотя, конечно, ничего подобного. «Здесь есть один человек, который очень волновался твоим приездом», — говорит Маргарита. Выясняется, что это Йозеф Энглерт, немецкий инженер и архитектор, астроном и антропософ, главный строитель Иоганнес-Бау (Иоаннова здания), влюблённый в Маргорю. «Но теперь он успокоился, увидав тебя, — продолжает Маргарита Васильевна. — Он не верил мне, когда я говорила, что мы давно уже не муж и жена… Он удивительный человек».
Но «удивительные люди» представляют здесь и Россию. Помимо Трапезникова, это Андрей Белый со своей женой Асей Тургеневой. Ася (Анна Алексеевна) — художница-гравёр; её сестра Наталья Алексеевна Поццо также имеет отношение к живописи. Вот-вот должен появиться Михаил Иванович Сизов — переводчик и критик, сотрудник издательства «Мусагет». Ожидается приезд О. Н. Анненковой, переводчицы, кузины Б. Лемана, знакомой Волошина по Петербургу, а также подруги Е. А. Бальмонт — Т. А. Полиевктовой…
Когда Волошин был у Маргариты, туда же пришёл Андрей Белый с сёстрами Тургеневыми. Разговор, естественно, идёт вокруг начавшейся войны. Участвующие в строительстве Антропософского храма принадлежат к разным странам и по-своему отзываются на происходящие события. Какая-то дама, по словам Аси Тургеневой, заявила: «Всё-таки я рада, что наш немецкий воздушный флот сильнее всех». Да, многие здесь «теряют деликатность, но их надо ставить на место. Это всегда производит хорошее впечатление». Вмешивается её муж Андрей Белый: «Но нехорошо, что ты сама внутренне закипаешь. Я видел». Сабашникова: «Она сама со мной говорила о роли славянства. В духовном мире германский дух жаждет обняться со славянским, а в мире физическом это выражается войной». Ася: «Да, но он принимает роль славянства, как колыбель Шестой расы, под гегемонией Австрии. Под властью же России ничего не выйдет».
Ночью Волошин прогуливается с Белым. В апреле 1907 года Макс писал о его лице: «В Андрее Белом есть та же звериность (что и у Брюсова. — С. П.), только подёрнутая тусклым блеском безумия. Глаза его, точно так же обведённые углем, неестественно и безумно сдвинуты к переносице. Нижние веки прищурены, а верхние широко открыты. На узком и высоком лбу тремя клоками дыбом стоят длинные волосы…» (что вызывало ассоциации с антихристом). А что же теперь? Макс всматривается в своего старого знакомого. Лицо как будто гармонизировалось; сейчас оно одухотворено верой в объединившее всех Дело: «Ты поздно приехал. Какое удивительное богатство, незаслуженное, мы тут получили. Доктор строит из циклов удивительное здание. Что остаётся недоговорённым в одном, находит ослепительные разрешения в другом. Он ведёт нас поразительными мирами».
19 июля Волошин вместе с Энглертом идёт осматривать Иоганнес-Бау. Инженер поэту нравится: в синей куртке, с добрыми, кажется, тоже синими глазами за стёклами очков. С ним легко. А вот и само здание. Черепица на солнце горит металлическими бликами. В тени же купол кажется сизо-эмалевым. Внутри ещё много лесов. «Всходим наверх по очень крутым мосткам. Тут выясняется сразу сила капителей и архитрава. Они высечены в громадных толщах дерева, которые образуются как фанера, и склееных вершковых досок толщиной в несколько аршин». Стиль модерн, смущавший на фотографии, — «это только грубые бетонные отливы, которые ещё будут обрабатываться, и округлости (исключая сами просветы) будут делиться на грани и плоскости». Макс обращает внимание на то, что в общем плане «есть движение уха, раковины, это точно вбирающие губы моллюсков — снаружи, а внутри — чёткий кристалл архитектуры».
В античной архитектуре, как полагают исследователи, «аккумулировались естественные силы, она была алтарём природы». Вот и Рудольф Штейнер попытался «выразить себя, свой духовный мир через архитектуру и таким образом вернуться к природе». Он считал, что построенное сооружение — это только внешняя форма, так как настоящее здание — это то, что формируется в процессе его возведения. Содержание «нового» строительства он связывал с «новым» импульсом. Гётеанум должен был выражать движение, заключающееся в его форме. Штейнер утверждал: «Здание — это орган, при помощи которого Бог может общаться с человечеством».
Первый Гётеанум представлял собой совершенно оригинальное для своего времени архитектурное сооружение. Здание было закончено уже в 1915 году и «состояло из двух цилиндрических объёмов разного диаметра, перекрытых взаимопроникающими, взаимосвязанными разновеликими куполами. Конструктивный каркас, фасады и интерьеры были целиком выполнены в дереве. Сооружение общим объёмом шесть тысяч кубических метров имело бетонный первый этаж и уже тогда выразительно продемонстрировало художественно-образные возможности бетона» (сборник «Архитектура и антропософия», 2001).
В 1922 году здание первого Гётеанума сгорело, но уже в 1925–1928 годах на том же месте был возведён Гётеанум второй. Впрочем, не будем забегать вперёд. Вернёмся к пребыванию М. Волошина в Дорнахе и задержимся на той идее, которую сам Штейнер вкладывал в замысел строительства Антропософского храма, воспринимаемого им как «лаборатория духовной жизни и творчества будущей Европы».
В Дорнахе, считает он, была сделана попытка перевода «геометрических, метрических и симметрических форм в органические, заключающие в себе органическую сущность. Однако речь шла не о натуралистическом копировании каких-либо организмов, а о постижении естественного творческого принципа природы. И если можно рассматривать опоры и балки как истинные архитектурные формы, а сущность готики видеть в стремлении к крестовым сводам и т. д., точно так же можно проникать и в сущность внутренней формы, формотворчества природы, которое присутствует в органическом формообразовании… То, к чему мы стремились, можно выразить следующим образом: мельчайшая деталь в величайшей взаимосвязи форм должна мыслиться только в присутствующем ей естественном положении; она должна находиться на предназначенном для неё месте.
…Творчество развивается по тем же внутренним законам, по которым строится наша речь, играются мистерии и ставятся эвритмические спектакли. Всё, что может быть выражено словами, представлено в эвритмии или мистерии, должно звучать или восприниматься в зале так, чтобы стены и их роспись были частью самого спектакля, а зрители чувствовали себя его участниками. Каждая колонна должна провозглашать истины антропософской духовной науки. Именно потому, что одновременно является наукой, искусством и религией, антропософски ориентированная духовная наука должна создать свой собственный архитектурный стиль, независимый от всех прочих стилей.
…Теперь здание построено. Его формы словно вырастают из холма. Поэтому нижняя часть здания выполнена из бетона… На горизонтальной террасе бетонного цоколя высится деревянная часть здания. Она состоит из двух взаимопроникающих цилиндров, завершающихся двумя неполными полушариями, которые словно перетекают друг в друга по дуге, замыкая пространство большого зрительного зала и пространства зала эвритмии и мистерий. Посередине расположен подиум для оратора». Ожидаемый «переход из сверхчувственного мира в чувственный, который совершается на глазах у тысяч зрителей и слушателей, сидящих здесь, с одной стороны, и, с другой стороны, сообщение со сверхчувственными мирами — как единое целое, воплощённое в ощущение, — нашли своё выражение именно в двухкупольном сооружении в Дорнахе».
Особую роль надлежало сыграть норвежскому шиферу. «Теперь он сверкает на двух куполах, и возникает ощущение, что этот зеленовато-серый блеск, отражающий солнечный свет, безраздельно принадлежит природе. И мне кажется, он даже усиливает сам солнечный свет, его значение в этом исключительном ландшафте; на его месте и должно было возникнуть нечто выдающееся, требующее обновления духовной жизни, всех наук, в определённом смысле — новое искусство».
19 июля 1914 года Германия объявляет войну России. Совершив утром осмотр Иоганнес-Бау, Волошин по своему обыкновению предпринимает длительную прогулку по окрестностям. Его, в частности, привлекают развалины старинного замка на одном из холмов Дорнаха, откуда, кстати, открывается прекрасный вид и на строящийся Антропософский храм… Душа поэта испытывает и радостные взлёты, и тяжёлые потрясения. Макс глубоко переживает убийство Жана Жореса, руководителя Французской социалистической партии, о чём ему сообщает А. Белый. Волошин был когда-то на одном из выступлений Жореса и с тех пор ощущал «какую-то совсем иррациональную любовь к этому человеку».
Вечером 20 июля Макс посещает занятия эвритмией у Т. В. Киселёвой. Он уже знает, что эвритмия — это система пластических движений под музыку, разработанная Штейнером, своеобразный духовный танец, выражающий внутреннюю форму слов, телесно-жестовая иллюстрация гласных и согласных. «Усталость и боль в ногах несколько уменьшаются от этих движений. Но я еле добираюсь до дому».
21 июля Германия объявляет войну Франции и Бельгии. Энглерт приносит весть об осаде Либавы и вторжении в Люксембург. У всех на душе тревожно. Что будет, если военная кампания приблизится к Дорнаху?.. Как защитить храм?.. Наконец-то в Дорнах возвращается Штейнер, уехавший в день приезда Волошина. И вот их встреча.
— Вы приехали, господин Волошин, но уехать вы уже не сможете.
— Я приехал для того, чтобы остаться.
Макс понемногу втягивается в работу: начинает обтёсывать фрагмент деревянного архитрава. Но руки пока что плохо слушаются. Проработав полтора часа, он отправляется немного побродить, потом навещает М. Сабашникову, которая опять нездорова. «Говорим о неверности всей жизни и страхе, который вызывает в ней любовь Энглерта. После меня ставят на работу, и я чувствую, что начинаю привыкать к ней и осваиваться. После работы иду на эвритмию. Киселёва начинает раздражать своими разговорами и спорами. Но вчерашней усталости больше нет». И всё же боль в ноге даёт о себе знать: «Не хожу, а ковыляю… С утра мы погружены в работу, и ровный стук молотков по дереву мешает думать. Руки привыкают к долоту, но устают. Странное изнеможение в воздухе. Передают слова Доктора, что он всё настаивал, что храм должен быть окончен к 1 августа. Задержка произошла благодаря ошибке архитектора Шмитта». Похоже Штейнер не ожидал, что начнётся война: «Всё-таки я не думал, что это наступит так скоро. Положение Европы очень скверно». Непонятно, как теперь будет продолжаться строительство, если в силу создавшегося положения нельзя будет получать ни стройматериалов, ни денег из банков…
Три дня Волошину пришлось просидеть дома, ставя припарки на ногу и заполняя время работай над эскизами. Именно тогда, в Дорнахе, он начал писать пейзажи акварелью по памяти. В дальнейшем он будет совершенствовать этот метод. А пока что тревожные настроения сгущаются. Штейнер распорядился, чтобы все собрали необходимые вещи и были готовы в случае необходимости собраться в Здании, а оттуда уходить в горы.
Французское наступление на Верхний Эльзас, столь успешно начатое, захлебнулось. Немцами взят Льеж. Ведутся бои при Альткирхе и Мюльгаузене, от которых отброшены французские войска. Наступают «дни тревоги» из-за опасности «прорыва швейцарского нейтралитета». К тому же Макс не получает вестей из России; газеты сюда не доходят. «Что делается в Коктебеле? — пишет он Оболенской в Петроград (кстати, Волошин никогда не согласится с переименованием города. — С. П.). — Что мама?» Единственное достоверное ощущение здесь — канонада: «Только канонада, особенно по ночам, когда сторожишь Бау, напоминает о войне». Однако возвратившийся с границы Энглерт объят ужасом: он говорит, что за эти дни в близлежащих окрестностях было убито около 22 тысяч человек.
Штейнер пытается поддерживать спокойствие и дисциплину. «Здесь, среди природы, его фигура кажется маленькой и странно чёрной: чёрный сюртук, чёрная плоская широкополая шляпа, пыльное лицо». Он долго молча ходит между беседующими группами и потом говорит: «Идите все по домам и ложитесь спокойно спать. А главное, не говорите ни о каких слухах, ни о том, что кто-то распускает ложные слухи». Главное, по словам Доктора, «мир должен быть в нас».
Волошин работает «под сводами малого купола». В свою смену, ночью, поднимается наверх нести вахту. Наблюдает за тем, как луч сильного прожектора бродит по горам. В минуты простоя ощущает тоску, пребывает «в каком-то тупом состоянии». От минорных настроений спасается рисованием. Выслушивает излияния Белого: «Доктор осыпал нас такими сокровищами. Он проливает на нас водопады…» (и в голосе те же высокие ноты — «взвизги серафимов»), Волошин читает «Мистерии» Штейнера по-немецки. Просит Учителя дать ему «личные упражнения»; тот относится к просьбе поэта сочувственно… Тем временем французы переходят в новое наступление, что вызывает душевный подъём — не только во Франции, Бельгии. Швейцарии, но и в России. А. Герцык в письме А. Петровой от 17 августа сообщает, что она счастлива тем единодушием и «благородным подвигом», который охватил всю Россию. Она рада за Волошина. Скоро он будет в Париже, начнёт «писать корреспонденции или поступит во французскую армию».
Но Макс далёк от подобных намерений, особенно по части армии. Увлечённый общими настроениями, царящими в Дорнахе, он воспринимает Храм как единое божественное тело, олицетворяющее разодранную «враждебными титанами» Европу. Ведь эффект строительства и заключался в том, что оно осуществлялось руками людей, представлявших разные страны, разъединённые войной.
Свои впечатления от этого грандиозного начинания М. Волошин выразил в статье «Скрытый смысл войны»: «Огромное недостроенное здание невиданной архитектуры, с колоссальными залами под сферическими куполами, всё обвитое лесами и сходнями снаружи и внутри, на монументальных каменных террасах, с обширными подземельями, ходами, коридорами, круговыми лестницами, напоминающими ушные раковины моллюска… здание, как бы втягивающее в себя и в себе преобразующее душу и память посетителя… И когда одинокому и потерянному, с малым сторожевым светильником в руке, приходилось бродить по лабиринтам этих фантастических снов, не снившихся Пиранези, обращая взгляды к тёмному, пылающему окоёму Рейна, то никогда в жизни не чувствовалась с такой полнотой внутренняя разодранность единой плоти Европы, разрываемой братоубийственной, междоусобной войной».
…В эти дни не спазмой трудных родов
Схвачен дух: внутри разодран он
Яростью сгрудившихся народов,
Ужасом разъявшихся времён.
В эти дни нет ни врага, ни брата —
Все во мне и я во всех. Одной
И одна — тоскою плоть объята
И горит сама к себе враждой…
(«В эти дни», 1915)
30 августа 1914 года в сражении на реке Марне французские войска наносят чувствительное поражение немцам; 11 сентября Папа Римский заявляет решительный протест кайзеру Вильгельму в связи с разрушением в результате германских бомбардировок Реймсского собора; 16 октября Турция без объявления войны России затевает масштабную провокацию на Чёрном море: её корабли обстреливают Одессу, Феодосию, Новороссийск; 23 октября Великобритания и Франция объявляют войну Турции…
«Разодранный» дух Волошина не вмещает в себя эти события: «Реймс — это совсем нестерпимо!» А уж как больно за родную Феодосию… Какой ужас, что Богаевского «взяли на войну»! Да, он здесь, вдали от всеевропейского кошмара и абсурда, по своей воле; но «на душе смутно, жутко и беспокойно». Поэт вместе с голландской художницей Ван Дрей работает над оформлением занавеса для штейнеровских мистерий, но удовлетворения не получает, находя живопись своей «ясновидящей» напарницы «в высшей степени полуграмотной». Догматизм последователей Штейнера его порой раздражает. Макс писал Ю. Оболенской: «Я принимаю целиком самого Штейнера, но очень плохо принимаю общество и часто делаю из слов его совсем другие выводы». Да, ещё до приезда в Дорнах, он чётко разграничивал Учителя и учеников: «Протест больше против штейнеристов, в которых я видел людей, „изнасилованных истинами“, чем против него самого…» Куда больше радости приносит Волошину самый будничный, подчас тяжёлый труд бок о бок с англичанами, немцами, французами, итальянцами, американцами, скандинавами, сербами…
С самим Штейнером общение всегда плодотворно, мысли и советы Доктора не только оригинальны, но и эффективны. В них, считает Волошин, заключена какая-то целебная сила. Макс поведал Учителю о своих самоощущениях: в нём угасает чувство любви, он холоден. Штейнер внимательно выслушал поэта и написал для него на листке текст медитаций — для утра и для вечера.
— Проделайте это в течение года — всё пройдёт.
— Я чувствую, что мои мысли отравлены эротизмом.
— Не следует бороться с этим при помощи аскетизма — это только усиливает болезнь. Представьте, что вы идёте по улице. Представьте себе, что над вами идёт другой человек (он указал рукою высоко над шеей — там, где, очевидно, витают мысли). Смотрите на себя его глазами вниз.
Зашёл разговор и о живописи. Штейнер сказал: «Я внимательно просмотрел ваш альбом. В ваших рисунках есть личность. Они не похожи на то, как теперь рисуют. Они сделаны не с натуры, а изнутри». Он изобразил на бумаге некую схему, в которой присутствовали «субъект», «объект», «форма» и «движение», а также некие дуги, наклонные и прямые линии. «Вам надо стараться углубить внутреннюю область видения. Писать из эфирного плана. От форм перейти к движению».
Что ж, не случайно Ася Тургенева, кстати, троюродная внучка великого писателя, характеризуя Учителя, отмечала: «Доктор Штейнер должен был изыскать для беседы с нами время, которого фактически не было. Тихое человеческое тепло, всё, что исходило от него, было переживанием того, что он знает тебя, знает твою глубочайшую сущность — во времени и в вечности, знает твою судьбу с её добром и злом. Об этом свидетельствовало то, как тепло он относился к твоему существу, протягивая руку, помогая тебе прийти к самому себе; всё это потрясало до глубины души».
Как уже не раз отмечалось в нашем повествовании, потрясён был «до глубины души» Штейнером, его лекциями, мистериями и экспериментами и её муж Андрей Белый. «Инопланетный гастролёр» или, по выражению американского ученого Д. Мальмстада, «исследователь неведомых земель обретённой реальности», назвал «антропософский» период своей жизни (наиболее интенсивный в 1912–1916 годах) более богатым, «чем вся жизнь „до“ и вся жизнь „после“ (в событиях внутренних и странных)». В «Материале к биографии (интимном)» Белый вспоминает о своих случаях «выхождения из себя (когда я, не засыпая, чувствовал, как выхожу из тела и нахожусь в астральном пространстве)» (январь 1918-го), ощущения себя «точно беременной женщиной, которой надлежит родить младенца… „Я большое“…»
В своих записях от 30 декабря 1913 года Андрей Белый вспоминает, что на лекциях Штейнера об «„аполлоновом свете“ произошло чудо: мне показалось, что сорвался не то мой череп, не то потолок зала и открылось непосредственно царство Духа: это было, как если бы произошло Сошествие Св. Духа; всё было — свет, только свет… когда я двинулся с места, я почувствовал как бы продолжение моей головы над своей головою метра на 1 ½, и я чуть не упал в эпилепсию… Духовные миры как бы опускались на нас… весь день и всю ночь длились для меня духовные озарения…». Белый и в дальнейшем будет пытаться зафиксировать символы своих «духовных узнаний», зарисовать «жизнь ангельских иерархий на Луне, Солнце, Сатурне в связи с человеком», видя в этом человеке себя и воспринимая «иерархии» как «звучащие образы».
Разумеется, далеко не все принимали Штейнера и его антропософию столь восторженно-экзальтированно. Совершенно равнодушен был к ней Александр Блок, столь близкий одно время Андрею Белому. Чем дальше — тем больше становился в оппозицию к этой системе Вячеслав Иванов. Резко отошёл от Штейнера его бывший приверженец Эллис. Вышла из Антропософского общества и А. М. Петрова. Старинная знакомая Макса А. В. Гольштейн вообще недоумевала, как может Волошин «в такой страшный момент истории человечества заниматься живописью… да ещё украшая „храм“ шутовской религии». Но при всём при том несомненно права Н. К. Банецкая, которая в предисловии к «Воспоминаниям о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума» А. А. Тургеневой, впервые изданным на русском языке только в 2002 году, утверждает, что очень разных людей, не только поэтов и мыслителей, влекло к Доктору самое глубокое и сокровенное: «жажда обрести Христа, от которой неотделимо стремление каждого из них прийти к себе самому, под всеми социальными и условными оболочками найти-таки своё подлинное „я“».
Р. Штейнер продолжает в Дорнахе активную работу и в военное время. Он выступает с лекциями: «Оккультное чтение и оккультное слушание», «Рождение Христа внутри нас», «Импульс трансформации для художественной эволюции человечества», «Художественный и моральный опыт», а также с другими, объединёнными в цикл: «Искусство в свете мудрости мистерий». При этом, вспоминает А. А. Тургенева, «Доктор Штейнер старался указать нам в лекциях на те силы, которые стоят за историческими событиями…».
«Исторические события», а также «стоящие за ними силы» не дают покоя и Волошину. Но как он, поэт и художник, может на них повлиять?! По крайней мере он может занять свою, особую позицию в творчестве, пусть кого-то шокирующую, он может силою слова отстаивать принципы религиозного пацифизма. «Эта работа, высокая и дружная, бок о бок с представителями всех враждующих наций, в нескольких километрах от поля первых битв Европейской войны, была прекрасной и трудной школой человеческого и внеполитического отношения к войне», — обобщает поэт свой «дорнахский» опыт в «Автобиографии». Эта «школа» отразилась в стихотворениях, которые составят сборник «Anno Mundi Ardentis. 1915» (1916) — «В год пылающего мира». Ощущения поэта выражены в четырёх строчках:
Один среди враждебных ратей —
Не их, не ваш, не свой, ничей —
Я голос внутренних ключей,
Я семя будущих зачатий.
(«Пролог», 1915)
Пребывание Макса в Дорнахе подходит к концу. Его здешняя «школа» завершена. «Университеты» останутся для А. Белого, А. Тургеневой, М. Сабашниковой и других. Волошина, как всегда, тянет в Париж. Остановиться можно будет у Бальмонта. «Здесь одиночество на народе, — пишет он из Дорнаха Ю. Оболенской 25 декабря 1914 года, — …и Бес уныния часто навешает». А там — газеты, которые, как правило, «получаются», ну и вообще — дыхание времени. Да и Академия Коларосси оповещает о начале занятий. Что поделаешь — такой вот он, и пусть кто угодно осуждает… Без живописи он не может даже в период исторических катаклизмов.
Волошин при этом отнюдь не бесстрастен. Боли человечества, судороги мира он как бы вбирает в себя, чувствуя свою ответственность — поэта, мыслителя, гуманиста — за происходящее, как и своё бессилие:
В эти дни безвольно мысль томится,
А молитва стелется, как дым,
В эти дни душа полна одним
Искушением — развоплотиться.
(«В эти дни»)
В растревоженной после революции 1905 года России по-разному относятся к войне, что, может быть, наиболее ярко сказывается в литературной среде. Николай Гумилев добровольцем уходит на фронт, где складываются почти романтические строки:
И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга.
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.
Игорь Северянин эффектно восклицает в стихах: «Я поведу вас на Берлин!» У Анны Ахматовой вырывается «Молитва»:
Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницы, жар,
Отыми и ребёнка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над тёмной Россией
Стала облаком в славе лучей.
Двадцатилетний Георгий Иванов воспевает «победную и грозную» рать…
Совсем другие чувства, может быть, отличные от всех остальных, вызывает война у Максимилиана Волошина:
Взвивается флаг победный…
Что в том, Россия, тебе?
Пребудь смиренной и бедной —
Верной своей судьбе.
Люблю тебя побеждённой,
Поруганной и в пыли,
Таинственно осветлённой
Всей красотой земли.
Люблю тебя в лике рабьем,
Когда в тишине полей
Причитаешь голосом бабьим
Над трупами сыновей…
(«Россия», 1915)
Если на раннем этапе своего творчества поэт уподоблял себя штейнеровскому Христу Иисусу, Солнечному духу, поящему «злое сердце мрака» «своею солнечною кровью», то начиная с середины 1910-х годов он рассматривает христологическую тему в ином ключе. Возможно, поэтические ассоциации в какой-то мере были подсказаны Волошину Тютчевым:
Удручённый ношей крестной.
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
Соотношение России с рабским видом Христа находит у Волошина поэтическое развитие («Люблю тебя в лике рабьем…»): Россия — Христос. И вторая параллель, возникающая позднее: Россия уподобляется бесноватому, которую исцелил Сын Человеческий («Русь глухонемая», 1918). Наконец, в стихотворении «Родина» (1918) возникает синтез:
…Но ты уж знаешь в просветленьи,
Что правда Славии — в смиреньи,
В непротивлении раба…
Слова «раб» и «славянин» созвучны по-латыни (из письма А. М. Петровой: «Знаменательно имя „славяне“. Для Запада оно звучит как имя рабов (esclavi)»). Но воспринимаются они скорее как синонимы (для Германии Россия — «славянский навоз», писал Волошин). Ни Тютчев, называвший свою родину «край родной долготерпенья», ни Волошин, писавший о «лике рабьем» России, не вкладывали в эти слова критически-уничижительный смысл. Ибо в обоих случаях подразумевался именно крест, носимый во имя Христа и мистически сливавшийся с его крестной ношей. Крест, который, по Волошину, приняла на плечи «во Христе юродивая Русь».
В рецензии на книгу «Anno Mundi Ardentis. 1915» В. Брюсов отметил её главную особенность: «…современная война с точки зрения мировой, даже космической. В великой борьбе наших дней М. Волошин видит осуществление апокалиптических откровений…» Упрекая поэта в некоторой усложнённости образной системы, перегруженности стихотворных текстов цитатами из Библии, Брюсов вместе с тем подчёркивает, что книга Волошина — «одна из немногих книг о войне, особенно в стихах, которые читаешь без досады, без чувства оскорбления, но с волнением… Среди тягостного убожества и вопиющей пошлости современных „военных стихов“ стихи М. Волошина, при всей надуманности их стиля… — благородное исключение». Да, исключение, выпадение из общих патриотических настроений, которые отразились в стихах таких крупных поэтов, как К. Бальмонт, Ф. Сологуб, Н. Гумилёв, С. Городецкий, да в какой-то мере и самого В. Брюсова (особенно в первые месяцы войны).
В стихотворениях этого периода Волошин с присущей ему лёгкостью объединяет языческо-мифологическую образность с христианско-эзотерической символикой. В стихотворении «Посев» упоминается «недобрый Сеятель», который«…сталь и медь, /Живую плоть и кровь… Рукою щедрою посеял» — явная реминисценция мифа о Кадме, засеявшем поле зубами убитого им дракона, из которых выросли вооружённые люди (спарты), тут же набросившиеся друг на друга (вспоминается и царь Колхиды Ээт, который в обмен на золотое руно потребовал от Ясона, чтобы тот запряг в плуг огромных, изрыгающих пламя быков, вспахал поле и засеял его зубами дракона). Но здесь же слышится отзвук и евангельской притчи о пшенице и плевелах (Мф. XIII, 24–30): «Не семена пшеничного посева», а «Бед / И ненависти колос, / Змеи плевел / Взойдут в полях безрадостных побед, / Где землю-мать / Жестокий сын прогневил».
Однако преобладает всё же библейская символика, перекликающаяся порой с реальными событиями. Так, например, в стихотворении «Пролог» (которое мыслилось поначалу как «пролог» ко всему циклу стихотворений о войне) есть строки: «И, на замок небесных сводов / Поставлен, слышал…» Здесь — недвусмысленное уподобление расположенного в горах Дорнаха Небесному Иерусалиму, куда «на великую и высокую гору» ангел вознёс Святого Иоанна «в духе» (Откр. XXI, 10). Загадочный стих «На землю кинул он ключи» воспринимается как соединение образов из Апокалипсиса: ангел, имеющий «ключ от бездны» (XX, 1) и «кладезь бездны», из которого вышла чудовищная саранча (IX,1–10). Основная символика творчества Волошина постепенно сводится к апокалиптическому восприятию событий, которое обострится в годы революции и Гражданской войны. Поэту видятся обрушившиеся на людей «тучи саранчи», мерещится «железный жезл», которым теперь надлежит «пасти мир».
Что же это за саранча, которой, как сказано в Откровении святого Иоанна Богослова, «дана была власть, какую не имеют земные скорпионы? И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих» (IX, 3–4). Это машины, нашествие которых на «современную Европу невольно напоминает картину апокалиптической саранчи», — замечает Волошин в статье «Скрытый смысл войны». Аналогия действительно впечатляющая: «На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев её — как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну» (IX, 9).
Да, похоже на то, что Ангел Бездны (Аполлион, Аввадон), о котором говорится в Апокалипсисе, освободил
Пленных демонов
От клятв покорности,
А хаос, скованный в круженьях вещества
И в пляске вихрей,—
От строя музыки!..—
то есть выбил мир из состояния гармонии и равновесия. И вот тогда
…разверзлись двери неба
В созвездьи Льва, и бесы
На землю ринулись…
«Время как будто опрокинулось», земля наполнилась «коленчатыми гадами», змеями и пауками, «тучами насекомых».
…И эти полчища исчадий,
Получивших
И гнев, и страсть, и злобу от людей,
Снедь человеческую жалили, когтили,
Давили, рвали, жгли,
Жевали, пожирали… —
(«Аполлион»)
страшная, фантасмагорическая метафора мировой войны.
Заворожённый зловещими предзнаменованиями, поэт с ужасом констатирует, что сбываются пророчества не только святого Иоанна Богослова. Вспомним, ведь ещё летом 1905 года в письме к А. М. Петровой Волошин приводил прогноз Р. Штейнера: «С этого года мир вступает в новый цикл, находящийся под знаком Льва. Это будут самые кровавые годы Европейского человечества, и лицо Европы будет через пять лет неузнаваемо». Примерно тогда же (ещё раз повторимся) он записывает в дневнике: «С 1905 по 1908 г. — это самые страшные годы в европейской истории. Они ужаснее по созвездьям, чем эпоха наполеоновских войн». (Что ж, «самые страшные годы» отодвинулись всего на десятилетие…) Причём самую решительную роль в этих событиях «предстоит сыграть России — славянам. Им принадлежит обновление Европы. Россия должна измениться радикально». Этот новый исторический цикл, по мнению Волошина, должен был начаться войной между Францией и Германией — странами, к которым художник питал противоположные чувства.
Звёзды, увы, почти «не ошиблись» в сроках. Объективные социально-экономические тенденции вели европейскую цивилизацию к краху. «Европа начинает задыхаться от обилия никому не нужных товаров, — пишет Волошин, — начинает искать для них рынков, создаёт колониальный империализм, и дело кончается войной». Можно представить её в виде нашествия полчищ саранчи, а можно и по-другому: в образах нескольких осьминогов (промышленности), которые «силятся попирать друг друга». Волошин не приемлет «благородную ложь», которой заманивают на войну «и святых, и мучеников». Ведь общий удел — стать «желудочным соком в пищеварении осьминога».
Поэту по душе не столько объективно-научный, сколько мифолого-метафорический взгляд на вещи. Развитие машинной цивилизации напоминает ему гётевскую балладу про ученика волшебника, «вызвавшего духов в отсутствие учителя, но не имевшего власти приказывать им». Ведь для того чтобы заставить духов себе повиноваться, необходимо обладать «морально-очищенной волей». А между тем нравственное развитие человечества значительно отстаёт от промышленного. «Поэтому любая машина, созданная с самыми человеколюбивыми намерениями, тотчас же демонически перерождается на почве человеческой жадности». Не этими ли соображениями были вызваны ранние стихи Волошина: «…И вызывает мой испуг / Скелет, машина и паук»?..
В современных условиях, считает поэт, Демоны Машин, «получив плоть и форму», подчинили себе человека, толкнув его на путь «тупого материализма и морального распада». Характерно, что именно Германия превзошла всех «в области машинизма, и та её политическая мораль, которая возмущала своим цинизмом другие страны, была не чем иным, как моралью, продиктованной Демонами Машин». Впрочем, «ни одна страна, раз ступившая на ту же ступень машинной культуры, не сможет избежать её». Какая уж тут «морально-очищенная воля» у современного человека, который брошен «на забаву им самим созданным чудовищам. И напрасно старается он победить их в борьбе внешней, выступая против них лицом к лицу. Власть над ними лежит внутри человека. Они только собственные страсти и эгоизм человека, получившие облик и бытие. Одно внутреннее преодоление самого себя — и эти страшилища лягут у его ног, — укрощённые, как звери у ног Орфея». Однако нынешний европеец руководствуется лишь одной теорией — «здорового эгоизма», поэтому он «слишком далёк от этого метода борьбы». Отошедший от принципов христианской морали, цивилизованный варвар придерживается заповеди, писанной «огнём и серой» «на вратах земных пещер»:
Любовь воздай за меру мерой,
А злом за зло воздай без мер —
одна из самых страшных, «сатанических» традиций, утвердившихся в европейской морали (письмо к матери от 31 июля 1915 года), ибо зло возмещается не только тому, от кого пришло, но и его близким, и его соплеменникам, «и возмещается рукой щедрой, не считая…». Конечно, можно взглянуть на эту же тему в другом аспекте, впрочем, так ли уж в другом: «„Ненависть рас“ должна быть побеждена любовью к человеку» (из письма А. М. Петровой от 25 января того же года). Но история проходит мимо столь идеальных и не осуществимых в реальной жизни пожеланий…
27 января 1915 года немецкий линкор «Бреслау» обстрелял Ялту…
Не в силах укрыться от апокалиптических видений, поэт в октябре 1915 года пишет стихотворение «Армагеддон». Согласно Откровению святого Иоанна Богослова, при наступлении конца света именно в Армагеддоне разразится последнее сражение с участием всех земных царей. Воображению художника представляются жуткие картины, когда «Ангел выпивает шестую чашу и реки иссякают, из уст зверя выходят духи ЛЖИ, имеющие вид трёх жаб, и собирают царей и царства вселенной… для последней битвы всех времён…»
…Никогда такого запустенья
И таких невыявленных мук
Я не грезил даже в сновиденьи.
Предо мной, тускла и широка,
Цепенела в мёртвом исступленьи
Каменная зыбь материка.
И куда б ни кинул смутный взор я —
Расстилались саваны пустынь,
Русла рек иссякших, плоскогорья,
По краям, где индевела синь,
Громоздились снежные нагорья,
И клубились свитками простынь
Облака. Сквозь огненные жёрла
Тесных туч багровые мечи
Солнце заходящее простёрло…
Такие ассоциации возникали у поэта при взгляде на картину немецкого художника Альбрехта Альтдорфера «Битва Александра Великого», хранящуюся в Мюнхенской картинной галерее, где Волошин побывал за несколько часов до начала войны. Таким представлялся ему её исход в Швейцарии, на «этом перекрёстке всеевропейской лжи», когда у писателя родилось ощущение «ввергнутости в ад».
…Но ясновидящая сила
Хранила мой беспечный век:
Во сне меня волною смыло
И тихо вынесло на брег…
(«Другу», 1915)
Стихотворения «Армагеддон», «Пролог», а также более ранние — «В эти дни», «Петербург», «Реймсская Богоматерь» — были написаны уже в Париже, куда поэт прибыл из Дорнаха в начале января 1915 года. Он находит свой любимый город «пустынным, строгим, замкнутым в себе». Никаких карнавалов, не чувствуется привычной праздничности…«…Лишь голос уличных певцов / Звучит пустынней и печальней. / Да ловит глаз в потоках лиц / Решимость сдвинутых надбровий, / Улыбки маленьких блудниц, / Войной одетых в траур вдовий…» В парижском небе зависли цеппелины, новоисторгнутые человеком демоны, драконы с «серо-жёлтой чешуёй… на брюхе», вызванные к жизни немецким конструктором графом Ф. Цеппелином и активно применявшиеся в ходе мировой войны. Однако Волошин смотрит в небо глазами художника, а не военного. Висящий в созвездии Тельца дирижабль напоминает ему ствол дорической колонны. Ужасы войны не заслоняют от него звёзд Кассиопеи, а «взрывов гул» и «ядр поток»
Ни звёздной тиши, ни прохлады
Весенней — превозмочь не мог.
(«Цеппелины над Парижем», 1915)
Жизнь — и, что характерно, творческая жизнь — не останавливается и в годы войны. Волошин живёт у Бальмонта «в очень маленькой и полутёмной комнате», занимается в Национальной библиотеке («Дух готики» не отпускает его), шлифует рисунок в Академии Коларосси, часто посещает галерею эстампов, увлекается японской гравюрой, пишет стихи и статьи. Он, по определению Бальмонта, «по-прежнему мил, болтает вычурно, но умно»; «в нём есть умственная свежесть»; а ещё позднее: «С Максом всё время в магнетическом токе бесед». И удивляться здесь нечему, поэт и художник всегда белая ворона. «На вопрос, что нового в литературе, — вспоминает Волошин, — на вас смотрели с удивлением и отвечали: „Литература… разве она ещё существует?“» Поэту больно оттого, что Франция «в порыве безрассудного героизма кинула в жерло войны весь цвет своего молодого поколения. Она поставила в первые ряды своих писателей, художников, поэтов, она сама обрекла их на ненужную гибель, во имя того республиканского равенства, перед которым мясник и бьёт всей тяжестью по художнику…».
Но даже и в эти тяжёлые дни поэт не поддаётся депрессии. Он преодолевает «мертвенную пустоту»; вокруг него вновь закипает творческая жизнь. Уже в начале 1915 года он сближается с О. Редоном, часто встречается с И. Эренбургом; по весне в орбиту его жизни входят Л. Бакст и П. Пикассо. В компании с М. Воробьёвой-Стебельской (Маревной), И. Эренбургом, Б. Савинковым и Д. Риверой Волошин наведывается в кафе «Купол» и в знаменитую «Ротонду» (средоточие монпарнасской богемной жизни), где ведутся беседы об искусстве, реже — о политике. Бывают здесь и Ж. Брак, А. Матисс, Б. Сандрар…
Маревна (прозванная так Горьким за то, что напоминала ему героиню русских сказок) довольно колоритно описала свою компанию: «Волошин был низкорослым, плотным и широким, с большой головой, которая выглядела ещё крупнее из-за обильных волос, длинных и волнистых. Его глаза, светившиеся интеллектом, казались на его полном лице меньше, чем были на самом деле. Нос был прямым, а усы прятали маленький рот с плотно сжатыми губами; зубы — небольшие и безукоризненные. Голова его выглядела львиной, в то время как голова Эренбурга напоминала мне о большой обезьяне. У Волошина были короткие руки и, как и у Ильи, маленькие кисти; но руки Ильи были так малы и хрупки, что походили на женские. Когда они вместе шествовали вниз по улице де ля Гаэт, одной из наиболее людных на Монпарнасе, где прохожие и дети шутили, играли и шумели, кто-нибудь, посмотрев на них, говорил: „Эй, взгляни-ка на этих двух больших обезьян!“»
Не менее живописен был и Диего Ривера, оставивший истории три портрета Макса в стиле кубизма. Они были закончены зимой 1916 года — огромная голова поэта (примерно метр на полтора) и два изображения в рост, на холсте и на пробковом подносе. На подносе осталась надпись: «Милому другу, с которым я связан любовью и которому обязан многими прекрасными песнопениями». Ривера «был настоящим колоссом. Подобно Волошину, он носил бороду, но покороче, окаймлявшую его подбородок небольшим и даже опрятным овалом. Наиболее заметны на лице мексиканского художника были глаза, большие, чёрные, косо поставленные, и нос, который анфас представлялся коротким, широким и утолщённым на конце, а в профиль был орлиным…. Маленькие усы прикрывали его верхнюю губу, придавая ему вид сарацина или мавра. Друзья говорили о нём как о „добродушном людоеде“… В довершение всего, Ривера надевал широкополую шляпу и носил огромную мексиканскую трость, которой привык размахивать». А вот — волошинское восприятие мексиканца: «Ривера. Огромный, тяжёлый. Надбровные дуги крыльями. Короткие, жёсткие, чёрные волосы по всему черепу пучками, вместительному, но местами смятому и вдавленному… Лицо портретов Стендаля, тяжёлое и значительное. Добрый людоед, свирепый и нежный; щедрость, ум, широта в каждом жесте». Потомок военных, с детства изобретающий машины, увлекавшийся математикой, физикой и химией, но остановивший выбор на чертеже, который и привёл Риверу к оригинальной манере живописи… Диего был женат вторым браком на русской художнице, Ангелине Михайловне Беловой…
И, наконец, Борис Савинков, эсер, один из руководителей «Боевой организации», организатор ряда террористических актов, писатель (псевдоним В. Ропшин). Крайне радикальный в политике, весьма консервативный в отношении к искусству, он нечасто показывался на публике в компании с эксцентричными художниками. Савинков «был среднего роста, прямой и стройный; его лицо было вытянутым и узким, а голова почти лысой. Лёгкие морщинки вокруг глаз уходили к вискам, как у казанских татар. Прямой нос, тонкие губы. Когда он говорил, глаза щурились ещё больше, оставляя его испытующему ироническому взгляду только щелку меж век, почти лишённых ресниц… В „Ротонде“ и всюду его звали „человек в котелке“. Большой зонтик, другой неразлучный компаньон, обычно свешивался с его левой руки». А вот — волошинский «Ропшин» (стихотворение из цикла «Облики»):
Холодный рот. Щеки бесстрастной складки
И взгляд из-под усталых век…
Таким сковал тебя железный век
В страстных огнях и бреде лихорадки.
Борис Савинков — порождение своего времени, эпохи вывихнутых представлений о морали. Однако Волошин по-своему симпатизирует этому нынешнему боевику и рыцарю «времён последних Валуа». Столь далёкий от Савинкова по своему мировоззрению, Макс мифологизирует кровавого эсера. Он ассоциируется у поэта с символическим животным (олень, лось), фигурирующим в легендах и германских исторических преданиях, хотя и не мыслимым вне России. Бунт и обречённость, кровь и смирение. Дерзкий террорист с трепетной душой…
Но сквозь лица пергамент сероватый
Я вижу дали северных снегов,
И в звёздной мгле стоит большой, сохатый,
Унылый лось — с крестом между рогов.
Таким ты был. Бесстрастный и мятежный —
В руках кинжал, а в сердце крест:
Судья и меч… с душою снежно-нежной,
На всех путях хранимый волей звезд.
В Париже Савинков пока ещё воспринимался как легендарная фигура. В гостиных, отмечает Маревна, его «рекомендовали как человека, „который убил великого князя Михаила“ (Б. Савинков участвовал в убийствах министра внутренних дел В. К. Плеве и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. — С. П.); женщины из общества были потрясены и бегали за ним», правда, иногда кое-кто спрашивал с недоумением: «Почему он ведёт себя так важно, когда всё кончено для него в России?» Макс же, как казалось автору воспоминаний, восхищался Савинковым: «Он сказал мне однажды: „Маревна, я хочу представить тебе легендарного героя. Я знаю, ты питаешь интерес к экстраординарному и сверхчеловеческому. Этот человек — олицетворение всяческой красоты, ты страстно его полюбишь“». Да, Макс есть Макс — восторженный по отношению к людям, проницательный в восприятии событий. Что же касается Маревны, то поначалу Савинков ей совсем не понравился. Он приходил к ней побеседовать, читал свою повесть «Конь блед» («Конь бледный», в которой ощущаются усталость от жизни и разочарование в террористической деятельности) и в результате произвёл «впечатление одинокого, отрешённого и гордого человека».
Судя по всему, художник Ривера Маревне был ближе — по духу, по характеру. (В дальнейшем их отношения перейдут в разряд самых близких.) Она вспоминает, как однажды, на какой-то вечеринке, мексиканец втолкнул её в отдельную комнату и приготовил питьё, добавив в бокал по нескольку капель их крови. Он объяснил, что это древний индейский обычай — таким образом люди становятся родными на долгие годы, на вечность. «Вошедший Волошин увидел наш поцелуй над кубком и тоже захотел выпить мексиканской крови, смешанной с его собственной, русско-германской. Он сказал, что никогда не пил крови, кроме той, которую он сосал, порезав палец. Они исполнили тот же ритуал — и внезапно мы все примолкли: возможно, мы попали под обаяние Риверы, колдуна или жреца. Вернувшись в гостиную, мы отказались сказать, что делали, хотя нам говорили, что мы выглядели совершенно счастливыми… „Они, очевидно, пили любовный напиток“, — сказал Эренбург».
Илья Григорьевич Эренбург также оставил интересные воспоминания о Волошине в своей книге «Люди, годы, жизнь». Кстати, это были чуть ли не первые сведения о поэте, с которыми мог познакомиться советский читатель: «В Париже Волошин слыл не только русским, но архирусским; он охотно рассказывал французам о раскольниках, которые жгли себя на кострах… о террористах, о белых ночах Петербурга, о живописцах „Бубнового валета“, о юродивых Древней Руси… У Волошина повсюду находились слушатели, а рассказывать он умел и любил… Макс придумывал невероятные истории, мистифицировал, посылал в редакцию малоизвестные стихи Пушкина, заверяя, что их автор, аптекарь Сиволапов, давал девушке (очевидно, М. П. Кювилье. — С. П.), которая кричала, что хочет отравиться, английскую соль и говорил, что это яд из Индонезии… Он обладал редкой эрудицией; мог с утра до вечера просидеть в Национальной библиотеке, и выбор книг был неожиданным: то раскопки на Крите, то древнекитайская поэзия, то работы Ланжевена над ионизацией газов, то сочинения Сен-Жюста. Он был толст, весил сто килограммов; мог бы сидеть, как Будда, и цедить истины; а он играл, как малое дитя. Когда он шёл, он слегка подпрыгивал; даже походка его выдавала — он подпрыгивал в разговоре, в стихах, в жизни».
Волошин казался Эренбургу величайшим выдумщиком. Вероятно, поэтому Илья Григорьевич со временем охладел и к поэзии, и к эстетике Макса — он перестал замечать в них серьёзное, глубинное, опасаясь быть в очередной раз одураченным. Каждый раз, вспоминает Эренбург, Волошин приходил с новой историей. То он отказывался есть бананы, поскольку, как установил какой-то австралийский исследователь, яблоко, погубившее Адама и Еву, было вовсе не яблоком, а этим самым бананом. У антиквара на улице Сэн Макс нашёл один из тридцати серебреников, которыми был соблазнён Иуда…
Вообще же, иногда шутки Волошина граничили с величайшими прозрениями, и надо было обладать незаурядным вкусом, эрудицией и чувством юмора, чтобы суметь здесь правильно расставить акценты. У Эренбурга, очевидно, такого желания не было, хотя некоторые вещи он подметил точно: Волошин «встречался с самыми различными людьми и находил со всеми нечто общее; доказывал А. В. Луначарскому, что кубизм связан с ростом промышленных городов, что это — явление не только художественное, но и социальное; приветствовал самые крайние течения — футуристов, лучистое, кубистов, супрематистов и дружил с археологами, мог часами говорить о вазе минойской эпохи, о древних русских заговорах, об одной строке Пушкина. Никогда я не видел его ни пьяным, ни влюблённым, ни действительно разгневанным… Всегда он кого-то выводил в литературный свет, помогал устраивать выставки, сватал редакциям русских литературных журналов молодых французских авторов, доказывал французам, что им необходимо познакомиться с переводами новых русских поэтов».
А вот глаза у Макса, вспоминает Эренбург, были хотя и приветливые, но какие-то отдалённые. «Многие его считали равнодушным, холодным: он глядел на жизнь заинтересованный, но со стороны. Вероятно, были события и люди, которые его по-настоящему волновали, но он об этом не говорил; он всех причислял к своим друзьям, а друга, кажется, у него не было».
Близкий всем, всему чужой…
А Волошин в это время расширяет свой круг знакомств. Он сближается с князем В. Н. Аргутинским-Долгоруковым, искусствоведом, представляющим в Париже интересы журнала «Мир искусства», встречается со скульптором О. Цадкиным, часто заходит в «салон» к супругам Цетлиным. Это были состоятельные люди; им, в частности, принадлежала чайная фирма Высоцкого. Михаил Осипович Цетлин — поэт, писавший революционные стихи под псевдонимом Амари, был, по воспоминаниям Эренбурга, «тщедушный хромой человек, утомлённый неустанными денежными просьбами. Жена его была более деловой». Мария Самойловна — очень красивая женщина, политэмигрантка, эсерка, доктор философии. Именно ей посвятил Волошин одно из самых проникновенных своих стихотворений — «Реймсская Богоматерь». Все вместе они посещают мастерскую Пикассо, бывают на представлениях гастролировавшего тогда в Париже «Русского балета» Дягилева.
Сегодня может показаться, что гастроли эти были не к месту и не ко времени. Волошин придерживался иной точки зрения. «Когда война тянется годы, когда фабрика войны превращает смерть в ходовой рыночный товар, замедленный жест отчаяния превращается в застывшую театральную позу», — пишет он в статье «Русский балет во время войны». К тому же люди остаются людьми, и их потребность в развлечении (или отвлечении) в любом случае удовлетворяется, часто — «подделками и суррогатами». Ориентируясь на репертуар «для солдат в отпуску», искусство себя дискредитирует, считает Волошин. Так же, как дискредитируют себя журналисты, которые «ради траура, пишут патриотические пошлости», талантливые писатели, которые «отказываются от индивидуальности чувства и самостоятельности мысли и налагают на себя эпитимью — писать ежедневно банальности. Газеты вместо правды, ради траура, самоотверженно лгут». (Из стихотворения «Газеты»: «Ложь заволакивает мозг / Тягучей дрёмой хлороформа / И зыбкой полуправды форма / Течёт и лепится, как воск. / И гнилостной пронизан дрожью, / Томлюсь и чувствую в тиши, / Как, обезболенному ложью, / Мне вырезают часть души».) Волошин, безусловно, высказывает здесь мысли дерзкие и приводит факты, как сказал бы Б. Шоу, для многих «неприятные». Поэт находит повод сослаться и на такого знатока психологии парижан, как Наполеон, который никогда не забывал об искусстве развлечения и, дабы парижане как можно меньше думали о войне, император «из отдалённых столиц Европы диктовал программы парижских увеселений и зрелищ.
Поэтому Дягилеву нетрудно было убедить парижан в том, что спектакль русского балета вовсе не нарушает национального траура». Балет «Полуночное солнце», поставленный Л. Мясиным на музыку из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», имел большой успех, несмотря на тяжёлые военные условия и отсутствие главных солистов балета — В. Нижинского и Т. Карсавиной. Большую популярность в Париже приобрёл художник-постановщик спектакля М. Ларионов. В этом отношении он мог конкурировать с самим Л. Бакстом, уже успевшим создать в столице Франции «моду, школу, вкус». (К этому следует лишь добавить, что театральные сборы шли в пользу английского Красного Креста.)
Заслуживает внимания посещение мастерской П. Пикассо, на улице Фруадево, против Монпарнасского кладбища, Волошиным, Эренбургом, Савинковым и прочей компанией — в художественном изложении М. Воробьёвой-Стебельской: «Мы были у его двери в 11 часов. Он открыл сам, одетый в полосатый — голубое и белое — купальный костюм и котелок. Он заставил нас заглянуть во все комнаты (а их было множество), приспособленные служить фоном для его натюрмортов и портретов. В них ничего не было — только рисунки повсюду, и холсты, и кучи книг, загромождавших столы и стулья. Пол был выстлан перепачканными расписными ковриками, сигаретными окурками и кипами газет. На большом мольберте стоял холст, большой и таинственный… Никто сначала не рискнул спросить, что там изображено, из опасения попасть впросак. Так мы стояли, почтительные, молчаливые, поневоле ошеломлённые силой и фантастичностью Пикассо, который, уже поразив нас своим полосатым купальником, продолжал гнуть ту же линию. Один Волошин не потерял своего поэтического любопытства и спросил:
— Что представляет эта картина, мэтр?
— О, ровно ничего, — ответил Пикассо, улыбаясь. — Между нами… это просто дерьмо — специально для идиотов.
— Спасибо, спасибо, — сказали Волошин и Эренбург.
— Не думайте, что я сказал это ради вас, дорогие господа, — продолжал Пикассо. — Вы — совсем другое дело… хотя я часто должен работать на дураков, которые ни черта не смыслят в искусстве, и мой торговец всегда просит меня делать что-нибудь для ошарашивания публики».
М. Волошин так же тесно общается со многими яркими представителями европейского, преимущественно французского, искусства. В упоминавшейся компании появляются художник А. Модильяни, который, как пишет Маревна, «был уже хорошо известен своими скульптурами… и был также знаменит своей слабостью к кокаину, гашишу и бутылочке», человек, широко начитанный, абсолютно бескорыстный и непрактичный, поэты Г. Аполлинер и Ф. Леже, поэт и художник Макс Жакоб… Все они — выразители самых передовых веяний культурной жизни. Однако русский поэт, человек с уже сложившимися эстетическими взглядами, хотя и открытый самым различным художественным течениям, весьма спокойно относится к авангардистским исканиям своих новых знакомых. Ему по-прежнему близко искусство О. Редона, одного из крупнейших представителей символистской живописи, творчеству которого он посвятил две статьи.
Находясь во Франции, Волошин много размышляет о её истории, сквозь призму которой воспринимает день сегодняшний. Как уже говорилось, Париж привлекал Макса тем, что даже в самые кризисные моменты, вопреки «пароксизмам отчаяния и бешенства», он всегда оставался самим собой: «…в то время как в переулках строились баррикады, рядом на бульварах в кафе люди, как всегда, читали газеты, спорили о политике; когда в 1871 году шла бомбардировка укреплений, театры в середине города были переполнены, а лучшие умы эпохи — Ренан, Тэн, Гонкуры — вели в кафе Brabant тонкие, умные, скептические беседы». Ныне же Париж изменился. Он стал весь «как рука, сжатая от боли». Что ждёт его впереди?..
Париж! Париж! К какой плывёт судьбе
Ладья Озириса в твоём гербе
С полночным грузом солнечного диска?..
(«Lutetia Parisiorum», 1915)
Анализируя ситуацию на Западе, «где противники, крепко ухватившись и тесно сблизив лица, уже в течение двадцати месяцев смотрят друг на друга в упор, глаза в глаза», Волошин задумывается о противостоянии Запада и Востока, Германии и России. На Западе, пишет он в статье «Франция и война», «противники сражаются равным оружием. Это оружие — скорость: проявляется ли она в скорострельности и дальнобойности орудий, в быстроте ли перевоза войска и подвоза снарядов… Сила же России в том, что напряжённым скоростям Германии противопоставляются стихийные силы инертности: будь то пространства, распутицы, болота, бездорожье, беспечность. Сила России лежит в её хаосе, беспорядке». Поэт находит также различия в «военной психологии» России и Франции, связанные со спецификой национального характера: «Латинский дух отличается от славянского исторической насыщенностью и способностью быстрой кристаллизации (то именно, что во французском искусстве сказывается чувством формы)». Плюс к этому «остроумие практического разума». Благодаря этим свойствам «Франция могла позволить себе все капризы своей истории безнаказанно». Про Россию, увы, такого не скажешь. Впрочем, самые трагические события в её истории ещё впереди. Пока же Волошин переживает за самую величайшую драгоценность Европы — её чувство, её мысль, её цветок — французское искусство. Он понимает, что война не может не сказаться на литературе 20–30-х годов, «когда мечта Европы окажется лишённой крыльев, а мозг обескровленным».
Рождается цикл стихов «Пламена Парижа» — поэтическое осмысление болевых точек французской истории. Неотступные мысли о событиях, назревающих в России… И ещё. Сквозь видимое на поверхности, сквозь желание остаться «над схваткой» подчас прорывается подспудное, сокровенное: «Единственное желание» в этой войне — «это чтобы Константинополь стал русским» (из письма А. М. Петровой от 16 апреля 1915 года).
А история равнодушна и жестоко-беспристрастна к нравственным исканиям и приоритетам художника. Немецкие аэропланы над Парижем, в районе Пасси… Если же взглянуть северо-западнее. — всё те же «Грозды людские / В точиле гнева…». 24 апреля 1915 года в Ирландском море германской подводной лодкой был потоплен пассажирский (!) лайнер «Лузитания». Погибли 1198 человек… «От каких планетных ураганов / Этих волн гранитная гряда / Взмыта вверх?..» Кто ответит на этот вопрос?
Однако жизнь продолжается… Волошину, как всегда, не сидится на одном месте. Цетлины приглашают его на свою виллу в Биарриц (та самая вилла, где В. Серов писал портрет Марии Самойловны), и 29 июня поэт садится на поезд. Чуть раньше туда же отбывает Маревна…
Марию Брониславовну Воробьёву-Стебельскую Волошин считал очень талантливой художницей; он уважал её как «чистую, правильную» личность, ценил в ней «сильный, оригинальный», подчас несносный, характер, хотя и признавал, что эта девушка — «страшно изломанная и измученная и детством, и обстоятельствами жизни, беспризорная, нервная, больная…». Маревна также с симпатией относилась к «поэту-теософу», в своих воспоминаниях называла его «другом»; ей нравилось то, «что он был крайне свободомыслящим и отстаивал свободу других столь же страстно, как свою собственную». Естественно, сближали этих людей и художественные вкусы. Макс, как считала Маревна, «обладал большими способностями к рисунку и живописи и делал тысячи пейзажей акварелью. Он не уставал писать воображаемые горы и утёсы, закутанные в фантастические облака; равнины с бегущими реками; курчавящиеся леса, чьи корни и ветви напоминали человеческие существа».
В Биаррице поэт ощутил столь редкое за последнее время ощущение покоя. Здесь — «тихо, хорошо, безлюдно». Волошин подолгу стоит у моря, смотрит, как на берег накатываются громадные волны, иногда рисует их, стоя у окна. Неуправляемая морская стихия и завораживает, и пугает. Его гложут какие-то тревожные предчувствия, хотя… пока что «за Россию тяжело, но… не страшно», — пишет он в Ниццу Савинкову. И всё же, делится поэт своими чувствами с матерью, «война и русские неудачи всё время… в подсознании». Ещё совсем недавно, предлагая «Биржевым ведомостям» подготовить серию очерков о том поколении, которое «сейчас во Франции ведёт войну», художник поймал себя на мысли, что рано говорить об исходе; уверенность многих в том, что война кончится в мае, сменилась убеждением, «что война только начинается». Да и здесь, в Биаррице, несмотря на кажущуюся идиллию, ощущается дыхание войны: царит шпиономания; перед тем как выйти на прогулку, надо брать особый пропуск. А уж о том, чтобы порисовать с натуры, нечего и думать. Впрочем, это Макса волнует меньше всего — ещё в Дорнахе, как помним, он усвоил манеру писать по памяти.
«В те два месяца, что я провела с Волошиным… в Биаррице, в гостях у друзей, — вспоминает Маревна, — я была крайне озадачена, наблюдая за ним каждый день в его комнате за одним из тех пейзажей, что могут только присниться.
— Как ты делаешь это? — спросила я.
Он взглянул на меня сквозь стёкла, и его маленькие серые глаза блеснули озорством.
— Ты хочешь узнать мой секрет?
Он признался мне, что… сминая листочки папиросной бумаги, делал миниатюрные модели своих поразительных пейзажей. Бумага эта, смятая особым образом, создавала мягкие, обтекаемые склоны, среди которых пятна тумана плавали подобно перьям. К этим моделям подходили болота, ручьи, стоячая вода и низкие, вздувшиеся облака; когда же он брал плотную бумагу, это создавало горы, вздымающиеся крутыми, заострёнными утёсами, с устрашающими пропастями. Вершины были покрыты облаками, и кое-где луч солнца просачивался сквозь них и зажигал один угол мрачной скалы, придавая дантовскую таинственность всему ландшафту…»
В те летние недели Макс очень сблизился с этой «маленькой ведьмой», шаловливой, непоседливой, иногда загульной художницей, которая срывалась то на Пиренеи, то в Париж, снова возвращалась в Биарриц, к поэту. Волошин же увлечён работой. Он переводит «Окровавленную Бельгию» Э. Верхарна, немало удивляясь антигерманской позиции автора (книга Верхарна — «свидетельство великого раскола европейского духа»), не забывает и о собственных стихах. «Макс, — вспоминает Маревна, — писал прозу, стихи и одну или две акварели каждый день. Он был очень внимателен ко мне, и я его привлекала… Я проводила дивные часы, слушая его рассказы, пока не засыпала. Наши разговоры вращались вокруг искусства, мира, души и Бога. Они начинались дома, продолжались на прогулках и в кафе. Он был человеком учёным, тонким и одновременно забавным… Увы, мой характер — настоящий винегрет: сейчас — маленькая, робкая девочка, через минуту — хулиганка…» Впрочем, Волошин, как обычно, проявлял терпение и верность своему чувству. Уже в сентябре, вернувшись в Париж, Маревна напишет Максу: «Дорогой мой и, думаю, единственный дружище! Всё-таки я тебе здорово мешала там, а? Ну, зато теперь ты можешь наслаждаться тишиной…»
По поводу «единственного» Мария Брониславовна, похоже, скромничает, а вот то, что «привлекала» и насколько… Впрочем, воздержимся от комментариев. Если верить Маревне, перед её отъездом в Париж у неё с Максом произошло объяснение. Она сказала поэту, что здесь её работа совсем не двигается.
«— Подожди немного, — ответил он. — Никто тебя не гонит, и ты со мной.
Но я не могла остаться надолго, и, наконец, однажды Макс проводил меня на вокзал.
— Что за странная девушка, право! — сказал он. — Здесь ты живёшь в роскоши. Обеспечена всяческим комфортом, под рукой отличная библиотека — всё, включая верного друга. А ты бежишь, как будто за тобой гонятся!
— Возможно, так оно и есть, — отвечала я.
— Кто же это?.. Во всяком случае, не я. Ты можешь вести себя, как сочтёшь нужным. Пока ты во мне не нуждаешься, я шагу не сделаю к тебе. Ты знаешь, как я тебя люблю, но я никогда не стану тебя преследовать. Остерегайся других, если так дорожишь своей свободой… Пиши и давай знать, в чём будешь нуждаться в Париже, не сиди без денег. Как только я вернусь, я подумаю, как тебе помочь в твоей работе…
Мы расцеловались. Я оставляла очень доброго своего друга, часто баюкающего меня на руках, друга, с которым я вела себя так, как будто была его дочерью, но который, как я знала, был влюблён в меня…» Ну что ж, сохраним это многоточие и мы. Добавим лишь, что в Париже многие считали Маревну женой Макса; по словам художницы, поэт настойчиво звал её в Россию, в Крым, но её отговорили… другие художники, в частности Пикассо, Ривера, да и просто хорошие знакомые, «дружищи».
Ну а Волошин в начале октября 1915 года осуществляет свою давнюю мечту: вновь посещает Испанию. Сан-Себастьян, Виктория, долина Эбро, Бургос… Он много и с наслаждением рисует: равнины, горные пейзажи, монастыри. Бургос его потрясает — это «исступлённый крик среди пустынных плоскогорий». На обратном пути «через Бискайю» Макс заезжает в замок Лойол — на родину Игнатио Лойолы, основателя ордена иезуитов. Восемь дней пролетели незаметно. «Единственные дни вне войны». Волошин вполне удовлетворён поездкой: он «бродил по диким плоскогорьям, ночевал в дон-кихотских постоялых дворах», а главное — пытался «зарисовать всё, что видел». Вернувшись в Биарриц, художник «дорисовывает» виденное в Испании («23 кв. метра акварели») — спрессованные за короткий срок впечатления начинают «разрастаться» и воплощаться в полном объёме.
И, наконец, опять Париж — Эренбург, Бакст, Цетлины, ну и, конечно, Маревна… Максом совершенно очарована поэтесса Мария Шкапская, которая делится своими впечатлениями с Эренбургом: Волошин «такой милый, широкий, медвежистый», с ним «должно быть верно, надёжно и уютно». Чуть позже, после чтения стихов друг другу, она признается самому поэту: «Вы такой большой и уверенный в своей комнате — не жрец Неведомого, но крепкого и верного Бога». Похоже, литературно-богемная жизнь в Париже входит в свою колею: Цетлины проводят вечер поэзии, Шкапские — заседание кружка «Русская академия на Монпарнасе». Среди участников — Н. Альтман, Н. Ангарский, В. Инбер, А. Луначарский, М. Талов, И. Эренбург, М. Волошин и другие. Да, Париж, судя по всему, привык к войне. Это отмечают и газеты: «появились моды», печатаются отчёты об уголовных процессах, открылся Салон хризантем, почти все театры функционируют, метро работает до полуночи… Но Макса «томит» память; его дух по-прежнему «разодран»: он не может забыть, что на Марне погиб «большой талант», поэт и издатель Шарль Пеги, что всего на этой войне полегло 230 молодых поэтов.
Начавшийся 1916 год не вносит в душу успокоение. 8 февраля германские войска предпринимают осаду французской крепости Верден; это одна из самых тяжёлых кампаний европейской войны: осада продлится до декабря… В России вновь поднимается волна тевтононенавистничества. Многие знакомые удивляются, как удаётся Максу Волошину сохранять душевное равновесие, пусть даже и на людях… Где же его патриотизм? — недоумевает бывший однокашник Макса по Московскому университету Александр Семенович Ященко, обрисовывая в письме ситуацию: «Здесь мы яростно ненавидим не только Германию, но и немцев», да и вообще желаем «истребления этой поганой и подлой расы». От подобных настроений Волошин всегда будет предостерегать людей — близких и далёких…
Между тем пришло время принимать самое ответственное решение. Как ратник ополчения второго разряда, Волошин подлежал призыву в армию. Не желая именоваться дезертиром и прятаться от ответственности за хрупкими стенами Антропософского храма или Национальной библиотеки, он через Англию и Норвегию весной 1916 года возвращается в Россию. «У меня вовсе не было тоски расставания с Парижем, — напишет он позднее, — я… не предвидел революции и того, что на много лет, вне своей воли, застряну в России…» Что ж, и поэт-провидец не всегда провидит…
«Но ясновидящая сила» вновь «сохранила» отнюдь не «беспечный» век поэта. Биография Волошина могла закончиться в Северном море, где 11 марта 1916 года немецкой подводной лодкой был потоплен французский пассажирский корабль «Sussex». 30 марта шансы художника оказаться в ледяной воде были не менее реальны. «Я никогда не стоял ближе к возможной катастрофе, как во время этого морского перехода… Потом я узнал, что подводные лодки готовились напасть именно на нас, т. к. я ехал с Генеральным штабом сербской армии, тайно пробиравшимся в Россию». 31 марта немецкой субмариной в Северном море будет потоплен английский барк, вышедший в рейс, как и пароход Волошина, из Ньюкасла…
5 апреля Волошин прибывает в Петроград. Ему трудно привыкнуть к этому новому названию города… Как же давно он не был в России… Странно, но здесь, кажется, ничего не переменилось. «Над призрачным и вещим Петербургом» — всё то же белёсое сырое небо; те же воды, закованные в гранит, те же проспекты, редакции, старые знакомые… Макс остановился на Ждановской набережной, у того же А. С. Ященко, правоведа, издателя. Он встречается с А. Бенуа, К. Сомовым, Ан. Чеботаревской, Г. Чулковым, Б. Леманом, Е. Эфрон, Е. Кузьминой-Караваевой… Накопилось столько впечатлений, столько хочется сказать о беспокоящем, наболевшем. К тому же у него на руках экземпляры недавно вышедшей книги «Anno Mundi Ardentis. 1915» (её выпустило в Москве издательство М. О. Цетлина «Зёрна» тиражом 500 экземпляров; обложку оформил Лев Бакст). Есть с чем пожаловать в гости.
10 апреля, на Пасху, К. Сомов записывает в дневнике: «Пошёл обедать к Бенуа. Там было довольно много народу, свои и Волошин, недавно из Парижа, рассказывал интересно, читал свои последние стихи (они очень хорошо сделаны, но мне не понравились)», что-то не устроило маститого художника в содержании, возможно, пафос поэта, отнюдь не патриотический.
Волошин присутствует на вечере в редакции журнала «Аполлон». Получилось нечто вроде пресс-конференции: Макс изложил «свои наблюдения над художественной и литературной жизнью наших союзников». Ничего не поделаешь — время накладывает свой отпечаток на лексику и стиль мышления. Но есть ценности, которые неподвластны влиянию эпохи. Отрадно сознавать себя хотя бы одной из них. Поэт узнаёт от редактора журнала «Новое звено» А. Н. Брянчанинова, что его «Звёздный венок» пользуется огромной популярностью, а незадолго до смерти им очень заинтересовался композитор А. Н. Скрябин. Максу, не имеющему музыкального слуха, это приятно вдвойне. Занятно почувствовать себя на какое-то время и живым «классиком»: Н. Павлинова перевела на классический, латинский язык «Сердце мира — солнце Алкиана…». Волошин посещает выставку современной русской живописи на Марсовом поле с участием Н. Альтмана, Л. Бруни, П. Кончаловского, А. Лентулова, И. Машкова, Валентины Ходасевич, М. Шагала, имея возможность сравнить русский художественный авангард с аналогичным явлением во Франции. Волошин надписывает экземпляры своей новой книги и получает ответные дары: Анастасия Чеботаревская «в знак общих симпатий» вручает Максу составленный ею сборник «Россия в родных песнях», куда включено стихотворение Волошина «Полынь»; А. Бенуа надписывает ему свой пейзаж Бретани; А. Ященко дарит «дорогому» Максу свою «Русскую библиографию по истории древней философии»; М. Лозинский — книгу стихов «Горный ключ».
А впереди ещё Москва, куда Волошин прибывает 18 апреля. Он останавливается на Малой Молчановке у сестёр Эфрон, где обитает и Елена Оттобальдовна. Трудно сказать, где у Макса больше родных и близких — в Питере или в Москве… Уже в 11 часов он встречается с К. Кандауровым, в 14 — обедает с А. Толстым… А в последующие дни — Я. Глотов, Бальмонты, М. Гершензон, В. Поленов, Р. Гольдовская, Ф. Арнольд… В обеих столицах дружеское общение приятно дополняет обсуждение насущных журналистско-издательских дел.
Ну и, как обычно, в заключение очередного «странствия» — Крым, Коктебель. Волошин приезжает «на родину духа» под вечер 27 апреля 1916 года. Отныне это будет его жизненная база, опорный пункт. Здесь он примет на себя огонь человеческой злобы, здесь будет «стоять у последней черты». Любимого Парижа он больше не увидит… А пока что всё спокойно, всё на своих местах, только вот в библиотеке изрядно поразбойничали А. Толстой с Мандельштамом. Макс приводит в порядок мастерскую и библиотеку, да, наверное, и собственную душу, растревоженную европейскими впечатлениями. «Как хорошо быть дома, среди своих книг и любимых картин и вещей, — пишет он в Париж М. С. Цетлиной. — Здесь сосредоточены отслоения меня самого за много лет, и вся смена моих интересов, вкусов, идей». Конечно, коктебельская гармония обманчива. Чёрное море бороздят немецкие военные корабли, вечером надо занавешивать окна. Да и в самой России всё «идёт наперекор здравому смыслу». Да и в чём этот «здравый смысл», если он привёл Европу к войне?.. Возможно, именно Россия — «единственная достойная оппозиция практическому здравому смыслу», пропитавшему своим ядом Запад.
Ну а Коктебель готовится к приёму гостей. Надвигается последнее предреволюционное лето, описанное в воспоминаниях Е. П. Кривошапкиной, фрагментарно приведённых в предыдущей главе этой книги. В мае появляются первые «обормоты»: В. Баруздина, О. Ваксель, Г. Кусов, Ю. Львова, В. Эфрон, В. Жуковская, Б. Трухачёв, А. Быстров с женой и дочерью, М. Цветаева и С. Эфрон, в июне — А. Брянчанинов, В. Ходасевич, О. Мандельштам, Ю. Оболенская, А. Шервашидзе, М. Арцыбашев с женой, актрисой… (За этот курортный сезон через дом Волошиных пройдёт более шестидесяти человек.) Именно тем летом Макс высоко оценил душевную чуткость композитора и пианистки, теософа Юлии Фёдоровны Львовой, положившей на музыку его «Гимн пифагорейцев», «Гностический гимн деве Марии», «Созвездия». Ю. Ф. Львова лучше многих других чувствовала поэзию Волошина, его творческий психосклад. Не случайно Макс преподнёс ей свою книгу стихов о войне с такой надписью: «Я благодарен Вам, Юлия Фёдоровна, за то, что Вы освободили меня от многих моих стихов, поняв их». Эта молодая женщина умела находить общий язык даже с Еленой Оттобальдовной, гася её вспышки гнева, смиряя постоянную раздражительность.
Коктебель тем временем продолжает заполняться самым разношерстным людом. На даче Г. Петрова размещаются прибывшие из Москвы 36 детей-беженцев. Приезжают представители творческих и самых прозаических профессий. Брезгливый Ходасевич недоволен: Коктебель набит «певцами и певицами, да учительницами. Тошнит». Правда, «здесь просто. Ходят в каких-то совершенных отрепьях, купаются в чём попало…» — пишет он жене.
М. Волошин заканчивает монографию о художнике Сурикове, рукопись которой высылает в Москву издателю И. Н. Кнебелю (И. Э. Грабарь, прочитавший первые главы, будет удовлетворён: «Очень логично, ясно и красиво построено, и верно»); в Петроград С. К. Маковскому отправляет три цикла стихов, из которых сохранит свой состав при публикации в «Аполлоне» только один — «Облики». 13 мая в газете «Речь» появляется статья Волошина о поэте Шарле Пеги, который, по его мнению, заметно повлиял на формирование поколения, «проникнутого до глубины волевыми импульсами и культом исторических устоев Франции». Именно это поколение «спортсменов-католиков» приняло на себя «всю силу германского натиска». Собирается ещё написать о Ривере и Пикассо, об Айвазовском… А где-то идёт война… В Северном море 18 мая 1916 года разгорается Ютландское сражение между основными силами английского и германского флотов; 22 мая на Юго-Западном фронте начинается исторический прорыв русских войск под командованием генерала А. А. Брусилова; 18 июня — крупное наступление французов на реке Сомме.
Война задела и издательское дело в России, конкретно — волошинскую монографию о Сурикове. Прочитав последние главы рукописи, Грабарь 12 октября пишет Максу: «По-моему, окончание удачно и вся книга — я это предвкушаю — будет хороша». Однако издательство И. Н. Кнебеля (австрийца по национальности) разгромила безумная толпа во время одной из «патриотических» манифестаций. Был уничтожен весь набор. Выдержки из книги (в их числе — записи бесед с Суриковым) автор успел опубликовать в газете «Речь» и в журнале «Аполлон» (1916, № 6–7). Говоря о заслугах Сурикова перед русским и мировым искусством, Волошин отмечал следующее: «В исторической живописи — самом неверном и условном из видов искусства — Суриков был подлинным художником, мастером, в котором не было ни капли условной живописной лжи.
И любопытно то, что он нашёл для своего искусства именно тот выход, который дали для исторического романа Анатоль Франс и Анри де Ренье. Но Суриков нашёл его самостоятельно и совершенно бессознательно… Судьба слепила Сурикова для того, чтобы он бунтовал против или вместе с Петром, делал Суворовские переходы, завоёвывал новые Сибири и грабил персидские царства, щедро оделила его всеми нужными для этого качествами, но, попридержав на два века, дала ему в руки кисть вместо казацкой шашки, карандаш вместо копья и сказала: „Ну, а теперь вывёртывайся!“». И художник «вышел из своего трудного положения блестяще, осуществил в мечте всё, чего не мог пережить в жизни, и ни разу в чуждом веке, в чуждом круге людей, с непривычным оружием в руке не изменил ни самому себе, ни своей древней родовой мудрости».
В годы войны культурная жизнь, даже вдалеке от столицы, не замирает. В Феодосии, в городском Летнем театре, Общество спасения на водах проводит 18 июля вечер-концерт. Участвуют: поэты М. Волошин, В. Ходасевич, О. Мандельштам, вокалисты П. Андреев, Н. Кедров, М. Зырянова, Т. Крылова, А. Моисеенко, А. Павлова, С. Семёнова, скрипач С. Дыммек, пианисты Вл. Бунимович, Ю. Львова, Н. Павлов, виолончелист А. Борисяк, артисты Е. Арцыбашева-Княжевич, О. Бакланова, Е. Манасеина, Н. Массалитинов, Ю. Ракитин, В. Васильев (конферанс) и другие. В качестве декораторов были привлечены К. Кандауров, Ю. Оболенская, А. Шервашидзе… Вечер принёс 1601 рубль сбора. Наибольший успех имели П. Андреев, С. Дыммек, М. Зырянова, Н. Массалитинов, читавший монолог Лопахина из «Вишнёвого сада». Наименьший — О. Мандельштам, стихи которого, согласно отчёту в «Южных ведомостях», вызвали «сплошной смех». (А вот у Ю. Оболенской осталось совсем другое впечатление. «Мандельштам — замечательный поэт», — пишет она своей подруге М. Нахман по поводу вечера 18 июля.) По отношению к Волошину в публике произошёл раскол. Одна часть кричала: «Довольно!» — другая — перекрывала крики «шумными аплодисментами».
Спустя неделю в том же Летнем театре состоялся новый концерт, в пользу курсисток. На этот раз Волошина принимали лучше (он читал стихи: «Реймсская Богоматерь», «Весна», «В эти дни»). Состав участников расширился за счёт артиста петроградского Народного дома А. Бастианова и солистки Русской оперы Н. Боровиковской. Будут ещё «музыкальное собрание» 28 июля на вилле Дейши-Сионицкой, выступление 12 октября на организационном собрании Литературно-художественного общества в Управлении порта, где Волошин затронет тему «Война и литература Франции»; в самом же Обществе будут выделены четыре секции: литературная, драматическая, музыкальная и художественная.
Последние штрихи мирной жизни… 2 августа в Феодосии открывается местное отделение Крымско-Кавказского горного клуба. Председатель — В. А. Княжевич (он же предводитель дворянства в Феодосии), один из уполномоченных по Коктебелю — М. Волошин. Была у Макса, в числе немногих, и такая вот оригинальная должность. И приходи-лось-таки её отрабатывать: 28 августа поэт принимает экскурсионную группу из ста тридцати человек, направленную в Коктебель горным клубом.
А за пределами Крыма нагнетаются страсти. «Ярость сгрудившихся народов» не знает меры. 14 августа Италия объявляет войну Германии, а Румыния — Австро-Венгрии. Русские войска, преодолевая сопротивление турок, ведут наступление в горах Армении. 2 сентября англичане в сражении на реке Сомме впервые применяют танки. Да и в Крыму тревожно: 7 октября на рейде Севастополя подорвался самый мощный линкор Черноморского флота «Императрица Мария» — погибло 228 человек. Сам поэт пребывает в подвешенном состоянии: подлежит ли он всё же воинской повинности? По слухам, будут призывать даже лиц «с укороченными оконечностями». «Выяснилось, что я вишу между двумя параграфами, — сообщает Волошин М. С. Цетлиной. — …меня могут и признать негодным» (из-за «исковерканной руки»), «но могут и забрить». А пока что надо завершить большую статью об А. Бенуа, «докончить начатые серии акварелей, распределить и систематизировать материалы для будущих книг». 11 октября французские войска под Верденом наконец-то переходят в контрнаступление. Будущее как поэта, так и всей Европы — туманно, зыбко и не внушает оптимизма… А как бы хорошо сейчас оказаться в Париже «вне войны»! Да и что такое эта война — из разных точек мира она ощущается по-разному. В Дорнахе поэт воспринимал войну «апокалиптически, в Париже — как великую трагедию», в России же — «как чудовищную нелепость». Что за необходимость нам бряцать оружием где-то там, на европейских окраинах?!
Волошин не боится открытой конфронтации с правительством. В середине октября он официально обращается к военному министру Д. С. Шуваеву, отказываясь «быть солдатом, как европеец, как художник, как поэт», и выражает готовность понести за это любое наказание. «Тот, кто убеждён, что лучше быть убитым, чем убивать… не может быть солдатом», — пишет он министру. «Я преклоняюсь перед святостью жертв, гибнущих на войне, — и в то же время считаю, что для меня, от которого не скрыт её космический моральный смысл, участие в ней было бы преступлением. Я знаю, что своим отказом от военной службы в военное время я совершаю тяжкое и сурово караемое преступление, но я совершаю его в здравом уме и твёрдой памяти, готовый принять все его последствия».
В конце октября Волошин подвергся в Феодосии медицинскому осмотру и получил предписание на обследование в Керченском военном госпитале. Ожидание «лазарета» срывает «рабочее настроение» — жалуется поэт Ю. Оболенской. Но сидеть сложа руки он не умеет. 29 октября Волошин выступает на публичном заседании Литературно-художественного общества (ЛХО, в дальнейшем — «Киммерика»), в гимназии Гергилевич, с лекцией «Жестокость в жизни и ужасное в искусстве». Под свои прежние наблюдения он подводит мощную философско-художественную базу, ссылаясь на A. Шопенгауэра, Ф. Достоевского, Л. Толстого, В. Гаршина, Вл. Соловьёва, Л. Андреева, М. Арцыбашева. 7 ноября там же художник выступает с лекцией о В. Сурикове.
10 ноября Волошин выезжает из Феодосии в Керчь и ложится в госпиталь на обследование. Через несколько дней его признают негодным для военной службы «из-за невладения правой рукой». 16 ноября Волошин возвращается в Феодосию и выступает с лекцией (всё там же) «Отцеубийство в античном и христианском мире». 25 ноября, получив в Уездном воинском присутствии бессрочное свидетельство об освобождении от воинской повинности, читает лекцию «Истоки современного искусства» с упором на историю и теорию импрессионизма.
1916 год начинался и заканчивался смертью великих художников — кисти и слова, сыгравших большую роль в эстетическом самоопределении Макса: 6 марта в Москве умер B. И. Суриков; 14 ноября в Руане под колёсами поезда погиб Э. Верхарн; 23 ноября в Париже скончался О. Редон. Конец Верхарна заставит Волошина о многом задуматься. Пока что он переводит его стихи («Город», «Дерево», «Завоевание», «Душа города», «Любовь» и др.), выступает с лекциями о его творчестве. Глубинно-философское осмысление судьбы бельгийского поэта ещё впереди… Но уже сейчас Волошин убеждён, что «смерть Верхарна не случайна… что он, достигший… высот познания мира, не должен был соблазняться краткой человеческой ненавистью… — и погиб, символически раздавленный той грубой силой, для которой он в этот апокалипсический момент Европы не нашёл заклинающего слова».
Читая лекцию «Судьба Верхарна», Волошин заостряет внимание на индусском понятии судьбы — карме: «Закон кармы учит нас… что ничто не может быть случайным, что всякое наше действие, всякая наша мысль и наше чувство рождают вокруг себя волны, которые рано или поздно вернутся в нашу жизнь возвратным ударом». Жизнь и смерть Верхарна наглядно иллюстрируют этот закон: человек, «достигший в своём творчестве… высшего просветления любви и благословения всего сущего», опустился до ненависти. Поэтому нет сомнения в том, что его нелепая смерть «с отрезанными ногами под колёсами поезда является совершенно точным отображением в мире физическом того душевного разлада… который он нёс в своём духовном мире». Верхарн, по мнению Волошина, не исполнил свой высший религиозный долг. Ведь если «гражданин несёт свой долг по отношению к своей стране в данный исторический момент», то поэт «исполняет долг по отношению к человечеству — в данную историческую эпоху». Поэтому «в эпохи всеобщего ожесточения и вражды» надо, чтобы оставались те, «кто могут противиться чувству мести и ненависти и заклинать обезумевшую действительность — благословением».
В декабре уходящего года Макс решился выступить в необычном для себя амплуа психофонолога, попытавшись по голосам поэтов определить их творческую индивидуальность (статья «Голоса поэтов»). Он сознаёт, что голос — это «самое пленительное и самое неуловимое в человеке. Голос — это внутренний слепок души». У каждой души «есть свой основной тон, а у голоса — основная интонация». Но возможно ли «её ухватить, закрепить, описать»? Возможно, ведь лирика — «это и есть голос. Лирика — это и есть внутренняя статуя души». Прав был Верлен, назвав свою книгу стихов «Романсы без слов». Тон, интонация, заложенная в стихотворении, порой важнее семантического наполнения. Старые поэты «пели». Французский верлибр «поднял мятеж против торжестве-но-однообразного гула Гюго, Леконт де Лиля и парнасцев». Символизм, кроме всего прочего, был ещё «борьбой за права голоса, борьбой за интимное слияние стиха и фразы…». В русской поэзии начала XX века зазвучали, «перебивая друг друга, несхожие, глубоко индивидуальные голоса…».
Как опытный настройщик некоего внутреннего поэтического инструмента, Волошин характеризует «капризный, изменчивый, весь пронизанный водоворотами и отливами» голос Бальмонта. Он весь «как сварка стали на отравленном клинке. Голос Зинаиды Гиппиус — стеклянно-чёткий, иглистый и кольчатый. Металлически-глухой, чеканящий рифмы голос Брюсова. Литургийно-торжественный, с высокими теноровыми возглашениями голос Вячеслава Иванова. Медяный, прозрачный, со старческими придыханиями и полынной горечью на дне — голос Ф. Сологуба… Срывающийся в экстатических взвизгах фальцет Андрея Белого. Отрешённый, прислушивающийся и молитвенный голос А. Блока… Шёпоты, шелесты и осенние шелка Аделаиды Герцык. Мальчишески-озорная скороговорка Сергея Городецкого».
В стихах А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама, С. Парнок «всё стало голосом. Всё их обаяние только в голосе. Почти всё равно, какие слова будут они произносить, так хочется прислушаться к самим звукам их голосов, настолько свежих и новых в своей интимности». Не случайно тот же Мандельштам написал: «Значенье — суета, и слово — только шум, когда фонетика — служанка Серафима»…
Впрочем, и сам Волошин нередко становится объектом внимания критики. В печати в это время появляются работы, эскизные или обобщающие, касающиеся его творчества. Целая серия публикаций принадлежит перу керченского журналиста Вл. Одинокого. В статье «Душа тоскующей полыни» (Южная почта, 1916, 6 декабря) автор пытается охарактеризовать природу киммерийской лирики поэта; в небольшом эскизе «Максимилиан Волошин» (там же, 9 декабря) говорится о его декламационном даре: «Когда он читает стихи, голос его преображается: он крепнет, становится резким, внушающим… Исчезает наружная маска спокойствия и безмятежной ласковости. И встаёт тень творца „Киммерийских сумерек“ и „Руанского собора“. Резко отчеканивает он каждое слово, читая „Портрет Бальмонта“. Страшно, пророчески звучали верхарновские гимны-проклятия городу в маленькой комнате…»
Воздух дышит нефтью и серой.
Солнце встаёт раскалённым шаром,
Дух внезапно застигнут
Невозможным и странным.
Ревность к добру иль клубок преступлений,
Что там мятётся средь этих строений?
Или над крышами чёрных кварталов
Это встают на последней мете
Башни пилонов, колонны порталов,
Жизнь уводящих к безмерной мечте?
И дальше — проекция ближайшего будущего:
Надежда безумная во всех сердцах
Сквозь эшафоты, казни и пожары
И головы в руках у палачей…
(«Душа города»)
23 декабря, выступая в «Киммерике», Волошин с присущей ему парадоксальностью обрисовывает, как получить желаемый эффект от лекций: зрители не должны потреблять информацию с дежурной благодарностью; лектор должен взрывать их спокойствие новыми, неожиданными фактами: «тот, кто со всем соглашается, ничего не воспринимает»; между тем каждая новая для слушателя мысль «рождает в нём спазму, которая выражается обычно страстным протестом». Поэт призывает аудиторию «свистеть, делать скандал» — только так можно дать понять лектору, что кое-что из его идей слушатели усвоили, над чем-то задумаются. Однако волошинская лекция «Театр как сновидение» не вызвала на этот раз «страстного протеста»; напротив, он был награждён бурными аплодисментами. Да, аудитория в Феодосии никуда не годится — пора ехать «возмущать» Москву.
А в Москве тем временем выходит из печати каталог выставки «Мир искусства». В нём —14 пейзажей Волошина, каждый из которых озаглавлен строкою из сонета «Акрополи в лучах вечерней славы…». В газете «Московские новости» (1916, № 300) появляется заметка «По выставкам» с нападками на модернистов «Мира искусства». Подписавший её, «один из публики», недоумевает, зачем нужно было показывать «какие-то рыжие пейзажики» какого-то Волошина — ведь они, прямо скажем, «безграмотны и нескладны». Интересно, понравилась ли Максу такая «спазматическая» реакция, хотя и не на лекцию?..
Заканчивается 1916 год. Мать и сын Волошины собираются в Москву. Макс намеревается выступить с лекциями о Сурикове, Верхарне и о жестокости в жизни и искусстве. Уже в Москве, под Новый год, он, как обычно, гадает по Библии. Остаётся запись: «…и все обитатели земли, имена которых не были записаны с сотворения мира в книге закланного Агнца, поклонились ему…» (Откр. XIII. 8). Приближалось время заклания…
…А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
…И снова Москва, город по-своему родной Волошину, город, в котором у него давние друзья — Ф. Арнольд, А. Белый, Бальмонты, Эфроны, Я. Глотов, Вяземские, К. Кандауров, Ю. Оболенская, А. Толстой, Кедровы, М. Кювилье, которая стала женой юного князя С. А. Кудашева, отмеченного печатью скорой смерти… Город, в котором он не может остаться наедине с самим собой, город, который раскручивает и заверчивает, как гигантская центрифуга, раздирает «на мелкие кусочки».
Макс занимается своими издательскими делами, где всё складывается для него благополучно: «Со всех сторон идут ко мне предложения, просьбы и заказы на разные издания», — сообщает он М. С. Цетлиной. Поэт выступает со своими стихами в Литературно-художественном кружке, выставляет серию пейзажей «Города в пустыне» в «Мире искусства» на Арбате, причём некоторые его работы покупаются. С особым чувством Волошин читает совсем ещё «свежую» лекцию о Верхарне. Начинающий поэт Константин Паустовский, побывав на вечере в Драматическом театре, делится своими впечатлениями: «Собралось человек сто. Зал был почти пустой… я влез в один из первых рядов и сидел между мамашей Волошина… и дочерью Бальмонта, девицей с белыми ресницами, пухлой и застывшей. Много длинноволосых поэтов. Волошин — маленький, толстенький, с рыжей шевелюрой, в пенсне и глухом шёлковом жилете. В фойе он суетливый, на сцене неподвижный, с глухим голосом и скупыми жестами. Читал он хорошо». С этой лекцией Макс выступает часто: в Большой аудитории Политехнического музея (в пользу пострадавших от войны детей), в аудитории Земского и Городского союзов в Петровско-Разумовском…
Кажется, будто поэт в предчувствии грядущих событий старается жить взахлёб, ему хочется побольше успеть — увидеть, сказать, написать… Волошин не пропускает ни одного заслуживающего внимания спектакля, он посещает Антропософское и Религиозно-философское общества, он постоянно «день и ночь на людях». В сущности, Макс не меняется. «Он так же торжественно, как три года, как пять лет тому назад, читает свои и чужие стихи, — вспоминает Р. Гольдовская, — всё так же умно (и в то же время глупо) рассуждает о жизни, искусстве, войне, танцах, политике, театрах, знакомых, новых книгах, страсти, ненависти, грядущих судьбах человечества, отцах церкви, буддизме, антропософии…» Он безостановочно носится по городу, он бывает всюду. Но город, на этот раз Москва, уже дрожит «далёким отголоском / Во чреве времени шумящих голосов»…
А начиналось всё в Петрограде. И развивалось вроде бы по знакомому с 1905 года сценарию. Но всё свершилось как-то быстро и сразу. 23 февраля 1917 года происходит стихийный революционный взрыв, переросший в массовые выступления против правительства и династии. Солдаты переходят на сторону рабочих. Из «Петербургских дневников» Зинаиды Гиппиус: «
Интересно, что правительство не проявляет явных признаков жизни. Где оно и кто, собственно, распоряжается — не понять… Премьер (я даже не сразу вспоминаю, кто у нас) точно умер у себя на квартире… Кто-то, где-то, что-то будто приказывает…
Дума — „заняла революционную позицию…“ как вагон трамвая её занимает, когда поставлен поперёк рельс. Не более. У интеллигентов либерального толка вообще сейчас ни малейшей связи с движением… Они шипят: какие безумцы! Нужно с армией! Надо подождать! Теперь всё для войны! Пораженцы!
Никто их не слышит…»
«
До сих пор не видно, как, чем это может кончиться. На красных флагах было пока старое „долой самодержавие“ (это годится). Было, кажется, и „долой войну“, но, к счастью, большого успеха не имело. Да, предоставленная себе, неорганизованная стихия ширится, и о войне, о том, что ведь ВОЙНА, — и здесь, и страшная, — забыли…
Бедная Россия. Незачем скрывать — есть в ней какой-то подлый слой. Вот те, страшные, наполняющие сегодня театры битком. Да, битком сидят на „Маскараде“ в Имп. театре, пришли ведь отовсюду пешком (иных сообщений нет), любуются Юрьевым и постановкой Мейерхольда — один просцениум стоил 18 тысяч. А вдоль Невского стрекочут пулемёты. В это же самое время (знаю от очевидца) шальная пуля застигла студента, покупавшего билет у барышника. Историческая картина!
Все школы, гимназии, курсы — закрыты. Сияют одни театры и… костры расположившихся на улицах бивуаком войск…»
«
Известия: раскрыты тюрьмы, заключённые освобождены. Кем?..
Взята Петропавловская крепость. Революционные войска сделали её своей базой…
…Стрельба продолжается, но вместе с тем о прав, войсках ничего не слышно… В Думе идут жаркие прения. Умеренные хотят Временное правительство с популярным генералом „для избежания анархии“, левые хотят Временного правительства из видных думцев и общественных деятелей…
На улицах пулемёты и даже пушки — все забранные революционерами, ибо, повторяю, о правит, войсках не слышно, а полиция скрылась».
Волна революции докатывается до Москвы. Восставшие (борцы за справедливость, бунтовщики, уголовные элементы — как угодно) занимают Кремль, вокзалы, телеграф, полицейские участки. Император Николай II отрекается от престола.
Всё происходящее отчётливо запечатлелось в памяти поэта: «Февраль 1917 года застал меня в Москве. Москва переживала петербургские события радостно и с энтузиазмом. Здесь с ещё большим увлечением и с большим правом торжествовали „бескровную революцию“, как было принято выражаться в те дни. Первого марта[10] Москва прочла манифест об отречении от престола Николая II. Обычная общественная жизнь, прерванная тремя днями тревоги, продолжалась по инерции. На этот день было назначено открытие посмертной выставки Борисова-Мусатова. И выставка открылась». Волошин вспоминает, что на вернисаже было много народу. В зале царило возбуждение. Люди пришли сюда, «скорее чтобы встретиться и обменяться новостями, чем смотреть картины. И едва ли многие подозревали тогда, что эта выставка — последний смотр уходящим помещичьим идиллиям русской жизни» (лекция «Россия распятая», 1920). Тут же, на выставке, составлялось воззвание (кому?) относительно памятников искусства, отдающихся под защиту народа. Какова будет эта «защита» — мы сегодня хорошо знаем.
А эйфория между тем продолжалась. Радостные и возбуждённые, пишет Е. А. Бальмонт, ходили мы «с толпой по улицам, вечера проводили на собраниях у знакомых». Её дочь, та самая Ниника, перестала ходить в школу, и Макс, что характерно, её в этом поддержал: «…она бегала с ним по Москве, забиралась на грузовики, ездила в тюрьмы освобождать заключённых и с восторгом говорила, что Макс один понимает по-настоящему, что такое свобода». Но чувствовал ли он, что это такое — в последствиях?.. Понимал ли, что стоит за звучным иностранным словом «революция»? Много позже, 14 июня 1922 года, Волошин озаглавит этим словом стихотворение, в котором довольно иронически выразит своё юношеское отношение к массовому «пароксизму чувства справедливости», даст книжно-поэтическую, романтическую трактовку этого «французского» явления:
Она мне грезилась в фригийском колпаке,
С багровым знаменем, пылающим в руке,
Среди взметённых толп, поющих Марсельезу,
Иль потрясающей на гребне баррикад
Косматым факелом под воющий набат,
Зовущей к пороху, свободе и железу.
В те дни я был влюблён в стеклянный отсвет глаз,
Вперённых в зарево кровавых окоёмов,
В зарницы гневные, в раскаты дальних громов,
И в жест трагический, и в хмель красивых фраз.
Тогда мне нравились подмостки гильотины,
И вызов, брошенный гогочущей толпе,
И падающие с вершины исполины,
И карлик бронзовый на завитом столпе, —
здесь поэт имеет в виду Вандомскую колонну в Париже, установленную в честь побед Наполеона и увенчанную его статуей, которая была несоразмерно мала по отношению к колонне.
Но «порох», «железо» и «зарево кровавых окоёмов» ещё впереди, а тогда, в марте 1917 года, всё было интересно, всё казалось экзотичным и совсем нестрашным. «На Красной площади был назначен революционный парад в честь торжества Революции. Таяло. Москву развезло. По мокрому снегу под кремлёвскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. На красных плакатах впервые в этот день появились слова „Без аннексий и контрибуций“.
Благодаря отсутствию полиции, в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые расположились по папертям и по ступеням Лобного места, заунывными голосами пели древнерусские стихи о Голубиной книге и об Алексее — человеке Божьем.
Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня, быть может подготовленного уже предыдущим, эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзалось время, проваливалась современность и революция, и оставались только кремлёвские стены, чёрная московская толпа да красные кумачовые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под этих вещих камней Красной площади, обагрённых кровью Всея Руси. И тут внезапно и до ужаса отчётливо стало понятно, что это только начало, что Русская Революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Ясской земли, нового Смутного времени» («Россия распятая»),
В Москве на Красной площади
Толпа черным-черна.
Гудит от тяжкой поступи
Кремлёвская стена.
На рву у места Лобного
У церкви Покрова
Возносят неподобные
Нерусские слова.
Ни свечи не засвечены,
К обедне не звонят.
Все груди красным мечены,
И плещет красный плат.
По грязи ноги хлюпают,
Молчат… проходят… ждут…
На папертях слепцы поют
Про кровь, про казнь, про суд.
(«Москва», март 1917 г.)
Это было озарение, растворение капли дня сегодняшнего в океане времени. «Перспективная точка зрения, необходимая для поэтического подхода была найдена: этой точкой зрения была старая Москва, дух русской истории. Но эти стихи шли настолько вразрез с общим настроением тех дней, что их немыслимо было ни печатать, ни читать. Даже в ближайших мне друзьях они возбуждали глубочайшее негодование». Ещё бы — ведь даже К. Бальмонт повторял за всеми: «Россия показала миру пример бескровной революции!» (Макс-то знал, что революции, «начинающиеся бескровно, обыкновенно оказываются самыми кровавыми».)
А. Толстой по поводу «торжества революции» на Красной площади провозглашал, что вышедший из подвалов народ вынес оттуда «не ненависть, не месть, а жадное своё, умное сердце», горящее небывалой любовью.
Любопытно в этой связи сопоставить отношения к происходящим событиям двух «крымчан» (правда, один — с 1918-го, другой — с 1893 года) и почти что ровесников (разница в четыре года) — И. С. Шмелёва и М. А. Волошина.
Как известно, Иван Сергеевич Шмелёв радостно приветствовал февральские перемены. Поначалу он вообще ждал от революции чуда. Отправляясь «в Сибирь за освобождёнными», он пишет очень бодрые очерки. Его вдохновляют красные флаги и звучные лозунги: «Смотришь, и поднимаются в душе светлые порывы, и перед этими радостными кусками красного атласа меркнет и выносится из души последнее притаившееся сомнение… В новое надо идти с детскими глазами». — Как это не похоже на умонастроения Волошина, воспринявшего Февральскую революцию как «солдатский бунт», как предвестие последующих трагических событий. «Куски красного атласа», которые поначалу так заворожили Шмелёва, контрастируют с «красным платом» Волошина из вышеприведённого стихотворения. В статье «Революция, проверенная поэзией» (1919) он напишет: «Москва переживала революционную идиллию. Принято было говорить о „бескровной революции“… Но в памяти „оставались только красные лоскуты знамён и кокард, точно пятна крови“…» Шмелёв же, присутствовавший на митингах, отмечает единство народа, солдат и офицеров, совместно «кующих свободу». Однако довольно скоро происходит переоценка. Автор «Суровых дней» подмечает разгул уголовщины, всеобщее падение нравов, озлобленность и задаётся вопросом: а готова ли Россия принять свободу? Да и какая она, свобода… какая сегодня Русь? «Обносилась, оголилась она, богатая. Спрятаны в просторах под горами, на тысячи вёрст, сокровища. Ходит-бродит по ним нищая Русь… а ширь светлая, простор Божьего мира, в котором всем место». Это только преамбула исторической судьбы России, горечь которой выразил Волошин в стихотворении «Святая Русь» (19 ноября 1917): «Разорила древнее жилище / И пошла поруганной и нищей…»
Мотив разочарования в происходящих событиях усиливается в очерках Шмелёва, которые составят цикл «Пятна». Он убеждён, что русскому народу чужды новые революционные идеи, которые противоречат его исконно религиозному сознанию. Писатель верит в «скрытый лик» России, в то, о чём говорит Волошин в поэме «Китеж»: «Святая Русь покрыта Русью грешной». Вернувшись в Москву из Крыма, Шмелёв пишет сыну 9 августа 1917 года: «Я стараюсь уйти в работу, утонуть в ней… Убью себя на работе, т. е. время… Уведу свою душу. Мне тяжело». А вот о чём думает летом 1917 года Волошин. Наблюдая «сказочность неожиданных превращений: человеческих взлётов и падений», он всё же утверждает в письме к Б. Савинкову, что вся остальная «обыденность революций, ил и муть растревоженных душ и вожделений, — только естественный физиологический процесс, простой, как разложение трупа». Как видим, настроения обоих писателей незадолго до «Великого Октября», мягко говоря, невесёлые. Один, правда, больше погружён в себя, другой, как обычно, склонен к историко-философским обобщениям.
События неизменно вызывают у Макса аналогии с историей Франции. В декабре 1917 года он заканчивает два стихотворения «Взятие Бастилии» и «Взятие Тюильри», объединённые общим названием «Две ступени» и посвящённые М. И. Цветаевой, незадолго до этого посетившей Коктебель. В судьбе самой Марины Ивановны, в её поэтическом творчестве назревают существенные перемены. Ей также открывается ужас того, что происходит в России, ужас вырисовывающейся перспективы:
Свершается страшная спевка, —
Обедня ещё впереди!
— Свобода! — Гулящая девка
На шалой солдатской груди! —
вырвалось у неё в мае 1917-го. Свобода… Кто знал ей истинную цену? Невольно вспоминаются строки В. Хлебникова, написанные за месяц до этого:
Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на «ты»…
Да, небо пока что ещё не заволокли тучи. В марте-ап-реле по инерции продолжалась общественно-культурная жизнь. Макс бывал на собраниях Общества свободной эстетики, заседаниях Литературно-художественного кружка, на посиделках недавно возникшего Московского клуба писателей. Он по-прежнему выступает с лекциями и со стихами (в Доме печати — вместе с М. Цветаевой), намеревается отправиться в Питер, куда переехала выставка «Мира искусства»… Однако все эстетические впечатления заслоняют мысли о судьбе державы. «Начиналось общее разложение России, которое должно было привести её к окончательному распаду… Но всё это началось с падения династии и императорского строя».
Поэт вспоминает, что в первых числах марта среди русских писателей распространялась анкета, в которой был поставлен глобальный, волновавший всех вопрос: республика или монархия? У Волошина не было однозначного ответа, его мнение сводилось к следующему: «Каждое государство вырабатывает себе форму правления согласно чертам своего национального характера и обстоятельствам своей истории. Никакая одежда, взятая напрокат с чужого плеча, никогда не придётся нам по фигуре. Для того, чтобы совершить этот выбор, России необходим прежде всего личный исторический опыт, которого у неё нет совершенно, благодаря нескольким векам строгой опеки. Поэтому вероятнее всего, что сейчас она пройдёт через ряд социальных экспериментов, оттягивая их как можно дальше влево, вплоть до крайних форм социалистического строя, что и психологически, и исторически желательно для неё. Но это отнюдь не будет формой окончательной, потому что впоследствии Россия вернётся на свои старые исторические пути, то есть к монархии: видоизменённой, но едва ли в сторону парламентаризма»
Волошин замечает, что эти мысли пришли ему в голову до возвращения Ленина в Россию, когда угроза большевизма ещё не нависла над страной. Сменивший долгую эпоху империи период Временного правительства виделся поэту тяжёлым временем Смуты. Государство быстро разрушалось, а между тем «обречённая на гибель русская интеллигенция торжествовала революцию, как свершение всех своих исторических чаяний. Происходило трагическое недоразумение: вестника гибели встречали цветами и плясками, принимая его за избавителя. Русское общество, уже много десятилетий жившее ожиданием революции, приняло внешние признаки (падение династии, отречение, провозглашение республики) за сущность события и радовалось симптомам гангрены, считая их предвестниками исцеления. Эти месяцы были вопиющим и трагическим противоречием между всеобщим ликованием и реальной действительностью. Все дифирамбы в честь свободы и демократии, все митинговые речи и газетные статьи того времени — были нестерпимою ложью. Правда — страшная, но зато подлинная, обнаружилась только во время октябрьского переворота. Русская революция выявила свой настоящий лик, тайно назревавший с первого дня её, но для всех неожиданный» («Россия распятая»):
Во имя грозного закона
Братоубийственной войны
И воспалённы, и красны
Пылают гневные знамёна.
(«Русская революция», 1919)
Желая уйти от зловещих предчувствий, особенно острых в столице, Волошин, как и в прежние времена, уезжает в апреле на «родину духа». Здесь можно побыть наедине с собой, осмыслить случившееся, сосредоточиться на творчестве. И вот он уже в Коктебеле. Ночь. Берег моря. Над головой всё то же звёздное небо, неизменное в дни мира и войны. Всё так же
Жёлтою жемчужиной Юпитер
Над седым возносится холмом.
Взгляд Волошина охватывает всю доступную ему картину мироздания… «Мы видим вокруг себя вселенную, проникнутую глубокой мудростью: всё вокруг глубоко связано и обусловлено законами причинности. А наше дело создать вселенную, проникнутую любовью… Ведь в этой мудрости нет любви. А нужно, чтобы во всякой частице мира была разлита любовь, и стала его логикой, его причинностью. Мы творим эту вселенную»…
Искры света в диске наклонённом —
Спутники стремительно бегут,
А заливы в зеркале зелёном
Пламена созвездий берегут.
«Мы живём в эпоху, когда всё сдвинуто в мире, нет устоев, нет чувства тяжести, мы не знаем, где верх, где низ. Европа сорвана войной, Россия сорвана революцией. Наступило время, когда надо с закрытыми глазами, как слепому, внутри себя нащупать те тяготения, те точки опоры, которые ускользнули в мире внешнем. Две силы есть у творческой воли человека: познание и любовь. Познание — сила негативная… это творчество, развёрнутое в обратном порядке. Понимание — негативный оттиск творения. Все положительные творческие силы человека — в любви. Любовью он вносит в мир новое, ею сочувствует в работе Иерархий в качестве одной из них».
И вблизи струя звенит о камень,
А внизу полёт звенит цикад,
И гудит в душе певучий пламень
В вышине пылающих лампад…
«Социализм является явлением отрицательным, потому что для направления настоящего он недостаточно практичен, а для выявления будущего его идеал слишком мелок. В настоящем он ограничивает свою роль справедливым распределением плодов производства, не заботясь ни о практичном, ни о моральном упорядоченьи его. В будущем он ставит неприглядный и легко достижимый идеал сытого и комфортабельно обставленного человека. Это делает социалистов избранными носителями того рабьего духа, который распространяют в мире демоны машин, которые, подобно всякой силе, данной в руки человеку, стремятся не работать на него, а стать его господами…
Счастье вовсе не должно являться высшей целью человека на земле. Утверждение Кропоткина о том, что высшим законом является развитие человечества от менее счастливого существования к более счастливому — неверно. Несчастие является основным побудителем к каждому поступательному движению. Счастье, благосостояние, удовлетворённость приостанавливают всякое развитие, в физическом мире и в духовном — это смерть, начало распада… Я бы заменил понятие счастья духовным равновесием, покрывающим собою все противоречия и ущербы мира материального. Социальный рай на земле находится в полном противоречии с „царством Божьим внутри нас“». Господи, хорошо-то как здесь, в этой тройной короне — моря, звёздного неба и гор. Так бывает, когда время останавливается…
Кто сказал: «Змеёю препояшу
И пошлю»? Ликуя и скорбя,
Возношу к верховным солнцам чашу,
Переполненую светами, — себя.
(«Ветер с неба клочья облак вытер…», 1917)
Мысли, неотступные… Одно наслаивается на другое; потребуется время, чтобы эти размышления обрели определенную форму. Пока же Волошин просто фиксирует их, озаглавив: «Заметки 1917 года». Кто знает — войдут ли они в статью или отдельную книгу; возможно, будут использованы как материал для лекции…
Накопился конечно же и материал поэтический… За последние годы сложился солидный стихотворный массив, и Волошин подумывает о новом сборнике. Ведь со времени выхода книги «Стихотворения. 1900–1910» он выпустил лишь стихи, посвящённые мировой войне. Назрела необходимость издать произведения лирико-философского плана. Тем более что поэтический сборник 1910–1914 годов «Selva Oscura» («Тёмный лес» или — ближе к смыслу — «Дантов лес»), на который был подписан договор с Сабашниковым, так и не увидел света. В сущности, к сорока годам уже можно подводить какие-то предварительные итоги, и Волошин, окидывая взглядом пройденный путь, расставляет определённые вехи, характеризует основные этапы творчества как единой Книги: «СТРАННИК этой книги отдаётся вначале внешним проявлениям мира („СТРАНСТВИЯ“, „ПАРИЖ“), переходя потом к более глубокому и горькому чувству своей сыновности — чувству Матери-Земли („КИММЕРИЯ“); затем он проходит сквозь испытания чувственной стихией воды („ЛЮБОВЬ“, „ОБЛИКИ“); познаёт Огонь внутреннего мира („БЛУЖДАНИЯ“) и пожар мира внешнего („АРМАГЕДДОН“); путь его познания завершается пока висящим в междузвёздном Эфире „ДВОЙНЫМ ВЕНКОМ“ („CORONA ASTRALIS“, „LUNARIA“)… Таков психологический чертёж этого пути, проходящего сквозь испытания стихиями: землёй, водой, огнём и воздухом». Новая книга стихов будет называться «Иверни», то есть «черепки, осколки», иначе говоря — избранные произведения, элементы пока ещё не законченной мозаики, своего рода «драгоценные камни» поэзии. Именно так ещё в июле 1915 года поэтесса М. Моравская охарактеризовала стихи Волошина: они «прекрасны, как драгоценные камни». Складывая поэтический сборник, Макс параллельно работает и над книгой о Верхарне…
Ну а в Коктебель, несмотря на смутное время, съезжаются дачники и гости Волошина. Воистину, человек неизменен в своих привычках; его трудно выбить из проторённой колеи жизни. Появляются Манасеины, Поликсена Соловьёва, Анастасия Цветаева с сыном, Валентина Ходасевич, Владислав Ходасевич с женой, поэт Георгий Шенгели, Юлия Львова с дочерью… Преобладают почему-то «балетные», отмечает Макс, полагая, что на этот раз, пожалуй, не будет привычного «обормотства». Коктебель располагает к занятию живописью, и Волошин увлечённо пишет акварели. А времена — тяжёлые. Приходится постоянно думать и о пропитании, а стало быть, — о продаже картин. Окантовав несколько пейзажей, он выставляет их на обозрение в столовой Е. П. Паскиной (дочери П. П. Теша), месте весьма популярном среди коктебельцев, и назначает цену: 10–15 рублей за картину. Его акварели пользуются спросом — они покупаются в Москве, покупаются и здесь, в Коктебеле. Художнику удалось заработать более двухсот рублей. Пора художественно «покорять» Петроград — в этом начинании берётся помочь Ю. Львова, обещавшая захватить туда несколько десятков работ.
Повсеместно популяризируя свои картины, Волошин вместе с тем убеждён: принцип «искусство для всех» глубоко порочен. «В нём выявляется ложная демократизация. „Искусство для всех“ вовсе не подразумевает необходимой ясности и простоты… в нём есть гибельное требование об урезке роста мастера в уровень с современными ему невежеством и дурным вкусом, требование „общедоступности“, азбучности и полезности. Искусство никогда не обращается к толпе, к массе, оно говорит отдельному человеку, в глубоких и скрытых тайниках его души.
Искусство должно быть „для каждого“, но отнюдь не для всех. Только тогда оно сохранит отношение индивидуальности к индивидуальности», которое и составляет его смысл, в отличие от просто ремёсел, «обслуживающих вкусы и потребности множеств». Но Макса волнуют и практические вопросы, связанные с продажей картин. Ещё в Москве он написал статью «Гильдия святого Луки», в которой говорил об унизительном положении художников, фактически обкрадываемых перекупщиками. Поэт видит выход в создании Союза художников (Гильдии), который мог бы провести в жизнь и контролировать закон о процентном отчислении автору с каждой перепродажи его картины. Отчисления же, идущие на счёт Гильдии, можно было бы употребить на поддержку бедствующих художников, а также всего нового, пока ещё не признанного. Ориентируясь на пример средневековых гильдий, Волошин предлагает ввести своеобразную иерархию: ученики, подмастерья, мастера, что закрепит в искусстве определённую систему ценностей. Во главе же союза должен стоять Совет мастеров-распорядителей, включающих в себя, помимо художников, талантливых критиков, музейных работников, коллекционеров и ценителей живописи. Именно на него должна быть возложена функция грамотного, мудрого регулирования художнической деятельности. Как видим, несмотря на средневековую ориентацию, мыслит Волошин вполне современно и даже прагматично. Увы, всё новое, даже трижды разумное, до поры вязнет в тине человеческой инертности.
Естественно, рождаются новые стихи. Среди них программный характер приобретает стихотворение «Подмастерье» (посвящённое Ю. Львовой), поэтический «символ веры», свод законов творчества, манифест волошинской поэзии, который начинается с осознания своего призвания, высшего предназначения:
Мне было сказано:
Не светлым лирником, что нижет
Широкие и щедрые слова
На вихри струнные, качающие душу, —
Ты будешь подмастерьем
Словесного, святого ремесла.
Ты будешь кузнецом
Упорных слов.
Вкус, запах, цвет и меру выплавляя
Их скрытой сущности…
Славянская «безмерность духа» требует сдерживающей формы, поэтому для творческого «блуждания» духа необходим закон самоограничения, наличие некоей сдерживающей силы:
Для ремесла и духа — единый путь:
Ограничение себя…
В этих строках — разработка темы, поднятой Гёте в сонете «Природа и искусство» (1800):
Лишь в чувстве меры мастерство приметно,
И лишь закон свободе даст главенство.
Самопостроение (занимающее видное место в произведениях Гёте, в частности в романах о Вильгельме Мейстере), самопознание поэта начинается с самодисциплины, с выработки устойчивых жизненных принципов, что окажется для Волошина особенно ценным в период эпохальных событий.
Коль необуздан ум твой — будет тщетно
Стремление к высотам совершенства, —
делает вывод Гёте. Волошин же сводит эту тему к афористическому императиву: «Безвыходность, необходимость, сжатость» — закон, имеющий отношение и к художественной форме, и к жизненному коду поведения. «Все трепеты и все сиянья жизни» могут быть сведены на нет ради совершения подвига творчества, ведь оно «является неугасимым горением совести».
Творчество — это самопожертвование, аскетизм, умаление чувств ради воли, трансформация жизненной красоты в энергию художественного выражения, умерщвление себя и возрождение в Слове.
Ты должен отказаться
От радости переживаний жизни,
От чувства отрешиться ради
Сосредоточья воли;
И от воли — для отрешённости сознанья.
Когда же и сознанье внутри себя ты сможешь погасить —
Тогда
Из глубины молчания родится
Слово, в себе несущее
Всю полноту сознанья, воли, чувства.
Все трепеты и все сиянья жизни.
Но знай, что каждым новым
Осуществлением
Ты умерщвляешь часть своей возможной жизни:
Искусство живо —
Живою кровью принесённых жертв…
Стихотворение включает в себя и своеобразный очерк жизни Волошина — прошлой и грядущей.
Ты будешь Странником
По вещим перепутьям Срединной Азии
И западных морей,
Чтоб разум свой ожечь в плавильных горнах знанья,
Чтоб испытать сыновность и сиротство
И немоту отверженной земли.
Твоя душа пройдёт сквозь пытку и крещенье
Страстною влагою,
Сквозь зыбкие обманы
Небесных обликов в зерцалах земных вод.
Твоё сознанье будет
Потеряно в лесу противочувств,
Средь чёрных пламеней, среди пожарищ мира.
Твой дух дерзающий познает притяженья
Созвездий правящих и волящих планет…
Поэт — «себя забывший бог» на земле и вечный путник, затерявшийся во вселенных…
Концовка стихотворения исполнена антропософского пафоса. Мы находим здесь поэтическое выражение недавних размышлений художника о необходимости претворения мира Разума во вселенную Любви:
Когда же ты поймёшь,
Что ты не сын земле.
Но путник по вселенным,
Что солнца и созвездья возникали
И гибли внутри тебя,
Что всюду — и в тварях, и в вещах — томится
Божественное Слово,
Их к бытию призвавшее,
Что ты освободитель божественных имён,
Пришедший изназвать,
Всех духов — узников, увязших в веществе,
Когда поймёшь, что человек рождён,
Чтоб выплавить из мира
Необходимости и Разума —
Вселенную Свободы и Любви,
Тогда лишь
Ты станешь Мастером.
Волошин продолжает размышлять о ситуации, сложившейся в России, о путях выхода из неё. «Странник и поэт, мечтатель и прохожий»… — его мысли, отмеченные благородством и душевной красотой, по большому счёту, развиваются в утопическом направлении. Государство, не важно — республика или монархия, должно основываться, считает поэт, на отказе от личных страстей и инстинктов, на самоотречении и самопожертвовании. Это «фундамент, на котором может строиться общественность, и качество, которым должен обладать каждый призванный к управлению или к представительству. Между тем в современном парламентском строе система подбора общественных деятелей строится как раз на обратном: на выживаньи приспособленнейшего, эгоистичнейшего. Доступ к общественным должностям должен быть обусловлен возрастающим рядом обетов и отречений, подобных монашеским». Разумеется, такие требования иначе как идеалистическими не назовёшь… Осуществление их вряд ли возможно в силу неизменности человеческой природы, и уж тем более это было нереально в ту дикую эпоху всеобщего ожесточения.
Картины «разодранного» войной мира, вакханалии «взметённых толп» в России удручали и тяготили поэта. Отрываясь мыслями от грешной земли, Макс всё чаще задумывается о Граде Господнем, с высоты которого должны оцениваться история и бытие людей. С этой точки зрения, буржуазия и пролетариат едины, считает поэт, поскольку оба сословия отталкиваются от идеала благополучия и комфорта, руководствуются исключительно эгоизмом. Законом человеческого сообщества должна стать самоотречённость, «только то, что делается для других, без мысли о самом себе и без ожидания награды. „Здоровый эгоизм“, личный и классовый, на котором строится весь современный строй (и капиталистический, и социалистический), это яд, разлагающий единение и свободу».
Идеал же Волошина сводился к тому, чтобы каждый работал на другого «безо всякой мысли об оплате», а всё нужное получал от других в виде милостыни. Во главу угла возводилось нищенство, правда, оговаривался поэт, нищенство — моральное, а не экономическое; только в этом случае и машины, и промышленность будут во благо, а не во зло человечеству.
Ещё в период Первой русской революции 1905–1906 годов Волошин много рассуждал о справедливости. В условиях нового «исторического оргазма» он вновь обращается к этой теме: «Справедливость… как порыв любви, как мятеж против беззакония, — прекрасна… Справедливость судящая, наказывающая — зло. Нет закона, справедливого для двух людей, потому что моральные пути не совпадают и героический поступок одного явился бы преступлением для другого». Чего было больше в тогдашней в России — героики или преступлений?.. Споры об этом ведутся до сих пор.
Размышляя о Граде Господнем, Волошин задумывается над евангельским «договором»: «Просите и воздастся вам…» Как это понимать? «Господь берёт на себя устройство земных дел человека, пока он сам будет заниматься делами господними. И обещает исполнение всякой просьбы, к нему обращённой… последнее обещание сводится к моральному очищению, просветлению желаний и к приведению их в гармоническое согласие с планами Божьими…»
Таковы были основные положения жизненной философии Волошина в промежуток между Февралём и Октябрём 1917 года. Добавим сюда ещё три его кратких мысли: «Собственность священна — это право дара. Моё только то, что я могу пожертвовать»; «Будущее выявляется верой, действительность — скептицизмом»; «Россия должна идти к религиозной революции, а не к социальной». Цель — «преображение личности».
Но пока ближайшие перспективы безрадостны, витающие в воздухе социальные идеи порочны. «Больше, чем когда-либо, я чувствую неприязнь к социализму и гляжу на него как на самую страшную отраву машинного демонизма Европы, — пишет художник А. М. Петровой 18 мая 1917 года. — Пролетарии, так страстно ненавидящие „буржуазию“, берут от неё все её яды, отбрасывая то, что есть в ней от общей духовной культуры — „аристократической“ культуры человечества. Социализм и „германизм“, в конечном счёте, одно и то же: обожествление „здорового комфортабельного эгоизма“. Поэтому они и чувствуют друг к другу такую неодолимую симпатию». У него крепнет убеждение (письмо от 2 июня), что «вся наша революция в конце концов окажется грандиозной германской провокацией».
Весьма знаменательное наблюдение, во многом подтверждающее взгляды современных историков на роль Германии в развязывании и стимулировании революционных событий в России. В архиве поэта сохранилась заметка, в которой он рассуждает о соответствии русской революции «интересам и планам Германии, настолько в факте её совершения заключается спасение Германии от железного кольца, которым она уже была окружена… в мышеловке, куда мы попали, приманкой были положены германской политикой свержение старого режима, гражданская свобода и социальный строй. И они знали, что мы не можем не пойти на этот кусок сала, что для нас наши внутренние немцы ненавистнее, чем далёкие немцы внешние, окружённые ореолом науки (для интеллигенции) и социал-демократии (для рабочих)…»
М. Волошин разделяет позицию Б. Шоу в отношении социализма: как он «был бы популярен, если бы не было социалистов!». Но они есть, так что «доброго во внешнем мире» ждать не приходится; из письма А. М. Петровой от 9 мая: «…не такова теперь эпоха и не такова нравственная культура европейцев, чтобы добро и свобода могли бы торжествовать. Теперь победа за эгоизмом и жадностью». Волошин прозревает будущее, будто листает книгу: «Социализм, который, конечно, восторжествует, принесёт с собою лишь более крепкие узы ещё более жестокой государственности». Какой уж там «Град Господень», какой там социальный строй, согласный с духом Христовым, основанный на благодеянии и даре…
Нет ничего удивительного в том, что поэт «безнадёжно чужд политической активности». Он признаётся, что, читая газеты, по очереди соглашается с самыми противоречивыми мнениями и выходит из себя лишь тогда, когда встречается с проявлениями человеческой глупости. Волошин не видит в России партии, с которой можно быть солидарным, в которой «хотя бы отчасти выражалось то, чего можно было бы пожелать России». К тому же сам принцип партийности был ему глубоко чужд. Художник сравнивал партийные программы с историями болезни: «Одни, — вспоминает слова поэта его жена Мария Степановна Волошина, — болеют корью, другие — коклюшем, у третьих — понос. И ещё —…люди и нелюди есть во всех партиях» — наблюдение, которое трудно опровергнуть.
А между тем события нарастают как снежный ком. 3 апреля в Россию возвращается из эмиграции В. И. Ленин. За три дня до него вернулся и Г. В. Плеханов, проехавший через Англию и Францию. Ленин же махнул прямиком через Германию, с которой Россия находилась в состоянии войны. Парижская газета «Юманите» писала: «Германское правительство разрешило Ленину, стороннику немедленного мира, пропаганде которого германская печать и даже имперское правительство посвящает особое внимание, а также тридцати его единомышленникам, проезд через Германию для возвращения в Россию. Притом германское правительство предоставило Ленину разные льготы». Сегодня разговором о «пломбированном» вагоне, в котором ехал вождь революции, уже никого не удивишь. Но тогда для многих это был своего рода шок; приезд Ленина воспринимался как факт политического распутства. Аморализм Ленина вызвал протест даже в отдельных частях армии и флота.
3 июня открывается Первый Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов. К этому времени были обнародованы указы Временного правительства о всеобщей политической амнистии, о свободе слова, печати, союзов, собраний и стачек, об отмене смертной казни. Было принято решение о подготовке к созыву Учредительного собрания на началах всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. «Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легальности (Россия сейчас самая свободная страна в мире из воюющих стран), с другой стороны, отсутствием насилия над массами», — с удовлетворением констатирует Владимир Ильич. Однако у большевиков своё представление о свободе. Они готовят вооружённое восстание против Временного правительства и съезда Советов. Ещё Шигалёв в «Бесах» Достоевского писал в своей тетрадке о выходе из «безграничной свободы» в «безграничный деспотизм». Ленинцы едва ли были знакомы с романами Достоевского, однако шигалёвскую теорию они с успехом претворят в практику жизни.
18 июня срывается русское наступление на фронте; ширится антиправительственное движение; 15 августа в Москве проходит Всероссийский церковный Собор; в конце этого месяца терпит поражение корниловский мятеж (попытка, пока ещё возможно, спасти ситуацию).
Макс по-прежнему испытывает «неприязнь и презрение» к политике как таковой. «Каждый, проваливающийся в эту кашу, — пишет он Р. Гольдовской, — отказывается одновременно и от здравого смысла и от религиозной веры, — то есть от тех двух сил, в которых исчерпаны все возможности общественного творчества». Какие-то надежды на стабилизацию положения он связывает с новым коалиционным правительством, куда вошли Н. Д. Авксентьев (с которым поэт учился в университете, поддерживал отношения за границей и которого характеризовал как «человека строгой логики», «опытного и последовательного организатора») и Б. В. Савинков. По-прежнему идеализируя «бесстрастного и мятежного» эсера, Макс видит в нём «все данные созидающей государственной воли». Данные эти, как известно, не захотел рассмотреть Керенский (а скорее усмотрел то, что его сильно испугало) и вскоре сместил одного из «последних Валуа» с поста управляющего Военным министерством. Не последнюю роль сыграло то обстоятельство, что Савинков настаивал на введении смертной казни в тылу, Керенский же был против.
Кто здесь прав? — задаёт себе вопрос Волошин. Ведь «введение казни, — пишет он А. М. Петровой 16 августа, — есть в сущности отмена самосуда (т. е. смертной же казни за ничтожные, в сущности, проступки)». Поэтому нет сомнения в том, что «она будет введена рано или поздно; самое страшное в революциях — это чувствительность: она приносит всегда в итоге самые кровавые плоды. Когда отменялась смертная казнь, я говорил: прекрасно, это, конечно, первый жест, который нужно было сделать, но, увы, он означает, что русская революция будет очень кровава… Наименее жестоки бывают те, которые убивают из необходимости и для пользы». Разве не были сентиментальны и чувствительны Робеспьер, Кутон, Марат и Сен-Жюст? Ещё в статье «Пророки и мстители» (1906) Волошин приходил к выводу: «Чем человек чувствительнее и честнее, тем кризис идеи справедливости сказывается в нём с большей силой и нетерпимостью». Впрочем, о честности и достоинствах современных Кутонов говорить едва ли приходится. Разве что — Савинков, настоящий «литейщик» этого сурового времени, «действенное и молниеносное сочетание религиозной веры с безнадёжным знанием людей»… Как видим, Макс не меняет своего отношения к близким знакомым…
Меняется ли его отношение к России? Теперь «вся Россия перенасыщена… влагой безумия и исступления», — пишет Волошин Эренбургу. Да и не он один такого мнения. «В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны — величайшая на земле страна, — отмечает в „Окаянных днях“ И. Бунин. — Ещё на три тысячи вёрст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами… Невский был затоплен серой толпой, солдатнёй в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гулящей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь… И… тогда уже говорили многие мужики с бородами:
— Теперь народ, как скотина, без пастуха, всё перегадит и самого себя погубит».
Тюрьмы распахнуты и для политзаключённых, и для уголовников. Выходите! Свобода! И это повсеместно. Характерная картина в Пензе (газетная зарисовка): «На Московской улице красные банты, красные знамёна, полотнища кумача… На извозчиках, потрясая разбитыми кандалами, в халатах, войлочных шапочках, в казённых котах едут освобождённые из острога уголовники, с извозчиков они что-то кричат о свободе, о народе. Толпа криками приветствует их. Даже извозчики везут их даром; в России теперь всё будет даром! „Отречёмся от старого мира!“ Тюрьмы уже взломаны, стражники бежали. В свободной стране не может быть тюрем. Теперь свобода всем, совершенная свобода!» Россия, «нелепая, жестокая, несуразная, но такая родная и обаятельная», — по-женски выражает свои эмоции Р. Гольдовская, — проваливается «в тьму веков».
В Коктебеле пока относительно спокойно, хотя и совершаются отдельные налёты на дачи. Здесь ещё продолжаются «внутренние» войны — «нормальных» дачников с «обормотами», которых давно уже и след простыл… Однако столп коктебельской нравственности Дейша-Сионицкая действует в духе времени. Она обвиняет Волошина и компанию в различного рода подстрекательствах и большевизме. Тем более что рядом, на даче Манасеиных, и Максим Горький — тот ещё большевик! Как удобно: теперь, что бы где ни случилось, виноваты поэты-декаденты, то бишь — большевики, ну и — писатели-пролетарии… Кстати, Волошин, возможно не сразу, проникся к Горькому определённой симпатией. Сказались открытость Макса, его доверительное отношение к людям. «Видал его каждый день, — пишет поэт М. В. Сабашниковой вскоре после отъезда писателя из Коктебеля. — В нём бесконечная внимательность и любовность по отношению ко всему окружающему и просветлённость очень больного и очень усталого человека».
А Россия хоть и с натугой, но воюет. Количество дезертиров всё увеличивается; потребность в солдатах всё возрастает. Макса Волошина вновь намереваются «забрить»: он получает повестку из Воинского присутствия. Хорош сорокалетний воин, с почти недействующей правой рукой, которой он даже писать как следует не может (Макс начал пользоваться пишущей машинкой). Он и в писари-то фронтовые не годится. Разве что — подметать казармы, осуществляя тем самым «посильную помощь родине». Но пойди ты им докажи!.. А пойти всё же пришлось. И вот 25 августа, потолкавшись в тесном предбаннике среди сотни голых тел, Макс оказался на свободе: его снова «отбрили».
Хоть здесь не дошло до абсурда. Однако далеко не все разделяют, казалось бы, самые естественные взгляды Волошина на жизнь и смерть, на мир и войну. Даже родная мать осуждает сына-пацифиста. Марина Цветаева вспоминает их характерный диалог:
«— Погляди, Макс, на Серёжу (Эфрона. — С. П.), вот — настоящий мужчина! Муж. Война — дерётся. А ты? Что ты, Макс, делаешь?
— Мама, не могу же я влезть в гимнастёрку и стрелять в живых людей только потому, что они думают, что думают иначе, чем я.
— Думают, думают. Есть времена, Макс, когда нужно не думать, а делать. Не думая — делать.
— Такие времена, мама, всегда у зверей — это называется животные инстинкты».
Ну а «дерущемуся» в пехоте Серёже Макс пытается помочь перевестись подальше от Москвы, где возможны любые беспорядки, на юг, в крепостную артиллерию и собирается обратиться с этим к своему знакомому по соседним Отузам генералу Н. А. Марксу, начальнику Одесского военного округа. Да и Б. В. Савинков пока ещё в силе… Позже, когда беспорядки выльются в революцию, Волошин будет иметь долгий разговор с Цветаевой и Эфроном по поводу «завтрашних и послезавтрашних судеб России». Он, по словам Марины Ивановны, «вкрадчиво… картину за картиной» раскрывает «всю русскую революцию на пять лет вперёд: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лика, раскрепощённые духи стихий, кровь, кровь, кровь…». А пока что, как описывает ситуацию в Москве Сергей Эфрон, «голодные хвосты, наглые лица, скандалы, драки… толпы солдат в трамваях. Все полны кипучей злобой, которая вот-вот прорвётся».
Да, процесс «разложения трупа» необратим… И главные «микробы разложения», как считает Волошин, революционеры-эмигранты, которые уж точно «построить… ничего не смогут». Да и не хотят, по большому счёту. Эти люди, пишет философ Г. П. Федотов в книге «И есть и будет», связывали «с мировой войной чаяния всемирной революции. В эту эпоху Ленин и особенно Троцкий менее всего чувствовали себя русскими революционерами. Подобно Радекам и Раковским, это были бесплотные духи („бесы“), жаждавшие воплотиться в любой стране. Они могли бы спуститься в тело Австрии или Германии, если бы Россия не развалилась первой. Единственно русское в Ленине того времени, оборотная сторона патриотизма, — его особая ненависть к России, как злейшей из „империалистических“ стран».
Вынесенный мутной волной на поверхность истории, А. Ф. Керенский оказался, как отмечают многие историки, самой подходящей фигурой для воплощения «русской свободы». Человек, чуждый армии, боявшийся ударов как со стороны большевиков, так и со стороны генералов, «слюнявый гуманист» (или, по определению Е. Д. Кусковой, «адвокат в роли маршала»), не в состоянии был предложить что-либо конструктивное. Керенский, иронически замечает Волошин, «образец пламенеющей воли к строительству, а между тем всё, что он делает… — явно тот же процесс государственного разложения», процесс, который, с исторической точки зрения, должен быть доведён до конца.
«Кажется, никогда так политически смутно и безвыходно не было, как сейчас», — пишет М. Волошин А. Петровой 19 сентября 1917 года. Однако он не падает духом. 4 октября в письме к той же Петровой, отметив «притупление впечатлительности по отношению к текущим событиям», Макс неожиданно приводит цитату из Леона Блуа, французского писателя, очень близкого поэту в последние месяцы: «Если по божественному соизволению мы смогли бы увидать человеческую душу такой, как она есть, то мы погибли бы в то же мгновение, как если бы были брошены в пылающий горн вулкана». Гимн человеческой душе — в самый канун революционного оргазма!..
«
Дело в том, что многие хотят бороться с большевиками, но никто не хочет защищать Керенского. И пустое место — Вр. Правительство. Казаки будто бы предложили поддержку под условием освобождения Корнилова. Но это глупо: Керенский уже не имеет власти ничего сделать, даже если б обещал. Если б! А он и слышать ничего не слышит…
Сейчас большевики захватили „Пта“ (Петр. Телегр. Агентство) и телеграф. Правительство послало туда броневиков, а броневики перешли к большевикам, жадно братаясь. На Невском сейчас стрельба.
Словом, готовится „социальный переворот“, самый тёмный, идиотический и грязный, какой только будет в истории. И ждать его нужно с часу на час».
25 октября большевики совершают то, что задумали. 3. Н. Гиппиус: «…На окраинах листки: объявляется, что „Правительство низложено“… Данный, значит, час таков: все бронштейны в беспечальном и самоуверенном торжестве. Остатки „пр-ва“ сидят в Зимнем дворце. Карташов недавно телефонировал домой в общеуспокоительных тонах, но прибавил, что „сидеть будет долго“…»
Волошин — в стихотворении «Петроград» (1917):
…Народ, безумием объятый,
О камни бьётся головой
И узы рвёт, как бесноватый…
Зинаида Гиппиус: «
Вчера, вечером, Городская Дума истерически металась, то посылая „парламентёров“ на „Аврору“, то предлагая всем составом „идти умирать вместе с правительством“. Ни из первого, ни из второго ничего, конечно, не вышло…
Позиция казаков: не двинулись, заявив, что их слишком мало и они выступят только с подкреплением. Психологически всё понятно. Защищать Керенского, который потом объявил бы их контр-революционерами?..
Но дело не в психологиях теперь. Остаётся факт — объявленное большевицское правительство: где премьер — Ленин-Ульянов, министр иностр. дел — Бронштейн, призрения — г-жа Коллонтай и т. д.
Как заправит это пр-во — увидит тот, кто останется в живых. Грамотных, я думаю, мало кто останется: петербуржцы сейчас в руках и распоряжении 200-тысячной банды гарнизона, возглавляемой кучкой мошенников…
Кажется, большевики быстро обнажатся от всех, кто не они. Уже почти обнажились. Под ними… вовсе не „большевики“, а вся беспросветно-глупая чернь и дезертиры, пойманные прежде всего на слово „мир“. Но, хотя — чёрт их знает, эти „партии“, Черновцы, например, или новожизненцы (интернационалисты)… Ведь и они о той же, большевицской, дорожке мечтали…»
Итак, свершилось… Но в «пустынном затворе» Коктебеля трудно осознать истинный масштаб случившегося. Газеты сюда практически не доходят. «Какие смутные и тревожные дни… — пишет поэт 3 ноября своей постоянной корреспондентке Петровой. — Хочется знать, что делается в России и под каким правительством мы живём…» И только 10 ноября прибывшие из Москвы Сергей Эфрон и Марина Цветаева выступают в роли вестников — как в античной трагедии, ибо то, что происходило в столицах, по трагизму не уступало произведениям Эсхила или Софокла. И очень напоминало то, что произошло во Франции в конце XVIIl века. Не случайно монография Ипполита Тэна «Происхождение современной франции» стала настольной книгой Волошина ещё с лета. Заворожённый историческими аналогиями, поэт приходит к выводу, что большевистский режим — никак не однодневка, что «если он не будет сметён внешними военными событиями, то у него все данные укрепиться посредством террора на долгое время». Последствия 1917 года Волошин увидит сквозь призму «Термидора»[11] (именно под таким названием он объединит четыре сонета) — самого страшного периода в развитии французской революции 1789–1794 годов:
Казнят по сотне в сутки. Город замер
И задыхается. Предместья ждут
Повальных язв. На кладбищах гниют
Тела казнённых. В тюрьмах нету камер…
Это ли не суровое предвидение Гражданской войны в России?..
И всё же Волошин отдаёт себе отчёт: умерла русская государственность, но не Россия. У поэта нет страха за её «духовную сущность». Сквозь грязь, кровь, сумятицу и абсурд начавшегося лихолетья настойчиво прорывается «глубочайшая моральная идея Святой Руси». Сорванная с пути истинного, соблазнённая преступными вождями, сама себя позорящая и всё же непорочная, родина, Русь ведёт себя так, как «во Христе юродивый». Именно в этом состоянии она являет собой «зрелище беспримерного бескорыстия, — утверждает Волошин в статье-лекции „Россия распятая“, — не сознавая своей ответственности перед союзниками, ею отчасти вовлечёнными в войну, она в то же время глубоко сознавала исторические вины царской политики по отношению к племенам, входившим в её имперский состав, — к Польше, Украине, Грузии, Финляндии — и спешила в неразумном, но прекрасном порыве раздать собиравшиеся в течение веков, неправедным, как ей казалось, путём, земли, права, сокровища». Раздала… вот только кому? Разбойникам, смердам да отсидевшимся за границей супостатам. И с чем осталась сама?!
…Быть царёвой ты не захотела —
Уж такое подвернулось дело:
Враг шептал: развей да расточи,
Ты отдай казну свою богатым,
Власть — холопам, силу — супостатам,
Смердам — честь, изменникам — ключи.
Поддалась лихому подговору,
Отдалась разбойнику и вору,
Подожгла посады и хлеба,
Разорила древнее жилище
И пошла поруганной и нищей
И рабой последнего раба.
Я ль в тебя посмею бросить камень?
Осужу ль страстной и буйный пламень?
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,
След босой ноги благословляя, —
Ты — бездомная, гулящая, хмельная,
Во Христе юродивая Русь!
(«Святая Русь».)
И всё же — есть ли чисто историческое, научное объяснение этому безумию? Можно сколько угодно говорить о «бесах-социалистах», о том, что Керенский не соответствует занимаемому посту, что он «производит впечатление человека, сошедшего с ума», что силы свои он «поддерживает морфием, который принимает в громадном количестве», что для него «подписать смертный приговор является актом действительно немыслимым»… Однако дело не столько в конкретных личностях, сколько в глубинных исторических процессах, в самой природе и национальной специфике власти. В лекции «Россия распятая» Волошин пытается объяснить политическую катастрофу в историко-философском ключе.
Главной чертой русского самодержавия, считает поэт, была его революционность: «…в России монархическая власть во все времена была радикальнее управляемого ею общества и всегда имела склонность производить революцию сверху, старалась административным путём перекинуть Россию на несколько столетий вперёд, согласно идеалам прогресса своего времени, прибегая для этого к самым сильным насильственным мерам в духе застенков Александровской слободы и Преображенского Приказа». Для проведения в жизнь своих планов революционное самодержавие нуждалось в помощниках, в специальном аппарате. Для этой цели была создана опричнина; впоследствии на свет явились разночинцы. «Из них-то, смешавшись с более живыми элементами дворянства, через столетие после смерти Преобразователя и выкристаллизовалась русская интеллигенция»:
…В Петрову мрежь попался разночинец,
Оторванный от родовых корней,
Отстоянный в архивах канцелярий —
Ручной Дантон, домашний Робеспьер, —
Бесценный вклад для революций сверху.
Но просвещённых принцев испугал
Неумолимый разум гильотины.
Монархия извергла из себя
Дворянский цвет при Александре Первом,
А семя разночинцев при Втором.
…Отвергнутый царями разночинец
Унёс с собой рабочий пыл Петра
И утаённый пламень революций:
Книголюбивый новиковский дух,
Горячку и озноб Виссариона…
(«Россия», 1924)
Что же касается династии Романовых, считает Волошин, то можно говорить о её вырождении уже в XIX веке. Более того: эта фамилия «в сущности изжила своё цветение до вступления на престол и в борьбе за него, а к XIX веку окончательно деформировалась под разлагающим влиянием немецкой крови Голштинского, Вюртембергского и Датского домов. При этом любопытно то, что консервативные царствования Николая I и Александра III всё же более примыкали к революционным традициям русского самодержавия, чем либеральные правления Александра I и Александра II. В результате первого самодержавие поссорилось с дворянством, при втором отвергло интеллигенцию, которая как раз созрела к тому времени». Среднего, порождённого российской историей интеллигента Волошин представляет в поэме «Россия»
…Прекраснодушным, честным, мягкотелым,
Оттиснутым, как точный негатив,
По профилю самодержавья: шишка,
Где у того кулак, где штык — дыра.
На месте утвержденья — отрицанье.
Идеи, чувства — всё наоборот.
Всё «под углом гражданского протеста».
…Он был с рожденья отдан под надзор,
Посажен в крепость, заперт в Шлиссельбурге,
Судим, ссылаем, вешан и казним
На каторге — по Ленам да по Карам…
Почти сто лет он проносил в себе —
В сухой мякине — искру Прометея,
Собой вскормил и выносил огонь.
Парадокс, по мнению Волошина, заключался в том, что то сословие, которое было создано самой монархией и предназначено для конструктивной государственной работы, было ею же и отвергнуто. Более того — признано подозрительным и нежелательным. Тогда-то и возник тип «лишних людей», столь добросовестно описанный в литературе, вобравший в себя «всё наиболее ценное и живое, что могла дать русская культура того времени». Именно на этом этапе правительство, «перестав следовать исконным традициям русского самодержавия, само выделило из себя революционные элементы и вынудило их идти против себя». Радикальные идеи, забродившие в этой среде, и стали тем детонатором, который привёл к взрыву. И уже очень скоро революционно настроенная интеллигенция вынуждена будет «убедиться в том, что она плоть от плоти, кость от костей русской монархии и что, свергнув её, она подписала этим свой собственный приговор, т. к. бороться с нею она могла только в ограде крепких стен, построенных русским самодержавием. Но раз сами стены рушились — она становилась такой же ненужной, как сама монархия. Строить стены и восстанавливать их она не умела: она готовилась только к тому, чтобы их расписывать и украшать». «Строить стены» начнут новые «архитекторы», и это уже — отдельная тема, а судьбу русского интеллигента, «пасынка, изгоя самодержавья», Волошин провидит в своей поэме:
…И кровь кровей, и кость его костей —
Он вместе с ним в циклоне революций
Размыкан был, растоптан и сожжён.
Судьбы его печальней нет в России.
И нам — вспоённым бурей этих лет —
Век не избыть в себе его обиды:
Гомункула, взращённого Петром
Из плесени в реторте Петербурга.
(«Россия»)
Осенью 1917 года трагедия русской интеллигенции ещё только обозначилась — она наберёт ход в последующие десятилетия; крушение же государственности дало о себе знать уже в конце ноября, когда в Брест-Литовске начались российско-германские переговоры о мире. Как известно, весь большевистский актив был против подписания Брестского мира; большая часть партийных функционеров поддерживала формулу Троцкого: «ни война, ни мир». Ленин же руководствовался чётким принципом: удержание собственной власти и лидерство в мировом коммунистическом движении. Брестский мир, разумеется, сводил к нулю надежды на немедленную революцию в Германии, срывал революционный процесс в Европе, но Ленина это уже мало волновало: он не мог допустить, чтобы центр коммунистического движения переместился на индустриальный Запад. Лидер немецких коммунистов К. Либкнехт играл в свою игру: он считал, что если переговорный процесс не приведёт к «миру в социалистическом духе» (естественно, для Германии), то необходимо будет «оборвать переговоры, даже если бы при этом пришлось пасть их (Ленина и Троцкого. — С. П.) правительству». Как видим, интересы борцов за коммунистическое будущее явно не совпадали. Либкнехт был заинтересован в том, чтобы Германия как можно скорее проиграла войну. Ленин стремился к расколу западного мира, к блоку с германским правительством против Англии и Франции. Он не без основания опасался, что советская власть будет сметена силами как побеждённой Германии, так и победительницы Антанты сразу же после заключения на Западном фронте «настоящего», общего мира.
Забегая вперёд, следует сказать, что Брестский компромисс, несмотря на тяжёлые и позорные для России условия, не принёс ни заветного мира, ни обещанной Лениным «передышки». Война на территории бывшей Российской империи не прекращалась ни на день; Германия беззастенчиво захватывала регионы, находящиеся значительно восточнее установленной договором границы. В сущности Брестский мир оказался «бумажным», поскольку обе стороны преследовали свои цели, выходящие далеко за пределы этих ничего не значащих, со стратегической точки зрения, соглашений.
Надо ли говорить о том, что начавшийся переговорный процесс воспринимался М. Волошиным совершенно в другом ракурсе. Какова была его позиция в этом вопросе? Откроем ещё раз «Заметки 1917 года». Макс убеждён, что «в возникновении войны виновата не только Германия»: ответственность лежит на всех воюющих державах; «виноват тот, кто начинает, но тот, кто продолжает, виноват ещё больше». Однако, каковы бы ни были «роковые причины, породившие эту войну и придавшие ей её дьявольский облик, мы обязаны честно исполнить свои обязательства и не быть предателями своих союзников»; Волошин напоминает про «долговые обязательства по отношению к Англии, Италии и Японии», про «долг чести перед Францией», про «долг совести по отношению к Румынии и Сербии, перед которыми мы глубоко виноваты». И — вывод: «Каково бы ни было наше личное, наше моральное отношение к войне, — прежде всего эта война должна быть доведена до конца». Однако последовал «ловкий политический ход» большевиков, приведший к позорному миру; впрочем, говорит поэт уже в лекции «Россия распятая», это «нисколько не снимает тяжёлой моральной ответственности со всего русского общества, которое несёт теперь на себе все заслуженные последствия его».
С Россией кончено… На последях
Её мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик, да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.
О, Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огнь, язвы и бичи,
Германцев с запада, монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!
(«Мир»)
Переговоры в Брест-Литовске начались 20 ноября 1917 года. Мирный договор с Германией был подписан 3 марта 1918 года, а под стихотворением стоит дата: 23 ноября 1917 года (Волошин утверждал, что написал его в день открытия переговоров). Во всяком случае, пафос здесь не в позорных условиях капитуляции, против которых, по мнению некоторых критиков, выступает автор, а в беспокойстве поэта за возможный поворот событий, за судьбу России, поставленную в унизительное положение. К тому же Волошин, как уже говорилось, сознавал ответственность России «перед союзниками, ею отчасти вовлечёнными в войну». С горькой иронией он вспоминал о том, как В. Брюсов, «предлагая текст воззвания к народу, говорил: „Мы должны сказать Франции, Бельгии и Англии:…Не рассчитывайте больше на нашу помощь… потому что мы теперь должны оберегать нашу драгоценную революцию“». Да, «тяжёлая моральная ответственность» ложится и на интеллигенцию, обнаружившую свою «государственную беспочвенность».
Волошин полагал, что лобовое столкновение с Германией вряд ли могло бы привести к положительному для России исходу. Бороться с германским «Левиафаном» эффективнее не извне, а изнутри. Всякое внешнее столкновение лишь укрепит его силу, возвысит национальный статус. Но в случае внешнего поражения России славянство, «которое окажется внутри Германской империи… больше сделает для преображения её, чем то, которое будет отчаянно и безуспешно… бороться с нею извне. Если бы среди большевиков нашёлся… такой гениальный и смелый политический ясновидец, который решился бы пойти навстречу историческому процессу и включить всю Россию в состав (не только в союз) Германской империи, то таким самопожертвованием можно было бы в течение двух-трёх поколений подточить и разрядить германский империализм изнутри, тем анархическим христианским зарядом, что заложен в славянстве» (из письма к А. М. Петровой от 15 января 1918 года). Несколько раньше, 9 декабря, Волошин писал: «Мне представляется вполне возможным повторение судьбы Греции и Рима: то есть полное государственное поглощение России Германией и новый государственный сплав, который даст России, славянству впоследствии пережить на тысячелетие Германию. Быть может, это и будет обетованным тысячелетним царством святых и Христа во „славе“ его».
Что же касается стихотворения, то оно, разумеется, вызвало взрыв возмущения. Вскоре после его публикации в московской однодневной газете «Слову — свобода!» газета «Мысль» поместила краткий отклик на стихи Волошина: «Желание увидеть страну „под немцем“ является… шагом, обнаруживающим большую политическую нетактичность». А ведь был уже, думали тогда отдельные литераторы, философ и поэт В. С. Печерин, бежавший из николаевской России на Запад, который в начале 30-х годов XIX века воспевал ненависть к отчизне и жаждал её разрушения как залога «Всемирного денницы возрожденья». Однако Волошин, во-первых, никуда не пытался бежать; во-вторых, не питал ненависти к своей родине, хотя и надеялся, как, возможно, и Печерин, на её возрождение «в духе», рассчитывал на импульс «славянством затаённого огня».
Возносясь в своих стихах и письмах к высоким материям, в быту поэт переживает серьёзные трудности. Елена Оттобальдовна, уже не в первый раз, превращает жизнь сына в настоящий кошмар. Оправившись от летнего недомогания, вызванного хронической эмфиземой лёгких, Пра берётся за хозяйство, вызывающее у неё непреходящее отвращение (прислуги в доме не было). Своё раздражение она частенько срывает на попадающемся под горячую руку Максе. «Очень тяжело, Александра Михайловна, — обращается поэт к своей постоянной поверенной в мыслях и чувствах Петровой, — всё время живёшь под окриком, и день начинается с горьких и бурных упрёков, после которых чувствуешь себя совершенно разбитым и ни на что не способным.
Опять ни о каком писании стихов, что я рассчитывал на осень, не может быть и речи. Я совершенно не понимаю, что от меня требуется: то чтобы я готовил обед, то чтобы я чинил себе бельё, то упрёки в том, что я ничего не делаю, только „картиночки пишу“. Когда же я возражаю, что этими картиночками я заработал за этот год больше тысячи рублей, то мне говорят, что это так мало, что и работать не стоит, что все теперь зарабатывают гораздо больше, почему я не пишу статьи в газеты и т. д. и т. п. По поводу каждого нового лица, будь то Эренбург или маленькие дети Кедровых, мама начинает завидовать, почему я не такой хороший, и снова целый бесконечный ряд попрёков и упрёков. Между нами нет никакого иного разговора, как этот или хозяйственные жалобы». Знакомая ситуация… Сколько творческих личностей вынуждено было проходить через бытовые кошмары, сколько их было обречено на вечное непонимание близких людей!.. 12 ноября он вновь поднимает эту тему в письме тому же адресату: «Я стараюсь делать всё. Но странно, что гнев и раздражение мамины только растут: я не могу шевельнуться, всё служит предлогом раздражения и самых горьких упрёков. Теперь на меня кричат, что я всячески отлыниваю от работы. Вообще у меня такое впечатление, что меня на старости лет отдали в кухонные мальчики, и кажется, что так даже на прислугу не кричат, как на меня. У меня часто ощущение, что это всё кошмар и во сне». Конечно, приезд Марины и Серёжи вызвал некоторую психологическую разрядку, но принципиально мало что изменил. Как был, так и остался «тот же уютный домашний ад…».
Впрочем, настоящая преисподняя разверзается за пределами дома. «Да, мы в аду — ты прав, — пишет Волошин Эренбургу 27 ноября, — с тою лишь разницей, что в настоящем — церковном — аду гораздо больше порядка, логики и системы». Поэт имеет в виду то адское безумие, которое вскоре запечатлится в стихах его любимой Марины Цветаевой:
Кровных коней запрягайте в дровни!
Графские вина пейте из луж!
Единодержцы штыков и душ!
Распродавайте — на вес — часовни,
Монастыри — с молотка — на слом,
Рвитесь на лошади в Божий дом!
Перепивайтесь кровавым пойлом!..
Да и сам Волошин, совсем недавно ощущавший себя «идиотом… неспособным написать двух стихов», к концу года выходит из кризиса. Он сознаёт, что творчество, поэзия — «единственный достойный ответ на действительность». 9 и 10 декабря появляются два его программных стихотворения: «Петроград» и «Трихины». Волошин как поэт и историк хорошо понимал, что в «сложном клубке русских событий 17-го года средоточием драматического действия был Петербург, бывший основной точкой приложения революционного самодержавия Петра». Поэтому именно туда первоначально устремились «духи мерзости и блуда… Вопя на сотни голосов…». «Престол петербургской империи, — говорит Волошин в лекции „Россия распятая“, — был сколочен Петром на фигуру и на весь <рост> медного исполина. Его занимали карлики». И вот теперь —
Сквозь пустоту державной воли.
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод…
Что же послужило причиной этого бесовского разгула — карлики-цари, безвластие или что-то внутри человека? Почему «каждый мнит, что нет его правей»? Как получилось, что «Ремёсла, земледелие, машины / Оставлены. Народы, племена / Безумствуют, кричат, идут полками…»? — вопрошает Волошин, уже предвидя безудержность Гражданской войны…
1918 год ознаменовался для Макса выходом в свет его книги избранной лирики «Иверни» (издательство С. А. Абрамова «Творчество», тираж 12 тысяч экземпляров). По мнению поэта и переводчика Г. А. Шенгели, этот сборник выявляет «весь рост и все завершения волошинского миросозерцания и рисует нам его
Однако его книга лирической прозы «Окровавленная Бельгия» (1915) и поэтический сборник «Алые крылья войны» (1916) Волошина, как уже говорилось, разочаровали. Варьирование образов добродетельной Бельгии и порочной злодейки Германии недостойно большого художника. Верхарн, как и любой поэт в сходной ситуации, утрачивает «право на ненависть», ведь злейшие враги «слиты в одном объятии.
Её надо одолеть — самоё войну, — а не противника». Здесь необходимо, чтобы «кто-то стоял в своей келье на коленях и молился за всех враждующих: и за врагов, и за братьев». То же мировосприятие Волошин сохранит и в годы Гражданской войны. «Фанатики непримиримых вер», красные и белые — действующие лица единой драмы, страшного разрушительного процесса. «Он всегда считал, что борьба является неким сплавом между врагами, — вспоминала коктебельская старожилка певица М. Н. Изергина, — и, может, не желая этого, они, соприкасаясь, чем-то обмениваются и одаривают друг друга». Макс понимал, что «взаимообогащение» противников может быть порочным и разлагающим. Вспомним его высказывание: пролетарии, «так страстно ненавидящие „буржуазию“, берут от неё все её яды…».
Между тем «яды» революции проникают и в Крым. В декабре создаётся Военно-революционный комитет в Севастополе; в Бахчисарае пока ещё правит бал Директория — правительство татарских националистов; возникают перестрелки; проливается — пока ещё в малых масштабах — кровь, льётся — в очень больших количествах — вино… Солдатский «пьяный бунт» произошёл в Феодосии в середине октября 1917-го; в начале января 1918-го в Севастополе и Феодосии празднуют закрепление советской власти… В эти дни Волошину самой злободневной представляется тема Стеньки Разина: «Сейчас начинается настоящий Стенькин Суд, — пишет он 25 декабря 1917 года А. М. Петровой. — Самозванчество, разбойничество… вот основные элементы всякой русской смуты (написан уже и „Dmetrius Imperator“. — С. П.). Не думайте, что слова Стеньки в стихах о равенстве — это натяжка на современность: это точные слова из „Прелестных писем“.
Хочется к этим двум фигурам приписать ещё третью — экстаз упорства — Аввакума… У меня мысль назвать ту книжку, что уже образуется из ранее написанных стихов, „Демоны глухонемые“, с эпиграфом из Тютчева… Мне кажется, что это подойдёт к стихам, в которых будут революционные отсветы разных веков и широт». Сборник «Демоны глухонемые» выйдет только в январе 1919 года, в Харькове (издательство «Камена», тираж 1500 экземпляров, рисунки — автора).
Тем временем волна революции докатилась до Коктебеля. 9 января 1918 года Волошин сообщает Петровой: «Вчера приходили к Юнге султановские крестьяне (из соседней деревни Султановки. — С. Я.) и предупредили, что через два дня придут делить имущество и землю. Так что завтра нам предстоит Социалистическое крещение. Бедная Дарья Андреевна Юнге ожидает на этих днях рождения ребёнка. Так что всё одно к одному. Она перебирается с детьми пока к нам. Как это коснётся других обитателей Коктебеля, трудно предвидеть. Но у Юнге большой винный погреб, который весьма может воодушевить гражданские чувства. У меня большой фатализм, и я буду заниматься своим делом до последней минуты».
10 января всё и свершилось. Грабежи не заставляют себя долго ждать. Явились крестьяне делить экономию (хозяйство) братьев Юнге. В результате, пишет Волошин 15 января, экономия была «социализирована»: «Вылито вино, разделён скот, хозяйственные орудия, разграблены все припасы. Готовились уже приступить ночью к социализации дома, мебели, библиотеки и аукциону картин, рукописей покойной Екатерины Феодоровны и рисунков её отца, графа Феодора Толстого, но по счастью мне удалось… вызвать отряд „красногвардейцев“. Его привёл ночью верхом Н. Н. Кедров, и как раз вовремя. На другое утро — это было вчера — мы же, по неизреченной иронии судьбы, устраивали в деревне большевистское правительство, порядок и т. д. Кажется, летние вопли Дейши о том, что я — самый главный большевик, принесли хорошие плоды, потому что и красногвардейцы, и местные большевики относились ко мне как к авторитету и охотно слушались. Что будет дальше, неизвестно, но пока волна погрома остановилась. А она грозила перекинуться и на дачи, так как султановцы говорили, что вот покончим с Юнге и пойдём дачи делить».
Дом самого поэта «счастливый жребий… не оставил» — в первый, но не в последний раз. Председатель феодосийского ревкома Александров выдал Максу соответствующую бумагу, воспрещающую «какое-либо насильственное посягательство на имущество господина М. Волошина и хранящуюся у него библиотеку, художественную коллекцию картин, скульптурных слепков и рукописей». Да, пока что в местных органах — почти всё как у людей. Впечатления Макса от общения с представителями власти в общем благоприятные. Поэт спешит воспользоваться ситуацией и вытребовать охранные грамоты также для коллекций Юнге и Карадагской биологической станции.
Складываются первые впечатления о новом строе и его рядовых представителях. «Первоисток всего нашего хаоса, — пишет поэт М. В. Сабашниковой, — это беспредельная, совершенно детская доверчивость и такая же детская вера в возможность немедленного осуществления социалистического рая; а рядом с этим, как основной порок, — очень примитивная жадность. Весело смотреть, как им приятно играть в революцию: скакать, распоряжаться, спасать, карать, произносить обращения к народу, стрелять из ружей… Всё это сопровождается и настоящим самоубивством и кровью, но всё же не в таком количестве, как могло быть». Да, пока что ещё «весело смотреть» и кровь — «не в таком количестве», но при этом «неизвестно, не социализируют ли заодно и нас?..» (из письма Г. Шенгели). Впоследствии на место слова «социализируют» заступят более выразительные определения: «хлопнуть», «угробить», «отправить на шлёпку»… Но уже сейчас поэта переполняют самые мрачные предчувствия. «Во внешних обстоятельствах я ничего доброго не жду, — пишет он 25 января Ю. Оболенской. — Напротив, каждую минуту считаю возможным полный разгром и кровь, и всё, что угодно».
Словно предвидя всё это, патриарх Московский и всея Руси Тихон выступает 19 января 1918 года с посланием, в котором предаёт анафеме власть, проявляющую «самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми» — над законами, над страной. Патриарх призывает православное духовенство и всех верующих к оказанию сопротивления большевикам. Именно церковь, считает Волошин, должна проявить в это трудное время упорство в отстаивании вечных истин, в борьбе за справедливость и милосердие, несмотря на возможные нападки и гонения. В данном случае «это то, что можно только ей пожелать для её очищения и возрождения». Ведь церковь уже два века пребывает «в параличе». «Дальнейший логический шаг — это арест патриарха, и только это может утвердить его духовный авторитет». Поток ассоциаций относит поэта к другому религиозному борцу за истину — неистовому старообрядцу протопопу Аввакуму. Волошин зачитывается Житием Аввакума, считая его «совершенно поразительным и единственным в старо-русской литературе произведением по силе и по языку».
Однако ассоциации, как это обычно бывает у Макса, приобретают и совершенно неожиданное направление. Работая над поэмой «Протопоп Аввакум», Волошин 19 января делится своими соображениями с Петровой: «Меня волнует то лицо, которое я чувствую всё время за Аввакумом. Это — Бакунин. Я чувствую их органическую связь, но совершенно не знаю, как её выявить и передать, настолько они сейчас далеки для общего представления. Между тем они выражают собой основную черту русской истории: христианский анархизм». Дело в том, поясняет свою мысль поэт, что христианства «чистого, с церковью, иерархически связанной с ангельскими иерархиями, историческое христианство не знало до сих пор (может, узнает в ближайшую к нам эпоху, когда личность Христа начнёт манифестироваться на эфирном плане)». Не порвавший полностью с антропософией, Волошин имеет в виду то время, когда, по словам Р. Штейнера, люди «получат дар ясновидения и научатся общаться с высшими существами, которые в них. Люди увидят Христа в эфирном теле. Немного будет таких, но будут».
На Западе, продолжает художник, «произошёл сплав церкви с Римской империей, и это определило латинскую церковь. В славянстве же христианство имеет тенденцию переноситься целиком в индивидуальное чувство и противополагать себя государству, как царству зверя. Поэтому в народовольцах и террористах не меньше христианства, чем в мучениках первых веков, несмотря на их атеизм. Вот в этой плоскости я чувствую какое-то конгениальное родство Аввакума и Бакунина». Демоническая фигура революционера-анархиста занимает воображение Макса и сама по себе. Позднее, в поэме «Россия», он сделает этот образ воплощением национального менталитета, революционного «творчества» на Руси: «…Бакунин / Наш истый лик отобразил вполне. / В анархии всё творчество России: / Европа шла культурою огня, / А мы в себе несём культуру взрыва».
Характеризуя в этом же письме ситуацию в России, поэт говорит о своём неверии в то, что «социализм и демос могут отучить Великороссию от старых повадок. Нет у них никакой воспитательной силы». Да и куда может прийти современное общество, в котором — «равнение по безграмотному и по лентяю…». Но и здесь поэт находит зерно, которое может дать всходы: «…теперь Россия всё своими руками прощупает… В этом смысле большевики — самый лучший учитель».
В Крыму стоит чистая, прозрачная зима: «…вовсе не тяжело, а как-то прекрасно — звёздно». Что больше воздействует на душу — погода, история? Волошин всё-таки поэт, а не аналитик. Смутно, смутно на душе, но не безысходно. «Не знаю, откуда это чувство. Раньше всё было сдавлено, под спудом, спёрто. А теперь… ну прорвался нарыв, или, чтобы поэтичнее выразиться, весна (видимо, имеется в виду февраль 1917-го. — С. П.) растопила снега и развезло грязные дороги, сплошная грязь. Это стихия, и разрешится она своими стихийными, нечеловеческими законами. Мне кажется, что дело не в вожаках, не в лозунгах, а в стихийной воле народа, которая, проявляясь безобразно в морали отдельного лица, к чему-то своему идёт — к своей правде…» Только вот к какой? Да, что-то ушло бесповоротно, что-то ещё только начинается…
Волошин пытается, как в прежние годы, смотреть на всё происходящее издали. Все «возмущения» и «негодования» кажутся ему сейчас «чем-то… ненужным и неуместным, жалким…».
Однако смотреть на происходящее со стороны, оставаться созерцателем не всегда удаётся, поскольку настоящее часто задевает его самого. В феврале надвигается волна «контрибуций», разумеется, на «буржуазию». Это и понятно: ради чего тогда революцию делали?! «В Феодосии уже все капиталисты (биржевой комитет) сидят в тюрьме — пока не уплатят 5 миллионов», — информирует поэт Ю. Оболенскую 25 февраля. Он позволяет себе даже поиронизировать на этот счёт: «Я немного удивляюсь тому, почему так медлят… с массовыми избиениями буржуев. Всё-таки русский народ ужасно добродушен и его надо долго раскачивать. Но, в конце концов, мы ещё придём к этому».
Придём, ещё как придём… А пока что шутник накаркал беду самому себе: буквально через два дня контрибуцию предлагают уплатить и ему. Ни много ни мало три тысячи рублей. Но ведь он же поэт, художник! Как может литератор, не имеющий ни батраков, ни наёмных рабочих, ни капиталов в банках или сундуках, именоваться «буржуем»? Но сейчас всё может быть, ведь, как он сам вскоре напишет, в России «жизнь и русская судьба / Смешала клички, стёрла грани…». Так что будь любезен, господин поэт-дачевладелец, заплати! Ну ладно, чёрт с тобой, не три, а одну тысячу рублей, и впредь не шути с Земельным комитетом!
Вот как… «Сделали мне честь считать меня (!) капиталистом, — выпускает новоиспечённый „буржуй“ пары в письме к Петровой. — Ходил сегодня объясняться с Земельным комитетом… Потому что этого звания я на себя добровольно принимать не хочу… Кроме того, приезжали красногвардейцы искать оружие: кто-то распространяет <слухи >, что у меня почему-то должно быть оружие. Но, к счастью, и они были очень вежливы, сказали: „Мы ведь вас знаем: вы художник“».
Много любопытного узнаём мы из писем поэта к А. М. Петровой в тот зимний, в прямом и переносном смысле, период смутных настроений, предшествовавший настоящей Смуте. То, что, например, Макс верит слухам о поражении большевиков в Петрограде в середине января, причём мистически соотносит это событие с написанием стихотворения «Из бездны» («Для разума нет исхода, / Но дух ему вопреки /И в бездне чует ростки / Неведомого всхода»); что общение «с большевиками, красногвардейцами и аграрниками», вызывающее ощущение «неустойчивости — зыбкости», порождает ассоциации с Николаем II, будто бы «растворившимся во всём народе»; наконец, то, что прибывшие с Кавказского фронта оголодавшие солдаты на феодосийском базаре «турчанок продают по 25 р. (и как дёшево!)».
Ю. Оболенская в письмах к поэту рассказывает о колоритных деталях городского быта, о настроениях простого люда. Вот, например, пьяный рабочий в трамвае сетует на «неподобные нерусские слова»: «Декрет… Трубинал… декрет. Трубинал. Были бы русские слова, сказали бы не декрет, а „хлеба нет“; не „трубинал“, а „и муки не будет“, а так кто их разберёт: Декрет… Трубинал». Что ж, вскоре эти нерусские слова войдут в плоть и кровь русского народа, революционная «терминология» будет восприниматься с полузвука.
Узнав от Петровой о смерти своей подруги детства, преподавателя словесности, сорокалетней Веры Матвеевны Гергилевич (той самой Веры Нич) прямо на уроке от разрыва сердца, Макс отвечает: «Смерть её так неожиданна, она казалась предназначенной для долгой жизни… Правда, это не привилегия — оставаться теперь в живых, и кажется, что смерть милует тех, кого увидит раньше, и без насилия и издевательства». «Критическим моментом» всего этого «хаоса», очевидно, будет март, считает Волошин. «В течение этого месяца он разрешится в какую-то сторону… Но в какую? Немецкое завоевание неизбежно, но оно ужаснее всего (новый поворот старой темы. — С. П.). Оно слишком многих должно соблазнять иллюзией и обетованием какого-то порядка… но это будет порядок похоронной процессии». (11 февраля Н. В. Крыленко, тогдашний Верховный главнокомандующий, издаёт приказ о прекращении перемирия с немцами, а 19-го — об оказании сопротивления наступающим германским войскам.)
От этих неотвратимых мыслей может отвратить только работа, стихи. Поэту важно знать, «как они принимаются. Это надо для дальнейшей работы. Ведь понимание освобождает, отнимает сделанное — даёт возможность сейчас же перейти к следующему. А это мне так важно теперь, когда некогда останавливаться и подолгу вслушиваться в свои слова, как я всегда делал, себя проверяя. Теперь каждому время считано, каждый как бы в ожидании возможного смертного приговора: оттого так легко и светло на душе, несмотря ни на что. Если преодолеть в себе страх потери и страх страдания, то чувствуешь освобождение невыразимое». А потом наступает «момент, когда ничего нельзя делать (может, даже воплощать в слове), а можно только молиться за Россию».
Духовное «освобождение» — это, конечно, хорошо, но в плане материальном освобождение, как ни теоретизируй, не всегда желанно. Максу совершенно не хочется «освобождаться» от своего дома. Между тем в Коктебеле начинают покушаться на дачи, и поэт вынужден отправиться в Феодосию для выправления очередной бумаги на право владения своим жильём. 5 марта он получает в Совете «Охранное свидетельство», которое гласит: «Дано… поэту и литератору Макс. Ал. Волошину в удостоверение того, что находящиеся в его заведовании коллекции, помещающиеся в с. Коктебель и заключающиеся в библиотеке и разного рода художественных произведениях, художественной мастерской и архив, как представляющие культурные ценности России, являются НЕПРИКОСНОВЕННЫМИ и взяты Феодосийским уездным Советом рабочих, военных и крестьянских депутатов под свою охрану».
Можно бы возвращаться домой, но Максу, как водится, всё, что делается вокруг, становится «удивительно интересно». Уехав из Коктебеля на пару дней, Волошин задерживается в Феодосии чуть ли не на полтора месяца. Ведь именно тогда, в начале весны, в этом приморском городе было особенно ощутимо, как «Войны, мятежей, свободы / Дул ураган». Эпиграфом к пребыванию в «богоспасаемом граде» послужила радостная фраза первого встречного мальчишки: «А сегодня буржуев резать будут!» Городские обыватели предстоящее мероприятие воспринимали спокойно, как плановый театральный просмотр, и будто в предвкушении этого находились в приподнятом настроении. Прибыли и «артисты» — специалисты в своей области, матросы. Однако, к разочарованию «зрителей», на общем собрании-митинге расширенного состава «труппы» большинством в шесть голосов было решено: пока резать не надо — потом. «Миноносец „Румыния“ с матросами-резаками, который приходил специально для этой цели, обиделся и совсем ушёл», — сообщает Волошин Оболенской. Позднее, летом 1919 года, в стихотворении «Большевик» (из цикла «Личины») он напишет:
Когда матросы предлагали
Устроить к завтрашнему дню
Буржуев общую резню
И в город пушки направляли, —
Всем обращавшимся к нему
Он заявлял спокойно волю:
«Буржуй здесь мой, и никому
Чужим их резать не позволю».
Что ни говори, а «в нём было чувство человечье — / Как стадо он буржуев пас…». То ли дело просто «Матрос» (так озаглавлено другое стихотворение из этого цикла), тот ни с кем не церемонился:
На мушку брал да ставил к стенке,
Топил, устраивал застенки…
А уж какое разножанровое действо разворачивалось на морской глади, какие декорации, какие персонажи… Чёрное море, открывающееся с феодосийской набережной, кишело самыми диковинными посудинами — «старыми, заплатанными, заржавленными», извергавшими из себя на берег «самые диковинные племена»: «Армяне — беженцы из Трапезунда, русские солдаты из Анатолии, армянские ударники с Кавказа, румынские большевики из Констанцы, остатки Сербского легиона из Одессы. Не Феодосия, а Карфаген времён мятежа наёмников. Всё это толпилось, бродило, демонстрировало свои политические убеждения плакатами и флагами по Итальянской…» И, разумеется, попадало в стихи:
Из дальних черноморских стран
Солдаты навезли товару
И бойко продавали тут
Орехи — сто рублей за пуд,
Турчанок — пятьдесят за пару —
На том же рынке, где рабов
Славянских продавал татарин.
Наш мир культурой не состарен,
И торг рабами вечно нов.
Хмельные от лихой свободы
В те дни спасались здесь народы:
Затравленные пароходы
Врывались в порт, тушили свет,
Толкались в пристань, швартовались,
Спускали сходни, разгружались
И шли захватывать «Совет».
(«Феодосия (1918)», 1919)
Дело в том, что из оставленной в эти дни большевиками Одессы прибыло в Феодосию солидное и пёстрое подкрепление в лице «анархистов-коммунистов», «анархистов-террористов», громил-любителей и всяких «промежуточных» революционных «команд». Бороздили прибрежные воды всевозможные и немыслимые: «„Семёрки“, „Тройки“, „Румчерод“, / И „Центрослух“, и „Центрофлот“». И каждая «бригада» норовила прежде всего захватить власть («Совет»), а потом уже заняться мирным населением. Население поначалу пряталось при звуках выстрелов по домам, но потом «пошла такая пальба и днём и ночью, что всем надоело обращать внимание. Сперва с ужасом говорили о расстрелах по ночам на молу», но когда начали пускать в расход средь бела дня, а трупы выставлять напоказ, то «все бежали смотреть с радостью». В конце концов и вовсе адаптировались к революционным процессам. Даже появились объявления типа: «Уроки танцев для пролетариата. При школе буфет с напитками».
Из всего увиденного Волошин делает несколько заключений. Во-первых, можно привыкнуть ко всему: даже в самые грозные дни наступает какой-то нервный подъём, помогающий выдержать немыслимое. Во-вторых, порядочный человек остаётся порядочным при всех режимах, а негодяй во всех случаях — негодяем. Истинный буржуй — он и в Смутное время буржуй; он при всяких обстоятельствах будет вести себя «крайне отвратительно, из всего извлекая свою выгоду». Даже среди «матросов-резаков» и анархистов можно было встретить «больше настоящих людей… Не говоря уже о рабочих, которые… несколько раз спасали эту самую буржуазию».
А вот «среди лже-буржуев — интеллигенции, разорённых помещиков, людей, потерявших всё при новом режиме», — немало «глубоко очистившихся, освободившихся, просветлённых». В-третьих, необходимо «всё время быть с большевиками» — не для того, чтобы подстраиваться под их убеждения и обезопасить себя от возможной угрозы, но «для того, чтобы смягчать и ослаблять остроту политических нетерпимостей» — эту точку зрения поэт возведёт в жизненный принцип. Ведь какая могла бы возникнуть «кровавая баня» уже сейчас в Феодосии, если бы не было справа и слева посторонних, казалось бы, людей, которые старались не допускать беспредела. Побольше бы таких в масштабах всей России!.. И последнее: «Большевики вовсе не партия, а особое психологическое состояние всей страны», своеобразная болезнь, которую надо лечить «постоянным общением», разъяснением сути вещей, заступничеством, милосердием.
Тем временем прогнозы поэта относительно германского «нашествия» на Крым сбываются: захватив 18 апреля 1918 года Перекоп, немцы 22-го входят в Симферополь, 28-го — в Алушту, 29-го — в Керчь. 25-го они минуют Коктебель в сопровождении отрядов украинских гайдамаков. 3 мая Волошин делится своими теоретическими построениями по поводу этого факта с Петровой: «…считаю, что для полуострова его занятие немцами в чистом виде (не Украиной и не Австрией) — выгодно. И надо тщательно различать здесь интересы страны (Крыма) от интересов русских и России». Макс есть Макс. Здесь звучат отголоски его ранних высказываний о том, что нестрашно быть под немцами, что Германию можно разложить изнутри.
Впрочем, тему «Петербурга под немцами» Волошин рассматривал в другом ключе. 27 февраля он писал Петровой: «„Петербургу быть пусту“. Помните это пророчество Петровских времён? Сейчас совершается трагедия не России, а Петербурга. Жду с напряжённым вниманием и ужасом момента, когда он будет взят немцами: в этот миг, представляется мне, вдруг и сразу осветится его судьба, та историческая ошибка, которая породила проклятие (Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I, насильно постриженной в монахини. — С. П.), на нём лежащее. Не в том ли она, что он был подменой Царьграда, каким-то временным центром национального сознания, лежащим вне физического тела народа? В его последней агонии, которая кажется на этот раз неотвратимой, это выяснится». Вспоминает Макс в эти дни и слова Р. Штейнера о том, что Россия «выплавит из себя шестую великую расу, но под опекой Германии». (Пятая раса, которая доминирует ныне, арийская. Штейнер в середине 1900-х годов читал лекцию на тему «Культура пятой арийской расы».)
И всё же возникает стойкое ощущение: в то время как ум Волошина создаёт сверхоригинальные теории (или следует за уже готовыми), его душа, простые человеческие чувства не принимают их. Особенно, когда это касается экспансионистских устремлений по отношению к России. Заканчивает он письмо о возможной «опеке Германии» такими словами: «И вот всё как будто идёт к тому, становится неизбежным и это всё же самое страшное и невольно шепчешь: Да минет чаша сия…»
Эти две ипостаси поэта постоянно взаимодействуют, порой вступают в противоречие друг с другом: интеллектуально-творческая, рождающая парадоксальные умозаключения, и чисто человеческая, душевно-трепетная, непосредственно реагирующая на события, пропускающая их сквозь сердце. Верх берёт то одна, то другая. Эту неоднозначность Волошина хорошо почувствовал И. Эренбург, который писал в воспоминаниях: «Макс был в Коктебеле. Он не прославлял революцию и не проклинал её. Он пытался многое понять. Он не цитировал больше ни Вилье де Лиль-Адана, ни прорицания Казота, а погрузился в русскую историю и в свои раздумья. Понять революцию он не смог (здесь необходимо учитывать обстоятельства: когда писалась и печаталась книга Эренбурга — разумеется, ни о каком „правильном“ понимании Волошиным революции автор не мог бы сказать при всём желании. — С. П.), но в вопросах, которые он себе ставил, была несвойственная ему серьёзность…
Иногда я спрашиваю себя, почему Волошин, который полжизни играл в детские, подчас нелепые игры, в годы испытаний оказался умнее, зрелее да и человечнее многих своих сверстников-писателей? Может быть, потому что был он по своей натуре создан не для деятельности, а для созерцания, — такие натуры встречаются. Пока всё кругом было спокойно, Макс разыгрывал мистерии и фарсы не столько для других, сколько для самого себя. Когда же приподнялся занавес над трагедией века — в лето 1914 года и в годы гражданской войны, — Волошин не попытался ни взобраться на сцену, ни вставить в чужой текст свою реплику. Он перестал дурачиться и попытался осознать то, чего не видел и не знал прежде».
В письме к А. М. Петровой от 10 мая 1918 года поэт спускается с теоретических построений на грешную землю, однако «прихватывает» с собой и опутавшие его исторические аллюзии: «Вчера я в первый раз с момента оккупации Крыма увидал немецких солдат воочию и говорил с ними (30 апреля немцы заняли Феодосию. — С. П.). Это не произвело такого тяжёлого впечатления, которого я ожидал. Когда я увидал их в бинокль на коктебельском берегу — купающимися, то это было скорее удивление: как будто я воочию увидал римских солдат, вступивших в Митридатово царство. Конкретно ощутился исторический размах германского предприятия. В факте присутствия германцев в Крыму для меня нет ничего оскорбительного, как это, вероятно, было бы, если бы я встретился с ними в Москве». А дальше берёт верх «первая» его ипостась: он вновь начинает воздвигать геополитические, футурологические теории, весьма любопытные и конечно же не бесспорные.
«Крым — слишком мало для России и в сущности почти ничего, кроме зла, от русского завоевания не видал за истекшие полтора века (та же мысль содержится и в стихотворении „Дом Поэта“. — С. П.). Самостоятельным он быть не может, так как при наличности двенадцати с лишним народностей, его населяющих, и притом не гнёздами, а в прослойку, он не в состоянии создать никакого государства.
Ему необходим „завоеватель“. Для Крыма, как для страны, выгодно быть в ближайшую эпоху связанным с Германией непосредственно (а не с Украиной, а не с Австрией). Он попадает в глубокие руки, из которых он выйдет не скоро. Но я смотрю с точки зрения того „Армагеддона“, который разразится в ближайшие годы между Европой и монголами на всём пространстве европейской России, от которой после этого камня на камне не останется. В этой борьбе Крым будет играть роль крепости-убежища на правом фланге европейско-германского фронта. И я думаю, что германцы начнут тотчас же готовиться к этой войне и укреплять Крым (Крым — Кермен — Кремль — Крепость[12] — в самом имени его записана его роль)».
Прервём здесь ход волошинских мыслей и сделаем небольшое отступление. В поэзии и философии Серебряного века было сделано немало попыток осмыслить революционное лихолетье через евразийскую судьбу России. Говоря об историческом пути своей родины, А. Блок в своём цикле «На поле Куликовом» (1908) использует мотив степи в сочетании с «татарской» темой: «… До боли / Нам ясен долгий путь! / Наш путь — стрелой татарской древней воли / Пронзил нам грудь…» Продолжением этой темы стали блоковские «Скифы» (1918), написанные за два месяца до цитируемого письма Волошина. Блок отталкивается здесь от идеи Вл. Соловьёва. Усомнившись на закате жизни в исторических перспективах прогресса, философ и поэт грозил погрязшему в грехах Западу и самодовольной России («Третьему Риму») нашествием с Востока «пробудившихся племён», «жёлтых детей». «Движение крайнего монгольского Востока, которое Вл. Соловьёв называет панмонголизмом, — пишет Н. Бердяев, — было для него предвестием судьбины Божьей, указующим на апокалипсические судьбы человечества». Кара, по Соловьёву, грозит всем, «кто мог завет любви забыть». Эта же мысль звучит и в «Скифах». Спасшая от нашествия монголов Европу Россия, предостерегает Блок, «отныне вам не щит», если европейские государства не вложат «старый меч в ножны». А у столкновения «стальных машин, где дышит интеграл, / С монгольской дикою ордою» может быть один исход — не в пользу Запада. Волошин же, говоря о будущем западно-восточном «Армагеддоне», не заостряет внимания на его исходе, он лишь настаивает на том, что «роль крепости-убежища на правом фланге европейско-германского фронта» сыграет Крым, укреплённый Германией.
С другой стороны, по Блоку, Россия — не только «щит меж двух враждебных рас / Монголов и Европы». «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы…» Безусловно, здесь сказалась концепция А. Белого (да и не только его), согласно которой исторические скифы, населявшие припонтийские степи, были прямыми потомками первейшего праарийского племени и сохранили в себе такие исконные начала, как огонь, движение, катастрофическое мировосприятие, жизненный максимализм. Поэтому-то Блок пишет в «Дневнике» 11 января 1918 года: «Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольётся Восток».
Волошин иначе понимал евразийскую суть России, скифо-славянскую душу народа, арийскую расу. Однако и он в данном случае не сомневается, что «прольётся Восток». Правда, не «на вас», а скорее «на нас». Поэтому для него важно, чтобы Крым, при отсутствии России как государства, «теперь же был отдан в распоряжение Германии. Вы ведь знаете, что для меня ничего не будет удивительного, если через несколько лет Германия окажется крестоносной защитницей Европы от монголов. Я думаю, что Германия заняла Крым крепко и надолго и что это завоевание для Крыма полезнее русского. Гораздо сложнее вопрос психологический для нас, русских, связанных всеми корнями своей души с Киммерией».
Однако никакие теории не в силах унять тоски по поруганной родине. Она — есть, но что она теперь? «Наша физическая земная родина хирургически отделяется сейчас от родины духовной (Св. Русь); но даже изгнанничество, эмиграция невозможны, потому что России вообще теперь нет. И родина духовная — Русь — Славия — не имеет больше государственного, пространственного выражения. Она для нас остаётся ценностью духовной, какой в сущности была и раньше».
Но письма — не главное. Важнее — стихи. 24 мая Волошин заканчивает свою книгу «Демоны глухонемые» и отправляет рукопись в Харьков. Ждать её выхода придётся более полугода. Буквально вдогонку к завершённому сборнику рождаются стихотворения «Родина», «Молитва о городе», «Коктебель», «Карадаг», но эти произведения в книгу не войдут; не будут отражены в ней и картины начавшейся усобицы. А события между тем набирают ход: мятеж чехословацкого корпуса в Сибири, затопление половины Черноморского флота в Новороссийске, восстание левых эсеров в Москве, формирование «Краевого правительства» в Крыму с немецким ставленником генералом Сулькевичем во главе. Однако самым ярким событием весны, безусловно, стал «Ледяной поход» Добровольческой армии под командованием генерала Л. Г. Корнилова, когда белые в ходе почти двухмесячных непрерывных боёв прорывались с Дона на Кубань в надежде получить поддержку кубанского казачества.
Этот поход, начавшийся 9 февраля 1918 года в Ростове и закончившийся 31 марта под Екатеринодаром, «ледяным», строго говоря, был лишь несколько дней — при переходе от аула Шенджий к станице Новодмитровской. Утром было относительно тепло, но к вечеру холодало, дороги леденели, дожди порой переходили в метель; шли то по глубокому снегу, то по непролазной грязи… Что это было? «Старого мира последний сон — / Молодость, доблесть, Вандея, Дон», — написала М. Цветаева в «Лебедином стане». «Сознание своего одиночества на родной земле», — высказался один из участников похода, генерал А. Богаевский. Тщетная попытка противостоять судьбе России, бросившись под колеса истории… Корниловцы не встретили той поддержки населения, на которую рассчитывали. Екатеринодар сдался без боя красным 14 марта. Не доходя до города, Корнилов переформировал армию и готовился «атаковать по всему фронту». Случайный одиночный снаряд, влетевший в помещение штаба, оборвал его жизнь накануне штурма Екатеринодара. Принявший командование армией А. И. Деникин приказал начать скрытое отступление…
Волошин, естественно, не мог знать подробности этой героической акции (или, как писал историк Г. 3. Иоффе, «открытой попытки контрреволюции переломить ход событий 1917 г. в свою пользу посредством силы»). Однако 2 июня он получает письмо из Новочеркасска от Сергея Эфрона, участника «Ледяного похода». Это было живое свидетельство произошедшего и одновременно — крик отчаяния: «Нам пришлось около семисот вёрст пройти пешком по такой грязи, о которой не имел до сего времени понятия, — читает Волошин. — Спать приходилось по 3–4 часа, не раздевались мы три месяца, шли в большевистском кольце, под постоянным артиллерийским обстрелом. За это время было 46 больших боёв… от ядра корниловской армии почти ничего не осталось…»
Перед ним возникло лицо Сергея, до боли знакомое, красивое, только осунувшееся, с огромными впавшими глазами. Казалось, он слышит его голос:
— Что делать, Макс? Ты всегда говорил правду, ты — мудрый, ответь! Куда идти? Неужели все жертвы — даром?!
— Бороться с оружием в руках — не твоё дело, — мысленно отвечает Волошин. — Да и за что бороться теперь?.. Физически мы разбиты и отданы на милость победителю… Дальше — оспаривание клочков нашей плоти между бывшими врагами и бывшими союзниками. Не знаю, поймёшь ли ты это сейчас, Серёжа, но потом, когда немного утихнет боль, поймёшь: нам остаётся одно — национальное самосознание в духе… Единственное оружие России теперь — это дух и внутреннее просветление. Наша душа, Сергей, как древний Китеж во времена Батыя, ушла под воды озера, назови его Светлояр или как-то по-другому, поэтому и благовест её не слышен…
Как жаль, что эти события, эти мысли так и не вошли в книгу. А хотелось бы написать стихотворения историко-философского плана — «Дикое поле», «Китеж»… Пока же он сделал упор на темы, отражающие «революционные отсветы разных веков и широт». И персонажи подобраны соответствующие — Стенька Разин, Лжедмитрий, Аввакум… И эпохи, и события более чем актуальны: Смутное время, Раскол, Французская революция, «предвестия» российской катастрофы, революционная Москва, Петроградская бесовщина, Брестский мир… И всё это — сквозь призму тютчевского стихотворения, образ из которого вынесен в заглавие книги.
Ф. И. Тютчев:
Ночное небо так угрюмо,
Заволокло со всех сторон.
То не угроза и не дума,
То вялый, безотрадный сон.
Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.
Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса.
И вот опять всё потемнело.
Всё стихло в чуткой темноте —
Как бы таинственное дело
Решалось там — на высоте.
(1865)
М. А. Волошин:
Они проходят по земле,
Слепые и глухонемые,
И чертят знаки огневые
В распахивающейся мгле.
Собою бездны озаряя.
Они не видят ничего,
Они творят, не постигая
Предназначенья своего.
Сквозь дымный сумрак преисподней
Они кидают вещий луч…
Их судьбы — это лик Господний,
Во мраке явленный из туч.
«Смысл „Демонов глухонемых“ Вы поняли вполне, — писал Волошин Петровой 19 января. — Тут не только русские бесы, но демоны истории, перекликающиеся поверх формальной ткани событий». В числе русских демонов истории поэт выделяет прежде всего «Дмитрия-императора». Это некий демонический синтез, совокупное единство, «распылённое… между тысячами бесов».
…Тут тогда меня уж стало много:
Я пошёл из Польши, из Литвы,
Из Путивля, Астрахани, Пскова,
Из Оскола, Ливен, из Москвы.
Именно поэтому он — «мёртвый, неизбывный»…
В Стеньке Разине, по мнению Волошина, «больше бесовщины, чем демонизма. Он — легион, несмотря на свою индивидуальность». Он, как и Ермак, реальное историческое лицо, растворившееся в массах, «народный эпос в действии». Поэт использует в стихотворении старинное волжское предание, согласно которому Разин не погиб, а, подобно Фридриху Барбароссе, заключён в недра горы на берегу Каспия и ждёт условного знака, чтобы выйти «судить русскую землю». По легенде, его иногда встречают на берегу «великого моря Хвалынского» (Каспийского), и он начинает расспрашивать о нынешних порядках на Руси: предают ли его ещё анафеме, не начали ли уже в церквах зажигать сальные свечки вместо восковых, не появились ли уже на Волге и на Дону «самолётки и самоплавки»? «Эти вопросы, столь напоминающие совершавшееся здесь, — пишет Волошин, — и сама идея Страшного Суда, вершащегося над Русской землёй тёмными и мстительными силами, раздавленными русской государственностью и запечатанными в гробах церковной анафемой, внушили мне поэму „Стенькин суд“».
Об авторской оценке Аввакума уже говорилось. Актуализируя эту фигуру, поэт в качестве эпиграфа одного из разделов выбирает его слова: «Выпросил у Бога светлую Россию Сатана, да очервленит ю кровью мученической».
Комментируя в письме от 30 декабря 1917 года название книги «Демоны глухонемые», Волошин пояснял, что Демон — «не непременно бес — это среднее между Богом и человеком: в этом смысле ангелы — демоны и олимпийские боги — тоже демоны. В земной манифестации демон может быть как человеком, так и явлением. И в той, и в другой форме глухонемота является неизбежным признаком посланничества, как Вы видите по эпиграфу из Исайи. Они ведь только уста, через которые вещает Святой Дух…». Демон, согласно волошинскому пониманию, не обязательно заключает в себе нечто зловещее. В любом случае он (или оно, явление) — лишь проводник высших сил, высшей воли, проявляющейся в своей земной форме. Как и в греческой мифологии, это «мгновенно возникающая и мгновенно уходящая… роковая сила, которую нельзя назвать по имени, с которой нельзя вступить ни в какое общение…» (Мифы народов мира. Т. 1.).
«Формальная ткань событий» революции и Гражданской войны начинает вплетаться в его новые стихи, которые ходили по рукам и «списывались тайно и украдкой». Поэт объединит их в так и не опубликованную при его жизни книгу «Неопалимая Купина».
Волошин принимает участие в оформлении готовящегося к изданию сборника («Демоны глухонемые»): делает заставки и надписи. Работа над графикой и штриховой техникой, как всё новое, его чрезвычайно увлекает. Занимается Макс в это время и живописью: пишет серьёзные философские вещи, а также — «акварельки для продажи». В целом его образ жизни в это невесёлое время мало изменился: чтение лекций, участие в концертах, выступление со стихами, организация вечеров в пользу безработных Учительского союза (Феодосия), детского туберкулёзного санатория (Алупка)…
Не пустует и коктебельский дом. Постоянно живут там с семьями Николай и Константин Кедровы, неизменные партнёры Макса по концертной деятельности. Николай — певец, профессор Петроградской консерватории; Константин — певец и декламатор. Гостит харьковский издатель книги Волошина П. Б. Краснов, бывает художник А. К. Шервашидзе, наведывается критик, драматург и режиссёр Н. Н. Евреинов. Именно тогда впервые в доме поэта появляется бактериолог и поэтесса Татьяна Давидовна Цемах, Татида, с которой у Макса устанавливаются очень тёплые, если не сказать, «горячие» отношения. Чувство, судя по всему, было взаимным, но что-то и на этот раз помешало ему оформиться. Волошин посвятит Татиде стихотворение «Плаванье» (1919), а её портрет, точнее, «надпись к портрету» набросает в следующих словах:
Безумной, маленькой и смелой
В ваш мир с Луны упала я.
Чтоб мчаться кошкой угорелой
По коридорам бытия.
Не правда ли — очень мило, образно, интимно и… чувством юмора природа не обидела их обоих…
Летом 1918 года в «анархической республике поэтов и художников» побывал начинающий журналист и театральный критик Илья Березарк. Из Феодосии до Коктебеля он добирался на бричке, запряжённой ослами, поскольку лошадей немцы реквизировали, в ослах, видимо, нужды не испытывали. Судя по его воспоминаниям, жизнь в «обормотнике» даже тогда текла в прежнем русле: «Всякие попытки следовать приличиям воспринимались как оскорбление коктебельских нравов, как покушение на коктебельские свободы».
Где-то в Симферополе сидело-заседало правительство во главе с литовским татарином Сулейманом Сулькевичем, но «на местах крымских властей что-то видно не было. А немцев крымская деревня, расположенная тогда вдали от проезжих дорог, мало интересовала… Был только деревенский староста, который по всем вопросам приходил советоваться с Максом». Илья отмечает необычайную популярность Макса среди местных крестьян. Снискал он её не тем, что был поэт и художник, а своими практическими знаниями и мудростью. Волошин действительно прекрасно знал свой край («каждый ручеёк, каждое деревцо»), разбирался в сельском хозяйстве, давал ценные советы.
«В частности, — пишет И. Березарк, — он научил коктебельских крестьян делать маленькие ручные домашние мельницы (якобы по античному образцу). Такие домашние мельницы были во всех крестьянских дворах Коктебеля и, кажется, в соседних селениях. Здесь в это время царило натуральное хозяйство. Был, правда, в деревне небольшой рынок, но там больше не продавали, а меняли». Волошина это вполне устраивало. Он то и дело повторял свою излюбленную фразу: «Деньги нам не нужны», и, судя по всему, в этом была его убеждённость, а не эпатаж. Правда, за поэтические концерты и выставки в «Бубнах» всё-таки взимались «самые прозаические деньги».
Дом Поэта уже тогда представлял собой небольшой музей. «В нём чувствовался поэтический вкус хозяина. В доме хранилось много больших камней интересной формы, стояли диковинные деревья в кадках, интересно подобранные цветы и листья; рядом с ними — скульптуры и картины начала нынешнего века, близкие к декадентству и формализму». Мать поэта «держала себя по тому времени непривычно. Она постоянно курила, носила широкие шаровары. Теперь этим никого не удивишь, но тогда привлекало внимание. Она была настоящим художником в области вышивания и аппликации. Некоторые её вышивки, ещё до войны, удостоились наград на парижских выставках. Особенно славились её тюбетейки, которые она охотно дарила».
Разумеется, автор воспоминаний не мог не заметить «родства» поэта с Киммерией «Кстати сказать, особенно удачно звучали его стихи здесь, на пляже, под аккомпанемент волн. Когда потом я увидел его в Харькове в обычном костюме, мне показалось, что он поблёк, утерял свою внешнюю поэтическую привлекательность». Как многие мемуаристы, он отмечает, что Волошин был человеком «огромных знаний, впоследствии по его указаниям производились не только археологические раскопки, но и горные разработки». Правда, по мнению будущего журналиста, Макс не слишком хорошо разбирался в людях. В его доме обретался некий врач, напоминающий «первобытного человека в шкуре с палицей», явный шарлатан. Здесь же маячил другой тип, выдававший себя за внебрачного сына Николая Второго. Проницательный Евреинов сразу определил, что это просто жулик, намеревающийся обокрасть дом. Но Макс охотно принимал за чистую монету любую легенду.
Разумеется, среди гостей дома в основном были люди творческие.
В сентябре прибыл подышать морским воздухом молодой поэт Георгий Шенгели. Зачарованный атмосферой, царящей в Коктебеле, он окрестил это место «Киммерийскими Афинами». Да и сами «коктебельские излоги и лукоморья — героическая поэма. Тысячелетнее борение космических сил вылилось наружу, оцепенело в напряжённом равновесье. И припасть к развёрстым недрам трагической земли так же отрадно, как омыться гекзаметрами Гомера и сгореть вместе с градом копьеносца Приама», то есть Трои. Впрочем, «пустынные гекзаметры волны» воспел в своих стихах и Волошин, которого Шенгели возвёл в ранг «архонта» (высшая и самая почётная должность) этой новоявленной «республики», со «своими нравами, обычаями и костюмами, с полной свободой, покоящейся на „естественном праве“, со своими патрициями — художниками и плебеями — „нормальными дачниками“».
Вспоминал Г. Шенгели и свою первую встречу с хозяином: «С уютной софы… подымается невысокий грузный человек. Тёмно-рыжие поседелые волосы, сдержанные ремешком, синий античный хитон, сандалии. Внимательные серые глаза. Из-под подрезанных усов — нежный женский рот: Волошин». Уже в 1936 году гость посвятит ему стихотворение, так и названное — «Максимилиан Волошин»:
Огромный лоб и рыжий взрыв кудрей,
И чистое, как у слона, дыханье…
Потом — спокойный, серый-серый взор.
И маленькая, как модель, рука…
«Ну, здравствуйте, пойдёмте в мастерскую» —
И лестница страдальчески скрипит
Под быстрым взбегом опытного горца,
И на ветру хитон холщовый хлещет,
И, целиком заняв дверную раму,
Он оборачивается и ждёт…
Однако вернемся к нашему повествованию. «Начинается беседа. Внимательно выслушивая партнёра, принимая все его положения, Волошин незначительными поправками доводит его до согласия с собой. И тогда — изумительный гейзер знаний, своеобразнейшие сопоставления и сближения; вырастает стройная система воззрений на мир, на человека, на искусство. Потом становится парадоксальной. И вы теряете отчётливое представление: серьёзно ли говорят с вами? Из-под непроницаемой брони логики сквозит всё время лёгкая усмешка».
Сколько людей, знавших Волошина, столько мнений относительно его манеры чтения. Шенгели отмечает, что поэт читал стихи «превосходно». Причём чужие — лучше, чем свои. При этом — пламенный восторг по их поводу. И — непременный рассказ о самих поэтах, в шутку и всерьёз.
— Присылает мне Илья Эренбург книгу стихов. Книга неправильно сброшюрована: обложка вверх ногами. Я сначала вознегодовал, сочтя это намеренным. Потом понял. Приходит ко мне сестра поэта, желая поговорить о присланной книге. Я беру книгу и читаю. Она потом пишет брату: «Какой оригинал этот Волошин! Представь: держал твою книгу вверх ногами и читал. Даже неприятно».
Неизменными атрибутами жизни «Киммерийских Афин», как следует из воспоминаний Шенгели, оставались всевозможные спектакли и розыгрыши. Реальность постоянно раздваивалась, подвергалась ироническому переосмыслению, переворачивалась с ног на голову; неожиданно выходило, что «длиннобородый молчаливый господин оказывается Папюсом, юноша с высоким лбом и чёрной гривой — секретарём президента Андоррской республики, причём вас тихонько предупреждают, что он страдает клептоманией», тут же разыгрывались любовные страсти, сцены ревности, попытки утопиться — уже знакомые нам компоненты, заимствованные из трагифарса или комедии положений.
Волошин большую часть времени посвящал акварелям, «пишучи их по пяти, по шести в день. Живопись его, которую отец П. Флоренский метко назвал мета-геологией, вся посвящена раскрытию сущности коктебельской природы и в чёткой графике своей, в бархатном разливе красок воспроизводит напряжённость карадагских складок, зной и сухость степных балок, ультрамариновые тени ущелий, воспалённые полдни и веера закатных облаков». Поэт Волошин, по мнению Шенгели, не «светлый лирник», а «кузнец упорных слов», он — «вкус, запах, цвет и меру выплавляет их скрытой сущности». Это поэт-пластик, а не «музыкант», но при этом — мастер ритма. «Своеобразный и богатый, он в каждой строке переливается по-иному, в точности соответствуя всем изгибам логического рельефа». Волошинский верлибр «приближается к пушкинскому, далеко оставляя за собой почти все попытки современных стихотворцев, и опыты введения в русский стих античных размеров стоят выше фетовских… Таким образом, формальное совершенство стихов Волошина — непререкаемо». Автор воспоминаний, сам поэт и переводчик, видит в Волошине большого труженика, «чеканщика монет», «гранильщика камней». Над одним стихотворением Макс мог работать несколько лет. «Не потому ли так равны книги Волошина, так выдержан лирический уровень его стихов? Какой урок стихотворцам, эшелонами отправляющим стихи в типографию»…
Ни для кого не секрет, что «известность поэта и весомость поэзии далеко не всегда находятся в прямом отношении». К Волошину это имеет прямое касательство. Ведь он живёт вдали от литературных рынков (правда, в Москве и Питере бывает по своим издательским делам весьма часто, что не учитывает автор эссе) и потому не слишком часто печатается; к тому же «стихи его слишком насыщены культурой, обращающей повышенные требования к читателю», поэтому «мало известен широкой публике… Но в литературных кругах имя Волошина пользуется высокой репутацией».
Так или иначе, но к началу усобицы Макс Волошин завоёвывает популярность. Он — автор трёх поэтических книг, на выходе — четвёртая, которая, по оценке издателя Краснова, заключает «в себе потрясающую силу». Ни одна из них не была проходной, легковесной; каждая удостаивалась повышенного внимания критики. Кого-то поэт поражал, кого-то приводил в восторг, у кого-то вызывал шок, кого-то заставлял задуматься… В чём же, если не в этом, предназначение художника?.. «Если критики спорят между собой, значит, художник — в согласии с собой», — утверждал О. Уайльд, с которым А. Белый соотносил М. Волошина. Правда, задачу свою, возможно — главную, ему ещё предстояло реализовать…
А пока Волошин задумывается о новом лекционном турне, на этот раз — по городам юга, хотя идёт война. Но ведь именно сейчас воодушевляющее слово, напоминание о вечных истинах, особенно значимо. Репертуар можно оставить тот же (лекции о Верхарне, Сурикове, а также «Жестокость в жизни и ужасы в искусстве»), добавив к обкатанным темам новую, обобщающую последние события мировой истории: «Скрытый смысл войны». Конечно, хорошо бы подобрать материал о нынешнем положении в России, но здесь всё ещё в состоянии бурного брожения, и до конца непонятно, какой жребий вынет «горькая детоубийца-Русь»… Макс с интересом следит за развитием современной поэзии, ведь кто-то уже откликнулся на злобу дня, причём не просто выплеснул эмоции, а вывел свои наблюдения на историко-философский уровень. Прежде всего это А. Блок со своими программными произведениями «Двенадцать» и «Скифы», первое из которых уже подверглось обструкции в интеллигентско-поэтической среде… Вышла книга стихов И. Эренбурга «Молитва о России», в которой Макс почувствовал «такой же пророчески-библейский подход к текущей современности», как у французского поэта, историка Агриппы д’Обинье — к событиям Варфоломеевской ночи, свидетелем которых он был. Здесь уже можно что-то обобщить, и по заказу П. Б. Краснова Волошин посылает в издательство «Ка-мена» статью «Поэзия и революция», в которой утверждает: «В эпохи катастрофические поэт может быть унесён какой угодно струёй внезапного водопада, сражаться в рядах какой угодно партии» как человек; но как поэт «он станет голосом всей катастрофы, и его творчество будет всегда стоять по ту сторону партийной слепоты» — мысль, к которой художник будет возвращаться постоянно.
Ну а в Европе произошло долгожданное событие. 11 ноября 1918 года в железнодорожном вагоне-салоне французского маршала Фердинанда Фоша, стоящем на «запасном пути» в Компьенском лесу, в семидесяти километрах от Парижа, был подписан Компьенский мир между Германией и главными странами Антанты — Англией, Францией и США. Первая мировая война, длившаяся четыре года три месяца и десять дней завершилась поражением Германии и её союзников. Некогда могучая немецкая армия попросту разложилась, и, надо сказать — не без влияния славянства, распространявшегося с Восточного фронта. Война бросила в свой адский котёл 38 стран и обошлась человечеству почти в 360 миллиардов долларов золотом. Погибло и умерло от ран 9,5 миллиона солдат и офицеров, в их числе — 1,89 миллиона русских. А сколько миллионов было ранено, контужено и осталось калеками… Какими логическими построениями можно оправдать этот страшный мировой абсурд?.. Повторится ли что-то подобное в будущем?.. С этими вопросами можно обращаться только к Всевышнему:
Так дай же силу
Поверить в мудрость
Пролитой крови;
Дозволь увидеть
Сквозь смерть и время
Борьбу народов,
Как спазму страсти,
Извергшей семя
Всемирных всходов!
(«Не ты ли…», 1915)
Война закончилась. В Крыму сменилось правительство: на место ставленника Германии Сулькевича был посажен ставленник Антанты, член Первой Государственной думы, караим по национальности, Соломон Крым. Наступило кратковременное политическое затишье. Волошин отправляется в полугодовое турне…
Эта длительная «командировка» подтвердила едва ли не повсеместное признание Волошина как большого поэта, а также раскрыла перед ним трагическую панораму Гражданской войны, «внутри» которой он оказался. Одна из женщин (названная в воспоминаниях о Волошине «Неизвестной»), ухаживавших за больными, вспоминает, что даже в пределах ялтинского санатория «приходилось наблюдать самые тяжёлые сцены: то стражники подстрелили женщину, собиравшую валежник в казённом парке, то в овраге, под окнами санатория, расстреляли человека, якобы большевистского комиссара. По набережной Ялты разгуливали представители Добровольческой армии с золотыми погонами и галунами. Не успевших отдать им честь — арестовывали. Пышно разодетые дамы сияли нацепленными на себя драгоценностями, всякой мишурой, которую им удалось захватить из имений, покинутых ими. По вечерам было опасно ходить. Из переполненных ресторанов неслась дикая музыка и дикие крики пьяных. По глухим окраинам то и дело слышались выстрелы. Настроение было унылое и беспросветное».
Однако в той же Ялте Макс обнаруживает столпотворение творческой интеллигенции; было здесь и немало беженцев из Москвы и Петрограда. Работала выставка «Искусство в Крыму», организованная в ноябре С. Маковским. Среди её участников оказались такие крупные фигуры, как И. Билибин, С. Сорин, С. Судейкин; выставлялись работы Н. Альтмана, И. Репина, А. Голубкиной. Принадлежность к конкретным школам и течениям на этот раз не учитывалась. Выставил свои произведения и М. Волошин.
Лекции поэта начались здесь же, в помещении выставки, 15 ноября. В своих выступлениях Волошин расширял историко-эстетическую тематику за счёт недавно написанных стихов. Звучали «Святая Русь», «Дмитрий-император», «Стенькин суд»… 16 ноября поэт выступил в помещении женской гимназии с лекцией о Верхарне. Обратимся вновь к свидетельствам «Неизвестной»: «К назначенному часу зала была переполнена молодёжью. Из санатория приплелись больные, ради Волошина нарушившие строгий режим. В тёмном уголке зала, поближе к выходу, мелькали лица знакомых коммунистов-подпольщиков, ради заманчивой лекции рисковавших жизнью.
М. Волошин прибыл с нерусской аккуратностью, точно к назначенному часу, и, легко неся полное подвижное тело, быстро пробежал сквозь толпу к эстраде. При первом взгляде на него мы почувствовали разочарование: сильная полнота и окладистая борода делали его похожим на купца. Но как только раздался его голос, певучий и мягкий, — так сердца юных слушателей были покорены». Многие тогда ощутили внутреннее родство Волошина с Верхарном, «чувствовалось, что оба они люди огромного размаха, сверхчеловеческой силы, оба певцы космических взрывов. Волошин называл Верхарна современным человеком со средневековой душой, мистической и буйной. Певец восстаний, он проклял власть машин и золота. И он же воспевает тихую любовь, стихийную и мудрую, нежную, как былинка вереска, любовь, внушённую тишиной мирных долин, воспевает милый край, где „издалека резная колокольня глядит на вас старинными часами“. В то же время Верхарн пророчески предсказывает, что закоснелость мирной жизни приведёт к предельным ужасам Апокалипсиса и родит ненависть».
Слушателям запомнилось стихотворение Верхарна «Толпа» в художественной интерпретации Волошина. Многим из сидящих в зале были близки воплощённый здесь пафос революции, мысль о неизбежности мига, когда «разум меркнет, сердце рвётся к славе или преступленью», когда приходит «час дерзаний и жестов огненных», когда «взлетаешь вдруг к вершинам новой веры». От Верхарна лектор плавно перешёл к собственным стихам. «Несмотря на лёгкий налёт мистицизма, они к тому времени были потрясающе, недопустимо революционны, и мы всё время боялись, что Волошина арестуют белые». Отнесём эту оценку к субъективным эмоциям молодой женщины. Обратим внимание на другое. Когда поэт произнёс сакраментальную строку: «Я ль в тебя посмею бросить камень…», его душевный трепет передался слушателям — многие плакали. Аудитория была наэлектризована. Такого эмоционального восприятия, такого успеха Макс ещё не знал. По словам всё той же свидетельницы, в зале «хлопали, кричали, стучали ногами, бросались к поэту на эстраду, качали его, забрасывали цветами»…
24 ноября Волошин берёт курс на Севастополь — по морю; оттуда, уже поездом, отправляется в Симферополь. Пароход был набит добровольцами, так что всю дорогу пришлось стоять. Нельзя было сменить позу и в поезде; все восемь часов пути до Симферополя в товарном вагоне были заполнены ядрёными солдатскими анекдотами, революционно-пролетарским фольклором. Верный самому себе, Макс не противопоставляет своих столь разных по мировоззрению и политической ориентации попутчиков. Он отмечает «очень милое дружеское отношение друг к другу» и вообще «скорее приятное» впечатление от людей. Симферополь оказался забит «министрами, профессорами и громилами». Последние были для Макса уже не в диковинку. Впрочем, на волошинские выступления они не являлись. Сам лектор остался доволен: заработал 800 рублей, да и «моральный успех был большой».
Через месяц поэт снова в Севастополе. На этот раз он решает здесь задержаться. Да и как не задержаться?.. На рейде важно стоят корабли союзников, со дна бухты поднимают дредноут «Императрица Мария» (причём Волошин спускается внутрь, в подводную часть судна), по улицам вальяжно разгуливают английские и французские моряки, в Институте физических методов лечения проходит, несмотря ни на что, съезд Таврической научной ассоциации. Макс поселяется в помещении гимназии, в кабинете врача — «в одной комнате со скелетом». Ему одинаково интересно бывать и в «разобранных железных внутренностях морского чудовища», и в аудиториях института, где он встречает много знакомых профессоров из самых разных областей науки — геологии, ботаники, энтомологии, невропатологии, астрономии, археологии и т. д. Среди его хороших знакомых — учёные мужи, инженеры, артисты, а также «политические деятели революции и контрреволюции», в том числе экзотический Фёдор Баткин (упоминаемый в стихотворении «Матрос»), который в 1917 году под видом матроса Черноморского флота вёл агитацию за продолжение войны до «победного конца».
Крымскому успеху Волошина как поэта и лектора способствовала публикация поэмы «Протопоп Аввакум». Несмотря на историческую отдалённость сюжета, условность повествования от первого лица, сложность стиля, наличие «безрифменного, свободногнущегося размера» (по определению самого автора), поэма приобретает необыкновенную популярность. В Таврическом университете она обсуждается на студенческих семинарах, журнал с её текстом (Родная земля. Киев, 1918, № 1) выписывается для школьных библиотек Симферополя. Даже такой взыскательный ценитель поэзии, как И. А. Бунин, относящийся к Максу весьма настороженно, как и вообще ко всем «декадентам», отметит после авторского чтения «Аввакума» в апреле 1919 года: «Справился с ним хорошо, фигура написана выпукло. Техника стиха превосходна».
Однако житийная стилистика поэмы не могла скрыть её пафос, обращённый в современность:
…Аз есмь огонь, одетый пеплом плоти,
И тело наше без души есть кал и прах.
В небесном царствии всем золота довольно.
Нам же, во хлябь изверженным
И тлеющим во прахе, подобает
Страдати неослабно.
Что будет плаванье?
По мале времени, по виденному, беды
Восстали адовы, и скорби, и болезни.
Вера в человеческий дух, возносящийся над исторической бездной, — вот что стремился передать читателям поэт:
…Время
Приспе страдания.
Крепитесь в вере.
Возможно Антихристу и избранных прельстити…
А на вопрос, «что будет плаванье» и кто в нём будет кормчим, Волошин ответил статьёй «Вся власть патриарху», которая была опубликована 22 декабря 1918 года в газете «Таврический голос». На первый взгляд, считает поэт, власть должна быть сосредоточена в руках Добровольческой армии. Но она — только орудие, «великая политическая молчальница». Перед властью стоит трудная задача, и неизвестно, как она с ней справится. «Но в то же время положительное разрешение её глубоко необходимо, потому что сейчас все русские политические партии, последовательно берясь одна за другой за политическое водительство России, скомпрометировали себя окончательно и безнадёжно… Каждая — за исключением большевиков, но их цели и побуждения были иные… Русские партии за время революции ничему не научились и ничего не поняли». Так что же — военная диктатура? «Но Наполеона у нас не предвидится», а любой ординарный, доморощенный генерал, при реальной власти союзников, станет «подставным лицом без инициативы».
Обращаясь к прошлым векам русской истории, к Смутному времени, мы не можем не увидеть в ней параллелей с нынешним днём. «Мы проходим сквозь все разрушительные стихии русской истории — разиновщину, пугачёвщину, к которым мы сами присоединили, как новый знак, „азефовщину“. А в ближайшем будущем нам предстоит пройти сквозь „самозванщину“, которой будет отдан 1919 год (лже-Николаи) и период после 1922 года (совершеннолетие всех лже-Алексеев). И снова для нас должна повториться эпоха московского собирания русских земель… Сила, объединившая русскую землю вокруг Москвы, была не только в московском скопидомстве „Золотого мешка“ — Калиты, но и в морально-духовной силе, которая шла от святого Сергия Радонежского, из Троицкой лавры, из деятельности московских митрополитов и патриархов.
Не случайно русская церковь в тот самый момент, когда довершался разгром русского государства, была возглавлена патриархом (патриархат в Русской православной церкви был установлен в 1589 году[13]. — С. П.). Не случайно большинство Собора, бывшее против патриархата, тем не менее установило его, интуитивно повинуясь скрытому гению русской истории». Таким образом, патриарх в настоящее время — «естественный глава России. Ему надлежит направлять действие Добровольческой армии, ему дано право созвания Земского собора…». Ибо именно патриарх «всегда принимал на себя временный распорядок светскими делами в эпохи смут и междуцарствий».
Разумеется, статья Волошина вызвала самые разнообразные отзывы и реакции. Однако, несомненно, это был продуманный подход к сложившейся в стране ситуации, хотя и, учитывая объективные обстоятельства, мало реальный. Впрочем, «Таврический голос» был услышан, и на Епархиальном съезде в Ялте статья Волошина активно обсуждалась. Но вернёмся к лекционному турне…
20 января Волошин направляется в Одессу, где ему суждено будет провести три с половиной месяца, наполненные встречами и выступлениями, работой и иллюзиями. Макс встретился здесь со своими старыми знакомыми Цетлиными, которые, собственно говоря, и были главными инициаторами его поездки. В их квартире на Нежинской улице художник обрёл временное пристанище, вместе с двумя видными представителями партии эсеров, А. Р. Гоцем и В. В. Рудневым. Но, как мы знаем, для поэта партийная принадлежность не имела значения. Весёлая, легкомысленная Одесса переживала те же трудности, что и любой российский город: сложно было с продуктами, случались перебои с электричеством, ощущалась нехватка топлива, распространялся сыпной тиф. На улицах попадались не слишком активные военные патрули, представляющие разные народы Европы; больше активничали весьма обнаглевшие бандиты, представляющие «сборную» России, опирающуюся на традиционную одесскую «основу».
При этом не затихала культурная жизнь. Выходили юмористические журналы; проходили концерты Изы Кремер и Надежды Плевицкой; пели Александр Вертинский и Леонид Утёсов; в цирке Труцци выступал Иван Поддубный. А уж какую колоритную компанию представляли поэты, входившие в кружок «Зелёная лампа»… Здесь и Эдуард Багрицкий, и Аделина Адалис, и Леонид Гроссман, и Вера Инбер, и Валентин Катаев, и Юрий Олеша… Не менее солидно были представлены и писатели-гости: Дон-Аминадо и Тэффи, Алексей Толстой и Наталья Крандиевская; о прежнем времени напоминали собой Иван Бунин и Влас Дорошевич. В своих воспоминаниях Бунин весьма выразительно описывает окололитературный быт Одессы того периода и на его фоне — облик Максимилиана Волошина.
Иван Алексеевич Бунин знавал Волошина и раньше, встречался с ним в Москве, когда Макс был уже заметным сотрудником «Весов» и «Золотого руна». Практически все, кому доводилось общаться с Волошиным, прежде всего обращали внимание на его неординарную внешность. Не стал исключением и Иван Алексеевич: «Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, тёмно-рус, кудряв и бородат: из всего этого он, невзирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторого-баранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоил себе в обращении с людьми старинную французскую оживлённость, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и „очаровательное“, хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как почти все его современники-стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду где угодно и в любом количестве, при малейшем желании окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстые плечи… делал лицо олимпийца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, салонно переливающийся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собеседнику — и осторожное, но неутомимое сладострастие аппетита, если дело было в гостях, за чаем или ужином…»
О качестве читаемых Волошиным стихов Бунин почти не говорит, упоминает лишь стихотворения «В вагоне» — характерное для волошинского периода «влечения к словам», «Ангел Мщенья» — в связи с тем, что тогда, в середине первого десятилетия XX века, «чуть не все видные московские и петербургские поэты вдруг оказались страстными революционерами», да «стихотворение из времён французской революции», где в качестве «ударно-эстрадных слов» ему представляются такие: «Это гибкое, страстное тело / Растоптала ногами толпа мне» (то, что оно посвящено не телу, а голове мадам де Ламбаль, автору воспоминаний не запомнилось). Сблизившись с поэтом в Одессе, Иван Алексеевич был немало удивлён. «Помню его первые стихи, — судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так разовьётся внешне и внутренне». Впрочем, о том, что собой представлял «доодесский» поэт Волошин, будущий нобелевский лауреат имел весьма поверхностное представление. Внешняя эксцентричность в очередной раз заслонила внутреннюю суть.
В Одессе, как вспоминает Бунин, Макс «тотчас же проявил свою обычную деятельность». Он выступил с чтением стихов в Литературно-художественном кружке, затем в одном частном клубе, где почти все «новые одесситы», то есть бежавшие из столиц писатели, читали за небольшую плату свои произведения среди пивших и евших перед ними «недорезанных буржуев». Читал Волошин то, с чем он выступал в последнее время, — «о всяких страшных делах и людях как древней России, так и современной, большевистской». Бунин дивится и восхищается: «…так далеко шагнул он вперёд и в писании стихов, и в чтении их, так силён и ловок стал и в том и в другом». Бунин злится: «…слушал его даже с некоторым негодованием; какое, что называется, „великолепное“, самоупоённое и, по обстоятельствам места и времени, кощунственное словоизвержение!» Бунин иронизирует: «Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле всё как-то поднято, надуто, концы густых волос, разделённых на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленький ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно. Кряжистый мужик русских крепостных времён? Приап? Кашалот?..» Но вот происходит встреча в гостиной у Цетлиных, и «кряжистый мужик» вновь оказывается «милейшим и добрейшим Максимилианом Александровичем». Бунин обращает внимание на то, как изменился с годами облик поэта: он стал старше, тяжелее, но сохранился стиль поведения — молодость движений, общительность, а главное, «благорасположение ко всему и ко всем, удовольствие от всех и от всего… даже как бы ото всего того огромного и страшного, что совершается в мире вообще и в тёмной, жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков».
Как обычно, Макс бывает везде, читает (Бунин прав) «всегда с величайшей охотой, всюду где угодно и в любом количестве». Он выступает в Клубе увечных воинов, на благотворительном балу в зале Литературно-артистического общества, участвует в диспуте «Женщина перед судом женщины» в Ясском театре, присутствует на заседании кружка «Зелёная лампа» в помещении Камерного театра, читает лекции в Литературно-артистическом и Религиозно-философском обществах, подвизается в «Устной газете», организованной Союзом журналистов. Похоже, что лекции и стихи Волошина начинают завоёвывать Одессу, но особенно — стихи. «В этих поэмах о самозванствах, бунтах, смутах, исторических судорогах и национальных перерождениях слышится глубокая скорбь и молитва о России», — тонко подмечает один из рецензентов в «Одесском листке». Другой в «Южной мысли» называет Волошина «крупнейшим нынешним поэтом». И здесь не чувствуется преувеличения. Из поэтов, чьи имена были тогда на слуху, чаще других упоминались Блок с его «последними поэмами» и активно заявляющий о себе Макс Волошин.
Впрочем, язвительно-ироническое отношение к Максу как поэту и человеку сохранялось. Показательны в данном случае воспоминания Надежды Александровны Тэффи, знаменитой в то время писательницы сатирического склада: к весне 1919 года в Одессе появился поэт Макс Волошин. «Он был в ту пору одержим стихонеистовством. Всюду можно было видеть его живописную фигуру: густая квадратная борода, крутые кудри, на них круглый берет, плащ-разлетайка, короткие штаны и гетры. Он ходил по разным правительственным учреждениям и нужным людям и читал стихи. Читал он их не без толку. Стихами своими он, как ключом, отворял нужные ему ходы и хлопотал в помощь ближнему… Стихи густые, могучие, о России, о самозванце, с историческим разбегом, с пророческим уклоном. Девицы-дактило окружали его восторженной толпой, слушали, ахали, и от блаженного ужаса у них пищало в носиках. Потом трещали машинки — Макс Волошин диктовал свои поэмы. Выглядывало из-за двери начальствующее лицо, заинтересовывалось предметом и уводило Макса к себе…
Зашёл он и ко мне. Прочёл две поэмы и сказал, что немедленно надо выручать поэтессу Кузьмину-Караваеву, которую арестовали… по чьему-то оговору и могут расстрелять…
— А я пойду к митрополиту, не теряя времени. Кузьмина-Караваева окончила духовную академию. Митрополит за неё заступится.
Позвонила Гришину-Алмазову (губернатор Одессы. — С. П.)… Кузьмину-Караваеву освободили.
Впоследствии встречала я ещё на многих этапах нашего странствия — в Новороссийске, в Екатеринодаре, в Ростове-на-Дону — круглый берет на крутых кудрях, разлетайку, гетры и слышала стихи… И везде он гудел во спасение кого-нибудь».
Вполне завершённая новелла, в духе Тэффи, однако речь сейчас не о художественных достоинствах писательницы, а о том, что стоит за её рассказом.
Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, поэтесса и публицист, известная во Франции времён Второй мировой войны как мать Мария, в юности увлекалась неонародничеством, вступила в партию эсеров, в феврале 1918 года была избрана городским головой Анапы. Не разделяя большевистской идеологии, она всё же согласилась стать комиссаром по здравоохранению и народному образованию, надеясь защитить население от неизбежных перегибов. В мае 1918-го Кузьмина-Караваева участвовала в работе 8-го съезда партии правых эсеров в Москве, затем способствовала организации белого Восточного фронта. По возвращении в Анапу была арестована деникинской контрразведкой и предана военноокружному (или краевому) суду за «комиссарство». Волошин хорошо знал Елизавету Юрьевну ещё по Петербургу. Он был убеждён, что эта женщина, кстати, первой окончившая Духовную академию, «не имела ничего общего с большевизмом». Поэт составил письмо в редакцию «Одесского листка», которое, помимо него, подписали А. Толстой, В. Инбер, Л. Гроссман, Н. Крандиевская, Н. Тэффи, Амари и некоторые другие писатели. В письме говорилось: «Невозможно подумать, что даже в пылу гражданской войны сторона государственного порядка (то есть белая власть Юга. — С. П.) способна решиться на истребление русских духовных ценностей, особенно такого веса и подлинности, как Кузьмина-Караваева». Поэтессу всё же обвинили в «занятии ответственной должности в составе советской власти», но, приняв во внимание «смягчающие обстоятельства», осудили всего на две недели ареста «при тюрьме». Защита Кузьминой-Караваевой стала первым, но далеко не последним «процессом», в котором поэт выступал как сам себя назначивший «адвокат» Разума и Милосердия.
Быть адвокатом гуманности или арбитром в игре социальных стихий… Это становилось особенно актуально теперь, когда «древняя, тёмная, историческая жизнь России, так долго скрывавшаяся под спудом империи, сразу выступила из берегов, как только большевицкая пропаганда… обратилась с призывом к жадным, мрачным и разбойничьим сторонам русской души», когда «из народных глубин поднялись страшные призраки XVI и XVII веков», на что художник неоднократно указывает в своих статьях, стихах и поэмах; именно сейчас большевизм «оказался неожиданной и глубокой правдой о России». Примерно о том же напишет в «Окаянных днях» и Бунин: «…А всё-таки дело заключается больше всего в „воровском шатании“, столь излюбленном Русью с незапамятных времён, в охоте к разбойничьей, вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч отбившихся, отвыкших от дому, от работы и всячески развращённых людей… Ключевский отмечает чрезвычайную „повторяемость“ русской истории… Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда попадает из огня да в полымя?..»
Между тем на Одессу наступают красные. В городе вводят осадное положение, но уже многим ясно: это ненадолго. Многим, но отнюдь не Максу, которого, кажется, совсем не волнуют царящая кругом суматоха и предстоящие политические пертурбации. Вспоминает Бунин: «Французы бегут из Одессы, к ней подходят большевики. Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остаётся в Одессе, в их квартире. Очень возбуждён, как-то особенно бодр, лёгок. Вечером встретил его на улице: „Чтобы не быть выгнанным, устраиваю в квартире Цетлиных общежитие поэтов и поэтесс. Надо действовать, не надо предаваться унынию!“» Да и уезжать не следует. Макс пытается убедить в этом А. Толстого, который активно призывает его к бегству: родина гибнет, всё вокруг рушится… Но нет, это не по-волошински: «Когда мать больна, дети остаются с нею».
Он по-прежнему засиживается по вечерам у тех, кто ещё не уехал. Часто беседует с Буниным, поражая его своей оживлённостью, граничащей с бестактностью: «Бог с ней, с политикой, давайте читать друг другу стихи!» Война ли, мир, революция, эвакуация — всё едино: Макс, пишет Бунин, «говорит без умолку, затрагивая множество самых разных тем, только делая вид, что интересуется собеседником. Конечно, восхищается Блоком, Белым и тут же Анри де Ренье, которого переводит». Бунин и раньше-то морщился от антропософских идей, а уж в лихое время слышать о том, «будто „люди суть ангелы десятого круга“, которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами», по меньшей мере странно. Тем более когда собеседник уверяет, «что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел» (это при нынешних-то разбоях), тут уж любой задумается: всё ли с ним в порядке…
Между тем стремление «спастись», не уезжая, проявляют многие одесские художники, которые организуются в профессиональный союз вместе с малярами. «Мысль о малярах подал, конечно, Волошин, — иронично замечает Бунин. — Говорит с восторгом: „Надо возвратиться к средневековым цехам“».
В спокойном изложении художника А. М. Нюренберга дело выглядело так: «На второй день после прихода советской власти я оставил свою педагогическую работу, собрал группу революционно настроенных художников и отправился с ними в исполком. В бригаду, кроме меня, входили поэт Максимилиан Волошин, художники: Олесевич, Фазини (брат Ильи Ильфа), Экстер, Фраерман, Мидлер, Константиновский и скульптор Гельман. Представляя секретарю исполкома Фельдману бригаду, я говорил ему о нашем революционном энтузиазме… Фельдман, пожав каждому руку, сказал, что новая власть рада нашему приходу и ценит наше желание работать для революции».
Примеру художников последовали литераторы. Заседание в Художественном кружке по поводу организации их союза состоялось 17 апреля. Никогда не проявлявший «желания работать для революции», Бунин описывает это собрание так: «Очень людно, много публики и всяких пишущих, „старых“ и молодых. Волошин бегает, сияет, хочет говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом, в своей накидке и с висящей за плечом шляпой… быстро и грациозно, мелкими шажками выходит на эстраду: „Товарищи!“ Но тут тотчас же поднимается дикий крик и свист: буйно начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: „Долой! К чёрту старых, обветшалых писак! Клянёмся умереть за Советскую власть!“ Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава „в знак протеста“ покидает зал. Волошин бежит за ними — „они нас не понимают, надо объясниться!“» Да где там… Кому и с кем удавалось тогда «объясниться»…
Пожалуй, героико-комическая деятельность Макса в Одессе достигает своего апогея в период подготовки к празднованию Дня всемирной солидарности трудящихся. Слово — Бунину: «Большевики приглашают одесских художников принять участие в украшении города к первому мая. Некоторые с радостью хватаются за это приглашение: от жизни, видите ли, уклоняться нельзя, кроме того, „в жизни самое главное — искусство, и оно вне политики“. Волошин тоже загорается рвением украшать город; фантазирует, как надо это сделать: хорошо, например, натянуть над улицами и по фасадам домов полотнища, расписанные ромбами, конусами, пирамидами, цитатами из разных поэтов… Я напоминаю ему, что в этом самом городе, который он собирается украшать, уже нет ни воды, ни хлеба, идут беспрерывные облавы, обыски, аресты, расстрелы, по ночам — непроглядная тьма, разбой, ужас… Он мне в ответ опять о том, что в каждом из нас, даже в убийце, в кретине
Ну а «серафимы» тем временем создают комиссию по проведению праздничных мероприятий. Руководителем литературного отдела назначен Волошин вкупе с неким Монастырским. Макс отнёсся к этому со свойственным ему энтузиазмом, хотя Бунин его предупреждал: «…не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были ещё вчера. Болтает в ответ то же, что и художники: „Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и художник“. — „В украшении чего? Собственной виселицы?“ — Всё-таки побежал. А на другой день в „Известиях“: „К нам лезет Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам“». Бунин имеет в виду газету «Известия Одесского Совета рабочих депутатов», где 23 апреля 1919 года появилась статья некоего Ивана Квитко «Необходимо приступить к чистке», в которой красный журналист клеймил Волошина за сотрудничество в «социал-реакционном» «Деле», за стихи и прозу, где тот «с большим подъёмом описывал… ужасную участь Феодосии, расстрелянной апокалиптическими матросами», и призывал товарищей рабочих и матросов отказаться от его таланта и услуг.
Макс пытается оправдаться, объяснить своим оппонентам, что печатался он и в «правых», и в «левых» органах и не видит в этом ничего зазорного, ведь ни один из них не соответствовал его взглядам на жизнь; он имеет претензию «быть автором собственной социальной системы». Да кому она нужна, твоя система… Письмо Волошина в газету, «полное благородного негодования», естественно, не напечатали; напечатали лишь это: «Волошин устранён из первомайской художественной комиссии», после чего он горько жаловался Бунину: «Это мне напоминает тот случай, когда ни одна из газет, травивших меня за то, что я публично развенчал Репина, не дала мне места ответить на эту травлю!»
На этом пребывание поэта в Одессе закончилось. Пришло время возвращаться домой, в Крым, но это — целая проблема. Впрочем, перед волошинской энергией никакая проблема не устоит. Бунин: «Вчера прибежал к нам и радостно рассказал, что дело устраивается, и как это часто бывает, через хорошенькую женщину. „У неё реквизировал себе помещение председатель Чека Северный. Геккер (жена публициста Н. Л. Геккера. — С. Я.) познакомила меня с ней, а она — с Северным“. Восхищался и им: „У Северного кристальная душа, он многих спасает!“ — „Приблизительно одного из ста убиваемых?“ — „Всё же это очень чистый человек…“ И не удовольствовавшись этим, имел жестокую наивность рассказать мне ещё то, что Северный простить себе не может, что выпустил из своих рук Колчака, который будто бы попался ему однажды в руки крепко…»
Настоящая фамилия этого Северного — Юзефович. Сын одесского доктора с характерной «революционной» судьбой. Волошин же видит в нём демоническую фигуру и возводит на пьедестал, как раньше — Савинкова. В материалах к будущему циклу «Личины» Волошин несколькими штрихами набрасывает образ своего героя: «Весь звенящий своей мечтой. Мягкие рыжие волосы. Веснушки… Он был в отряде подрывателей. Только что вырвался из застенка… Ему вгоняли щепочки под ногти, ему подпаливали пальцы на огне. Ему читали приговор, ставили к стенке, стреляли поверх головы и вели на допрос… Приход большевиков спас его. В нём нет отмщения и злобы. Но его исступлённая кротость пугает больше кровожадности». В конце августа 1919 года Одесса перешла к белым, Северный был схвачен контрразведкой…
Так или иначе Одесская ЧК выдала поэту соответствующий документ. Посодействовал отъезду Волошина и командующий Черноморским флотом А. В. Немитц. Ещё бы, тоже поэт, особенно хорошо, по мнению Макса, освоивший рондо и триолеты. Словом, дело сладилось. Путешествие обещало быть непредсказуемым, но приятным, ведь вместе с Волошиным в Крым отбывала Татида. Последнюю ночь провели у Буниных. «Провожать его было всё-таки грустно. Да и всё было грустно: сидели мы в полутьме, при самодельном ночнике, — электричества не позволяли зажигать, — угощали отъезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по-дорожному — матроска, берет. В карманах держал немало разных спасительных бумажек, на все случаи: на случай большевистского обыска при выходе из одесского порта, на случай встречи в море с французами или добровольцами, — до большевиков у него были в Одессе знакомства и во французских командных кругах, и в добровольческих. Всё же все мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны: Бог знает, как-то сойдёт это плавание на дубке до Крыма…»
Рано утром 10 мая парусная шхуна «Казак» вышла в море. Вдали чуть виднелся город
…Весь в красном исступленьи
Расплёсканных знамён,
Весь воспалённый гневами и страхом.
Ознобом слухов, дрожью ожиданий,
Томимый голодом, поветриями, кровью,
Где поздняя весна скользит украдкой
В прозрачном кружеве акаций и цветов.
А здесь безветрие, безмолвие, бездонность…
И небо и вода — две створы
Одной жемчужницы.
В лучистых паутинах застыло солнце.
Корабль повис в пространствах облачных,
В сиянии притупленном и дымном.
(«Плаванье»)
Максу с Татидой были «приданы» трое матросов-чекистов; кроме них экипаж судна насчитывал двух человек. Вскоре состоялась встреча с французским миноносцем. «Мы были остановлены, — рассказывает Волошин, — к нам на борт сошёл французский офицер и спросил переводчика. Я выступил в качестве такового и рекомендовался „буржуем“, бегущим из Одессы от большевиков. Очень быстро мы столковались: общие знакомые в Париже и т. д. Нас пропустили. „А здорово вы, товарищ Волошин, буржуя представляете“, — сказали мне после обрадованные матросы, которые вовсе не ждали, что всё сойдёт так быстро и легко. Их отношение ко мне сразу переменилось…»
16 мая Волошин пишет Бунину из Евпатории: «Пока мы благополучно добрались до Евпатории и второй день ждём поезда. Мы пробыли день на Кинбурнской косе, день в Очакове, ожидая ветра, были дважды останавливаемы французским миноносцем, болтались ночь без ветра, во время мёртвой зыби, были обстреляны пулемётным огнём под Ак-Мечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гниющим озёрам, а теперь застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Всё идёт не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов… Очень приятно вспоминать последний вечер, у вас проведённый, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период».
Что касается пулемётного огня, то он был открыт молодчиками батьки Таранова, «бывшими каторжниками, пользовавшимися в Крыму дурной славой». Сам поэт, по его воспоминаниям, сидел в это время, «сложив ноги крестом и переводил Анри де Ренье». Не растерялись и матросики. Свита Волошина ответила «малым загибом Петра Великого. Я мог воочию убедиться, насколько живое слово может быть сильнее машины: пулемёт сразу поперхнулся и остановился… Нас перестали обстреливать, дали поднять красный флаг и, узнав, что мы из Одессы, приняли с распростёртыми объятиями». Естественно, и напоили, и накормили, и на какой-то старозаветной коляске домчали до Евпатории, где очередная ЧК выдала очередные бумаги и определила на какой-то постоялый двор. Теперь можно было осмотреться и отдаться лирическим настроениям, совсем как в мирное время:
…Мел белых хижин под луной.
Над дальним морем блеск волшебный,
Степных угодий запах хлебный —
Коровий, влажный и парной.
И русые при первом свете
Поля… И на краю полей
Евпаторийские мечети
И мачты пленных кораблей.
(«Бегство»)
«Мои приключения только и начались с выездом из Одессы, — пишет Волошин Бунину. — Мои большевистские знакомства и встречи развивались по дороге от матросов-разведчиков до „командарма“, который меня привёз в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым…»
А дело было так… Прогуливаясь с Татидой по городу, Волошин заглянул в один из сохранившихся ресторанов. Присели. За соседним столиком обедала семья, глава которой, весьма представительный мужчина, принялся сверлить поэта глазами. Волошину товарищ (или господин) знакомым не показался: «Вы меня знаете?» — «А я был у вас в Коктебеле несколько лет назад… заезжал из Судака по рекомендации Герцык. Вы показывали рисунки; мы полночи просидели, беседуя, в вашей мастерской. Я был тогда ещё в почтовой форме»… Случается же… Бывший почтовый работник И. С. Кожевников взлетел на пост командарма. В настоящий момент — в отпуске в Крыму. Что, есть сложности с выездом из Евпатории, нет поездов? Это дело поправимое: «Я сию минуту телеграфирую Дыбенке, чтобы от них прислали нам паровоз. И завтра сам отвезу вас до Симферополя. Будьте здесь с матросами в 4 утра».
Похоже, что в глазах своих сопровождающих уже сам поэт поднялся на уровень командарма. «До сих пор я сам, с трудом и напряжением, тащил мои чемоданы, — теперь матросы сами наперебой хватали их и даже подрались из-за того, кто понесёт». Чекистов откомандировали в теплушку; Волошин с подругой ехали в вагоне Кожевникова. Завязывался интересный разговор. Со свойственным строителям светлого будущего размахом, с опорой на научный фундамент командарм завёл речь об освобождении… нет, не народа от кровопийц-угнетателей, а Земли — от законов всемирного тяготения.
— Сперва мы ей ось выпрямим: ведь климаты имеют причиной главным образом искривление земной оси. А когда ось выпрямим — тогда на всей земле ровный климат будет.
— Как же вы, любопытно будет узнать, ей ось выпрямите?
— А у меня для этого дела система механических вёсел придумана — по всему экватору. Они и будут грести — то с одной стороны, то с другой.
— Обо что грести?
— А вот, как начнём грести, тогда и видно будет, тогда и узнаем, в чём земля плавает. Тогда и путешествовать поедем по всемирному пространству. Довольно нам, в самом деле, в крепостной зависимости от солнца пребывать — точно лошадь на манеже, по кругу бегать!
И всё же на данный момент это «освобождение» представлялось весьма проблематичным. А вот освобождение от социальных комплексов, похоже, уже состоялось. Старый «буржуй» Волошин узнал, что нынче формируется класс «новой буржуазии» и сам командарм принимает в этом непосредственное участие: одних нарядов он своей мадам Кожевниковой нашил на много лет вперёд. «…Нельзя же ей будет так показаться, когда революция кончится!» Вот так и ехали, с ветерком, в мифологическом времени.
А в реальном — поэта ожидали конкретные неприятности. Крым находился на осадном положении. Настороженность революционных властей возрастала не по дням, а по часам. А тут ещё этот загулявшийся лектор-буржуй с весьма сомнительными взглядами. Председатель Симферопольского ревкома Е. Багатурьянц («Лаура») была настроена весьма решительно (большевистские дамы-командирши отличались почему-то особой свирепостью): пусть только явится в Крым — мы ему покажем. И надо же — так испортить человеку настроение! Предвкушала праздник расправы, а что получила? Искомого буржуя в бронированном правительственном вагоне… Кроме того, Волошин познакомился через Кожевникова с грустным длинноволосым юношей, который оказался могущественным политкомом Ахтырским, имеющим полномочия повесить самого Дыбенко без суда и следствия в 24 часа. (Юноша этот впоследствии окажется провокатором.) Короче говоря, путь на Феодосию был свободен. Мандат Ахтырского действовал как волшебная палочка. Давали лошадей, оказывали всяческое содействие… 26 мая поэт был уже в Коктебеле.
«…Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерийским огнём, — пишет он Бунину, — первый десант добровольцев был произведён в Коктебеле, и делал его „Кагул“, со всею командой которого я был дружен по Севастополю: так что их первый визит был на мою террасу…» А дело обстояло вот как. В середине июня 1919 года в коктебельскую бухту вошёл крейсер «Кагул», а с ним — два английских миноносца и баржа с солдатами. Белый десант под командованием генерал-майора Я. А. Слащова должен был высадиться на берег и двинуться к Феодосии. Корабельные орудия вели огонь. Вскоре в волошинском доме появились офицеры с «Кагула»…
Выяснилось, что обстреливали Старый Крым, где, как предполагалось, находился штаб красных. Казалось бы, Коктебелю и его жителям ничто не грозило. Тем не менее обстановка постепенно стала накаляться. «Коктебель был никак не защищён, — вспоминает Волошин, — но 6 человек кордонной стражи из 6 винтовок обстреляли английский флот. Это было совсем бессмысленно и неожиданно. Крейсер сейчас же ответил тяжёлыми снарядами… Они были направлены в домик Синопли, из-за которого стреляли. „Бубны“ разлетелись в осколки». Теперь уже с кораблей обстреливали любое скопление народа, очевидно, в порядке профилактики. Между тем «скопления» представляли собой косцы сена и рыбаки, убирающие сети. «Недоразумение» могло оказаться роковым для многих жизней, и Максу вновь пришлось выступить в роли адвоката, точнее, парламентёра от мирных жителей. «Дали лодку. Я навязал на тросточку носовой платок — белый флаг — и поехал на крейсер… Когда мы огибали „Кагул“ (он вблизи был громадиной), нам дали знак, что сходня спущена с левого борта (так встречают почётных гостей). Взобравшись по крутой лестнице, я снял шляпу, вступая на палубу, и был тотчас же проведён к командиру судна». Естественно, все вопросы уладились, поэт был приглашён в кают-компанию, где встретил массу знакомых. Здесь были слушатели его лекций, участники вечеров и концертов. Собственно говоря, чтением новых стихов и завершилась эта своеобразная дипломатическая миссия.
Военная кампания в районе Восточного Крыма на данном этапе закончилась в пользу белых. Добровольцы заняли Феодосию. И тут нависла опасность над Н. А. Марксом, который вместе с В. В. Вересаевым возглавлял отдел народного образования. Волошину предстояло сыграть в деле «красного генерала» свою самую яркую и трудную «адвокатскую» роль.
Никандр Александрович Маркс, профессор археологии, историк, палеограф, фольклорист, издатель древних русских букварей, являвшийся, по выражению Волошина, «живым средоточьем Киммерийской старины, её преданий, быта и духа», был генералом в отставке. В начале мировой войны его мобилизовали, и в 1914 году Маркс получил звание генерал-лейтенанта. С июня 1915 года он возглавлял штаб Одесского военного округа, после Февральской революции стал членом Совета рабочих и солдатских депутатов, а в конце сентября вновь — командующим Одесским военным округом. В этот период Маркс фактически возглавляет органы местной власти. С апреля 1919 года, уже при красных, он руководит отделом народного образования в Феодосии. Волошин считал вполне естественным такой поворот в судьбе Маркса, который, «конечно, не мог покинуть своего Крыма, своей Феодосии на произвол большевикам и остался его защищать, и благодаря его участию в Комитете народного просвещения Феодосии удалось пережить вторую волну большевизма без кровавых расправ, школа была спасена от разгрома, а учительский персонал — от голодной смерти».
Однако после захвата Крыма А. И. Деникиным «красный генерал» Маркс был арестован и приговорён к каторжным работам, что, учитывая его возраст, было равносильно смертному приговору. В этот момент, рассказывает Волошин, «когда все от него отвернулись, как от зачумлённого, я поехал вместе с ним» в Керчь, во время белого террора, «и мне удалось не только предотвратить его расстрел, но и направить… дело в Екатеринодар, провести через военно-по-левой суд и, несмотря на обвинительный приговор, добиться — не оправдания, — а освобождения его, вопреки воле всей армии и прессы, требовавших казни». Последнюю точку в «деле Маркса» поставил генерал А. И. Деникин, который проявил поистине библейскую мудрость: он утвердил приговор суда, но приказал освободить Маркса из-под стражи. «Таким образом, Н. А. Маркс — учёный человек — получил возможность вернуться к своим трудам, а виноватый генерал, незримо из него выделенный лишением чинов, был символически послан отбывать символические каторжные работы», — подводит итог Волошин в статье «Соломонов суд». Однако в этой истории важен не только итог. Знаменательна сама драматургия волошинской миссии, развернувшаяся на театре Гражданской войны.
Получив в Феодосии пропуск для себя и жены Маркса, Екатерины Владимировны Виганд, Волошин отбывает в Керчь. «Мы с Екатериной Владимировной погрузились в поезд, в товарный вагон. Рядом с нами был такой же вагон (теплушка так называемая), в котором ехал Маркс с несколькими солдатами — стражею… Поезд двинулся с опозданием на 5–6 часов и затем на всех полустанках керченского пути, которых было так много, останавливался по 6 часов… Это был первый воинский поезд, который шёл через линии только что взятых с боя позиций. Везде были следы бомбардировок и атак: воронки, разорванная проволока, выломленные двери… Солдатская стража, которая была приставлена к Марксу, уже давно была на его стороне…»
Владиславовка. Макс наблюдает, как ожидающая отправления публика бесцельно бродит по перрону, напоминая сонных мух. К вагону-теплушке приближается офицер и спрашивает у часового:
— Не знаешь, кого это везут арестованным?
— Генерала Маркса, — отвечает солдат, — который партейный манифес придумал.
— Маркс — большевистский главнокомандующий? А ну-ка посторонись, братец, я его сейчас на месте порешу.
Перед ним возникает грузный человек в пенсне. Офицер отпрянул, поражённый сходством этого человека с теоретиком мирового пролетариата, фамилию которого упомянул часовой.
— Простите, господин офицер. Вам в точности известно, в чём заключается дело генерала Маркса? И в чём он обвиняется? Видите ли, я — Максимилиан Волошин, еду, чтобы быть его защитником на военном суде. Я не допущу самочинного расстрела на дороге.
Офицер слегка пьян. Он с удивлением рассматривает человека, столь дисгармонирующего со всеми окружающими. Наконец приходит в себя:
— Все вы, так вас так, заодно. Я бы всех вас к стенке! Ну, да ладно, сегодня я сговорчивый. Но в Керчи у вас этот номер не пройдет. Там всем заведует ротмистр Стеценко. Это такой… Он Маркса мимо себя не пропустит!
Поезд тронулся. В вагоне-теплушке один из солдат заметил у арестованного золотые часы: «Знаете что — подарите их мне. Ведь всё равно вас часа через два расстреляют. На что они тогда вам?» Этот же солдат через два дня в Керчи, при смене караула, скажет взволнованным голосом: «Ну, если они такого человека расстреляют, то правды нет. Тогда только к большевикам переходить остаётся».
Керчь. Приморский бульвар. Екатерина Владимировна говорит не умолкая:
— Не хватало ещё на нашу голову Стеценко! Не приведи господь попасть к нему в лапы! Вы слышали, говорят, зверь и негодяй, каких свет не видел! Запомните, Макс, — Стеценко!
— Запомнил, Екатерина Владимировна! Вы мне который раз это говорите. Да и не только вы…
— Ну, слава Богу, вот и особняк Месаксуди. Вы знаете, это самый богатый человек в городе. Он всё может! Он Никандру Александровичу жизнью обязан, всё для него сделает. Ведь когда на фронте… Вы знаете…
— Знаю, голубушка, знаю!
Макс дёргает звонок на дубовой двери роскошного особняка. Дверь вскоре отворяется. Слышатся смех, музыка. Перед ними «стилизованный и англизированный» лакей:
— Чего изволите?
— Передай, братец, хозяину, — устало говорит Макс, утирая пот, — что здесь жена Никандра Александровича Маркса. Просит принять.
— Доложу. — Лакей закрывает тяжёлую дверь.
На приморском бульваре красота природы и мертвечина войны. Ещё совсем недавно здесь на деревьях вешали большевиков, захваченных в каменоломнях. Волошин всматривается в ночь: «Ну вот, передам Маркса Месаксуди — а там всё пойдёт как по маслу…» Распахивается дубовая дверь. Лицо лакея непроницаемо.
— Барин заняты-с… У них гости… Принять не могут-с…
Дверь звучно захлопывается. Екатерина Владимировна плачет:
— Как же так?.. Почему?
— А потому, голубушка, что ротмистр Стеценко, как видно, ещё не самый большой негодяй в этом городе. Поищем-ка лучше ночлега. Комендантский час… На что угодно нарваться можно!..
Они идут по ночной улице. Волошин погружён в себя: «Месаксуди струсил — боится себя скомпрометировать. Маркс остаётся всецело на моих руках. Значит, я должен спасти его без посторонней помощи. Но я ничего не знаю о воинской дисциплине, о военных порядках. Я даже не знаю, в чьих руках сейчас судьба Маркса и кого я должен прежде всего видеть и с кем говорить. Я не знаю, что я буду делать, что мне удастся сделать, но я прошу судьбу поставить меня лицом к лицу с тем, от кого зависит судьба Маркса. Я даю себе слово, что только тогда вернусь домой, когда мне удастся провести его сквозь все опасности и освободить его…»
Дерево с повешенным. Табличка: «Большевик». Екатерина Владимировна испуганно крестится:
— Господи помилуй! Ротмистр Стеценко… Это его рук дело… Не приведи Господь!.. Как же теперь быть? На кого надеяться?!
— Надеяться не на кого! Будем сами спасать Никандра Александровича.
Как из-под земли — фигура часового:
— Ваш пропуск!
— Мы приезжие. Только что с вокзала.
— Вы арестованы. Идите за мной.
Ну что ж, чему бывать… «Мне было решительно всё равно, каким путём идти навстречу судьбе. Мы вошли в соседнее здание — к коменданту города. В большой полутёмной комнате сидело в разных углах несколько офицеров…»
— А, господин Волошин… Какими судьбами? Что это за солдат с вами?
— По-видимому, я арестован, а это мой страж…
— Вы свободны. А ты иди себе… Господина Волошина здесь все знают.
— Стоит мне выйти на улицу — как меня арестуют, на первом же углу.
— Хотите переночевать у меня? — спрашивает офицер на костылях. — У меня как раз есть свободная комната.
— Спасибо, но дело несколько сложнее: я с дамой. Ваш часовой сторожит её на улице.
— Вот что мы сделаем: даму положим в отдельную комнату, а мы с вами переночуем вместе: у меня в комнате есть канапе. Погодите, я возьму у коменданта два пропуска…
Небольшая комната. В углу — образ с лампадкой. Макс возится с покалеченной ногой офицера, меняет повязку.
— Позвольте мне узнать, чьим гостеприимством я имею честь пользоваться?
— Начальник местной контрразведки ротмистр Стеценко, Григорий Иванович. Вы — поэт Волошин из Коктебеля?
— Да, но знаете ли, кто эта дама, что спит в соседней комнате?
— ?
— Это жена генерала Маркса, обвиняющегося в государственной измене и сегодня препровождённого в ваше распоряжение. Я же сопровождаю его с целью не допустить бессудного расстрела…
Офицер рывком поднимается, опираясь на подоконник. Его сузившиеся глаза в упор смотрят на Макса:
— Да… действительно… Знаете, с подобными господами у нас расправа короткая: пулю в затылок и кончено…
Макс молчит. А тот продолжает сыпать рублеными фразами:
— Негодяй, изменник… Какое может быть снисхождение? Есть красные, есть белые! Одно из двух: или ты за красных, или за белых! Середины быть не может!
Макс молчит. Может быть, именно сейчас у него рождаются строки:
И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас — тот против нас.
Нет безразличных: правда с нами».
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
(«Гражданская война», 1919)
Образ Владимирской Богоматери, освещённый тёплым огоньком лампады, притягивает взгляд поэта: «Пресвятая Богородица, всем христианам Заступница! Не за жертву молю тебя, не за Никандра, а за палача, за убийцу Григория. Муки более страшные в душе его; более страшная, чем у жертвы, доля его. Муками земными, телесными кончатся мучения жертвы, но вечное проклятие убийцы ляжет на палача, не смывается кровь убиенного с совести его. И после смерти душа его будет обагрена кровью жертвы, имя его запятнано клеймом позора и презрения… Не дай погибнуть палачу сему Григорию ради жертвы его, Никандра…»
Макс давно усвоил: «Не нужно, чтобы оппонент знал, что молитва направлена за него: не все молитвы доходят потому только, что не всегда тот, кто молится, знает, за что и о чём надо молиться. Молятся обычно за того, кому грозит расстрел. И это неверно: молиться надо за того, от кого зависит расстрел и от кого исходит приказ о казни. Потому что из двух персонажей — убийцы и жертвы — в наибольшей опасности (моральной) находится именно палач, а совсем не жертва. Поэтому всегда надо молиться за палачей — и в результате молитвы можно не сомневаться…»
В полутьме комнаты висит тишина… Наконец ротмистр выдавливает из себя:
— Если хотите его спасти, вы не должны допускать, чтобы он попал в мои руки. Сейчас он у коменданта. И это счастье, потому что, попади он к нам, мои молодцы тотчас бы с ним расправились, не дождавшись меня. Я утром протелефонирую, чтобы его срочно отправили в Екатеринодар. Кстати сказать, есть тайное распоряжение о том, чтобы всех генералов и адмиралов, обвинённых в сношениях с большевиками, судили именно там. Возьмите на всякий случай выписку из этого приказа…
Так начался заключительный этап «адвокатской» кампании Волошина. Он плыл на военном корабле до Новороссийска, причём его соседом по каюте оказался В. М. Пуришкевич, который также считал, что «подобных (Марксу. — С. П.) господ надо расстреливать без суда, тут же на месте». На вопрос о будущем монархизма в России политический муж ответил: «В России сохранилось достаточно потомков Рюрика, которые сохранили моральную чистоту рода гораздо более, чем Романовы. Хотя бы Шереметевы!»
В Екатеринодаре Макс обошёл всех деникинских генералов, но с самим Антоном Ивановичем ему познакомиться не удалось. У Маркса же в это время случился приступ грудной жабы, и его поместили в тюремную больницу. Екатерине Владимировне никто не препятствовал часами сидеть у мужа. А «дело» его что-то забуксовало: «Военно-полевой суд было очень трудно составить. Для того чтобы судить полного генерала, необходимо было, чтобы председательствовал в комиссии тоже полный генерал. Между тем в Добровольческой армии, при отсутствии чинопроизводства, полных генералов совсем не было. Генерал-майорами, генерал-лейтенантами — хоть пруд пруди, а полных генералов — ни одного. Наконец, наметили одного — старенького генерала Экка… Но его не было в Екатеринодаре…» Конец этой истории мы уже знаем. Отметим вскользь, что Волошин, не повидавшись лично с Деникиным, направил ему письмо, переданное главнокомандующему одновременно с приговором военно-полевого суда. Поэт, в частности, писал, что «приговор в этом деле в некоторой степени является и приговором судящих над самими собою, принимая в соображение „приговор Истории“…». Состоялся в Екатеринодаре и публичный вечер, на котором Волошин выступил со стихами о революции…
Так завершилась повесть о Никандре Марксе. Были, конечно, треволнения на обратном пути, когда «изменника» хотели «шлёпнуть» в поезде, но широкая грудь Макса всегда вовремя защищала от опасности. Пытались добраться до «негодяя» и в Отузах, но, к счастью, на пути к дому профессора встречалось немало винных подвалов, в которых мстительное чувство, как правило, растворялось… На самого поэта эти люди ещё долго показывали пальцем, приговаривая: «Вот только благодаря Волошину нам не удалось расстрелять этого изменника Маркса». Ну а «красный генерал» Маркс был избран в декабре 1920 года первым ректором Кубанского университета. За три месяца до смерти…
Генерал Н. А. Маркс и генерал А. И. Деникин… Эти две столь разные фигуры каким-то загадочным образом сближают жизненные орбиты М. А. Волошина и другого свидетеля-летописца «суровых лет» России И. С. Шмелёва. В январе 1917 года, ещё не зная, куда судьба забросит сына (впоследствии, при большевиках, расстрелянного), Иван Сергеевич пишет ему: «Если случится быть в Одессе, имей в виду, что начальник штаба генерал Маркс меня хорошо знает, и сам он литератор…» Тот самый Н. А. Маркс, над которым впоследствии Волошин не позволит совершить самосуд и которого генерал Деникин освободит из-под стражи. Сам же А. И. Деникин, а особенно его жена, Ксения Васильевна, будут близкими друзьями Шмелёва во Франции. И ещё одно знакомое нам имя: А. С. Ященко, однокашник Волошина, издатель журнала «Русская книга», тот самый, к которому Шмелёв обратился с просьбой помочь ему получить визу и который опубликовал в Берлине «Стихи о терроре» Волошина. Можно долго говорить о причудливых сплетениях судеб, но важнее ещё раз обратить внимание на творческие переклички двух великих «крымчан».
Наступали кульминационные дни лихолетья, когда уже подняты «на ножи армии, классы, народы» (Волошин), и вскоре оказывается, что «всё уже, как трава, прибито» (Шмелёв). «Те, что убивать ходят», показаны обоими писателями жёстко, колоритно. Вот «тупорылый парень с красной звездой на шапке», сидящий на часах у церкви, превращённой в тюремный подвал. Или музыкант Шура-Сокол, «стервятник», пахнущий кровью и выменивающий чувственные утехи на муку и соль. «А то пропылит на мухрастой запалённой лошадке полупьяный красноармеец, без родины — без причала… в помятой звезде красной-тырцанальной, с ведёрным бочонком у брюха — пьяную радость везёт начальству из дальнего подвала, который ещё не весь выпит… Остановится перед разбитой виллой… Приметит — стёклышко никак цело! Наведёт-нацелит: „A-а, едрёнать…“» («Солнце мёртвых» Шмелёва). Та же «программа действий» и у волошинского красногвардейца: «У бочек выломав днища, / В подвал выпускать вино. / Потом подпалить горище / Да выбить плечом окно. // В Раздельной, под Красным Рогом / Громить поместья и прочь / В степях по грязным дорогам / Скакать в осеннюю ночь» («Красногвардеец»), Шмелёвский матрос Всемога («Всемога»), отменивший и Бога, и культуру, новый хозяин жизни и главный инструмент власти, полагающий, что он все «природы законы знает» и, значит, может творить произвол над природой и людьми. Волошинский матрос с постоянным вопросом: «„Ну, как? Буржуи ваши живы?“ / Устроить был всегда не прочь / Варфоломеевскую ночь. / Громил дома, ища поживы, / Грабил награбленное, пил, / Швыряя керенки без счёта, / И вместе с Саблиным топил / Последние остатки флота» (цикл «Личины»).
Приметы этой «Варфоломеевской ночи», точнее, «Варфоломеевских лет» применительно к Крыму выразительно показаны Шмелёвым в романе «Солнце мёртвых»: «…здесь отнимают соль, повёртывают к стенкам… гноят и расстреливают в подвалах, колючей проволокой окружили дома и создали „человечьи бойни“!» Почти буквальное совпадение с революционным жаргоном из волошинского стихотворения «Терминология»: «„Брали на мушку“, „ставили к стенке“, / „Списывали в расход“ — / Так изменялись из года в год / Речи и быта оттенки». Поражает конкретизация этого ужаса, зафиксированного двумя очевидцами — Шмелёвым и Волошиным. «И вот — убивали, ночью. Днём… спали… В подвалах Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки листков лежали, на которых к ночи ставили красную букву…» («Солнце мёртвых»). Стихотворение Волошина «Террор»: «Собирались на работу ночью. Читали / Донесенья, справки, дела. / Торопливо подписывали приговоры. / Зевали. Пили вино. / С утра раздавали солдатам водку. / Вечером при свече / Выкликали по спискам мужчин, женщин. / Сгоняли на скотный двор. / Снимали с них обувь, бельё, платье. / Связывали в тюки. / Грузили на подводу. Увозили. / Делили кольца, часы. / Ночью гнали разутых, голых / По оледенелым камням, / Под северо-восточным ветром / За город в пустыри…» В одном из писем Шмелёв утверждает: «Если бы случайное чудо и властная международная комиссия могла бы получить право произвести следствие на местах, она собрала бы такой материал, который с избытком поглотил бы все преступления и все ужасы избиений, когда-либо бывших на земле». Волошин же прямо говорит об этих преступлениях «и всех ужасах избиений». Шмелёв и потерю сына, и бесконечную череду смертей предпочитал носить в себе. «Это моё личное. Я не хочу выносить это наружу», — говорил он своей родственнице Ю. А. Кутыриной. А для Волошина в эти годы не было ничего «личного» (спрятанного в себе); его «личное» становилось всеобщим, а голос его растворялся «в спазмах городов, в водоворотах улиц и вокзалов».
Шмелёв как автор-очевидец предпочитает иногда передать свое слово персонажу-очевидцу. Самый запоминающийся монолог в романе «Солнце мёртвых» принадлежит доктору Михаилу Васильевичу и перекликается с волошинским циклом «Усобица». Оба писателя ссылаются на Достоевского. Шмелёвский Михаил Васильевич упоминает «дерзание вши бунтующей, пустоту в небесах кровяными глазками узревшей», что заставляет вспомнить «Преступление и наказание». Волошин же говорит о трихинах (отсылающих к тому же роману Достоевского), микроскопических существах, вселяющихся в людей и делающих их бесноватыми. Впрочем, о влиянии Достоевского на Волошина речь ещё впереди…
Своё отношение к революционным событиям Шмелёв выразил в сказках-притчах. Волошин — в поэтических циклах «Пути России», «Личины» и «Усобица». Одна из самых известных сказок Шмелёва — «Степное чудо», в которой Россия символически изображается как убитая своими детьми женщина в богатых одеждах. Волошин в стихотворении «Святая Русь» рисует её невестой, отмеченной «красой да силой бранной», с накопленным в рундуках приданым. Она пока ещё не убита, она лишь «бездомная, гулящая, хмельная», «след босой ноги» которой благословляет поэт. Волошинская позиция — сострадание: «проплавить» молитвой, «растопить любовью» («Русь гулящая»), У Шмелёва же (как и должно быть в сказке) — надежда на чудо. Женщина-Россия, воспрянув от смертного сна, сливается с русской землёй, с природой. В романе «Солнце мёртвых» уже нет никакой надежды. Интонации писателя в обращении к России очень напоминают волошинские: «С лёгкостью безоглядной расточили собранное народом русским. Осквернили гроба святых… самое имя взяли, пустили по миру, безымянной, родства не помнящей. Эх, Россия! Соблазнили тебя — какими чарами? Споили — каким вином?» Сравним: «Поддалась лихому подговору,/ Отдалась разбойнику и вору,/ Подожгла посады и хлеба,/ Разорила древнее жилище…» («Святая Русь»).
В сказке Шмелёва «Инородное тело» вновь возникают Россия и её «дети». «Дети» — это и революционеры, сеющие смуту в народе, и конкретный сын, заражённый агитацией и выступающий против своей матери. Даже доктор, «по сумасшедшему делу знающий», не в состоянии вылечить этого парня, болезнь которого определяется как «холера мозговая». Его излечивает Время (врач-англичанин по фамилии Тайм), извлекая «инородное тело» — занозу (то есть социализм) из мозга потерпевшего. Поэт Волошин, как уже говорилось, сравнивал партийные программы с историями болезней; немало внимания уделял он и взаимоотношениям родины-матери и её воюющих «детей». Социализм в России — чуждый для неё, «инородный» элемент, считает Шмелёв. Христианство есть религия Царства Небесного, утверждает Волошин, социализм же — религия царства земного, в основе которой «Свой бред о буржуазном зле, / О светлых пролетариатах,/ Мещанском рае на земле» («Гражданская война»). Болезнь эта занесена извне. «Мы созерцали бедствия рабочих / На западе с такою остротой,/ Что приняли стигматы их распятий», — поясняет Волошин в поэме «Россия».
Вынет ли «Время» эту занозу из повреждённых мозгов? Как не раз говорил Волошин, единственным мыслимым идеалом для него оставался «Град Божий»… Земное «Время» — слишком ненадёжный лекарь. Земные страдания, абсурд человеческой бойни оба писателя (я не говорю о внутреннем стоицизме) изживают на «Путях небесных» через «Откровенья вечной красоты» православия. В «Лето Господне», достижимое «силою любви», верит И. Шмелёв; М. Волошин пытается извлечь из мозгов и сердец «занозу» ненависти, «заклясть» «каждый курок и руку». Его «адвокатская» практика всё более расширяется… Правда, иногда обстоятельства вынуждали защищать не открыто, а тайно.
Поэтесса Р. М. Гинцбург вспоминает, как Волошин спас от белых её отца, революционера, журналиста (псевдоним Даян), профессора психологии Моисея Исааковича Гинцбурга. В детской памяти отложилось, как какие-то мальчишки «за кустами ограды, на дороге, пели что-то про жидов и красных. Генерал с офицерами зашли в дом Максимилиана Александровича. Мама мне ничего не говорила. Но когда на следующий день ушли белые и папа, живой, усталый, был с нами, я узнала, что Максимилиан Александрович спрятал его от белых в своей постели».
В мае 1920 года в Коктебеле при белых был раскрыт подпольный съезд большевиков, проходивший на одной из пустующих дач. Началась перестрелка. Один из участников съезда, Илья Хмелевский (кличка Хмилько), по берегу моря добрался до волошинской дачи. «Волошин спрятал его на чердаке, — вспоминает В. В. Вересаев, — очень мужественно и решительно держался с нагрянувшей контрразведкой». Преследователи «даже не сочли нужным сделать у него обыск». Правда, Хмилько в результате был схвачен, но уже за пределами дома поэта. Там же, на антресолях за цветным панно, довелось скрываться от красных и подпоручику Сергею Эфрону.
Э. Л. Миндлин, тогда начинающий поэт, проживавший в Отузах, пишет в своих воспоминаниях о Волошине: «И „те“ и „другие“, и белые и красные для него прежде всего русские, его русские люди. Он молился и за тех и за других, как молился за Россию, за свою Россию. В политической борьбе он не помогал ни тем ни другим. Но как отдельным людям — и тем и другим, — помогал в защите, в спасении одних от других… В разгар гражданской войны… когда Феодосия бывала занята красными, он спасал и прятал на своей даче отдельных офицеров-белогвардейцев, которым грозила смерть. Он прятал и спасал их не как своих единомышленников, которыми не признавал ни тех ни других, а как людей. И ещё больше и чаще ему приходилось так же спасать и прятать у себя красных во время белого террора в Крыму. Об этом хорошо напоминает надпись писателя-большевика Всеволода Вишневского на его книге „Первая Конная“… „Максимилиану Александровичу Волошину! С доброй памятью о Вас шлю Вам эту книгу, где показаны мы, которым в 1918–20 гг. Вы оказали смелую помощь в своём Коктебеле, не боясь белых“».
В те дни мой дом, слепой и запустелый.
Хранил права убежища, как храм,
И растворялся только беглецам,
Скрывавшимся от петли и расстрела.
И красный вождь, и белый офицер,
Фанатики непримиримых вер,
Искали здесь, под кровлею поэта,
Убежища. Защиты и совета.
Я ж делал всё, чтоб братьям помешать
Себя губить, друг друга истреблять,
А сам читал в одном столбце с другими
В кровавых списках собственное имя.
(«Дом Поэта»)
В шутку ли, всерьёз, но так и хочется сказать, что поэт Максимилиан Волошин стал настоящим специалистом по спасению поэта Осипа Мандельштама. В первом случае Мандельштаму грозил самосуд, который готов был учинить над ним озверевший от пьянства есаул. В самом конце лета 1920 года Осип, взъерошенный, влетел к Максу: «Меня хотят арестовать! Пойдёмте со мной. Я боюсь исчезнуть неизвестно куда. Вы же знаете, как белые относятся к евреям». Придя на дачу, где жили братья Мандельштамы, Волошин увидел казацкого есаула «в страшной кавказской папахе». Видимо, желая как-то оправдаться перед начальством за свой загул, мордоворот в папахе решил поприжать евреев. «Это местный дачевладелец Волошин, — радостно объявил Осип Эмильевич и тут же, словно боясь упустить счастливую мысль, предложил есаулу: — А знаете что… Арестуйте лучше его!» Пораскинув пьяными мозгами, есаул согласился: «Если Мандельштам завтра не явится в Феодосию к десяти часам, я арестую вас»… Но, благо, во главе учреждения, куда должен был явиться незадачливый поэт, стоял полковник А. В. Цыгальский, как выяснилось, поклонник Мандельштама, к тому же сам стихотворец.
В другой раз Мандельштам оказался в более тяжёлом положении: он едва не стал жертвой врангелевской контрразведки. Как отмечали современники, этот щуплый, бедно одетый, но всегда заносчивый, с высоко поднятой головой поэт постоянно казался всем подозрительным «благодаря своему виду вызывающе гордого нищего». Вот и в данном случае, как свидетельствует И. Эренбург, какая-то женщина заявила, что Мандельштам пытал её в Одессе. И на этот раз невезучего киммерийского гостя спасло заступничество Волошина. Правда, история эта осложнилась побочными обстоятельствами.
Дело в том, что в это время Мандельштам и Волошин находились в ссоре. Да, случалось у Волошина в отношениях с гостями и такое. Чаще всего — из-за любимой книги. Ещё в 1916 году будущий автор «Разговора о Данте» взял у Волошина редкое издание «Божественной комедии», увёз в Петроград, где и забыл. Когда Осип как ни в чём не бывало попросил У Макса отсутствующую по его же вине книгу, хозяин библиотеки предъявил гостю законные претензии. Неаккуратный Мандельштам, не делавший трагедии из потери чужих вещей, закатил истерику. В порядке наказания деспотического «дачевладельца» гордый поэт решил изъять из волошинской библиотеки свой первый сборник, «Камень», самолично подаренный им Пра. «Приговор» исполнил его брат Александр, стащивший «Камень» из-под носа читавшей книгу Майи Кудашевой. Эта акция очень уязвила Волошина, хотя куда больше он печалился из-за потери «Божественной комедии». «Чувство утраты» заставило Макса совершить несвойственный для него поступок: узнав, что братья Мандельштамы намереваются отправиться на Кавказ, он обратился к начальнику феодосийского порта Новинскому с просьбой не выпускать в море проштрафившихся путешественников — пусть вначале вернут книгу, а уж потом отправляются куда хотят.
Узнав о письме, Мандельштам пришёл в ярость и обрушился с ответным посланием на прижимистого коктебельца, словно Цицерон на Катилину: «Милостивый государь! Я с удовольствием убедился в том, что вы под толстым слоем духовного жира, простодушно принимаемом многими за утончённую эстетическую культуру, — скрываете непреходимый кретинизм и хамство коктебельского болгарина…» Стоит ли продолжать? Общая концепция ясна. Зачитав мандельштамовский перл присутствовавшим в мастерской «обормотам», Волошин выступил с заявлением: «Если кто из вас потеряет какую-нибудь книжку, взятую из моей библиотеки, то рекомендую вместо того, чтобы извиняться, написать мне ругательное письмо». И повертел перед публикой присланным ему образцом.
И вот теперь гневный обличитель волошинского скопидомства оказался в каталажке, за несколько дней до отплытия в Феодосию. Здесь за него взялись люди серьёзные, не то что недавний есаул. Осип сходил с ума от ужаса и пытался объяснить стражам, что он не создан для тюрьмы. На допросе он огорошил следователя вопросом: «Скажите лучше: невинных вы отпускаете или нет?» Согласно легенде, ответ был таков: «Сначала лишаем невинности, а потом отпускаем». Поэт впал в запредельное состояние и был переведён в психиатрическое отделение тюремной больницы. Тогда-то и наступил момент выхода на сцену героя: никто, кроме Волошина, разрубить этот гордиев узел не мог.
Макс болел, был зол на Мандельштама, к тому же не имел дружеских связей с влиятельными лицами из Добровольческой армии. Тем не менее под давлением коктебельской литературной общественности он написал письмо начальнику врангелевской контрразведки Апостолову: «Милостивый государь! До слуха моего дошло, что на днях арестован подведомственными Вам чинами поэт Иосиф Мандельштам. Т. к. Вы, по должности, Вами занимаемой, не обязаны знать русской поэзии и вовсе не слыхали имени поэта Мандельштама… то считаю своим долгом предупредить Вас, что он занимает в русской поэзии крупное и славное место. Кроме того, он человек крайне панический, и, в случае, если под влиянием перепуга… что-нибудь с ним случится, за его судьбу будете ответственны Вы перед русской читающей публикой… Мне говорили, что Мандельштам обвиняется в службе у большевиков. В этом отношении я могу Вас успокоить вполне: Мандельштам ни к какой службе вообще не способен, а также и к политическим убеждениям: этим он никогда в жизни не страдал».
Письмо это должна была передать княгиня Кудашева, чей титул не мог не произвести впечатления на добровольческое начальство. Господин Апостолов действительно принял Майю весьма любезно, но, прочитав тут же при ней письмо, недоумённо вскинул глаза: «А кто же такой Волошин? Почему же он мне так пишет?» — «Поэт… Он со всеми так разговаривает», — невинно прощебетала княгиня Кудашева. «Письмо нарочно было написано в таком духе, — вспоминает Волошин. — Оно было корректно, но на самом лезвии… Это был обычный тон моих отношений с Добровольческой армией. Начальник контрразведки очень недовольным жестом сложил бумагу и сунул в боковой карман. И на другой день велел отпустить Мандельштама». Заметим здесь, что сохранился и черновик письма Волошина в Севастополь к П. Б. Струве, министру иностранных дел врангелевского правительства, пользующемуся большим авторитетом в Добровольческой армии, с ходатайством за Мандельштама. Очевидно, поспособствовал делу освобождения поэта и полковник Цыгальский…
Спасая поэтов и генералов, Волошин не забывает и о литературной работе. В Коктебель по-прежнему стягивается творческая интеллигенция. На своих дачах живут В. Вересаев, Г. Петров, Н. Манасеина, П. Соловьёва; часто наезжают драматург К. Тренёв и литературовед Д. Благой; на одной из дач поселяется прозаик А. Соболь; частым гостем оказывается И. Эренбург; объявляется даже лингвист С. Карцевский, профессор Кембриджского университета. С помощью творческого общения преодолевали голод, а иногда и холод. Волошин и здесь остаётся верен себе: заботится о тех, кто рядом и кто вне поля зрения. Он помогает дровами — Майе, деньгами — Эфрону, устраивает крупный заём для умирающего от чахотки в Ялте поэта и критика Николая Недоброво.
Несмотря на тяжёлые условия жизни, в Феодосии возникает литературно-артистический кружок (ФЛАК) со своим помещением. Инициатором его создания был актёр и режиссёр А. М. Самарин-Волжский (Левинский). Завсегдатаем кружка был полковник А. В. Цыгальский. Э. Л. Миндлин оставил описание артистического приюта и его быта: «Два маленьких зала вмещали небольшое кафе поэтов. Третий зал — маленький, с окошком на кухню — служебный. На кухне готовили отличный кофе по-турецки и мидии… с ячневой кашей. Спиртных напитков да и вообще ничего, помимо кофе и мидий… не подавалось… В глубине большого зала воздвигли крошечную эстраду и расставили перед ней столики… Кто только здесь не бывал! Белогвардейцы, шпионы, иностранцы, артисты, музыканты. Какие-то московские, киевские, петроградские куплетисты, поэты, оперные певцы, превосходная пианистка Лифшиц-Турина, известный скрипач… Борис Осипович Сибор и певичка Анна Степовая, известные и неизвестные журналисты, спекулянты и люди, впоследствии оказавшиеся подпольщиками-коммунистами. Бывал здесь и будущий первый председатель Феодосийского ревкома Жеребин, и будущий член ревкома Звонарёв, писавший стихи… Бывали и выдающийся русский художник К. Ф. Богаевский, и пейзажист-импрессионист Мильман, большую часть жизни проживший в Париже, и Феодосией Мазес, расписавший подвал персидскими миниатюрами…»
Сюда следует добавить поэта и литературоведа Д. Благого, бывшего учителя Макса профессора Ю. Галабутского, читавшего лекцию «Чехов — Чайковский — Левитан» и постоянно рассуждавшего о «сумерках души русской интеллигенции», поэта, художника, искусствоведа В. Бабаджана, руководившего в Одессе издательством «Омфалос», которое переиздало книгу Волошина «Верхарн (Судьба. Творчество. Переводы)». Простецкая эстрада ФЛАКа стала подмостками для певцов Большого театра В. Касторского, Г. Юренева, В. Андриевской, танцовщицы Камерного театра Н. Ефрон. Появлялись поэтессы А. Герцык и С. Парнок. Анастасия Цветаева по традиции читала стихи сестры. Хорошо вписывалась в царящую здесь атмосферу М. Кудашева. А атмосфера была довольно-таки своеобразная: «Бывали в кафе… какие-то странные девушки, похожие на блудливых монашек. Странные эти девушки сходили с ума от стихов, были очень религиозны, много говорили о христианстве, вели себя как язычницы, читали блаженного Августина, часто покушались на самоубийство и охотно позволяли спасать себя».
Однако прославили кафе всё же не «блудливые монашки», а выступавшие там поэты: Волошин, Мандельштам, Эренбург, Бабаджан, Миндлин, Соколовский, Полуэктова, скрипач Сибор. Волошин, как обычно, выступал со стихами и с лекциями: «Война и демоны машин», «„Двенадцать“ А. Блока». На вырученные от этих выступлений деньги начали издавать литературно-художественный альманах «Ковчег». Волошин запомнился Миндлину таким: «Он был в чёрном пальто поверх костюма с брюками до колен и в толстых чулках, в синем берете». Первая реплика, которую он произнёс, была посвящена Мандельштаму: «Нелеп, как настоящий поэт!» (Потом выяснилось, что Макс не дождался Осипа в условленном месте и на всякий случай спустился в подвал, но определение за Мандельштамом закрепилось.)
Сам Волошин, как считал Миндлин, «был поэт подлинный, очень большого таланта, огромной поэтической культуры, глубоких и обширных знаний, чётких пристрастий и антипатий в искусстве. Но вот уже в ком не было ничего „нелепого“! И это несмотря на всё своеобразие его внешности, на вызывающую экстравагантность наряда, на всегдашнюю неожиданность его высказываний и поступков. Нелепость предполагает необдуманность, несоразмерность, нерасчётливость. В Максимилиане Волошине было много необычного, иногда ошеломляющего, но всё обдуманно и вот именно лепо!» Миндлин не соглашался с Мандельштамом в том, что «христианство» Волошина происходило от его всегдашней потребности в эпатаже, от его желания нравиться самому себе. Молодой писатель с самого начала был убеждён, что перед ним — настоящий эрудит, христианин-философ, который, впрочем, относится к нехристианским суевериям так же серьёзно, как и к постулатам христианства: «Он встретил меня на верхней улице в Феодосии и, увидев, что я иду навстречу ему с двумя вёдрами, наполненными водой, весь как-то сразу от удовольствия просветлел… Он принялся объяснять, что встреча с несущим полные вёдра — проверенная примета и сулит удачу в делал. Когда, неуверенный, не разыгрывает ли меня Волошин, я отпустил какую-то шутку насчёт суеверий, Волошин назидательно и очень серьёзно предостерёг от пренебрежения к „разуму недоступным вещам“. Приметы для него были явлениями непознаваемого, „недоступного разуму мира“…»
Об акварелях Волошина Миндлин отозвался следующим образом: «В сущности, все они об одном и том же — о мудрости и красоте близкой ему киммерийской земли и неба над ней. Такого малого куска земли и такого малого участка неба над ней! Но в этих малых кусках земли и неба зоркий поэт и художник видел неисчерпаемые миры! В какой-то мере эти несколько условные, с географической чёткостью выписанные пейзажи, в которых камни дышат и облака поют, сродни полуфантастическим пейзажам известного художника Богаевского…» Автор воспоминаний обращает внимание на то, что отношения Волошина и Богаевского «были трогательно дружественны. Какая-то взаимная нежность в их обращении друг к другу сочеталась с таким же взаимным глубоким уважением. Словно каждый считал другого своим учителем».
К началу весны 1920 года Волошину становится неуютно во ФЛАКе: там и сям снуют большевики-подпольщики, обретшие здесь своё «прикрытие», как следствие этого — визиты контрразведчиков с проверкой документов, не очень-то охочая до поэзии жующая публика. Неожиданно поэт получает предложение от Еврейского литературного общества «Унзер винкль» («Наш угол») выступить у них с литературным концертом. В Феодосии в это время действительно осело немалое количество евреев-литераторов, так что образование собственного литературного общества было явлением закономерным. Макс вспоминает, как к нему пришли его представители и произнесли несколько фраз с характерной интонацией: «У вас сейчас трудные дни; вы, наверное, сидите без денег. А хотите, мы устроим для вас литературный вечер?» Волошин хотел; к тому же прекрасно понимал, что ему оказывают большую честь, ибо литераторы несемитского происхождения в это общество не допускались. Парадоксально, но с помощью Еврейского литературного общества Максу удалось поправить свои дела, выступить с лекциями и стихами. Было и нечто забавное: после прочитанного поэтом стихотворения «Видение Иезекииля» вся аудитория, поднявшись, пропела хором «торжественную и унылую песнь на древнееврейском языке». Очевидно, в довольно-таки специфических стихах русского поэта слушатели-евреи почувствовали «подлинный голос древнего Иудейского пророка».
В своём отношении к евреям Волошин проявляет свойственные ему мудрость и последовательность. Полемизируя с А. М. Петровой, склонной к антисемитским настроениям, Макс пишет ей 17 октября 1919 года: «Боюсь, что мы ни о чём с Вами не договоримся. Вспомните слова Соловьёва о том, что евреи всегда относились к христианам согласно требованиям их иудейской религии, но что христиане никогда не относились к евреям так, как того требовало учение Христово. Я хочу только христианского отношения к расе, которой мы обязаны истоками своей веры и которая вся целиком, рано или поздно, согласно точным словам Апостола Павла, придёт ко Христу и спасётся. Я ничего лучшего не желаю, как ценить и весить евреев точно и верно. Но весить их на весах христианских, а не на весах „иудейских“, как это делают обычно христиане. Погром, насилие, экспатриирование — всё это плохие средства для пропаганды христианской идеи. Они создают то, что сейчас, несмотря на все грехи иудеев, их надо защищать изо всех сил. Не случайно евреи живут на русской территории: мы взаимно должны многому друг от друга научиться, оставаясь самими собою. Впрочем, я ничего не имею против того, чтобы иудеи становились христианами, и не хочу, чтобы русские „жидовствовали“ и сами делали всё то, в чём они упрекают евреев». Что касается «роли евреев во время революции», то поэту она представляется «значительной и интересной», однако, считает он, оценивать её пока рановато: «нет ни материалов, ни разбега для перспективы».
В поэзии Волошина периода окончания Гражданской войны наряду с риторико-профетическими тенденциями наблюдается некоторое умиротворение; для него характерно тяготение к религиозным темам. Причём это не сводится к традиционному для него перегружению стихов библейской символикой. Художник пытается наполнить их религиозным духом, создать атмосферу просветления, ощущения Божьего присутствия. Поэт зачитывается книгой отца Сергия Булгакова «Свет невечерний». Из-под пера Волошина выходят стихотворения «Пустыня», «Заклятье о русской земле», «Иуда-апостол», «Святой Франциск». Ещё осенью 1919 года он начинает работать над большой поэмой о Серафиме Саровском. А. М. Петрову эта задумка смущает: «Почему-то очень боюсь, что Вы напишете о Серафиме. Запало Ваше мимолётное признание при разговоре в последнюю встречу: „Мне непонятно смирение“. А ведь без него, по настойчивому указанию всех святых, праведных и Отцов церкви, — ни шагу вперёд, и всякая иная работа ничто».
«Дорогая Александра Михайловна, — отвечает ей Волошин 17 октября. — О Серафиме Вы не бойтесь: я его почувствовал. Я читал тогда Амвросия (иеромонаха Оптиной пустыни. — С. П.), когда жаловался на то, что не понимаю смирения. Из жития Амвросия так и не видно, ни кто он, ни какими путями он шёл. Вся личная трагедия спрятана. Вина не его, а биографа… В Серафиме смирение понятно и обоснованно. У меня план и перспектива наметились. Конечно, это не будет ни ортодоксально, ни церковно (тогда надо житие писать, а не поэму!), но, конечно, „Гаврилиады“ не напишу. Во-первых, потому что я недостаточно гениален, во-вторых, потому что вовсе не собираюсь ни шутить, ни кощунствовать… На Аввакума — могу сказать — совсем не будет похоже».
Образ Серафима полностью овладевает творческим воображением поэта. «Я беру его как реальное существо Первой Иерархии, — пишет он Е. И. Дмитриевой (Васильевой) 25 ноября, — воплощающееся по непосредственному изволению Богоматери… в плоть России»:
«Мой любимиче! Погасни
В человеках. Воплотись. Сожги
Плоть земли сжигающей любовью!
Мой любимиче! Молю тебя: умри
Жизнью человеческой, а Я пребуду
Каждый час с тобою в преисподней».
И, взметнув палящей вьюгой крыльев
И сверля кометным вихрем небо,
Серафим низринулся на землю.
В земном же бытии Волошина, как обычно, масса проблем — мелких и крупных. Кишмя кишит самыми разными людьми посёлок-муравейник Коктебель. Наезжает с маленьким ребёнком и престарелой матерью всегда неспокойная Майя Кудашева, тяжело переживающая гибель мужа, подпоручика белой армии; Татида, не ужившись с Пра, уезжает в Болгарию; происходит ссора Волошина с Эренбургом… Да и здоровье Макса оставляет желать лучшего: его мучает ревматизм плеча, одолевают головные боли, дают о себе знать почки, как считает врач, «благодаря недоеданию, истощению и сильной нервной работе». Увы, в то время это был весьма распространённый диагноз. А тут ещё в дом, официально освобождённый от постоя, вселяют сорок пять кубанских казаков, которые обильно «удобряют» окрестности… Волошину никак не удаётся найти издателя для новой книги стихов, хотя замысел и структура «Неопалимой Купины» у него давно созрели, а за поэтическим материалом дело бы не стало. Поэт старается заинтересовать своим творчеством командующего Первой армией генерала А. П. Кутепова, делает попытки выйти на самого главнокомандующего Русской армией барона П. Н. Врангеля, но — тщетно. Не помогает и обращение за помощью к П. Б. Струве… Может быть, время сейчас такое, непоэтическое?.. Или его поэзия слишком специфична и не вписывается в общепринятые каноны?..
А над Крымом сгущаются тучи: положение Русской армии становится критическим. «Использовать выгодную стратегическую обстановку в связи с нахождением главных сил красных на Польском фронте не решились, — пишет в своих мемуарах генерал-лейтенант Я. А. Слащов-Крымский, — а впоследствии пришлось принять на себя весь их удар… А время было, были и средства». Так или иначе, но время и судьба, расчёт и удача были на стороне командующего Красной армией М. В. Фрунзе. 8 ноября 1920 года красные начинают штурм Турецкого вала, а спустя три дня П. Н. Врангель отдаёт приказ об оставлении Крыма…
Забыть ли, как на снегу сбитом
В последний раз рубил казак,
Как под размашистым копытом
Звенел промёрзлый солончак,
И как минутная победа
Швырнула нас через окоп,
И храп коней, и крик соседа,
И кровью залитый сугроб.
Но нас ли помнила Европа,
И кто в нас верил, кто нас знал,
Когда над валом Перекопа
Орды вставал девятый вал, —
напишет участник последних крымских сражений белых — поэт Иван Туроверов.
«Все мои желания остались только желаниями, — подведёт итог Я. А. Слащов. — Армия садилась на суда, покидая Крым, ничего сделать было нельзя, и я на ледоколе „Илья Муромец“ выехал в Константинополь, покидая землю, которую всего несколько месяцев тому назад держал с горстью безумцев-храбрецов…»
Что менялось? Знаки и возглавья.
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах — дурь самодержавья,
Взрывы революции в царях.
И этой ночью с напряжённых плеч
Глухого Киммерийского вулкана
Я вижу изневоленную Русь
В волокнах расходящегося дыма,
Просвеченную заревом лампад —
Страданьями горящих о России…
И чувствую безмерную вину
Всея Руси — пред всеми и пред каждым.
В январе 1923 года Александр Семёнович Ященко, издатель популярнейшего в Берлине журнала «Новая русская книга», получил от Волошина письмо на сорока с лишним страницах с приложением стихов, страшных своей почти документальной наглядностью. Пытаться передать такую корреспонденцию по почте было бы немыслимым безумием. Поэтому крымский пакет был доставлен в Берлин с нарочным, в качестве которого выступила одна молодая дама. Вспоминает Роман Борисович Гуль, автор книги «Я унёс Россию. Апология эмиграции»: «Во второй половине дня в дверь редакции позвонили. Я отворил. Передо мной — скромно одетая женщина с удивительно приятным, строгим лицом (предположительно, София Абрамовна Левандовская, сотрудничавшая в Наркоминделе. — С. П.). Она спросила, здесь ли профессор Ященко? — „Да, пожалуйста“. — И она вошла. Ященко она была незнакома…
Я сидел за своим столом. Женщина эта — явная интеллигентка, правильное, хорошее лицо, красивые, карие глаза. И во всём её облике — какое-то удивительное спокойствие. В руках у неё — кожаный портфель. Глядя на Ященко, она сказала негромким, грудным голосом: „Я к вам от Максимилиана Александровича Волошина“. — От неожиданности Ященко даже удивительно-вопросительно полувскрикнул: „От Макса?!“ — „Да, от Максимилиана Александровича“. — „Значит, вы из Крыма?!“ — „Я была у него в Коктебеле. И он попросил меня передать вам письмо и рукопись в собственные руки“. — „Очень, очень рад…“ — бормотал несколько поражённый Ященко… Женщина вынула из портфеля тетрадку и довольно толстую рукопись на отдельных листах. „В тетради — личное письмо к вам, а это — стихи Максимилиана Александровича, которые он просит вас опубликовать за границей, где вы найдёте возможным“. Ященко всё взял. Стал расспрашивать, как Волошин живёт, давно ли она его видела, остаётся ли она за границей или возвращается назад. — „Нет, я не остаюсь, — с лёгкой улыбкой сказала она, — я скоро уеду назад“…»
Письмо, которое вскоре исчезло, было прочитано многим посетителям редакции — А. Н. Толстому, И. С. Соколову-Микитову, И. Г. Эренбургу, а стихотворения вскоре опубликованы в журнале «Новая русская книга» (1923 г., февраль) и отдельным изданием (июнь) под заголовком «Стихи о терроре» (Книгоиздательство писателей в Берлине; редактор Г. В. Алексеев). Параллельно это же издательство выпустило «Демонов глухонемых».
Имя Волошина, его отдельные произведения встречались в это время во многих эмигрантских изданиях самого разного толка. Давал о нём сведения и А. С. Ященко, считавший автора «Китежа» и «Святой Руси» наиболее «свободным по духу поэтом». Однако, вскрыв пакет, издатель убедился, что с подобным материалом он столкнулся впервые. В так и не дошедшем до нас письме М. Волошин делился своими жуткими впечатлениями от жизни в Коктебеле во время Гражданской войны. Он писал, сообщает читавший письмо Р. Гуль, о приходе белогвардейцев, контрнаступлении и взятии Крыма Красной армией и, главное, о том, что в результате этого началось. А началась ставшая уже привычной великая пролетарская «чистка», вылившаяся в те процессы, которые развернутся в «стране победившей революции» в последующие десятилетия. «Чистки» эти накатывались волнами: последеникинская, послеврангелевская… «Вступала новая власть, — свидетельствует историк С. П. Мельгунов, — и вместе с нею шла кровавая полоса террора мести… Это была уже не гражданская война, а уничтожение прежнего противника. Это был акт устрашения для будущего».
Последняя крымская «чистка» имела свою трагическую подоплёку: многие военнослужащие не смогли (или не захотели) уйти в эмиграцию. Кое-кто рассчитывал на обещанную большевиками амнистию. Оставалось не менее шестидесяти тысяч (цифры до сих пор не уточнены и могут сильно колебаться) теперь уже бывших солдат и офицеров, ждущих своей участи. Все они должны были зарегистрироваться в советских органах власти на основании положения о всеобщей трудовой повинности. Возникавшие списки становились расстрельными. Началось массовое избиение, жуткая наглядность которого поражает в стихотворении Волошина «Террор» (1921). «Террор, как известно, проводился Бела Куном, — вспоминает Р. Гуль, бывший белогвардеец, ставший впоследствии видным прозаиком русского зарубежья, — помощницей его была Землячка, Розалия Залкинд, известная большевичка… И они там перестреляли не то 100, не то 150 тысяч бывших белых. Волошин рассказывает в… письме, что Бела Кун остановился у него, и, так как Волошин был человек не от мира сего, он покорил даже этого убийцу — Белу Куна. Тот с ним в какой-то мере подружился и разрешил ему вычёркивать каждого десятого человека из проскрипционных списков, и Волошин вычёркивал со страшными мучениями, потому что он знал, что девять остальных будут зверски убиты. Волошин описывал, как он молился за убиваемых и убивающих, и письмо это было совершенно потрясающим». В «чёрных» (или «кровавых») списках нашёл поэт и собственное имя (о чём упоминается в стихотворении «Дом Поэта»), Имя его, правда, вычеркнул сам Б. Кун.
Красный террор вызывал белый террор. «Кройке лампасов» на теле жертвы соответствовало «вырезание звёзд». Зловещая одноцветность террора сменила былую пестроту, когда то тут, то там
Мелькали бурки и халаты,
И пулемёты и штыки,
Румынские большевики
И трапезундские солдаты…
Когда накатывались, «отводя душу» —
Толпы одесских анархистов,
И анархистов-коммунистов,
И анархистов-террористов:
Специалистов из громил… —
вспоминаем мы стихотворение Волошина «Феодосия» (1919). Ведь были ситуации, когда абсурд усобицы приводил к тому, «Что Господа буржуй молил, / Чтобы у власти продержались / Остатки большевицких сил»… Теперь пришло время примитивного тяжеловесного катка, движущегося то в одном, то в другом, противоположном, направлении и сминающего на своём пути всё живое…
Итак, в 1923 году были опубликованы стихотворения, которые А. С. Ященко получил вместе с письмом. Так русская эмиграция познакомилась с волошинским циклом стихов о терроре. В том же берлинском книгоиздательстве, где вышли «Стихи о терроре», за год до этого было анонсировано издание книги «Лебединый стан» М. Цветаевой, чьи стихотворения 1917–1920 годов можно в какой-то мере сопоставить с волошинскими по накалу чувств и стремлению осмыслить историю. Однако цветаевскому сборнику суждено было увидеть свет только в 1957 году. Пока же в замкнутый быт русской колонии прорвались стихи её старинного друга, ворвался «Чёрный ветер ледяных равнин, / Ветер смут, побоищ и погромов, / Медных зорь, багровых окоёмов, / Красных туч и пламенных годин», выплеснулась вакханалия кровавой бойни со своим лексическим словарём:
…«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлёпку»,
«К Духонину в штаб», «разменять» —
Проще и хлеще нельзя передать
Нашу кровавую трёпку.
Правду выпытывали из-под ногтей,
В шею вставляли фугасы,
«Шили погоны», «кроили лампасы»,
«Делали однорогих чертей»…
(«Терминология», 1921)
И всё это — на фоне вьюг и «снежных стихий», заметающих новые и «древние гроба».
«Бури-вьюги, вихри-ветры» бушуют и в стихах М. Цветаевой, определяя их основной лейтмотив. Ветры («ветреный век») и вьюги («гражданские бури») передают атмосферу Смуты, всеобщего разлада и дисгармонии. В литературоведении не раз отмечалось, что тема ветра-вьюги берёт начало в стихах А. Блока. Но если автор «Двенадцати» воспринимает её двояко — как разрушение-созидание, то поэт «Лебединого стана» — как сугубо разрушительную стихию. В блоковской буре хаос преобразовывается в космос. У Цветаевой космос подавляется хаосом, смутой, стихией ордынского нашествия. В «Усобице» и «Стихах о терроре» Волошина мы находим третий, синтезирующий два противоположных начала, вариант.
«Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит…» («На дне преисподней», 1922), «…А души вырванных / Насильственно из жизни вились в ветре, / Носились по дорогам в пыльных вихрях…» («Красная Пасха», 1921). Да, Ветер — Смерть. Но, хотим мы того или нет, «В этом ветре вся судьба России — / Страшная безумная судьба» («Северовосток», 1920). Здесь ещё и утверждение провиденциального Испытания, «Божий Бич», направляющий к спасению и перерождению. Не случайно в качестве эпиграфа к стихотворению «Северо-восток» приводятся слова архиепископа Турского, обращённые к Аттиле: «Да будет благословен приход твой, Бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя». Прав, думается Э. М. Розенталь, который в своей историко-публицистической работе «Знаки и возглавья» (1995), рассуждая о морально-философских уроках Волошина, в частности, пишет: «Современные аналитики революции, повторяя Волошина в её оценках, делают выводы, противоположные волошинским. Они, проклиная революцию, ностальгируют по России, которую мы „потеряли“, а Волошин, осуждая революцию, вместе с тем обращался к ней: „Божий бич! Приветствую тебя!“ И думал о России, которую мы приобретаем. Эрудит, великолепный знаток истории, он понимал, что при всех своих издержках революция лежала в русле исторического развития. И что выступать против исторически необратимого — это всё равно что уподобляться царю Ксерксу, который приказал высечь море плетьми за то, что оно погубило его корабли».
В РГАЛИ хранится экземпляр стихотворения «Красная Пасха», принадлежавший Ф. Г. Раневской, с её пометами: «Эти стихи читал М. А. Волошин с глазами красными от слёз и бессонной ночи в Симферополе 21 года на Пасху у меня дома». Раневская и её близкие «падали от голода, М. А. носил нам хлеб. Забыть такое нельзя. Сказать об этом в книге моей жизни тоже нельзя…». Однако Волошин говорил — в стихах, когда сама жизнь отторгала поэзию. Слагал их из мрака и ужаса бытия:
Зимою вдоль дорог валялись трупы
Людей и лошадей. И стаи псов
Въедались им в живот и рвали мясо.
Восточный ветер выл в разбитых окнах.
А по ночам стучали пулемёты,
Свистя, как бич, по мясу обнажённых
Мужских и женских тел. Весна пришла
Зловещая, голодная, больная.
Глядело солнце в мир незрячим оком.
Из сжатых чресл рождались недоноски
Безрукие, безглазые… Не грязь,
А сукровица поползла по скатам.
Под талым снегом обнажались кости.
Подснежники мерцали точно свечи.
Фиалки пахли гнилью. Ландыш — тленьем.
Стволы дерев, обглоданных конями
Голодными, торчали непристойно,
Как ноги трупов…
Это тот самый случай, когда поэзия возникает, казалось бы, вне образной системы, когда само называние и перечисление вещей и явлений (наглядных в своей жути) производит эффект разорвавшейся бомбы. Концовка этого стихотворения — глубинно эмоциональна и одновременно символична:
Зима в тот год была Страстной неделей,
И красный май сплелся с кровавой Пасхой,
Но в ту весну Христос не воскресал.
А ведь начало красной эры не предвещало ничего ужасного. В Феодосию вошла 30-я стрелковая дивизия, сформированная в Иркутске и потому состоящая преимущественно из сибиряков. Никаких эксцессов не было. Никто никому не мстил. Выдавали пайки и определяли на службу. Всегда веривший в доброе, «ангельское», начало в человеке, Волошин написал 23 ноября стихотворение, которое было опубликовано в «Известиях Феодосийского ревкома»:
В полях последний вопль довоплен,
И смолк железный лязг мечей,
И мутный зимний день растоплен
Кострами жгучих кумачей.
Каких далёких межиречий,
Каких лесов, каких озёр
Вы принесли с собой простор
И ваш язык и ваши речи?
Вы принесли с собою весть
О том, что на полях Сибири
Погасли ненависть и месть
И новой правдой веет в мире.
Пред вами утихает страх
И проясняется стихия,
И светится у вас в глазах
Преображённая Россия.
(«Сибирской 30-й дивизии»)
Стихотворение посвящено С. А. Кулагину, возглавлявшему ЧК дивизии, с которым Волошин, по своему обыкновению, сблизился и проводил время за чтением стихов.
Всё было тихо-мирно. Сдержанно вели себя махновцы, влившиеся в город вместе с частями Красной армии; в ходу были «советские» деньги; мещане «в ярких ситцах» ходили глазеть на сгоревший санитарный поезд, лузгали семечки и обсуждали цены на хлеб. Начался учебный процесс в Народном университете, ректором которого стал В. В. Вересаев, а проректором — Д. Д. Благой. Но подлинным инициатором его возникновения выступил М. А. Волошин. Поэт (уже не в первый раз) был настроен на открытое сотрудничество с новой властью; в речи по случаю открытия университета он прямо провозгласил, что теперь «интеллигенция должна отдать все свои силы и знания на строительство новой жизни».
И всё же красные победители оставались для Волошина в чем-то непонятными, загадочными. «Я видел, как он присматривался к ним в Феодосийским Народном университете, — вспоминает Э. Л. Миндлин. — …Максимилиан Волошин с первого дня жизни университета начал читать в нём курс лекций по истории искусства Италии и Голландии… Разместился Народный университет во втором этаже старинного дома по Итальянской улице, вход был открыт для всех, и длинный зал салатного цвета с потемневшим лепным потолком был переполнен слушателями в шинелях и гимнастёрках с красноармейскими шлемами на коленях. Волошин читал им о возрожденцах — о Микеланджело и Леонардо да Винчи, а они ещё дух не успели перевести после последних боёв за Крым.
Волошин сидел перед ними за столиком, забросив за спинку стула правую руку, а левой, согнутой в локте, подпирал огромную рыжую голову. Он сидел в своём серо-зелёном костюме среднеазиатского странника, в коротких, по колена, штанах, в чулках и сквозь поблёскивающие стёкла пенсне на чёрной тесьме с любопытством и удивлением рассматривал полных внимания слушателей. Он удивлялся, что они его слушают.
Деятельность Волошина на ниве культуры набирает обороты. 19 ноября 1920 года он получает удостоверение заведующего охраной ценностей искусств в Феодосийском уезде; 23-го участвует в совещании татарской секции Наробраза, куда входят А. М. Петрова и часто бывавший в Коктебеле В. А. Рогозинский; 27-го обращается к начальнику феодосийского гарнизона с заявлением о необходимости охраны Карадагской биологической станции. Он заботится о сохранении частных художественных коллекций, продлевая жизнь многим культурным ценностям, постоянно наведывается в подотдел искусств, проявляя самую разнообразную инициативу, не всегда, впрочем, оправданную. Макса, в частности, раздражали дворцы табачных фабрикантов И. Стамболи и И. Крыма на Екатерининской набережной, которые он — дабы не развращать вкусы народа — требовал уничтожить. Требования эти, понятное дело, удовлетворены не были, и сегодня, вопреки категоричности поэта, в этих зданиях, напоминавших Волошину Сандуновские бани, размещены дома отдыха и санатории… Не находили понимания у новых хозяев жизни и речи Макса о необходимости запрещения «костюмов буржуазного типа». Художник считал, что наша одежда, особенно чёрная, — примитивное подражание машине. Он сравнивал рукава чёрного пиджака с железными трубами, пиджак — с котлом, карманы — с клапанами паровоза. Лучшая одежда — та, что хорошо смотрится на ветру, намекал поэт на свою ориентацию быть ближе к природе, правда, сам в холодное время носил чёрное пальто с бархатным воротником…
Между тем, вспоминает Миндлин, реквизировались не только дворцы буржуазии, но и дачи на побережье. Волошину вновь пришлось суетиться. В результате он «получил из Москвы охранную грамоту, и на дверях его мастерской во втором этаже дома-корабля появилась копия этой грамоты, написанная каллиграфическим почерком». Возглавляя Феодосийское отделение Всероссийского союза поэтов (СОПО), Макс составляет ходатайства о пропусках для литераторов, желающих уехать в Москву. Прежде всего он хлопочет о документе для Д. Д. Благого, который должен был представить в столичное издательство законченную им монографию о Тютчеве. Покладистая пока советская власть выдаёт пропуска сразу большой группе писателей; в результате, по свидетельству того же Миндлина, нам «дали вагон-теплушку, и мы вместе — Майя Кудашева с сыном и матерью, бывший подпольщик, член ревкома поэт Звонарёв… бывший редактор „Известий Феодосийского ревкома“ Даян, актриса Кузнецова-Гринёва с дочерью, поэт Томилин, ещё какой-то поэт, и ещё какой-то…» покинули Крым.
Волошин же никуда не собирается. В Крыму он весьма популярная личность. «Местные жители, — пишет Э. Л. Миндлин, — давно привыкли к нему и без любопытства смотрели на его удивительную фигуру. Но красноармейский патруль обратил на него внимание. Должно быть, подозрительным показался необыкновенный наряд поэта. Нас остановили и потребовали предъявить документы. Моя бумажка удостоверяла, что я работаю в подотделе искусств народного образования Феодревкома. Но Волошин никогда не носил в карманах никаких мандатов или удостоверений. Он привык, что в Феодосии да и вообще во всех местностях Крыма чуть ли не каждый прохожий знает его в лицо. В ответ на требование патруля Волошин назвал себя:
— Я поэт Максимилиан Волошин.
Увы, имя его ничего не сказало красноармейцам. Я пытался растолковать им, что перед нами известный русский поэт, его лично знает Анатолий Васильевич Луначарский, и председатель Феодосийского ревкома Жеребин тоже знает его. Возможно, в конце концов нас и отпустили бы с миром, но всё испортил Волошин. Очень уж оскорбился, что его задержали на улице города, где каждому мальчишке ведом поэт Волошин! Серые глаза его потемнели, щёки и лоб угрожающе запылали… Я не узнал его голоса, обычно такого мягкого и спокойного:
— Как вы смеете преграждать дорогу поэту!»
Естественно, обоих поэтов повели в комендатуру, где стражи порядка намеревались хорошенько проучить гордецов-интеллигентов. Однако, как свидетельствует Миндлин, «комендант, в распахнутой кавалерийской шинели и в шлеме, от забот съехавшем набок, неулыбчивый молодой человек, услышав имя Волошина, сразу насторожился:
— Нет, правда? Максимилиан Волошин? Тот самый?
Я поспешил подтвердить:
— Тот самый, товарищ комендант, тот самый Максимилиан Волошин! — и торжественно посмотрел на Волошина.
Надо было видеть его растерянное лицо. Комендант в красноармейском шлеме, „простой большевик“, знает имя поэта Максимилиана Волошина!.. Было бы проще, понятней, если бы комендант принял Волошина за белогвардейца-буржуя! И от коменданта он вышел… озадаченным и смущённым…
Непознанную Россию предстояло ещё познать».
Однако познавать Россию в дальнейшем пришлось при отягчающих жизнь обстоятельствах. Дело в том, что 30-я дивизия завершила в Феодосии свою «вахту», и на смену ей прибыла из Севастополя 9-я ударная, руководство которой отнюдь не отличалось лояльностью по отношению к лицам непролетарского происхождения. В Симферополе в качестве главы ревкома воцаряется Бела Кун. Начинается новый виток регистраций и проверок. Обещания «неприкосновенности личности» гроша ломаного не стоят. Начинаются поголовные расстрелы добровольно явившихся и зарегистрировавшихся офицеров. Из Симферополя волна репрессий докатилась до Феодосии. Не щадили даже военнослужащих, призванных из запаса, фактически не принимавших участия в Гражданской войне. Расправа производилась с особой жестокостью:
Загоняли прикладом на край обрыва,
Освещали ручным фонарём.
Полминуты работали пулемёты,
Доканчивали штыком.
Ещё недобитых валили в яму.
Торопливо засыпали землёй.
А потом с широкою русской песней
Возвращались домой…
(«Террор», 1921)
Вспоминает В. В. Вересаев: «Когда после Перекопа красные овладели Крымом, было объявлено во всеобщее сведение, что пролетариат великодушен, что теперь, когда борьба окончена, предоставляется белым на выбор: кто хочет, может уехать из РСФСР, кто хочет, может остаться работать с Советской властью. Мне редко приходилось видеть такое чувство всеобщего облегчения, как после этого объявления: молодое белое офицерство, состоявшее преимущественно из студенчества, отнюдь не черносотенное, логикой вещей загнанное в борьбу с большевиками, за которыми они не сумели разглядеть широчайших народных трудовых масс, давно уже тяготилось своей ролью и с отчаянием чувствовало, что пошло уже по ложной дороге, но что выхода на другую дорогу ему нет. И вот вдруг этот выход открывался, выход к честной работе в родной стране.
Вскоре после этого предложено было всем офицерам явиться на регистрацию и объявлялось: те, кто на регистрацию не явятся, будут находиться вне закона и могут быть убиты на месте. Офицеры явились на перерегистрацию. И началась бессмысленнейшая кровавая бойня. Всех явившихся арестовывали, по ночам выводили за город и там расстреливали из пулемётов. Так были уничтожены тысячи людей. Я спрашивал Дзержинского: для чего всё это было сделано? Он ответил:
— Видите ли, тут была сделана очень крупная ошибка.
Крым был основным гнездом белогвардейщины. И чтобы разорить это гнездо, мы послали туда товарищей с совершенно исключительными полномочиями. Но мы никак не могли думать, что они так используют эти полномочия».
Волошин и в это страшное время остаётся самим собой: пытается спасать как человеческие жизни, так и культурные ценности. В эпоху массового террора, когда за жизнь человека нельзя было дать и полкопейки, он сигнализирует в губернский Наробраз о «безнадёжном» положении в уезде библиотек и коллекций, требует «немедленного освобождения от постоя зданий и мест, снабжённых Охранительными свидетельствами». По-видимому, именно тогда, в конце 1920 года, случилось то, что было мифологизировано Р. Гулем и в виде легенды отложилось в сознании позднейших историков литературы. Трудно утверждать наверняка, кто был тот «красный вождь» или комиссар, который разрешил Волошину вычёркивать каждого десятого из «кровавых списков». Возможно, это был не Бела Кун, а кто-то другой (берлинское письмо Волошина не сохранилось), и действие происходило не в Коктебеле, а в Феодосии, где поэт познакомился с председателем ЧК 3-й дивизии, разместившейся в Доме Айвазовского, в котором жил и поэт.
Есть версия, согласно которой именно этот безымянный чекист (имя им — легион) запечатлён в черновых набросках поэта: «Палач-джентльмен. Очень вежливый. Всё делает собственноручно, без помощников. Если пациент протестует… он отвечает: „Простите, товарищ, мне некогда. Будьте добры, разденьтесь и лягте. Я вас сперва разменяю, а потом вы будете разговаривать“… Сам обходит лежащих носом в землю, со связанными за спиной руками, и каждому аккуратно пускает пулю в затылок… Иногда напивался и говорил сестре милосердия: „Ох, лезут, лезут, сестрица, лезут из-под земли“».
К этому времени общее число казнённых и замученных в одной только Феодосии приближалось к десяти тысячам. 12 февраля 1921 года поэт писал матери: «Пришлось переживать это время и видеть то, что стоит за пределами ужаса». Согласно его статистике, в Крыму за первую зиму «было расстреляно 96 тысяч — на 800 тысяч всего населения, т. е. через восьмого. Если опустить крестьянское население, не пострадавшее, то городского в Крыму 300 тысяч, т. е. расстреливали через второго. А если оставить интеллигенцию, то окажется, что расстреливали двух из трёх»… При этом, находясь, по его словам, «во рву львином», Волошин, как отмечали близко его знавшие люди, не переставал вещать «о любви к человеку, к жизни; говорил, что зло можно победить только добром, ненависть — любовью. Никакой мести не должно быть, иначе это кровавое колесо будет вращаться без конца». Не забывал Макс и о своих культурно-просветительских обязанностях. Даже в это кошмарное время Волошин находил возможность выступить со стихами во взрослой аудитории и поучаствовать в работе школьного литературного кружка. Он выезжал в Симферополь, встречался с заведующим Крымнаробразом П. И. Новицким, ставил вопрос о создании специальных народных школ — художественной и литературной, был обеспокоен подготовкой кадров преподавателей. Он разрабатывал проект создания бесплатных летних колоний для писателей и художников, «свободных мастерских» для совершенствования талантов, мечтал о том, «чтобы ни один человек в Народе не оставался чужд радости художественного творчества». Волошин надеялся на то, что и его дом в скором будущем станет художественной колонией.
Пианистка, певица, а тогда 16-летняя девушка, Мария Изергина вспоминает, что Волошин всегда «очень увлекался творчеством, возникавшим в народе. Я помню, как Макс и моя тётка, художница (Е. А. Говорова. — С. П.), возились с новоявленным поэтом, денщиком какого-то генерала, который начал писать стихи, — и даже заставляли читать его с эстрады. Стихи были ужасающим набором (неграмотным при этом) каких-то душещипательных, модных салонных слов с гражданскими порывами. Я помню из всего этого только одну фразу, оканчивающую стихотворение: „Танцуй свою тангу“». Но больше запомнился сам наставник, который своей одеждой напоминал Мусе заграничного туриста: «берет, короткая тальма и короткие же брюки, застёгивавшиеся на пуговицу под коленом. На ногах были крепкие чулки и тяжёлые ботинки. Это вызывало оживление среди мальчишек, и он шёл под их свистки, смех и всяческие комментарии. Это его нисколько не смущало, и как-то он сказал, когда мы проходили с ним под этот шум: „Как говорится в Библии, лучше пройти побитым камнями, чем пройти незамеченным“».
М. Н. Изергина отмечает, что Макс в обращении был «очень внимателен, очень доброжелателен и приветлив… Всегда между ним и собеседником была… прозрачная, но ясно ощутимая перегородка. Какая-то у Макса была недоступность: какой-то вещью в себе был Макс… Несмотря на это, в нём проявлялась иногда… детская радость, когда, например, у него удавалась какая-нибудь острота или фраза… Эстетику Макс никогда не забывал и считал, что высший духовный мир без красоты невозможен, что понятия о красоте могут меняться в разные эпохи, но сам эстетический комплекс присущ вечно человеку». Эстетика же была сопряжена у этого человека «с прекрасной, высокой этикой. Прекрасное и доброе для него сливались». В своей «отрешённости от всего бытового» поэт стремился быть «гармоничным и сосредоточенным». Девушке запомнилось, как на вопрос, к какому крылу он принадлежит — красному или белому, Макс как-то ответил: «Я летаю на двух крыльях».
А «летать» приходилось много. Ведь надо было всюду поспеть, кому-то помочь, кого-то подбодрить, что-то предложить, где-то выступить. Наведываясь в Симферополь, Волошин «залетает» в литературную секцию Наробраза, в Центральный музей Тавриды, в партшколу, обсуждает текущие дела и планы на будущее с П. И. Новицким, участвует в проекте установления памятника Освобождению Крыма; возвращаясь в Феодосию, неизменно «летит» в мастерскую К. Ф. Богаевского, где выступает перед друзьями и друзьями друзей с лекциями и со стихами, ведёт постоянные беседы с тяжело больной А. М. Петровой («У нас в России никто так не говорит», отмечает она), читает лекции в Народном университете и в кинематографе «Иллюзион», разрабатывает программу Коктебельской художественно-научной экспериментальной студии (КОХУНЭКС).
Макс подходит к этому проекту неформально. Проще было бы собирать у себя талантливых поэтов, художников, а то и всех желающих, заслушивать выступления, просматривать этюды, вставлять замечания. Но Волошин хочет поставить дело на широкую ногу, в духе времени: расширить территорию студии за пределы своего дома, построить помещения для мастерских и жилья, а заодно — приобрести землю, пригодную для устройства огорода и, как тогда говорили, коммунхоза. Конечно же нужны будут пайки, средства передвижения, не говоря уже о красках, бумаге, холстах — их надо будет получить со складов. Хорошо бы ещё наладить выпуск собственной «продукции»: лекций по литературе и искусству, лучших стихов… И, разумеется, должны быть колонии-школы, опекаемые «взрослыми» художниками и педагогами-наставниками. Можно будет селиться семьями. Главное, чтобы каждый студиец был не сам по себе, а принимал посильное участие в общей, хозяйственной и культурной, жизни коллектива.
Да, планы воистину наполеоновские, только вот здоровья не хватает… Самое неприятное, что отказывается работать правая рука — следствие давнего перелома. Очевидно, вновь надорвал связки, рубя дрова. Что будет в дальнейшем, сможет ли он держать в руке кисть?.. На несколько месяцев поэта выводит из строя жестокий полиартрит. Да и мать уже совсем плоха, требует к себе повышенного внимания. А характер её к старости отнюдь не смягчился. Показательна запись А. М. Петровой от 3 августа 1921 года: «Ужасно болит душа за него: его мама — его крест. Её тоже жаль, но… сопоставление никак не в её пользу. Она это чувствует и чем дальше, тем всё более ревнует к нему всех любящих его лично, а также всех, ценящих его как поэта и мыслителя… Его жизнь с нею — сплошная пытка. В ней — ни капли тёплого материнства, а одна издёвка над ним. Хорошо, что он верующий и понимает это, как „испытание“ ему; он всюду и всегда умеет смотреть на свои неудачи философски — спокойно и не теряя чувства объективности… Но мать доводит его, после долгого терпения, борьбы с собою, до взрывов полного отчаяния и истерики».
Макс испытывает невыносимые боли в ноге и спине. И как хорошо, что есть люди, по-настоящему ему близкие, оказывающие помощь ему — всегда и всем помогавшему, а ныне в ней нуждающемуся. Приходит художница и актриса Валентина Успенская («Валетка»), делает поэту массаж ноги и горячие ванны с шалфеем, помогает добрая и словоохотливая Ольга Юнге, даже Пра вносит свой вклад — варит сыну манную кашу. Бывают Вересаев, Кедровы, Новицкий, развлекают больного рассказами о том, что делается в мире и близлежащих окрестностях. Таким образом, Макс узнаёт о себе много нового, весьма интересного. В посёлке одни поговаривали о том, что Волошина как сочувствовавшего белым собирается арестовать ЧК. Да нет, что вы, возражали другие, Волошин — сам видный чекист, во всяком случае, он напрямую сотрудничает с органами: «Он кого угодно может спасти от расстрела — только очень дорого берёт за это». А что: «Вот, братьев Юнге арестовали — так он их через несколько дней освободил. Только они раньше богатые были, а теперь нищие. Догадываетесь, куда денежки перетекли?!» Всё это ерунда, уверяли третьи, Волошин — местный мироед, человек беспринципный — и нашим, и вашим, вот немного подождём, пока большевики окончательно утвердятся (другой вариант: большевиков скинут) и расправимся с ним «в первую голову».
Однако «скидывать» большевиков никто всерьёз не собирался. Хотя и прокатились весной забастовки по Москве и Петрограду, вспыхнуло восстание в Кронштадте, происходили волнения на Кубани и в Донбассе, но на общую ситуацию это уже никак не влияло. Классовая война закончилась. Гражданская — заканчивалась. Революция поднимала мятежи против самой себя. Социалист-революционер А. С. Антонов возглавил восстание в Тамбовской губернии уже после окончательного поражения белой армии. 1 марта 1921 года в Кронштадте, на Якорной площади, состоялся митинг, на котором присутствовало шестнадцать тысяч матросов, красноармейцев и рабочих. И вот какая была принята резолюция: «Ввиду того, что настоящие советы не выражают воли рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы советов тайным голосованием… Мы требуем свободы слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий; свободы собраний, профессиональных союзов и крестьянских объединений; освободить всех политических заключённых социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключённых в связи с рабочими и крестьянскими движениями…» И далее в том же духе. Так кто же с кем «воевал»?.. Войны, конечно, уже не было, но продолжалось жестокое, кровавое подавление инакомыслия. Не допускались любые апелляции к Закону и Справедливости даже со стороны «ударников революции».
Однако главным врагом и большевиков, и беспартийных становился голод, уже давно ощущавшийся повсеместно, но особенно жестоко заявивший о себе в Поволжье. На очереди был Крым… Тогда, осенью 1921 года, положение переходило в критическое. В астрономической прогрессии росли цены на хлеб. «В Крыму мёртвый голод, — сообщает Волошин Ю. Оболенской, — и едва ли многие переживут эту зиму». Кто-то питался одним кизилом, Герцыки в Судаке — картофельными очистками, в санатории, куда устраивается на лечение Волошин, подавали суп из фасольного порошка. На грани жизни и смерти — астроном, директор Московской обсерватории В. К. Цераский. У А. М. Петровой начинается водянка, которая приобретает всё более острые формы. Причина болезни всё та же: голод, истощение. 28 ноября Александра Михайловна умирает. В тяжёлом состоянии пребывает Поликсена Соловьёва, страдающая от болезни почек. «Почти вся интеллигенция выкинута на улицу», — пишет Волошин уехавшему в Москву Вересаеву.
Ещё не оправившись от собственного недуга, Макс вновь принимается за хлопоты. Он обращается к тому же Вересаеву и Луначарскому с просьбой о содействии в выдаче академических пайков местным работникам культуры. Волошин призывает в помощники даже Марину Цветаеву, которую умоляет «привести в Москве всё в движение». Конечно, отдача от всего этого подвижничества — небольшая, но что-то всё же удаётся сделать. Приходит денежная помощь из Москвы, мизерная по тем временам, в размере двух с половиной миллионов рублей, сам поэт получает один миллион в качестве аванса от издательства «Костёр», пытается что-то заработать в Народном университете… Всё, что удаётся добыть, делится, дробится, раздаётся нуждающимся: что-то идёт племянникам Петровой, что-то семье Юнге, большая часть высылается вечно всем недовольной Елене Оттобальдовне. Оправдывая своё пребывание в Феодосии, поэт пишет матери 15 января 1922 года: «Здесь я получаю санаторное питание, военный паёк за лекции на Комкурсах и (изредка, правда) академический. Последние два посылаю тебе. Если я вернусь в Коктебель, то питаться нам будет нечем…» Кстати сказать, на «комкурсах» поэт не удержался: его идеологический облик не соответствовал критериям нового режима. Ну как можно было читать на большевистских сборищах «Матроса» или «Красногвардейца»?! А уж если отказываешься произнести надгробную речь в память какого-нибудь красного палача, дело вообще пахнет расстрелом…
Впрочем, скоро и расстреливать некого будет. «Ползают по тротуарам умирающие… валяются неубранные трупы, — пишет Волошин Вересаеву 12 марта. — …Из детских приютов вытряхивают их мешками. Мертвецкие завалены. На окраине города по овражкам устроены свалки трупов… Трупоедство было сперва мифом, потом стало реальностью… Американцы выгружают кукурузу для Саратова и провозят через Крым. Здесь не остаётся. Вокруг вагонов — толпы мальчишек, собирающих зёрна. По ним стреляют… Засевов — нигде и никаких. Лошади съедены. Самое худшее положение татар. Продналог в Крыму взят полностью». Что страшнее — прошлая зима, зима крови, или нынешняя, зима голода? — задаётся вопросом поэт. Да и найдется ли смысл в ответе…
Важно другое. Признавая необратимость случившегося, он верит «в правоту верховных сил», ведущих его страну сквозь грозные испытания в царство любви и гармонии. Вспомним: ещё в июне 1917 года в стихотворении «Подмастерье» Волошин писал о предназначении человека, рождённого, «Чтоб выплавить из мира / Необходимости и Разума — / Вселенную Свободы и Любви…». И теперь, в начале 1920-х, он, по воспоминаниям М. Н. Изергиной, не устаёт мечтать о «прыжке из царства необходимости в царство свободы». В тисках несвободы и голода художник разрабатывает своё учение о диалектике, согласно которому человек со временем войдёт в новую качественную фазу. Максимально взращивая в себе духовные качества, человечество (Макс не может не мыслить в планетарных масштабах) непременно превратится в некую совершенную расу, опирающуюся на высшие этические и эстетические законы. «Из самых глубоких кругов преисподней Террора и Голода я вынес свою веру в человека…» — пишет Волошин в «Автобиографии». Остаётся только подвести под эту веру, под этот страшный опыт жизни «на дне преисподней» поэтический фундамент. Тем более, пишет поэт, именно эти годы «являются наиболее плодотворными в моей поэзии, как в смысле качества, так и количества написанного».
В декабре 1921 года поэтесса С. Парнок, уезжая из Крыма в Москву, берёт с собой рукопись книги Волошина «Неопалимая Купина», включающую в себя 31 стихотворение. Книга эта, имеющая подзаголовок «Стихи о войне и революции», так и не будет напечатана, не выйдут впоследствии отдельным изданием и её расширенные варианты. Только сегодня мы можем судить о том, что представлял собой поэтический замысел Волошина и каковы его взгляды на судьбу России в контексте её прошлого и будущего. Прав был А. С. Ященко, который, ознакомившись с присланными ему стихами, сказал: Волошин «посмотрел на нашу революцию в перспективе всей нашей истории». Исходя именно из этой перспективы, поэт от лица своего трагического поколения обратился к потомкам, наследникам российской истории:
…Мы вышли в путь в закатной славе века,
В последний час всемирной тишины,
Когда слова о зверствах и о войнах
Казались всем неповторимой сказкой.
Но мрак и брань, и мор, и трус, и глад
Застигли нас посереди дороги:
Разверзлись хляби душ и недра жизни,
И нас слизнул ночной водоворот.
Стал человек — один другому — дьявол;
Кровь — спайкой душ; борьба за жизнь — законом;
И долгом — месть.
Но мы не покорились:
Ослушники законов естества —
В себе самих укрыли наше солнце,
На дне темниц мы выносили силу
Неодолимую любви, и в пытках
Мы выучились верить и молиться
За палачей, мы поняли, что каждый
Есть пленный ангел в дьявольской личине,
В огне застенков выплавили радость
О преосуществленьи человека,
И никогда не грезили прекрасней
И пламенней его последних судеб…
(«Потомкам (во время террора)», 1921)
В окончательный вариант книги «Неопалимая Купина» входят 72 стихотворения, сгруппированные в шесть циклов («Война», «Пламена Парижа», «Пути России», «Личины», «Усобица», «Возношения») и две поэмы («Протопоп Аввакум» и «Россия», законченная уже в 1924 году). Принципиальное отличие книги Волошина от других поэтических произведений, посвящённых российскому лихолетью, сразу же бросается в глаза. Одной из первых характернейшую особенность волошинского мировосприятия, сказавшуюся в его стихах конца 1910-х — начала 1920-х годов, подметила М. Цветаева: «В начале дружбы я часто с ним сшибалась, расшибалась — о его неуязвимую мягкость…
— Ты не понимаешь, Марина. Это совсем другой человек, чем ты… И по-своему он совершенно прав — так же, как ты — по-своему.
Вот это „прав по-своему“ было первоосновой его жизни с людьми… Человек и его враг для Макса составляли целое… Вражду он ощущал союзом. Так он видел и германскую войну, и гражданскую войну, и меня с моим неизбывным врагом — всеми. Так можно видеть только сверху, никогда сбоку, никогда из гущи…»
Сама Цветаева видела события Гражданской войны под другим углом зрения; её позицию можно было бы назвать христианско-дворянско-монархической. Старый мир России воспринимался ею в первую очередь как мир Божий и царский; дворянство почиталось как истинный народ, плоть и кровь России. Его истинным назначением было служить Богу, Царю и Отечеству, потому Белая гвардия представлялась как высший, «соборный» мир. Художественный мир Цветаевой, отмечали литературоведы, — мир конкретно-исторический, с точными датами и реальными событиями. И в то же время это мир мифопоэтический, где наряду с главным адресатом книги — «белым лебедем» Сергеем Эфроном, так или иначе фигурируют князь Игорь, Ярославна, боярыня Морозова, незримо бьётся «Святое сердце Александра Блока». Это мир былинно-исторических напластований, в котором, как и у Волошина, сквозь настоящее просвечивает прошлое: Чингисхан, Петровская эпоха, Вандея… Прошлое объясняет и предугадывает настоящее. Но, в отличие от Волошина, Цветаева чётко расставляет морально-религиозные акценты в «горизонтальных» парах. В непримиримых столкновениях Дворянства с Чернью, Белого Лебедя с Красным Зверем (Чёрным Вороном), Святого Георгия с Драконом, Архангела с Антихристом нравственная истина всегда на стороне первого начала. Свет и Тьма имеют чёткие координаты — в мифе, истории и сегодняшнем дне.
Победно-мученический (подобный Святому Георгию) образ Лебединого стана («Семь мечей пронзали сердце…»; «…И взойдёт в Столицу — Белый полк!») сменяется трагически-обречённым, уходящим («Об ушедших — отошедших — / В горний лагерь перешедших…»; «Кончена Русь!»). В книге Цветаевой отсутствует волошинский синтез: рождение — через огонь Святого Духа, через муки и безумие — новой России на пепелище старой. И лишь в последнем стихотворении («С Новым годом, Лебединый стан!»), закономерно отталкивающемся от предыдущего («Плач Ярославны»), ощущается своеобразный катарсис («С Новым годом, молодая Русь / За морем за синим!»), который, впрочем, только отчасти «просветляет» безысходный мрак Истории.
Одностороннюю позицию (гражданскую и творческую) занимал и поэт Николай Туроверов, донской казак, участник Белого движения. Офицер лейб-гвардии Атаманского полка, подобно лирическому герою «Лебединого стана», пережил все перипетии Ледяного похода, трагедию «Добровольческой Голгофы». Эмигрировал в Париж, в литературных кругах которого не прижился. «Со свойственным парижским поэтам снобизмом от него отмахивались, как от „Казачьего“ поэта», — отмечает Г. Струве. Однако виднейший критик русского зарубежья Г. Адамович назвал Туроверова талантливым поэтом, выделив в качестве основной доминанты его творчества «мужественность». Действительно, мужественно-стоическое приятие «шальной судьбы» — своей страны и личной — определило настроение большинства произведений Н. Туроверова. Причём мужественности, по его словам, он учился у Гумилёва.
Н. Туроверов ощущает себя как бы «внутри» исторического катаклизма. Эпохальные события Гражданской войны он воспринимает через мудрость казачьего Круга и пылкость легендарного Платова, сквозь стремительную иноходь коня и блеск шашки, собственный военный азарт и честь белогвардейца. Вот характерные строки из поэмы (цикла стихов) «Новочеркасск» (1922):
Дымилась Русь, горели сёла,
Пылали скирды и стога.
И я в те дни с тоской весёлой
Топтал бегущего врага,
Скача в рядах казачьей лавы,
Дыша простором диких лет —
Нас озарял забытой славы,
Казачьей славы пьяный свет…
И сердце всё запоминало, —
Легко рубил казак с плеча,
И кровь на шашке засыхала
Зловещим светом сургуча.
«Походов вьюги и дожди» (и здесь — «вьюги»), «снега корниловской Кубани», «хмель сражений» на Дону и в Крыму, «беспокойный дух кочевий», «свирель прадедовского края» — всё это составляет основную тематику творчества Туроверова. Лирические настроения поэта обусловлены горечью утраты — родной станицы, с душистыми стогами и криком перепелов, а в более широком смысле — России, могучей державы, на которую обрушился и которую захлестнул «орды девятый вал».
Из крупных поэтов, за исключением, пожалуй, Маяковского, мало кто рассматривал события революции и Гражданской войны столь пристально и объёмно, как Волошин, Цветаева или Туроверов (хотя сопоставление Волошина с кем-либо в этом отношении принципиально невозможно — «как в смысле качества, так и количества написанного»). Роковой «роман» с «Девой-революцией» пережил Александр Блок, пройдя через «тоску, ужас, покаяние, надежду». В своей программной статье «Интеллигенция и революция» (1918) он призывает слушать её «всем телом, всем сердцем, всем сознанием». Блок высказывает мысль, под которой вполне мог бы подписаться и Волошин: «России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и — по-новому — великой». И всё же в принципиальных моментах постижения событий расхождение двух поэтов очевидно. Блок призывал к «примирённости музыкальной» с ходом истории, отмечал, что, «вне зависимости от личности, у интеллигенции звучит та же музыка, что и у большевиков». (Ответ на анкету «Может ли интеллигенция работать с большевиками?» 14 января 1918 года.) Об отношении Волошина к русской интеллигенции уже говорилось, о его трактовке большевизма речь ещё впереди. В происходящем он чувствовал не музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух», а провиденциальную неизбежность (впрочем, мистериально-телеологический подход к теме России, апокалиптический ракурс восприятия событий были в определённой степени характерны и для Блока). А. Блок стремился принять революцию сердцем (и сердце не выдержало); М. Волошин воспринимал случившееся высшим разумом, космически (конечно же и сердцем тоже).
Завершающим актом «романа» Блока с революцией стала поэма «Двенадцать» (1918). Споры по поводу трактовки поэмы велись с момента её выхода. Вопрос упирался в толкование заключительной триады образов: Христос — двенадцать — «голодный пёс». Возглавляет ли Иисус Христос революционное шествие, освящая собой путь в новое будущее, или же его под конвоем препровождают на казнь, что являет собой обречённость Истины в условиях «страшного мира»? В оценке «Двенадцати» Блока критики занимали прямо противоположные позиции, предлагая взаимоисключающие трактовки. Поэта иногда сопоставляли с Цветаевой: красногвардейцев Блока ведёт Иисус Христос; белогвардейцев Цветаевой — Богородица.
Пожалуй, наиболее глубокое проникновение в художественный мир «Двенадцати» мы находим у Волошина. Он оценивает произведение Блока как «одно из прекрасных художественных претворений действительности». Блок в восприятии Волошина остаётся и здесь поэтом «Прекрасной Дамы» и «Снежной маски»: всё тот же вьюжный фон, перезвон ледяных колокольчиков, «та же симфоническая полнота постоянно меняющихся ритмов, тот же винный и любовный угар, то же слепое человеческое сердце, потерявшее дорогу среди снежных вихрей, тот же неуловимый образ Распятого, скользящий в снежном пламени». Подобно Прекрасной Даме, блоковский Христос «сквозит сквозь наваждения мира». Красный флаг в его руках — новый вариант креста, «символ его теперешних распятий». Красноармейцы, считает Волошин, одновременно преследуют Иисуса Христа и нуждаются в нём, а саму поэму следует понимать как «трагедию отдельной человеческой души, кинутой в тёмный лабиринт страстей и заблуждений и в нём потерявшей своего Христа, как для Блока в данном случае».
«Двенадцать» нередко соотносят с поэмой Андрея Белого «Христос воскрес!», написанной в том же году. Белому, как и Волошину, был свойствен космический взгляд на события. Как некий синтез возвышенной скорби и софийного всеприятия.
Поэму «Христос воскрес!» литературовед С. П. Ильёв оценил как «мистериальное действо космического преображения мира в результате исторической катастрофы». По мнению учёного, Белый отталкивается от смутного финала блоковской поэмы: «Второе пришествие Иисуса Христа в грозе и буре космических и социальных стихий и уводимые им двенадцать красногвардейцев от революционного действия в Ничто. В поэме „Христос воскрес!“ именно социальная революция представлена как проявление мировой мистерии страстнотерпного движения человечества в духовно преображённый всеобщим страданием и жертвенной кровью обновлённый мир…» В поэме Андрея Белого «второе пришествие уже происходит», — «в громе апокалиптических событий истории», «в тишине сердец, откуда появляется Христос» и где «Он, наконец, воскрес!».
Обращаясь к перипетиям «страшных лет России», некоторые поэты использовали условно-мифологический шифр. Загадочны, а порой тяжелодумны стихотворения Осипа Мандельштама 1917–1918 годов («Кассандре», «Сумерки свободы», «На страшной высоте блуждающий огонь!» и др.). Пророческим пафосом и библейской образностью проникнуты произведения Николая Клюева и Сергея Есенина. Николай Гумилёв стремился отгородиться от революционной действительности и не «пускать» её в свои стихи.
Редко встречаются страшные приметы истории и в творчестве Б. Пастернака этого периода. В цикле стихотворений, озаглавленном «Болезнь» (1918–1919), упоминается «шум машин в подвалах трибунала». Больной «видит сон: пришли и подняли. Он вскакивает: „Не его ль?…“». Нет, пока пронесло… Но в целом эти страхи уходят в подтекст, создавая подспудное напряжение внешне «невинных» стихов конца 1910-х годов.
Крик души вырывается у далёкого от политики и всецело, казалось бы, принимающего новый мир Велимира Хлебникова. Он не подстраивался под события, не ловил на лету ветер господствующей идеологии. Поэта всерьёз увлекла мечта о преображении мира. «Лобачевский слова», революционер стиха, Хлебников вроде бы попал в родственную ему внутренне эпоху, где всё свершается, «Чтобы зажечь костёр почина / Земного быта перемен». Но… навсегда врезался ему в память «У смерти утёсов / Прибой человечества…». Обращаясь к современникам, поэт говорит:
Вы очарованы в железный круг —
Метать чугунную икру.
Ход до смерти — суровый нерест
Упорных смерти женихов,
Войны упорных осетров,
Прибою поперёк ветров,
То впереди толпы пехот —
Колчак, Корнилов и Каледин…
(«Синие оковы», 1922)
«Будетлянин» не ставит вопрос, кто прав, кто виноват. Он создаёт эпическое полотно трагедии. Не случайно Ю. Тынянов называет хлебниковские поэмы «Ночь перед Советами», «Ночной обыск», «Уструг Разина» вкупе с XVI отрывком из «Зангези» «наиболее значительным, что создано в стихах о революции». В конце жизни поэт переосмысливает события последних лет; былые радужные надежды постепенно гаснут. Ровно через пять лет после свободы «нагой», бросающей «на сердце цветы», появляется образ «слепой свободы» («Синие оковы»), по ту сторону которой — «гробов доска». Подобно Волошину и Цветаевой, Хлебников воспринимает сегодняшний день в контексте трагической российской истории, глазами «Мукдена» и «Калки», перипетии Гражданской войны — через «Углич» (Смуту) и смерть «царевичей» (невинных людей).
Как видим, Волошин с его историософскими умозрениями и гражданско-публицистическим творчеством является фигурой исключительной и в то же время характерной для его эпохи. Он не создал принципиально новой теории «преходящего» момента. Однако сам метод восприятия событий заметно выделяет Волошина из числа ведущих поэтов Серебряного века и русского зарубежья. Он чужд «одностороннего» взгляда на вещи, характерного для Цветаевой и Маяковского, далёк от туроверовской «приземлённости» и отстранённого «космизма» А. Белого. Поэт не ушёл в «молчальничество», подобно Пастернаку или Гумилёву. Ему не свойственна образно-мифологическая кодопись Мандельштама и лексически-числовая заумь Хлебникова. Философско-эстетическое кредо Волошина выражено в стихотворении «Доблесть поэта» (1925):
Творческий ритм от весла, гребущего против теченья.
В смутах усобиц и войн постигать целокупность.
Быть не частью, а всем: не с одной стороны, а с обеих.
Зритель захвачен игрой — ты не актёр и не зритель.
Ты соучастник судьбы, раскрывающий замысел драмы.
В дни революции быть Человеком, а не Гражданином…
Стихотворение написано гекзаметром. Уже в самом размере, связанном с античностью, критерий вечности категорий добра и зла… Сходные мысли мы находим и в статьях поэта, в частности в его лекции «Россия распятая»: «И актёр и зритель могут быть участниками политического действа, ничего не зная о содержании последующего акта и не предчувствуя финала трагедии; поэт же должен быть участником замыслов самого драматурга. Важнее отдельных лиц для него общий план развёртывающегося действия, архитектурные соотношения групп и характеров и очистительное таинство, скрытое Творцом в замысле трагедии… Поэтому положение поэта в современном ему обществе очень далеко от группировок борющихся политических партий».
Человеческие ценности для поэта всегда были выше классовых и государственных начал, социально-идеологических схем. Художник не принимал само понятие «большевизм», но в его содержание вкладывал свои, нетрадиционные представления. «Сколько раз мне приходилось слышать от „буржуев с военной психологией“, что необходимо после занятия севера „повесить Горького“ и „расстрелять Брюсова и Блока“, — пишет Волошин в статье „Соломонов суд“ (1919). — …Эти проявления классовой психологии очень страшны и представляют из себя явление чисто большевицкого характера. „Большевизм“ — это ведь вовсе не то, что человек исповедует, а то, какими средствами и в каких пределах он считает возможным осуществить свою веру».
Гуманизм Волошина связан с фатализмом, с «глубокой религиозной верой в предназначенность своего народа и расы». Поэт считал, что «у каждого народа есть свой мессианизм, другими словами — представление о собственной роли и месте в общей трагедии человечества». Повседневная этика Волошина сочетается с вневременным, космическим взглядом на вещи; положение человека, погибающего «средь чёрных пламеней, среди пожарищ мира» — с позицией поэта, поставленного «на замок небесных сводов», внимающего «Растущий вопль земных народов / Подобный рёву многих волн…». Впрочем, сочетание это нельзя назвать равновесием, ибо ещё в 1915 году, когда писались эти строки, чаша весов явно склонялась в сторону земного начала человеческой трагедии. («Я ввержен был обратно в ад…») Философ-мудрец никогда не заслонял в поэте страдающего человека, сочувствующего конкретному несчастью.
Свои культурно-исторические и философско-эстетические взгляды, обретенные в «плавильном огне русской революции», Волошин с наибольшей полнотой выразил в цикле стихов «Пути России», поэме «Россия», книге поэм «Путями Каина» и лекции-статье «Россия распятая».
«Революция есть нарушение высшего религиозного принципа жизни, принципа органического единства», — писал философ С. Аскольдов в статье «Религиозный смысл русской революции». По его мнению, революция — это власть множественности над государственным единством. У Волошина эта множественность, «расплавляющая спайки целого», — множественность бесов. Поэт прилагает притчу из «Евангелия от Луки» — о бесах, вошедших в стадо свиней, — к историческим и текущим событиям, привнеся своё толкование. «Великая русская равнина — исконная страна бесноватости, — говорит он в лекции „Россия распятая“. — Отсюда в древности шли в Грецию оргические культы и дионисические поступления; здесь с незапамятных времён бродит хмель безумия.
Свойство бесов — дробление и множественность… Изгнанный из одного одержимого, бес становится множеством, населяет целое свиное стадо, а стадо увлекает пастухов вместе с собою в бездну». Происходящее в России, в частности в Петрограде, Волошин сравнивает со зловещим спиритическим сеансом, когда «в пустоту державного средоточия ринулись Распутины, Илиодоры и их присные. Импровизированный спиритический сеанс завершился в стенах Зимнего Дворца всенародным бесовским шабашем семнадцатого года…», что он выразил и в стихотворении «Петроград»:
…Сквозь пустоту державной воли,
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом,
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод…
Финал этого «шабаша» предопределён:
…Те бесы шумны и быстры:
Они вошли в свиное стадо
И в бездну ринутся с горы.
Впрочем, поэт не заостряет внимания на «исходе» этой «безысходной», казалось бы, «бесовщины», не ставит вопрос об «исцелении» (хотя в стихотворении «Русь глухонемая» упоминается «меч молитв», «обрубающий» эту болезнь) — он задумывается о природе её происхождения. 10 декабря 1917 года, на другой день после написания стихотворения «Петроград», поэт создаёт «Трихины». Слово это, как уже говорилось, заставляет вспомнить последние страницы романа Достоевского «Преступление и наказание». В Сибири осужденный Раскольников попадает в острожную больницу: «Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей… Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми… Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные… Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали… Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе…» Прошло сорок с небольшим лет, и вот «дыхание ужаса революции» привело поэта к осознанию: «Исполнилось пророчество: трихины / В тела и в дух вселяются людей…» Финал романа представляется Волошину «апокалиптическим видением, в котором уже есть всё, что совершается, и много того, чему ещё суждено исполниться».
Неужели человек столь плох и в природе его заложены звериные инстинкты, страсть к убийству и разрушению? Отнюдь нет. Вслед за автором «Преступления и наказания», «Бесов» Волошин почувствовал, что в революционной вакханалии виновен не сам человек, что его подчиняют некие «духи». Это даже не демоны, а «духи невысокого полёта: духи-звери, духи-идиоты, духи-самозванцы, обманщики и шарлатаны». Можно назвать их трихинами, а можно — бесами, то есть духами зла, «невидимыми врагами» человеческого рода. «Перегонять бесов из человека в человека, из свиньи в бездну, из бездны опять в человека — это значит только способствовать бесовскому коловращению, вьюжной метели, заметающей русскую землю», — пишет Волошин. Это почти буквально перекликается с тем, что утверждает Бердяев в статье «Духи русской революции»: «Русский нигилизм, действующий в хлыстовской русской стихии, не может не быть беснованием, исступлённым вихревым кружением. Это исступлённое вихревое кружение и описывается в „Бесах“…»
Для Достоевского было важно то, что эта страшная болезнь — расплата за века грехов и ошибок, накопленных русской историей, за нигилизм и хаос, воцарившийся в умах молодого поколения. «Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!..» — жалуется один из героев романа «Бесы» Степан Петрович Верховенский. Знаменательно и то, что эта болезнь захлёстывает все слои общества. Ей подвержен и дворянин Пётр Верховенский — по Бердяеву, главный бес, «вселяющийся во всех и овладевающий всеми». Но это и расчётливый бес Федька-каторжный, вдохновившийся «необыкновенной способностью» своих господ к преступлениям. И у Волошина речь идёт о «безумии целых рас», огромных социальных групп, «тех» и «других»:
Одни восстали из подполий.
Из ссылок, фабрик, рудников,
Отравленные тёмной волей
И горьким дымом городов.
Другие из рядов военных,
Дворянских разорённых гнёзд,
Где проводили на погост
Отцов и братьев убиенных.
В одних доселе не потух
Хмель незапамятных пожаров,
И жив степной, разгульный дух
И Разиных, и Кудеяров.
В других — лишённых всех корней —
Тлетворный дух столицы Невской:
Толстой и Чехов, Достоевский —
Надрыв и смута наших дней.
Одни возносят на плакатах
Свой бред о буржуазном зле,
О светлых пролетариатах,
Мещанском рае на земле…
В других весь цвет, вся гниль империй,
Всё золото, весь тлен идей.
Блеск всех великих фетишей
И всех научных суеверий.
Одни идут освобождать
Москву и вновь сковать Россию,
Другие, разнуздав стихию,
Хотят весь мир пересоздать…
(«Гражданская война»)
И главное: «В тех и в других война вдохнула / Гнев, жадность, мрачный хмель разгула»; у «тех» и «других» — единый лозунг: «Нет безразличных: правда с нами». У Достоевского «правда» бесов оборачивается шигалёвщиной, когда «все рабы и в рабстве равны». Волошинский прогноз в стихотворении «Китеж» (1919) немногим отличается от этого умозаключения: «Вчерашний раб, усталый от свободы, / Возропщет, требуя цепей…»
Достоевский в «Бесах» тонко уловил специфику русской натуры. Тот же Федька может убить, ограбить церковь, но… со словом Божьим на устах, ибо, по Аскольдову, «именно русский человек, сочетавший в себе зверя и святого по преимуществу, никогда не преуспевал в… среднем». «Идеал у народа Христос, иного у него нет, — отмечает Писатель в диалогах С. Булгакова „На пиру Богов“. — И когда по грехам и слабости своей он об этом забывает, то сразу оказывается зверем, сидящим во тьме и сени смертной».
И у Волошина излюбленные образы — Святая Русь, «покрытая» Русью грешной, Святой Серафим, который — «в каждом Стеньке». Художник осознаёт, что народ, которого «водит на болоте / Огней бесовская игра», духовно болен и сейчас особенно нуждается в исцелении, тем более что он сам не подозревает о своём недуге. Его бесовщина выражается, писал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 год, как «потребность хватить через край… свеситься… в самую бездну…», готовность «отречься от всего, от семьи, обычая, Бога». Впрочем, уточняет автор, «…с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам… когда уже идти больше некуда».
Отмечает и Волошин в поэме «Россия», говоря о природе русской натуры, это «бродило духа — совесть / И наш великий покаянный дар…» — нечто родственное утверждению Аскольдова о «соборной целостности русской души» — в России «всегда осуществлялся подвиг братского замещения греха одних смирением, терпением других». И, конечно, молитвой. Молитва «за тех и за других» — единственное, что в годину братоубийственной войны оставалось поэту, выучившемуся «молиться за палачей», ибо «каждый / Есть пленный ангел в дьявольской личине». Отсюда — его способность видеть в белом офицере и красном комиссаре братьев.
«…Когда дети единой матери убивают друг друга, надо быть с матерью, а не с одним из братьев». А братья — равны в своей правоте и неправоте. Волошин был убеждён, что мир строится на равновесиях. «Две дуги одного свода, падая одна на другую, образуют несокрушимый упор. Две правды, два принципа, две партии, противопоставленные друг другу в устойчивом равновесии, дают опору для всего здания». Мысль о равновесии двух сил, созидающих мироздание, была высказана поэтом ещё в сонетах под общим названием «Два демона» (1915). В лекции «Россия распятая» она получает своё развитие в социально-историческом плане.
Конечно, принцип равновесия сил не означал для Волошина религиозной беспринципности. Ведь увидел же он наконец в антропософии «досадное малокровие», чуждое русской душе, предпочтя ей христианство, с его «живым творческим символом, немедленно распускающимся в душе». Не мог принять он и новой религии — социализма. И это понятно. Христианство есть религия Царства Небесного. Социализм — религия «мещанского рая на земле». «Именем социализма трудящиеся массы отравлены ядом подлинно буржуазной мещанской жадности, — писал в апреле 1918 года философ Георгий Федотов. — Кто думает ныне о труде и его святости?..»
Единственным мыслимым идеалом для поэта, как уже говорилось, был «Град Божий». Путь к нему, считал Волошин, — «вся крестная страстная история человечества», «все гневы будущих времён». Согласно христианскому учению, вера в Бога и божественный миропорядок предполагает и веру в сокровенный смысл всех страданий, унижений, испытаний, выпавших на долю человека (или шире — страны).
Долгие годы, прожитые в «горе и унижении», привели к тому, что мы «постигли таинство уходящего Китежа, — пишет один из крупнейших мыслителей-богословов Иван Ильин. — …в дремучей душевной чаще обрели мы таинственное духовное озеро…
Приход большевиков к власти ознаменовал собой, как считали лучшие умы России, царство антихриста. «Это всё та же основная идея русского нигилизма, — писал, например, Н. Бердяев, — русского социализма, русского максимализма, всё та же инфернальная страсть к всемирному уравнению, всё тот же бунт против Бога во имя всемирного счастья людей, всё та же подмена царства Христова царством антихриста». Но те же мыслители сознавали и то, что «в соседстве с заглушающими плевелами созревают добрые колосья… Это созревание невидимое, неслышное, не творящее громких дел, но прочно созидательное для строящегося невидимого града Божия». Под этими словами Н. Бердяева вполне мог бы подписаться и М. Волошин.
В основе историософской этики Волошина заключена вера в божественное предопределение, в неизбывность путей России. Логические категории здесь не помогут. «Умом Россию не понять…» В русской революции поэта поражали прежде всего её нелепость, некоторая надуманность, несоответствие вещей самим себе. Ведь в России «нет ни аграрного вопроса, ни буржуазии, ни пролетариата в точном смысле этих понятий. Между тем именно у нас борьба между этими несуществующими величинами достигает высшей степени напряжённости и ожесточения», — писал Волошин, возможно, несколько упрощая социально-экономическую подоплёку событий. Однако, констатируя «великий исторический абсурд», поэт находит в нём указание на «провиденциальные пути» России:
Темны и неисповедимы
Твои последние пути,
И не допустят с них сойти
Сторожевые Серафимы.
Особым, «космическим», зрением Волошин прослеживал течение истории, вливающейся в «сегодня», воспринимал историю в её единовременном ракурсе. Как уже говорилось, Смута, восстание Стеньки Разина, Петровская эпоха, Термидор во Франции, революция в России — всё это сосуществует у поэта как бы в едином временном кадре. Одно воспринимается через другое.
Волошин ощущает свою глубинную причастность «тёмной, пьяной, окаянной», но всегда Святой Руси, породившей Стеньку и Дмитрия-императора, а в новых вершителях судеб России видит их наследников.«…И опять приду — чрез триста лет…» — оповещает Лжедмитрий.«…Три угодника — с Гришкой Отрепьевым / Да с Емелькой придём Пугачём», — поддерживает его Стенька Разин. И уже сам поэт, вкусив от «мук казнённых поколений», спустя триста оговоренных Самозванцем лет, пишет в духе Апокалипсиса:
Анафем церкви одолев оковы,
Повоскресали из гробов
Мазепы, Разины и Пугачёвы —
Страшилища иных веков…
(«Китеж»)
Именно эта вера в роковую предопределённость свершающихся на глазах поэта кровавых событий помогла ему выстоять в годину тяжёлых испытаний и стоически принять неизбежное: «Нам ли весить замысел Господний? / Всё поймём, всё вынесем любя…»
Иван Бунин в книге «Окаянные дни», ссылаясь на работы С. Соловьёва о Смутном времени, Н. Костомарова о восстании Разина, также проводит параллели с современностью, вызывающие у него совершенно другой пафос. Бунина поражает прежде всего то, что на страшную «повторяемость» русской истории «никто и ухом не вёл», ему не верится, «чтобы Ленины не знали, не учитывали всего этого». А раз знали, продолжим мы эту мысль, то не может быть, чтобы они всё это делали по своей воле, кто-то должен был направлять их руку. Не Бог, а «сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода», — пишет Бунин.
Теория повторяемости, которую в той или иной форме принимают Волошин, Бунин, Цветаева, не нова. Ещё в XVIII веке итальянский философ Джамбаттиста Вико высказал идею исторического круговорота. По его мнению, все народы мира, пройдя сходные циклы развития, возвращаются в первоначальное состояние, после чего начинается новый виток. Повторяемость истории М. Волошин, может быть, нагляднее и убедительнее других поэтов выразил в поэме «Россия»:
Великий Пётр был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет к её грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей,
Опричь указа, казни и застенка,
К осуществленью правды на земле.
Не то мясник, а может быть, ваятель —
Не в мраморе, а в мясе высекал
Он топором живую Галатею,
Кромсал ножом и шваркал лоскуты.
Строителю необходимо сручье:
Дворянство было первым Р.К.П. —
Опричниною, гвардией, жандармом,
И парником для ранних овощей…
В трактовке образа Петра Волошин, подобно Мережковскому и Блоку, склоняется к славянофильской концепции, сводящей роль этого царя к сугубо разрушительной функции. Но Волошин есть Волошин: он вновь «летает» на двух крыльях. Роль «мясника» и «первого большевика» никак не умаляет «гения Петра» (при этом поэт не делает упор на это определение и не раскрывает его смысл). Во всяком случае, его точка зрения не вполне совпадает с категоричной позицией Цветаевой, которая считала, что именно Пётр, «бесам на торжество», развалил основы государственной жизни, дедовские устои, подложил угли «под котёл кипящий» нынешней российской Смуты и стал «родоначальником Советов». Но Макс солидарен с Мариной в одном: нечто роковое, мистическое сближает эпохи, народы, направляет ход событий:
Есть дух Истории — безликий и глухой,
Что действует помимо нашей воли,
Что направлял топор и мысль Петра,
Что вынудил мужицкую Россию
За три столетья сделать перегон
От берегов Ливонских до Аляски.
И тот же дух ведёт большевиков
Исконными российскими путями.
Где же источник этого «духа»? У Волошина есть ответ и на этот вопрос: «Истории потребен сгусток воль: / Партийность и программы — безразличны…» Что же касается России, то она несёт в себе «культуру взрыва»:
Огню нужны — машины, города.
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя, —
Стальной нарез и маточник орудий.
Отсюда — тяж советских обручей
И тугоплавкость колб самодержавья.
Бакунину потребен Николай,
Как Пётр — стрельцу, как Аввакуму — Никон.
Поэтому так непомерна Русь
И в своевольи, и в самодержавьи.
И в мире нет истории страшней,
Безумней, чем история России.
Пусть «сны» Истории порой, с точки зрения художника, чужеродны русской душе, пусть смешаны в них «клички», стёрты «грани»: «Наш „пролетарий“ — голытьба, / А наши „буржуа“ — мещане…» Предназначение поэта состоит в том, чтобы почувствовать эту «тёмную и заблудшую душу русской разиновщины», раздираемую «глухонемыми» демонами социальных вихрей и мятежей, осознать особую миссию России, её жребий. Заслонив некогда Европу от татаро-монгольского нашествия, ныне она принимает на себя огонь революций. «Как повальные болезни — оспа, дифтерит, холера — предотвращаются или ослабеваются предохранительными прививками, так и Россия — социально наиболее здоровая из европейских стран — совершает в настоящий момент жертвенный подвиг, принимая на себя примерное заболевание социальной революцией, чтобы, переболев ею, выработать иммунитет и предотвратить кризис болезни в Европе».
Не нам ли суждено изжить
Последние судьбы Европы,
Чтобы собой предотвратить
Её погибельные тропы.
Пусть бунт наш — бред, пусть дом наш — пуст,
Пусть боль от наших ран не наша,
Но да не минет эта чаша
Чужих страданий наших уст!
И если встали между нами
Все бреды будущих времён —
Мы всё же грезим русский сон
Под чуждыми нам именами…
(«Русская революция», 1919)
Несмотря на резкие зигзаги в историческом движении России, считает Волошин, в государственной её сути вряд ли что изменится коренным образом, ибо «социализм сгущённо государственен по своему существу». Поэт убеждён, что «тяжёлая и кровавая судьба России на путях к Граду Невидимому проведёт её ещё и сквозь социал-монархизм, который и станет ключом свода, возводимого теперешней гражданской войной».
Зимой 1918 года в записях И. А. Бунина появилась библейская цитата — из книги Иеремии, чьё пророческое служение пришлось, кстати, на самый мрачный период иудейской истории: «Мир, мир, а мира нет. Между моим народом находятся нечестивые: сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И мой народ любит это. Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их». Бунина здесь особенно привлекало выражение«…пагуба, плод помыслов их», то есть та самая, как писал Достоевский, «невинная, милая, либеральная болтовня» людей, которых «пленил не социализм, а чувствительная сторона социализма».
М. Волошин в эпоху революции и Гражданской войны так же смотрит на происходящее сквозь призму библейских истин и пророчеств. Его вера в судьбу России метафорически выражена в стихотворении «Видение Иезекииля» (1918), в основе которого лежит идея кары, постигшей народ Израиля за вероотступничество и идолопоклонство, и — последующего возрождения Иерусалима к новой жизни. Исполненную того же пафоса идею поэт воспринял в финале «Преступления и наказания» и выразил уже в своей ранней статье «Пророки и мстители» (1906): «В пророчестве Достоевского чувствуется именно эта катастрофа: новое крещение человечества огнём безумия, огнём св. Духа. Нынешнее человечество должно погибнуть в этом огне, и спасутся те немногие, которые пройдут сквозь это безумие невредимыми…»
«Поруганной и нищей» России, считает Волошин, предстоит долгий и мучительный путь. Однако «дух Истории» и «сгусток воль» выведут её судьбу на новые рубежи, помогут ей преодолеть разруху и террор, бесчестье и голод. Долг поэта — быть сопричастным судьбе России-Славии, верить в неизбывность и предначертанность её путей, гореть и не сгорать в пламени Неопалимой Купины.
…Всей грудью к морю, прямо на восток,
Обращена, как церковь, мастерская,
И снова человеческий поток
Сквозь дверь её течёт, не иссякая.
…Он так же давал, как другие берут. С жадностью. Давал, как отдавал. Он и свой коктебельский дом… такой его по духовному праву, кровный, внутренне свой, как бы с ним сорождённый, похожий на него больше, чем его гипсовый слепок, — не ощущал своим, физически своим… Зато море, степь, горы — три коктебельские стихии и собирательную четвёртую — пространство, он ощущал так своими, как никакой кламарский рантье свой «павильон»…
В марте 1921 года на очередном партийном съезде было принято решение о переходе к нэпу. Конечно, перемены стали заметны не сразу. Но уже на следующий год лик земли русской изменился до неузнаваемости. «Как феникс из-под пепла, вышла… и воскресла в полгода московская торговля… Целые севрюги, осетры. Сухие снетки и лещи. Свинина, баранина, жирная говядина… На десятичных весах горою навалены телячьи туши, ещё целые, в шубах… Жизнь чередуется волнами. Три года войны, четыре — революции, хаос разрушения, кровавые духовные цветы. И вот возродилась плоть!» — писал, не ведая развязки этой сатировской драмы, известный учёный, языковед и фольклорист В. Г. Богораз-Тан.
Воскресла не только частная торговля, но и (в очень ограниченном объёме) частная промышленность. Определённые изменения происходили и в издательском деле. Возникло «частное предприятие» И. Лежнева (псевдоним И. Г. Альтшулера) — журнал «Новая Россия» (позднее — просто «Россия»), в котором печатались В. Брюсов, Б. Пастернак, Вл. Ходасевич, О. Мандельштам, К. Чуковский, Е. Замятин, М. Шагинян и другие.
В Крыму таких головокружительных переворотов не происходило и вряд ли кто-то мог «насытить свои голодные глаза обилием пищи», подобно упомянутому фольклористу. Здесь по-прежнему жилось голодно, известны были даже случаи людоедства. И всё же что-то менялось. Становилось легче дышать. Ревкомы заменялись выборными Советами. Обсуждались не самые «парадные» стороны жизни. На слуху были не самые «революционные» имена. Местные «страдатели пера» изредка вспоминали и о Волошине как о крупном явлении русской литературы. Г. Томилин в статье «О книгах и писателях» (1921) сравнил волошинские произведения «Стенькин суд», «Дикое поле» и «Гражданская война» с блоковской поэмой «Двенадцать»: «Они художественно, сжато, ярко и выпукло отражают наше время, правда, иногда и с его теневыми сторонами».
За два месяца до этой статьи имя Волошина упоминает в журнале «Коммунистический интернационал» А. В. Луначарский. Не соглашаясь с волошинской оценкой революции, красный эстет и теоретик искусства всё же находит в стихах поэта «возможность весьма близкого подхода… к восприятию коммунистического евангелия». Луначарский зовёт Волошина в Москву, поскольку его присутствие там «необходимо для совещания по целому ряду специальных вопросов». Наверное, и хорошо было бы проехаться до Белокаменной — развеяться, только вот здоровье не позволяет (прежние боли в спине и ногах, серьёзные неполадки с желудком). И отношение к его поэзии здесь, в Крыму, мягко говоря, неоднозначно. Смелые «вылазки», наподобие томилинской, пока что одиночны. То же «Дикое поле» признаётся неистовыми ревнителями «коммунистического евангелия» контрреволюционным, не говоря уже о стихотворениях из цикла «Личины»… Среди тех немногих литературоведов, кто открыто поддерживает творчество Волошина, профессор В. Л. Львов-Рогачевский.
Э. Миндлин вспоминает, как однажды в Москве на Тверском бульваре натолкнулся на Львова-Рогачевского, который тут же начал расспрашивать его, как там, в Крыму, Волошин. «Я ответил, что привёз от Волошина письмо к Луначарскому и иду сейчас в Наркомат просвещения, чтобы попытаться лично наркому передать это письмо… Мы с ним зашли в книжную лавку писателей на Большой Никитской, и там у прилавка он написал Луначарскому несколько добрых слов обо мне и просил помочь человеку, не имеющему в Москве жилища.
Луначарского я встретил у дверей зала заседаний Наркомпроса на Остоженке. Только что окончилось заседание коллегии. Толпа, дожидавшаяся наркома, сразу же окружила его и оттеснила меня. Я в отчаянии закричал через десятки голов:
— Анатолий Васильевич! Анатолий Васильевич! Вам письмо от Максимилиана Волошина!
Луначарский тотчас повернул голову в мою сторону и потянулся за письмом, которое я протягивал. Толпа расступилась, и меня пропустили к нему.
— Волошин? Максимилиан Александрович? — спросил он, беря письмо. — Что же он не едет сюда? Мы его очень ждём. Я два раза писал ему. Он очень, очень нам нужен здесь, в Москве!
Я не был уполномочен объяснять, почему он не едет в Москву. Возможно, он сам объяснял Луначарскому в своём письме… Стихи Волошина, которые он дал мне в Москву, я отнёс в „Красную новь“ Воронскому… Вскоре встречаю Сергея Клычкова — он был тогда секретарём редакции „Красной нови“.
— Что же вы не приходите за гонораром Волошина? Стихи идут в ближайшем номере, гонорар уже выписан.
— Но ведь я оставил для перевода гонорара адрес: Феодосия, Коктебель, дача Волошина. Вышлите ему почтой.
— С ума вы сошли. Пока деньги дойдут до него, он на них и одной коробки спичек не купит. Курс падает по часам. Получайте деньги, купите на чёрной бирже червонцы и тогда перешлите ему с кем-нибудь».
Надо ли говорить, что поэт Эмилий Миндлин поставленной перед ним задачи не выполнил. Литераторово ли это дело? «Какие-то типы шмыгали взад и вперёд. Иногда останавливали пешеходов, перешёптывались с ними о чём-то, уходили в подъезды ГУМа и там обделывали свои делишки. Моя старенькая куртка облезлым мехом наружу, видимо, не свидетельствовала о моей способности приобрести червонцы… Чтобы спасти хоть часть денег Волошина, я снова бросился на Ильинку — известное тогда всей Москве местонахождение чёрной биржи. И опять — такие же, как вчера, шмыгающие типы. И опять у меня нехватка решимости первым заговорить с ними, а у них явное пренебрежение к моей куртке лысым мехом наружу.
Миллионы Волошина, которыми были набиты мои карманы, обесценивались с каждым часом. Реальная стоимость их всё стремительней приближалась к стоимости коробки спичек. В последний момент я решил приобрести на них хоть что-нибудь не падающее в цене и приобрёл… в каком-то нэповском магазине четыре банки сгущённого молока! Затем я написал Волошину обо всём происшедшем и спрашивал, как мне быть, чтобы не чувствовать себя невольным растратчиком его литературного гонорара. Он быстро ответил очень милым, полным утешительных слов письмом. Мол, он хорошо всё понимает и советует мне больше не думать о деньгах. Он всё равно не смог бы их получить и реализовать при существующем положении… Но о приезде в Москву — ни слова». (К этому следует добавить, что Волошин не давал права Миндлину отдавать свои стихи в печать; вот распространять их в рукописи — другое дело.)
А в Москве Софья Парнок устраивает литературный вечер, посвящённый писателям Крыма. Да, не вымерла ещё душа в России: организаторам удаётся выручить с этого мероприятия четырнадцать миллионов рублей, пять из которых направляются Волошину, курирующему крымскую литературную диаспору; кое-что из его стихов Вересаеву удаётся пристроить в сборник Госиздата и получить гонорар в размере четырёх миллионов. Волошин сталкивается с новыми для него коммерческими проблемами: свалившиеся на него миллионы необходимо срочно менять на продукты — муку, сахар, кофе… При катастрофическом падении рубля надо как-то быстро-быстро поменять деньги на золото (поэтово ли это дело?!), чтобы перевести его в предметы первой необходимости. Потом, делёж этих предметов — не самое приятное занятие, «…оказываешь реальную услугу десятку людей, а этим наживаешь себе сотню злейших врагов, которые считают себя вправе на такую же услугу, требуют её, сплетничают и т. д.», — писал Волошин матери. Как жаль, что не суждено будет поэту прочесть мудрую пьесу-притчу Б. Брехта «Добрый человек из Сезуана» — такую бы теоретическую базу приобрёл для своего неутолённого и безблагодарного альтруизма… А тут ещё болезнь…
Да и работать как-то надо: не так давно созрел замысел книги «Путями Каина», и кое-что уже написано. Тому же Вересаеву удаётся пристроить в Москве три поэмы из этой книги (а заодно и монографию Волошина о Сурикове) и даже получить за всё это «сказочный» гонорар — девяносто три миллиона рублей. Увы, посредник, везущий в Феодосию эту сумму, был вчистую ограблен на рынке в Харькове. А ведь при нём были деньги и для других нуждающихся крымчан. С потерей своих кровных Макс ещё мог смириться; но оставить в беде своих земляков было никак невозможно — душа не позволяла. Уже в который раз ему выпадало «парализовать чужую неудачу»… Но, «обыгрывая чужую судьбу», поэт нередко ставил под удар свою. Продвигая на Комкурсы своих хороших и не вполне хороших знакомых, сам Волошин, как помним, на этом «пайковом» месте не удержался. Получив выгодное предложение от Внешторга быть экспертом по скупке художественных ценностей, Макс настоял на привлечении к этой работе Богаевского. В итоге — остался Богаевский, а Волошин вновь оказался «за бортом».
Да, трудно и невыгодно быть альтруистом. Друзья обращались с поэтом весьма бесцеремонно: врывались в любое время, загружали своими проблемами, просили, требовали. Приходилось бегать «по учреждениям хлопотать о похоронах, муке, расстрелянных, больных, умирающих от голода» (из письма к матери от 25 апреля 1922 года)… И всё это в ущерб работе, не говоря уже о сильно пошатнувшемся здоровье. Обострился артрит, замучили мигрени. В феодосийском санатории практически не было лекарств. О грязевых ваннах приходилось только мечтать… А Вересаев зовёт в Москву. Там — сытно, там — можно опубликоваться и заработать. Но уж нет. «Московскому благополучию» художник предпочитает «патетическое умирание» голодной смертью вместе с Крымом.
А между тем в Москве не так уж всё и благополучно. Политика нэпа показывает свою изнанку. Все послабления тщательно регулируются. Идеологический меч по-прежнему занесён над головами инакомыслящих. И первой под удар попадает Церковь. Прав был Волошин: репрессии в этой области не заставят себя долго ждать. В секретной инструкции от 19 марта 1922 года Ленин предписывает провести «с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства». 26 апреля в Москве начинается так называемый «процесс 54-х». Патриарха Тихона вызывают, пока что в качестве свидетеля… «Процесс» завершается 8 мая одиннадцатью смертными приговорами. Сам Тихон уже на другой день был взят под домашний арест, а 16 мая — заключён в тюрьму. Вот вам и — «Вся власть патриарху»! Теперь уже новая, сама себя учредившая власть запускает свой убойный механизм: 13 августа был расстрелян митрополит Петроградский Вениамин; взялись и за католическое духовенство…
Расправляясь с Церковью, большевики не забывали и о своих недавних оппонентах в политике. Летом 1922 года вершится суд над тридцатью двумя эсерами. Двенадцать из них приговариваются к расстрелу, и только заступничество Горького (к протесту которого присоединились А. Франс, А. Барбюс, Р. Роллан) на некоторое время продлило жизнь этим «заложникам» революции. Естественно, до Крыма эти мутные волны истории докатываются глухим, нечленораздельным рокотом. Здесь многое видится по-другому. Крым отягощён собственными проблемами…
Но не только бедами полна жизнь. Весной 1922 года Волошин возобновляет знакомство с Марией Степановной Заболоцкой, которую впервые увидел за три года до этого. Новая встреча произошла случайно, на улице, и, как нередко случалось в те дни, была сопряжена с печальными обстоятельствами. Маруся не могла скрыть слёз: убили её любимую собаку — всякая животина воспринималась тогда как потенциальная пища… Макс конечно же как мог старался утешить женщину… Эта грустная встреча имела счастливое продолжение: Мария Степановна станет второй женой Максимилиана Александровича, ангелом-хранителем — не только его самого, но и Дома Поэта. Прошедшая суровую школу жизни, она органично впишется в устоявшийся быт коктебельского пристанища, взяв на себя все заботы о нём. Будучи фельдшерицей, Мария Степановна будет ухаживать за больной матерью поэта, бросив ради этого службу. После смерти Елены Оттобальдовны (кстати, завещавшей сыну «не оставлять Марусю») в январе 1923 года она останется в доме хозяйкой. Официально свой брак Волошины зафиксируют лишь 9 марта 1927 года. Проводив в последний путь своего Макса (или как она называла его — Масеньку), Мария Степановна сделает всё возможное, чтобы сохранить его творческое наследие, сам Дом, которому (во многом благодаря ей) суждено будет стать Домом-музеем. Однако обо всём — по порядку. Да и биография этой замечательной женщины заслуживает отдельного рассказа…
Отец Маруси был польских кровей, мать — из семьи старообрядцев. Её раннее детство было светлым и радостным. «Папа мой был ласковый и меня очень любил и баловал, — вспоминает Мария Степановна. — …Папа… был слесарь и работал старшим мастером на фабрике Невской мануфактуры. Всё моё детство проходило в районе Обводного канала». Были поездки к бабушке и дедушке в уездный городок Режицу (ныне — Резекне), а там — речка, грибы, ягоды, прогулки с отцом, разнообразные детские приключения… Увы, вскоре отца не стало. Подступила настоящая нищета. Маруся и её старший брат Стёпа остались на руках у матери, которой было всего двадцать семь лет. «Характера она была тихого, даже скорее робкого; доброты и ласковости и услужливости необыкновенной… Она была, верно, очень музыкальна, много пела, но была полуграмотная. Хорошо читала и знала церковно-славянский язык и не знала почти по-граждански, потому что это считалось грехом… Страдала она ого всего нестерпимо. Мы это с братом очень хорошо знали и жалели маму до отчаяния. И брат, не желая всё это видеть, убежал из дома». В жизни 9-летней девочки наступает самый тяжёлый период: скитания по чужим углам, голод, болезнь матери. Она даже пытается покончить с собой, выпив сулемы.
Однако это роковое событие оказывается поворотным в судьбе Маруси. Случившееся с ней потрясло многих. В одной из газет появилась даже заметка, посвящённая «детской драме». «Пол-Питера, кажется, перебывало около моей постели в больнице, и моя судьба решилась и совершенно изменилась, — вспоминает Мария Степановна. — Моей маме было сделано очень много предложений: взять меня на воспитание, в дочки и т. д…И выбрала она предложение двух сестёр (Лебедевых. — С. П.)… Они подготовят меня в гимназию, а на содержание будут давать деньги семьи Поповых и Ярошенко. Последними маме была назначена пенсия в 5 рублей в месяц». На этот раз судьба показала девочке свой светлый лик, а ведь всё могло обернуться гораздо хуже…
Итак, Машу берут на воспитание в семью генерала Ярошенко, и начинается новая жизнь. Она учится в лучшей, Стоюнинской, гимназии Петербурга (с ней в классе — три княжны) и делает успехи. При этом никто не относится к ней как к девке-чернавке, существу низшего сорта. А главное — в её жизни появляется много интересных людей: круг общения генерала Ярошенко, брата видного художника, а также издательницы О. Н. Поповой, которая часто брала Машу к себе, возила на дачу, был весьма широк. Арифметике и грамматике девочку учил известный критик Н. К. Михайловский; Маруся посещала лучшие спектакли; ей приходилось общаться с А. П. Чеховым и К. С. Станиславским, О. Л. Книппер и В. Ф. Комиссаржевской, И. В. Цветаевым и молодым Б. В. Савинковым, который изображал из себя вегетарианца; Маше запомнилось, что, входя в столовую, он демонстративно подавал всем лакеям руку.
Максим Горький как-то раз огорошил её, 14-летнюю девочку, заявлением, что Иисус Христос вовсе не воскресал:
— Ты такая большая девица — и веришь этим сказкам, что Христос воскрес?
— Ну да, воскрес, а как же иначе?
— Почитай Ренана и подумай, всё это сказки.
— И батюшка говорит… и как же не воскрес?
Все засмеялись. У Маши под ногами зашатался пол, все лица воспринимались не в фокусе.
— Оставьте ребёнка, она страдает…
Эта реплика Чехова положила конец мучениям, и всё-таки на какое-то время девочке показалось, что «весь мир потух». Уютный и добрый Чехов вскоре сделался родным и любимым, а сиплый, кашляющий, в нелепых длинных сапогах, Горький — чужим и неприятным…
Потом, конечно, будут и не такие потрясения, да и время наступит куда более драматическое. Маруся будет посещать в Петербурге Бестужевские курсы, слушать в Психоневрологическом институте лекции И. П. Павлова (который «не был учителем в ортодоксальном смысле. Он интересовался людьми, с которыми работал, их судьбами… он был несомненно верующим… это было видно по его отношению к людям, животным, собакам»), учиться на родовспомогательном отделении Повивального института, но высшего медицинского образования не получит: начнётся мировая война, потом Гражданская. Теоретическую подготовку заменит практика. И всё же Мария Степановна войдёт в мирную жизнь весьма эрудированным человеком, что позволит ей вести большую работу по ликвидации безграмотности в Крыму и даже получить соответствующую грамоту. Маруся будет служить в амбулатории в селении Дальние Камыши, потом её переведут в Феодосию, где и произойдёт её судьбоносная встреча с Волошиным, на одной из лекций которого она незадолго до этого присутствовала («сидела и плакала»). Она будет наведываться в его феодосийское жильё, а затем настанет очередь Коктебеля. «Меня вызвали в Симферополь работать по медицинской части, но я вышла замуж за М. А. Волошина и мне интереснее было дома, с ним. Мне выпала интересная жизнь, среди интересных людей. Я была счастливым человеком, была рада тем верхушкам, которые волею судьбы видела в жизни», — подведёт итоги Мария Степановна.
Макс так охарактеризует свою новую подругу в письме к М. В. Сабашниковой от 24 февраля 1923 года: «Хронологически ей 34 года, духовно 14. Лицом похожа на деревенского мальчишку этого же возраста (но иногда и на пожилую акушерку или салопницу). Не пишет стихов и не имеет талантов. Добра и вспыльчива. Очень хорошая хозяйка, если не считать того, что может все запасы и припасы подарить первому встречному. Способна на улице ввязываться в драку с мальчишками и выступать против разъярённых казаков и солдат единолично. Ей перерубали кости, судили в Народных трибуналах, она тонула, умирала от всех тифов… Глубоко по-православному религиозна… Её любовь для меня величайшее счастье и радость». Из письма Вере Эфрон от 24 мая 1923 года: «Юродивая. Исступлённая. Самозабвенная. Всегда пламенно протестующая… Берётся за всё непосильное и не отступает, несмотря на слабость и нервность. Совершенно не умеет угадывать шутки и иронии. Раздаёт и деньги, и вещи, и себя на все стороны. В гимназии была первой ученицей, а теперь почти безграмотна. Была дружна с самыми неожиданными и неподходящими людьми — начиная с Веры Ф. Комиссаржевской, кончая Иваном Влад. Цветаевым. С Пра она глубоко и страстно подружилась». Надо же… Вот этот талант — дорогого стоит!..
Однако вернёмся немного назад. Феодосийский период культурно-подвижнической жизни Макса подходит к концу. Он рвётся в Коктебель, где есть возможность отгородиться в какой-то мере от хлопот и просителей, заняться творчеством. Наконец, 5 июня 1922 года перед ним снова «каменная грива» родных мест; порог его мастерской-церкви… Да, так уж получилось, что
…в эти дни доносов и тревог
Счастливый жребий дом мой не оставил:
Ни власть не отняла, ни враг не сжёг,
Не предал друг, грабитель не ограбил.
Утихла буря. Догорел пожар.
Я принял жизнь и этот дом как дар
Нечаянный — мне вверенный судьбою,
Как знак, что я усыновлён землёю.
(«Дом Поэта»)
Он пишет акварели, работает над книгой-глыбой «Путями Каина», которую сдвинуть с места невероятно трудно. Каждое воскресенье в доме появляется М. С. Заболоцкая. Каковы были её первые впечатления от дома? Мы не знаем. Мария Степановна запечатлела в своих записях то, что уже отстоялось в её памяти: «Дом поставлен как бы в середине береговой дуги бухты… Макс всегда искал и отмечал соответствие архитектурных форм формам местности. И отсюда связанность с пейзажем в линиях дома. Многогранность и многоплановость прилегающих гор, сложный ритм складок и резкие контуры обрывов перекликаются с многоплановостью и пересечённостью этажей, крыш, балконов, лестниц, многообразно и гармонически слитых в одно целое — дом. Он является как бы первой ступенью-планом на берегу, второй план Тепсень… и венец всего… — гора Сюрюю-Кая. Картина, висящая в мастерской над „каютой“, подчёркивает гармонию дома с пейзажем. Дом как центр пейзажа.
Построенный продуманно, он защищён от северных ветров поворотом стен, двойными дверями и окнами, балконы его обращены на юг и север, так что во всякую погоду ими можно пользоваться. Размерами он не так велик, но очень вместителен и целесообразен как жильё». Столь же удобен он и внутри: «Всё самое простое: столы, стулья, но стены украшены акварелями, дверцы стенных шкафов — выжженными рисунками самого Макса. Ничего ненужного. Макс терпеть не мог ненужных вещей. Самодельные книжные полки, простые топчаны, покрытые кустарными тканями с лежащими на них подушками, табуретки и скамьи с выжженными рисунками, на полочках фотографии и много индивидуальных и художественных вещей и вещиц — подарки или находки Макса в природе». Главное — везде и во всём чувствуешь «хозяина, след его мысли и чувств».
Марию Степановну поразили сами комнаты, у каждой из них было своё лицо, в каждой — своя атмосфера, не противоречащая общему духу этого поэтического «корабля». И самое важное: «Из каждой комнаты видно море, а мастерскую, которая обращена на восток, через четыре больших и высоких окна буквально затопляет голубой ливень света. Взгляду не во что упереться: не видно берега, не видно ни одного предмета, только море сливается с небом и без края расстилается пространство. Свет и расплавленное море — основное настроение мастерской».
…А за окном расплавленное море
Горит парчой в лазоревом просторе.
Окрестные холмы вызорены
Колючим солнцем. Серебро полыни
На шиферных окалинах пустыни
Торчит вихром косматой седины.
Земля могил, молитв и медитаций —
Она у дома вырастила мне
Скупой посев айлантов и акаций
В ограде тамарисков. В глубине
За их листвой, разодранной ветрами,
Скалистых гор зубчатый окоём
Замкнул залив Алкеевым стихом,
Ассиметрично-строгими строфами.
(«Дом Поэта»)
«Ассиметрично-строгие строфы», естественно, рождались в кабинете поэта. Именно там — средоточие мысли и вдохновения. Туда «надо подниматься из мастерской по внутренней лестнице. Кабинет расположен на западной стороне, напротив окон мастерской, и служит как бы продолжением её, только на хорах. В этой комбинации двух комнат в одной, но в разных плоскостях — большой вкус строителя.
В кабинете световые, цветовые и воздушные элементы иные, чем в мастерской. Свет приглушён. Тут два окна на большую комнату. И одно из них западное, расположенное горизонтально продолговатой полосой под самым потолком, даёт эффектный верхний свет, впуская продолговатую полосу солнца, которая падает на желто-оранжевую занавеску на стеклянной перегородке, отделяющей кабинет от мастерской. От этого кабинет наполнен золотистым солнечным отражённым светом, особенно в летние дни, когда солнце поворачивает к западу. На полках светло-жёлтые обложки книг, и всё вместе даёт золотисто-жёлтый приглушённый солнечный свет. „Тяжёлая поступь закатного солнца“ и тишина. Тишина, молчание, тайна, благоговение — основное в кабинете…
Макс, чувствовавший, как никто, ритм бытия, ритм каждого дня, должен был ритмично то раскрываться навстречу миру, то уходить в себя — закрываться.
Дом был оболочкой, формой жизни Макса, поэтому архитектура дома несла в себе тот же ритм сознания Макса. Дом помогал Максу уходить от плена мира, от плена света и шума мастерской в золотую тишину кабинета…», чтобы
В уединенье выплавить свой дух
И выстрадать великое познанье.
(«Дом Поэта»)
«Выстраданное познанье» воплощалось в стихи и поэмы, которые уже становились классикой. Как уже говорилось, имя Волошина к началу 1920-х годов было широко известно за границей, среди русской эмиграции. Его произведения публиковали парижские, берлинские, пражские, английские издания. Критики отмечали «мужественное» сочетание в них «любви и веры», наличие слова, которое «стало плотью», наконец, его особую историософскую концепцию путей России. Очевидно, Макс знал об отдельных высоких оценках своего творчества, и его самолюбию они льстили. Не жаждущий славы и не склонный к самовозвеличиванию, он всё же сообщает в одном из писем К. Кандаурову, что его «очень ценят: всюду перепечатывают, цитируют, читают», «называют единственным национальным поэтом, оставшимся после смерти Блока». Разумеется, предлагают выехать за рубеж, но это невозможно по двум причинам: во-первых, стара и больна мать, а во-вторых… он уже высказался по этому поводу в стихотворении «На дне преисподней»:
Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!
В советской печати создаётся другой образ поэта, весьма противоречивый. Не замечать такое крупное явление литературы — нельзя, а трактовать его можно по-разному. Можно отметить в его стихах «вещий историзм», в словах — «огненную лепку мастера» (П. Константинов), можно, выждав какое-то время, заявить, подобно В. Вересаеву, что революция «ударила по его творчеству, как огниво по кремню, и из него посыпались яркие, великолепные искры»; но проще и безопаснее, не вдаваясь во всякие изыски, обозвать поэта мистиком, не желающим «знать и видеть движущих сил революции», или причислить к белогвардейцам, мечтающим о возвращении «мрачных времён средневековья, царизма, рабства и эксплуатации народа» (Н. Мещеряков). Бред? Но этот бред в конечном счёте перевесит все другие оценки его творчества и превратится в официальное резюме. Достаточно открыть второе издание Большой советской энциклопедии (1951; т. 9, с. 42) и прочитать, кто такой Волошин: «…Представитель упадочнической поэзии символизма… Поэзия В. космополитична по своей сущности. Русский народ В. знал плохо… не понял Великую Октябрьскую социалистическую революцию». В 1950–1970-х годах сожалели о том, что Волошин так и не смог просветиться идеологически (К. Зелинский, В. Орлов и др.), упрекали в пресыщенности и холодной голой эстетности, в следовании реакционным славянофильским концепциям и духу рабского смирения… Отпечаток советской идеологической плиты заметен и в первой монографии о Волошине (Куприянов И. Судьба поэта. Киев, 1978).
В середине июля 1922 года поэт собирается, если можно так выразиться, в лечебно-лекционное турне по Крыму. Проще говоря, Волошину пришёл вызов в Саки на грязелечение; путь предстоял долгий, с остановками, где не избежать публичных выступлений. Первое состоялось в Симферополе, в Клубе печатников. Поэт обрушил на головы красноармейцев и матросов, слушателей рабфака и партшколы свои гневно-обличительные стихи: «Матрос», «Красногвардеец», «Термидор», «Магия», «Огонь» и «Кулак». После выступления пришедшие в себя партийцы и красногвардейцы учинили автору «в порядке дискуссии» форменный допрос: как он понимает революцию, с кем он, за кого? Волошин отвечал в своей манере: да, он за революцию, но — за революцию духа; побеждать надо не кого-то, а самого себя, преодолевая свою ограниченность; он не за тех и не за других, он — за Человека…
На что рассчитывал поэт, уже не раз «обжигавшийся на молоке»?.. Газета «Красный Крым» туг же откликнулась статьёй «Реакционная философия», в которой волошинское выступление оценивалось как стряпня «с довольно острым белым перцем», то есть подобная той, которую производит белоэмигрантская пресса. Тут бы успокоиться и заняться лечением… Но уже из санатория донкихотствующий поэт выезжает в близлежащую Евпаторию и вновь «дразнит гусей» стихами о России, смущает рабочих и крестьян «Путями Каина». На беду здесь оказался военный цензор Особого, очень Особого отдела… В воздухе запахло арестом, избежать которого удалось только чудом.
А что же грязелечение? Ничего, кроме новых приступов боли, оно не дало. Но Макс не унывает: не помогло здесь — поможет в другом месте, например, в севастопольском Институте физических методов лечения под руководством профессора Щербака. И там, похоже, взялись за него всерьёз: одна процедура за другой — гальванизация, диатермия, массаж, механотерапия, гидропатия, ванны такие, ванны сякие… Врачи к поэту — со всем вниманием, он к ним — со всеми стихами. Поладили. В результате болезнь пошла на уступки. Художник распрямился, настроение стало бодрее, проснулся юмор. Он заметил, что на всём больничном белье — постельном и столовом — стоит штамп: «венерическое» (чтобы подумали, прежде чем домой тащить), еду подают в старых, но чистых плевательницах — не хрусталь, конечно, зато изящно и стерильно. Из всех процедур ему больше всего запомнилось «вытапливание сала». Как рассказывал позже поэт своей двоюродной племяннице Тамаре Шмелёвой, его по самые плечи сажали в американскую термальную камеру, и там он потел. Однако вскоре эта камера, не выдержав его русского веса («семь пудов мужской красоты»), испортилась, так что «вытапливание сала» пришлось прекратить. В дальнейшем американским термальным камерам поэт будет предпочитать коктебельские солнечные ванны на вышке своего дома.
Впрочем, до летних солнечных ванн ещё далеко. На дворе — осень 1922 года. В Коктебеле Волошина ждут две женщины: Елена Оттобальдовна и Мария Степановна, которая окончательно перебралась в Дом Поэта и ухаживает за матерью художника. Казалось бы, ситуация близка к идиллии, но не всё так просто и гладко. Характер Елены Оттобальдовны даёт о себе знать, несмотря на явную симпатию, которую она питает к Марусе. Есть и ещё один нюанс, осложняющий настоящее и будущее этих людей. В жизни Макса, незадолго до Маруси, появилась художница Евгения Николаевна Ребикова, ученица Волошина, страстно его полюбившая. Всё в мире повторяется. Макс уже пережил душевное раздвоение: Маргарита и Вайолет. Теперь вот — Мария и Евгения.
Евгения Николаевна была племянницей уже упоминавшегося на страницах книги композитора В. И. Ребикова. Дед художницы происходил из старинного дворянского рода. В летописях упоминается некий Ребек-хан, татарин, который при Иване Грозном переселился из Казани в Васильсурск, принял православие и женился на русской. Тогда-то и возник род Ребиковых. Бабушка происходила из казачества и, судя по всему, личностью была незаурядной: блестяще закончила Харьковский институт благородных девиц, проявляла большие способности к музыке, владела многими языками. Сохранился её литографический портрет с фотографии, выполненный внучкой. Дети и внуки Ребиковых обладали художественной жилкой.
Евгения Николаевна получила в детстве прекрасное музыкальное и художественное образование. Известны сделанные ёю портреты художника Н. Н. Вышеславцева, Е. Е. Горбуновой-Посадовой, сохранились интересные автопортреты самой художницы. Весной 1912 года её отец (очевидно, чиновник высокого разряда) вместе с семьёй переезжает из Варшавы в Феодосию. По-видимому, к этому времени относится знакомство Евгении с Максом (который был на короткой ноге с её дядей, композитором). В человеческом, да и в творческом плане Ребикова была очень близка Волошину: бескорыстная и безбытная, готовая всё отдать ближнему, она была поразительно добра и душевно чиста. Отказывалась от гонораров за свои работы, опасаясь, что деньги невольно вынудят её «польстить» в портрете заказчику. Её имя часто упоминается в переписке членов семьи Герцык-Жуковских. В своей последней записке к родным из судакской больницы Аделаида Герцык упоминает художницу: «Женя ангельски добра». Известно, что Ребикова ухаживала за умирающей поэтессой, взяла на себя ведение хозяйства, а после смерти Аделаиды написала её портрет.
Дружба Волошина с Ребиковой продолжалась до конца жизни поэта. В своём письме к М. С. Заболоцкой Макс проявляет искреннюю озабоченность судьбой молодой художницы: «Маруся, милая, только одно: мы не должны предать Женю. Она трудная и слишком ещё не пережившая жизни. Хотела учиться у меня, хотела со мной переступить грань человеческого опыта». Макс есть Макс: он готов даже удочерить (в письме буквально — «усыновить») Женю, лишь бы «покрыть» любовью причиняемый ей «ущерб». Но у женщин своя психология. Марусе чужд этот альтруизм; делиться Максом она ни с кем не хочет, да и что она будет делать с этой дамой: «Женю принять не могу… Пусть Женя будет с тобою, мне ничего не надо! Я всегда, всегда буду одинока…» Ну а Макс настойчиво пытается привить подруге свою систему мировосприятия: «Маруся, нельзя меня ревновать. Нужно со мною любить всех, кого я люблю. А мне надо стольких любить: всю Россию, каждого человека в ней… Мне надо быть… со всеми, кто окликнет меня». Всё вроде бы просто, но как обычной женщине это принять? Кто знает, как могла сложиться личная жизнь поэта при других раскладах?.. Евгения Ребикова имела все основания стать женой Макса Волошина. Но не будем забывать, что очень многое в этом доме зависело от капризов и пристрастий Елены Оттобальдовны, а её выбор, как мы знаем, был определённо сделан в пользу Маруси Заболоцкой. В августе 1930 года Евгения Ребикова напишет Юлии Оболенской: «Хожу иногда с Максом на прогулки. Макс ежедневно после захода солнца совершает свои традиционные прогулки. Тогда мы разговариваем, но это совсем, совсем не те разговоры, что были раньше…» Мы уже никогда не узнаем, о чём беседовали, на что надеялись Макс и Женя тогда, в начале 1920-х…
А в конце осени 1922 года Волошин уже убеждён в одном: «Я знаю, что связан с тобою глубоко и на всю жизнь, — пишет он М. С. Заболоцкой, — что люблю тебя настоящей глубокой человеческой любовью и уважением… В человеке любовь — сознательна, разумна, свободна, действенна, но влюблённость (или страсть) бессознательна, темна, приходит неизвестно откуда, уходит неожиданно и без предупреждения…» Обо всех видах взаимоотношений мужчины и женщины (любовь, страсть, похоть) Макс говорил и раньше. Теперь же свои теоретические постулаты с приложением объяснения в любви он направляет новой адресатке, с которой окончательно связывает свою судьбу.
23 ноября Волошин покидает Севастополь, навещает Ялту, 14 декабря присутствует на открытии картинной галереи Айвазовского в Феодосии. Но надо спешить в Коктебель: состояние здоровья Елены Оттобальдовны становится критическим. Вновь обострение эмфиземы лёгких, на которую наложилась простуда, очередная депрессия. Пра отказывалась есть, слабела, доводила до приступов отчаяния Марусю. 6 января 1923 года отметили Сочельник. Елена Оттобальдовна уже не вставала. Макс не отходил от матери всю ночь. Днём 8 января её не стало… «В гробу она лежала похудевшая, с молодым лицом, стремительным и решительным лбом, — писал Волошин Оболенской. — Рот сложился в ироническую, торжествующую усмешку… По горам бродили зимние туманы, а по коктебельскому заливу — пятна жидкого солнца. Во время погребения низко, над самой могилой, чертил круги орёл»…
Итак, в жизни Волошина наступает новый период. Теперь он свободен, вправе распоряжаться временем и пространством по своему усмотрению. В быту у него надёжная опора — энергичная Мария Степановна. 12 марта она делится своими впечатлениями от жизни в Коктебеле со своими харьковскими друзьями: «Веду хозяйство и смотрю за Максом… Макс страшно непрактичный, совсем как ребёнок… Прислуги нет, я всё делаю сама — и воду таскаю, и стираю, и печи топлю…» При этом: «Внутри у меня большая гармония и покой». Быть подмогой для мужа, поэта и художника, создавать для него творческую обстановку, для его гостей — необходимые удобства, размещать по комнатам, обеспечивать едой… Приходится только удивляться, как хватало на всё сил у этой маленькой хрупкой женщины с внешностью «деревенского подпаска». А ведь к ней ещё как к единственному медику шли жители из деревни — приходилось принимать роды, оказывать первую помощь, давать лекарства. И Мария Степановна всё успевала, но на первом плане остались заботы о своём муже, которого она чуть ли не боготворила.
Волошин старался отвечать ей тем же. «Когда мы объединились, — вспоминает Мария Степановна, — Макс мне очень серьёзно сказал: „Марусенька, у меня к тебе большая просьба, исполни её — и мы будем счастливы. Я больше всего боюсь в браке ‘чудовища о двух спинах’. Так страшно, когда брачующиеся смотрят только друг на друга. Я очень прошу тебя: будем повёрнуты лицами к людям и мы будем счастливы“. А меня Макс любил очень. И как он был всегда благодарен, когда чувствовал, что моё лицо обращено к людям». Марию Степановну никак нельзя было назвать красавицей. Но для умудрённого опытом, настрадавшегося в жизни поэта это обстоятельство уже не имело значения. Как-то он сказал Вересаеву: «Женская красота есть накожная болезнь. Идеальную красавицу способен полюбить только писарь». В Марусе зрелый Волошин ценил совсем другие качества, которые опоэтизировал:
Весь жемчужный окоём
Облаков, воды и света
Ясновиденьем поэта
Я прочёл в лице твоём.
Всё земное — отраженье,
Отсвет веры, блеск мечты…
Лика милого черты —
Всех миров преображенье.
Между тем пространство мира, «человеческого духа», по-прежнему побуждало к движению. В январе 1923 года у Макса возникает соблазн побывать в Берлине. Бывший командарм, а ныне полпред РСФСР в Бухаре И. С. Кожевников, направляясь в Москву, посещает Волошина в Коктебеле. Он предлагает поэту устроить для него выезд через Наркоминдел, снабдив всеми необходимыми документами. В Германии можно пожить пару месяцев, поработать, пообщаться со старыми знакомыми. Ведь Берлин в 1920-е годы становится чуть ли не литературной столицей России. Там можно будет погреться в лучах собственной славы, выступать с любыми лекциями и стихотворениями, не думая о том, что скажет по этому поводу «особый» цензор с двумя извилинами под козырьком. А на кого оставить дом?.. На Марусю? Но как же ехать без неё — ведь они уже единое целое. Да и пустят ли его потом обратно?.. По личному указу Ленина уже началось выдворение из Советской России инакомыслящей интеллигенции. В 1922-м целый «философский пароход» — более тридцати писателей, философов, богословов, профессоров сплавили за рубеж. А Макс не мыслит себя вне России. Да и работать он привык здесь, у себя в кабинете — надо заканчивать книгу «Путями Каина». И Волошин отказывается от этого выгодного предложения, отчётливо понимая, что больше такой возможности уже не будет. С новой энергией он занимается издательскими делами — надо выпустить в полном объёме «Лики творчества», расширить «Киммерийские сумерки» («Киммерию»), издать переводы из Ренье, Клоделя, Вилье де Лиль-Адана… Он мечтает подержать в руках книгу «Неопалимая Купина», куда вошли бы все стихи о войне и революции, но понимает, что в условиях Советской России это издание никогда не преодолеет цензурные барьеры, несмотря даже на помощь В. Вересаева, С. Парнок, а возможно, и А. Луначарского… Так, может быть, стоило всё-таки поехать?.. Нет, решение принято, а стихи… стихи теперь будут «списываться тайно и украдкой».
Надо сказать, что и в советской печати наряду с поверхностно-презрительными рецензиями ангарских и лелевичей начинают появляться глубокие, объективные отзывы о его поэзии. Высоко оценивает творчество Волошина В. Львов-Рогачевский в книге «Новейшая русская литература». Поэт, считает критик, «разглядел новый трагический лик России, органически спаянный с древним историческим ликом её». Ряд авторов, говоря о Волошине, не решаются открыть свою фамилию, скрываясь под псевдонимом или аббревиатурой. Так некий «О. Осв.» в журнале «Всемирная иллюстрация» отмечает редкое совпадение поэтической и человеческой судьбы Волошина, называет его зачинателем «известной литературной колонии» в Коктебеле и «исключительным знатоком истории искусств, блестящим исследователем живописи», а в его стихах видит уникальное, ни с кем не сопоставимое «отражение революционной стихии».
Между тем наступило лето; «известная литературная колония» вновь стала заполняться гостями. Приезжают харьковские друзья М. С. Заболоцкой Домрачёвы, родственники Волошина Шмелёвы, дипломат И. М. Майский, актрисы Ф. И. Бунимович и И. В. Карнаухова, С. А. Толстая. Побывали здесь К. И. Чуковский и Е. И. Замятин, поэтесса М. М. Шкапская с сыновьями. Свои впечатления от этого лета записала Тамара Владимировна Шмелёва. Познакомившись с М. С. Заболоцкой, она была несколько смущена её «раскованностью»: «Маленькая, энергичная, но, как видно, очень нервная, Мария Степановна озадачила нас своей необычной манерой обращения, и мы даже почувствовали какой-то страх перед ней… Меня поместили вместе с Марусей в маленькой комнате с фамильными фотографиями. В соседней большой зимой жил Макс. На лето он переходил к себе в верхнюю мастерскую (кабинет. — С. П.), которую по его просьбе я ежедневно убирала. Простой стол на козлах, покрытый красным сукном, и на нём несколько ящичков с карточками и карандашами. В глиняном горшочке всегда сухие розы. Макс просил ничего на письменном столе не переставлять. Он вообще был очень аккуратен…
Кроме Макса и Маруси в доме жил старый политкаторжанин-шлиссельбуржец, зоолог Иосиф Викторович Зелинский. Он помещался в столовой на диване. Макс привёз его из Феодосии, где он был совсем одинок… Около его дивана всегда собирались компании слушающих его интересные рассказы… В это лето 1923 года наша основная семья питалась наверху, в столовой. Остальные живущие в доме ходили в ресторанчик грека Синопли… В общий котёл шёл паёк Макса и продукты, привезённые тётей Сашей (Домрачёвой. — С. П.), запас которых систематически пополнялся посылками из Харькова. Мы с братом ничего не вносили и жили на „чужих хлебах“. Готовила тётя Саша, а иногда и Маруся. После обеда молодёжь шла на пляж мыть в морской воде посуду. Кастрюли тёрли песком и глиной-килом, которую брали в русле речки под мостиком. Сами мы мылись тоже этой глиной… За столом всегда происходили интересные разговоры. Иногда Макс читал только что полученные письма или отрывки из книг и журналов.
Первая половина дня проходила по строго установленному порядку. Сразу после утреннего чая Макс уходил на вышку лечиться солнцем. Потом спускался в верхнюю мастерскую работать. Входная дверь внизу закрывалась изнутри на ключ, а снаружи на ней висело объявление, что до двух часов вход в мастерскую закрыт. Я в это время делала балетные упражнения в нижней мастерской, где Таиах. Звук „гонга“ — удар палкой в подвешенную к дереву рельсу — возвещал приглашение к обеду. Макс спускался сверху и по пути в столовую проверял мой язык: если он был синий, то это значило, что я хорошо потрудилась. Выпущенная на свободу, бежала перед обедом купаться.
После обеда, если не было походов в горы, Макс шёл в нижнюю мастерскую писать акварели. Это было его любимым отдыхом. Садился в кресло спиной к свету и, прикрепив на большую доску куски ватмана, начинал приготовлять краски. В это время ему кто-нибудь читал вслух. В начале лета, когда было ещё мало людей, это делала я. Макс хотел ближе познакомить меня с творчеством Микеланджело, которого очень любил… На очереди стояло знакомство с Леонардо да Винчи… Иногда после обеда мы всей дачей отправлялись до вечера на прогулку — на Кара-Даг, в бухту Енишары, в безлесные холмы к северу от Коктебеля, получившие название Ассиро-Вавилонии. Волошин, как патриарх, шагал с посохом впереди. Вечером, когда спадала жара, собирались на вышке — и, под крупными южными звёздами, под мерный шум моря, читали стихи».
Девушке запомнилось пребывание в Коктебеле К. И. Чуковского. Поначалу он показался ей необщительным. «Прихватив тетради и корзину с виноградом, Корней Иванович с раннего утра уходил в горы и возвращался только к вечеру». Но вот однажды решили собрать для кого-то из поэтов деньги на лечение. «Макс предложил устроить в ресторанчике Синопли платный вечер. В качестве артистов выступали волошинцы. Корней Иванович читал свои детские стихи-сказки, восседая на „сцене“ за столиком. Все дети как-то незаметно уползли от своих мам и окружили Корнея Ивановича. Его буквально облепили: на коленях, на плечах, за спиной, на столе и на полу у ног сидели очарованные слушатели, влюблённо глядя ему в рот. Кажется, и сам Корней Иванович не заметил своего окружения и машинально обнимал то одного, то другого наседавшего…»
К. И. Чуковский, в свою очередь, сохранил в памяти выступления хозяйки дома, которая часто и с удовольствием «выпевала» некоторые стихи мужа, положив их на собственные мелодии. Уже в октябре, вернувшись домой из Коктебеля, Корней Иванович записал в дневнике по поводу своего пребывания в доме Волошина: «Его жена Мария Степановна, фельдшерица, обожает его и считает гением. Она маленького роста, ходит в панталонах. Человек она незаурядный — с очень определёнными симпатиями и антипатиями, была курсисткой, в лице есть что-то русское крестьянское. Я в последние дни пребывания в Коктебеле полюбил её очень — особенно после того, как она спела мне „Зарю-заряницу“ (на стихи Ф. Сологуба. — С. П.). Она поёт стихи на свой лад, речитативом, заунывно, по-русски, как молитву, и выходит очень подлинно. Раз пять я просил её спеть мне это виртуозное стихотворение, которое я с детства люблю. Она отнеслась ко мне очень тепло, ухаживала за мною — просто, сердечно, по-матерински». Чуковский так и звал Марусю — «Заря-заряница», а она его — «Чукоша». Именно тогда Волошин сделал свою известную запись для рукописного альманаха Корнея Ивановича «Чукоккала».
Лето 1923 года было первым после того, как «Утихла буря, догорел пожар». Коктебель являл собой тогда не самое курортное зрелище. Многие дачи пустовали, где-то вместо крыш и окон зияли провалы. Об аптеке, почте, телефоне и говорить не приходилось. Однако уже появлялись кое-какие продукты, можно было худо-бедно сводить концы с концами. Воспользовавшись послевоенными настроениями, когда люди потянулись на отдых, многие дачевладельцы взвинтили цены на проживание до пятисот миллионов в месяц. Волошинская «колония» с её дармовыми комнатами была для них костью в горле. Возобновились атаки на буржуя, белогвардейца, мироеда, юродивого Волошина, противопоставившего себя власти и местным порядкам. Посыпались угрозы обыска, ареста. В сельсовете решили, видимо, извести его налогами. Поползли слухи о том, что все дачи национализируют, а потом будут давать в аренду бывшим владельцам… Да, социализм ещё не раз явит поэту государственную «рачительность», а военные кампании против Дома Поэта так никогда и не прекратятся.
Поэт вновь направляет прошения в различные инстанции, напоминает об Охранной грамоте ВЦИКа, защищающей его дом, о безвозмездной пользе, которую он приносит деятелям культуры и искусства. Ему удаётся и на этот раз отстоять свой духовный очаг. Председатель Старо-крымского райисполкома Г. Д. Стамов (вскоре он будет убит) вступается за поэта и уверяет его, что «местные органы Рабоче-Крестьянского Правительства не менее Центра умеют ценить дорогих для Республики граждан». Что ж, и вновь «счастливый жребий дом мой не оставил»… А Волошин остался вполне доволен тем летом, проведённым со своими гостями в Доме Поэта (у него перебывало тогда не менее 120 человек).
Ко всему этому следовало бы добавить ещё одно впечатление, вызванное приятным событием. Как-то ещё по весне, пересекая вместе с лётчиком К. К. Арцеуловым (внуком Айвазовского, поклонником планеризма) хребет Узун-Сырт, Волошин стал свидетелем того, как листок бумаги, выпушенный из пальцев Арцеулова, плавно воспарил вверх. Примеру арцеуловской бумаги последовала волошинская шляпа. Воздушные потоки на этом широком плато оказались на редкость мощными. Так случайно было обнаружено место для проведения слёта планеристов, открытие которого состоялось уже 1 ноября…
В литературе же, по сравнению с воздушными потоками, дело обстояло значительно хуже. Было очевидно, что писателям вот-вот начнут перекрывать кислород. Правда, 1923 год оказался ещё щедрым на литературную продукцию. Вернувшийся на родину А. Н. Толстой в сборнике «Писатели об искусстве и о себе» (1924) сравнил период нэпа с «грибным летом»: «Школы, направления, кружки выскочили в грибном изобилии». Возобновили свою работу частные издательства. Например, столь актуальное для нас издательство братьев Сабашниковых, возникшее в 1891 году и прекратившее свою работу в 1918-м, возродилось в 1922-м. На книжной выставке в Москве, в мае 1923 года, оно представило 102 названия; другое частное издательство, «Колос», выставило 80 книг; издательство Мирманова — 50. Всего же 42 частных издательства представили здесь 1349 названий. А ведь были ещё кооперативные или акционерные издательства. Наиболее крупным из них было акционерное издательство «Земля и фабрика», созданное в 1922 году; оно выпускало оригинальную и переводную беллетристику, а также журналы. В августе 1922 года возникло кооперативное издательство «Круг», известное так же как «Издательство артели русских писателей». В его правление входили И. Бабель, А. Весёлый, Б. Пастернак, Б. Пильняк…
В 1923 году вышли поэтические сборники И. Анненского — «Посмертные стихи», Н. Асеева — «Избранное», Н. Гумилёва — «Посмертный сборник», В. Казина — «Рабочий май», О. Мандельштама — «Вторая книга», В. Маяковского — «Про это», П. Орешина — «Ржаное солнце». Как видим, авторы всё хорошие и разные. Проза была представлена такими произведениями, как «В тупике» В. Вересаева, «Мои университеты» М. Горького, «На куличках» Е. Замятина, «Петушихинский пролом» Л. Леонова, «Падение Дайра» А. Малышкина, «Русь» П. Романова, «Перегной» Л. Сейфуллиной, «Чапаев» Д. Фурманова, «Своя судьба» М. Шагинян, «Тринадцать трубок» И. Эренбурга и другие. Воистину это было время, когда, по словам М. Зощенко, «каждый свою хату в свой цвет красил».
Однако 7 марта 1923 года в «Правде» была напечатана статья Л. Сосновского, в которой тому же Зощенко досталось за это высказывание; было поставлено на вид «Серапионовым братьям» за их «аполитичность». А ещё раньше, 2 июня 1922 года, на первой странице «Правды» появилась статья «Диктатура, где твой хлыст?», направленная против книги Ю. Айхенвальда «Поэты и поэтессы» (автор книги спустя три месяца будет выдворен за границу на «философском пароходе»). Вошедший во вкус Сосновский 1 июня 1923 года в «Правде» обрушился на книгу В. Л. Львова-Рогачевского. Статья называлась «На идеологическом фронте». Идеологические штампы в ней заменили художественные оценки. Волошин был представлен не как «большой поэт», а всего лишь — «потрёпанный, бесцветный подголосок… декадентов», не как художник, разглядевший «новый трагический лик России», а как пёс, который «где-то в зарубежной печати скулил из подворотни на нашу революцию». Было ещё гнусное выступление того же Сосновского в той же «Правде» 2 сентября; были ещё различные тявканья и укусы. Но главный удар обрушился на поэта в самом конце года, когда в четвёртом (ноябрьском) номере журнала «На посту» появилась статья Б. М. Таля (в 1930-е годы он будет занимать пост главного редактора «Правды») под убийственным названием «Поэтическая контрреволюция в стихах М. Волошина».
Тенденциозно выдёргивая цитаты и прибегая к огульным обобщениям, критик пытается полностью представить Волошина как поэта из вражеского стана. Так, например, в стихотворении «Родина», написанном 30 мая 1918 года, поэт пишет, что «не окончена борьба», то есть продолжается никому не нужная усобица; критик же вспоминает по этому случаю, что в то время начался мятеж чехословаков и Волошин этой строкой выражает надежду на «близкое падение Советской власти». Процитировав строчки из «Заклятья о Русской земле»: «По всему полю дикому, великому/ — Кости белые. Кости сухие, пустые…», Таль безапелляционно комментирует: «Это белогвардейцы, павшие в борьбе с Советской Россией» (как будто у красноармейцев кости красные); Волошин, стало быть, стремится оживить «мертвецов контрреволюции» для борьбы с рабоче-крестьянским государством, всё-таки революционно-социалистическое литературоведение — тонкая штука; оно требует изощрённого ассоциативного мышления… И уж раз это стихотворение попало в берлинский монархический сборник «Детинец» (о котором Волошин никогда и не слышал), значит, поэт является активным сотрудником этого эмигрантского издания. А как забыть спасение им «белого генерала»?! (Н. Маркс постоянно менял свой «цвет», в зависимости от того, кто и с какой целью обращался к этой истории.) Нахватавшись вершков из книги «Путями Каина», напостовский Писарев обзывает Волошина «певцом средневековья» и «поэтом-аристократом». Главное — навесить ярлык и отшлифовать вывод: Волошин — «последовательный, горячий и выдержанный контрреволюционер-монархист». Как тут не вспомнить, что незадолго до этого ещё один эстет-«ревнитель», только из ЛЕФа, — Н. Чужак, утверждал: революция, согласно волошинским взглядам, развивается «путями Каина».
Поначалу поэт был в шоке. Ещё раньше, 16 октября, он жаловался Вересаеву: «Никогда я не чувствовал, как теперь… всю неуместность моих мыслей, моих стихов, самого факта моего существования». А что же говорить теперь… Вступить в полемику, попробовать оправдаться? Вересаев отговаривает его от этих намерений: «Сидеть над клопом и убеждать его, что нехорошо испускать такие скверные запахи!» Стоит ли провоцировать этого «клопа» на новые обвинения, давать ему дополнительный материал для более тяжёлых обобщений?!
И всё же Волошин не побоялся отправить в редакцию журнала письмо, в котором попытался, как это делал обычно, чётко выразить и отстоять свою позицию. Он еще раз подчёркивает, что его стихи «далеки от современных политических и партийных идеологий». Ведь написал же он в одном из вариантов «Доблести поэта»:
Помни, что для тебя партии, клички, программы —
То же, что списки больных для врача сумасшедшего дома…
Потом, правда, с грустью сетовал на незавидную участь поэта:
Будь изгоем при всех царях и народоустройствах:
Совесть народа поэт. В государстве нет места поэту…
Обращаясь к самому Б. Талю, Волошин идёт ещё дальше: «Я не нейтрален, а гораздо хуже: я рассматриваю буржуазию и пролетариат как антиномические выявления единой сущности… Понятия „России“ и „Русского царства“ для меня вовсе не совпадают с понятием „Монархизма“… Этапы текущей революции я рассматриваю с точки зрения всей Российской и Европейской истории». Касаясь так называемой «лояльности», Волошин не пытается как-то обелить себя или придумать защитную маскировку. «Кому нужно — тем это известно», — с чувством собственного достоинства закрывает он тему.
Но тема эта всё же нуждается в некоторых дополнениях. Не подлежит сомнению тот факт, что статья Таля в той или иной мере была вызвана публикацией в Берлине волошинского сборника «Стихов о терроре». Правда, критик не делает прямых ссылок на эту публикацию; он лишь упоминает отзыв Е. Зноско-Боровского об этом издании в парижской газете «Последние новости». Ясно и то, что Волошин понимал, откуда ветер дует. Поэтому, отвечая Талю, поэт смел и в то же время осторожен. Открыто выражая свои взгляды, он не упоминает о нелегальной передаче А. С. Ященко письма и стихов, но и отказаться от своей причастности к берлинским публикациям не может. Волошин избирает дипломатическую форму признания одного и непризнания другого: «С моего ведома и разрешения были опубликованы только те мои стихи, которые шли через руки В. В. Вересаева (а в 1921 г. и С. Парнок), все же остальные как в России, так и за границей печатались и печатаются без моего ведома, разрешения, оплаты, лицами мне неизвестными и в искажённых текстах; следить за этим из Коктебеля я не имел возможности.
То же относится и к злоупотреблению моим именем в списках сотрудников эмигрантских изданий. Могу ещё сообщить Талю, что имя моё видели и в списке сотрудников „Нового Времени“, и национально-патриотического издания „Зарницы“. „Детинец“ для меня новость, так же как и собственная моя книжка „Стихи о терроре“, о которой пишет Зноско-Боровский (посылая стихи Ященко, Волошин не мог предположить, что они выйдут ещё и отдельной книжкой с таким названием. — С. П.). Содержание её, очевидно, так и останется для меня тайной, так как она запрещена к ввозу в Россию. Только берлинское переиздание моей книги „Демоны глухонемые“ (1-е изд. в 1919 г. в Харькове при Советской власти) сделано с моего ведома и разрешения.
Достопримечательно, что моим именем за границей пользуются преимущественно те органы, которые меня особенно шельмовали раньше». (Письмо в редакцию // Красная Новь, 1924, № 1 (18), январь-февраль.)
Между строками этого письма угадывается и причина отказа поэта от поездки в Берлин (лишнее подтверждение его «лояльности»), и предполагаемая поездка в Москву, где он надеялся выступить со своими стихами перед высшим советским руководством.
Отбросив дипломатические нюансы и тенденциозные обвинения, мы можем констатировать одно: в творчестве Волошина отсутствуют произведения, направленные против советской власти. «„Антисоветских стихов“ у меня вообще нет, — напишет поэт известному врачу И. М. Саркизову-Серазини в феврале 1931 года, — по той причине, что я вообще политику не приемлю ни в какой форме… Что касается до распространения моих стихов внутри России, то это идёт совершенно вне моих намерений и ведома. А списывать их у себя я никому не запрещаю — принципиально».
Ещё 23 ноября 1920 года, то есть в первый же месяц существования новой власти в Крыму, «контрреволюционер-монархист» пишет стихи, посвящённые прославившейся в боях с белыми Сибирской 30-й дивизии. Поэт верит, что новая Россия должна встать «во главе мировой социальной культуры». Он не подвергает критике официальный курс страны. «Дух» его по-прежнему «в России» и с Россией. Поэт совершает даже нечто для себя нехарактерное: подписывает коллективное письмо в ЦК партии, в котором группа советских писателей выражала свою лояльность по отношению к молодой Советской республике и заявляла о нерасторжимости творчества «с путями советской послеоктябрьской России».
Что это — беспринципность, прекраснодушие или «великое познанье»? В письме к партийному работнику И. 3. Каменскому 1 января 1924 года Волошин выскажет свои взгляды следующим образом: «Вообще я считаю себя вполне легальным: советское правительство я признавал с самого начала, в частном своём обиходе я провожу коммунизм более строго, чем большинство политических коммунистов. Но марксизм и экономический материализм мне глубоко чужды — всей моей натуре и всему моему образу мыслей, которые совершенно не терпят ни политики, ни системы марксовых классификаций, ни самого понятия материализма, который считаю научным абсурдом».
Макс принял революцию, утверждала Мария Степановна, «сам включился в неё, читал солдатам и матросам лекции по истории искусства… в автобиографии, всё взвесив и обдумав, он говорит, что революция его ни в чём не разочаровала, он ждал её и думал, что она будет ещё более жестокой… У него была тяжёлая и счастливая судьба. Его не затронули репрессии, хотя доносов было предостаточно. Он и умер в срок, остался в любимом Коктебеле, а не сгинул, как многие другие, в тюремных подвалах». Приводя эти слова М. С. Волошиной (которые оставим без комментариев), её собеседник Э. М. Розенталь делает в своей книге ряд интересных умозаключений: «Макс Волошин был действительно убеждён в своей причастности к судьбам страны, не очень к нему ласковой… Большевизм, по его словам, оказался неожиданной и глубокой правдой о России, которую предстоит связать со всем нашим миросозерцанием… И всё же вера в Россию, в её будущее была стержнем его творчества… путь один — сойти с пути первоубийцы Каина, прийти к всеобщему, вне разделения на любые взгляды, примирению и любви… И тут просвечивается всё тот же императив всей волошинской философии и религии: не уклоняться от зла… а, приняв в себя, преодолеть его» («Планета Макса Волошина»).
Но этот мир, разумный и жестокий,
Был обречён природой на распад.
И нищий с оскоплённою душою,
С охолощённым мозгом торжествует
Триумф культуры, мысли и труда.
К середине 1920-х годов Максимилиан Волошин завершает свой многолетний труд — книгу «Путями Каина». Она представляет собой историософское и культурологическое исследование цивилизации. В ней, по словам поэта, сформулированы все его «социальные идеи, большею частью отрицательные». Но мало этого… Не удовлетворяясь констатацией «трагедии материальной культуры» (подзаголовок книги) на земле, Волошин как истинный «путник по вселенным» пронизывает взглядом космос, в нём ищет закономерности и указывает перспективы развития мироздания.
Характеризуя «философские послереволюционные стихи Волошина», С. Маковский отмечает («несмотря на отдельные лирические взлёты») отход художника от лирической стихии. В них, «может быть, и больше мысли, метафизической риторики и выпукло-определительных слов, чем того, что собственно составляет поэзию, т. е. звучит за мыслью и словами. Ритмованная мудрость, а не песня, во многих случаях — это стихи, так глубоко провеянные тысячелетиями средиземноморской культуры с её эзотерической углублённостью в загадки духа и плоти, что и сам Волошин кажется, в наш немудрый век, не то каким-то последним заблудившимся гностиком-тамплиером, не то какой-то гримасой трагической нашей современности накануне новой, неведомой судьбы…». Волошинская «риторика», считает Маковский, достигает такой силы, «что тут грани стираются между изреченным словом и напором вдохновенного чувства».
Главными особенностями книги «Путями Каина» составители двухтомного парижского собрания стихотворений Волошина (1982; 1984) — Б. Филиппов, Г. Струве и Н. Струве — называют «мистический рационализм» и публицистичность. Поэт, согласно их точке зрения, стремился преодолеть стихию словесного символизма, «овеществить слово, сделать его плотным, осязаемым — и сообразовать не с материалом, а с материей… самого предмета, о котором идёт речь. Это в поэме „Путями Каина“ доведено до плакатной броскости и тяжеловесной упругости».
Основная работа над книгой (циклом, поэмой) велась в 1922–1923 годах. Однако магистральные идеи этого произведения сложились у Волошина значительно раньше — в 1904–1907 годах. В период Первой мировой войны им были написаны стихи, ставшие главами поэмы, — «Левиафан» (1915) и «Суд» (1915), в последней редакции завершающие книгу. Само же её название неоднократно менялось: «Война и мир», «Распятый Прометей», «Пути человека» и т. д. Естественно, менялась и композиция поэмы. В качестве первой её главы фигурировали то «Огонь», то «Магия», то «Мятеж». Многие названия частей (а возможно, и сами части) не сохранились: «Распад», «Наука», «Взрыв», «Цареубийство», «Боги-игрушки (Петрушка)», «Любодейство», «Евхаристия» и другие. Из этого следует, что книга «Путями Каина» существовала в творческом воображении Волошина как постоянно обновляющееся, пульсирующее, эстетическое целое. «Моя поэма страшно сложна и сконцентрирована, — объяснял поэт свой замысел матери, — всё надо целиком держать в уме, пока не сведены своды». Не менялась лишь главная задача, поставленная художником: осуществить «переоценку материальной и социальной культуры», рассмотреть её в трагико-ироническом свете.
Э. Голлербах сравнивал М. Волошина с Силеном. Можно предположить, что искусствовед имел в виду мудрое лесное божество — Силена, который в шестой эклоге «Буколик» Вергилия излагает эпикурейское учение и рисует картины рождения мира. «Силеном античности… выказывается в своей поэме Волошин», — отмечают и авторы парижского издания. О воздействии древнегреческой философии на творчество Волошина уже говорилось. В данном случае важно подчеркнуть влияние жанровой системы, в частности античного философского эпоса. Волошин использует это влияние как истый «Силен»: глубинные научно-философские истины он выражает с едва заметной усмешкой. «Общий тон — иронический», — пишет он по поводу своей книги А. Пешковскому 23 декабря 1923 года.
Как мы знаем, античный философский эпос является разновидностью греческой дидактической поэзии; одним из первых её образцов считают поэмы Гесиода (конец VIII — начало VII века до н. э.). Чуть позже появляются многочисленные подражания великому беотийцу, обработки космогонических и теогонических мифов. Для античных поэтов этого склада были характерны сплав образного и логического мышления, умение говорить о сложных философских категориях поэтическим языком (заимствованное у них Волошиным). Конкретно-чувственная основа философского миров
Крупнейшим представителем древнегреческого философского эпоса считают Эмпедокла (около 495–415 до н. э.), создателя разнообразных по тематике и жанру произведений, в том числе двух философских поэм: «О природе» и «Очищения». В первой поэт-философ излагает свою концепцию мироздания. Он говорит о четырёх стихиях (огонь, земля, вода и воздух), представленных четырьмя божествами. Развитие мироздания обусловлено взаимодействием «мужских» (огонь, воздух) и «женских» (вода, земля) начал. Различные сочетания этих элементов порождают многообразие природы, которая благодаря «божественным» наполнениям воспринимается не как объективная бездушная реальность, но как живое, одухотворённое целое.
Обострённое ощущение четырёх составляющих мироздание стихий, божественных и животворящих, было свойственно и родившемуся в конце XIX века М. Волошину. Программные в этом смысле строки встречаются уже в стихотворном «Письме» (1904): «Стихии мира: Воздух, Воды, / И Мать-Земля и Царь-Огонь!..» Весь окружающий поэта мир — это «мечты» (пусть иногда и «окаменелые») «безмолвно грезящей природы». Более того, он как бы вбирает эти начала в себя («Во мне зеркальность тихих вод, / Моя душа как небо звездна…»). Сливаясь с природой, поэт вместе с тем ощущает себя «божественным и вечным» («Я духом Бог, я телом конь»). Одно из преступлений человека состоит в том, что он возомнил «Себя единственным владыкою стихий», нарушил незримый баланс между «духами стихий» и собой, «расчислив», «обезбожил» природу и, подчинив её машине, высвободил губительные страсти «ундин и саламандр», то есть тех же духов природы.
Пожалуй, самое большее влияние на Волошина оказала поэма Лукреция Кара (98–54) «О природе вещей». Римский поэт «подсказал» поэту русскому, как можно в рамках одного произведения объять необъятное: дать философскую концепцию истории и сатиру на современное общество, окинуть взглядом картину космоса и выявить природу атома, задуматься о механизме ощущений, о душе и Духе. Сам Лукреций во многом опирался на Эпикура, который, помимо проповеди мудрого созерцания, гармонического наслаждения и возвышенной безмятежности, открывал своим слушателям тайны Вселенной, развивая положения атомистической философии Демокрита. Волошин, возможно интуитивно, воспринял основной пафос, сближающий учение Эпикура с поэмой Лукреция: знание законов, управляющих миром и историей, даёт человеку ощущение внутренней гармонии, освобождает от религиозно-политических догм и суеверий, способствует осознанию себя «вселенной и творцом». Сознательно или подспудно была усвоена Волошиным и двоякая природа жанра: заострённая мысль, пронизывающая философский эпос, включает в себя художественный образ и философскую идею; первый лежит в основе собственно поэзии, вторая работает на построение научно-теоретической концепции.
Поэма «О природе вещей» — единственная в своём роде, поскольку дошла до нас полностью. Сама личность Лукреция не может не вызвать ассоциации с Волошиным: творчество того и другого приходится на период смуты и гражданских войн. Лукреций был, вероятно, самым крупным из поэтов-мыслителей, которые противопоставили усобице философско-просветительские идеи, «воспоминание» о золотом веке, когда«…не губила зато под знамёнами тысяч народа / Битва лишь за день один…».
История человечества, в представлении Лукреция, направляется двумя импульсами, которые олицетворяют Венера и Марс, сквозные символы произведения. Жестокость и неразумие современников отстраняются, поэтически «разоружаются» «великими членами мира», универсальной триадой: небо — море — земля. Научная семантика, как правило, переплетается у Лукреция с философско-поэтической символикой. «Великие члены мира», с одной стороны, воспринимаются как воплощения трёх основных состояний материи (газообразного, жидкого и твёрдого), с другой — «возвышают» адресата поэмы над людской суетой. «Прежде всего посмотри на моря ты, на земли и небо…» — советует поэт своему слушателю Меммию.
Ветшают дни, проходит человек,
Но небо и земля — извечно те же… —
словно бы откликается ему из XX столетия создатель Дома Поэта.
Среди современников Волошина едва ли найдётся поэт, столь органично и, главное, в таких масштабах объединивший в своём эстетическом мировосприятии науку, лирику и философию. Единственным исключением, думается, можно считать Велимира Хлебникова, которого В. Маяковский назвал «Колумбом новых поэтических материков». Однако греческая мифология и философия практически не оказали на «Колумба» никакого влияния. Его эрудиция, в отличие от волошинской, не представляла собой «мёд с художественной культуры Запада» и была в значительной мере стихийной. Не впадая в схематизм, можно утверждать, что в отношении поэзии, да и вообще философии творчества, Волошин и Хлебников в историко-культурном контексте Серебряного века занимают противоположные позиции.
Однако не случайно в обиход вошёл термин «велимироведение», чрезвычайно удачно подчёркивающий необозримость творческих устремлений художника, его связей с различными областями науки, культуры, истории. В ассоциативных рядах с Хлебниковым в той или иной связи упоминаются Пифагор, Платон, Нострадамус, Лейбниц, Спиноза, Дарвин, Чижевский, Пикассо… И уж, конечно, нельзя не заметить связи между двумя поэтами, когда, отталкиваясь от «обратного величия малого», они воспринимали жизнь и своё бытие во вселенских масштабах. Об этой стороне волошинского творчества говорилось немало. А вот хлебниковская миниатюра:
Ночь, полная созвездий,
Какой судьбы, каких известий
Ты широко сияешь, книга
Свободы или ига,
Какой прочесть мне должно жребий
На полночью широком небе?
(1912)
«Трагедию материальной культуры» «неклассический классик» Хлебников воспринимал специфически. Оторвавшись от исконно русских, славянско-мифологических корней, цивилизация обречена на распад, считает он.
В этом отношении позиция Волошина разительно отличалась от хлебниковской. Как уже говорилось, Восток и Запад органично смыкались в его творчестве. В последние годы жизни поэт «и вправду нашёл, выносил, дал своё понимание России, ухватил срединную точку равновесия в гигантских весах Востока и Запада, — справедливо пишет Е. Герцык. — Что Восток и Запад, — может быть, ему чтобы выверить положение России и суть её, нужно было провести звёздные координаты». Постигая историю России в её евразийской целокупности, поэт допускал образование Славии, «славянской южной империи, в которую, вероятно, будут втянуты и балканские государства, и области южной России». Это воображаемое государство будет, согласно предположению Волошина, «тяготеть к Константинополю и проливам и стремиться занять место Византийской империи», то есть стать Третьим Римом. В XIV веке, когда «мужская сила Ислама насильственно овладевает Константинополем, Европа становится женщиной и зачинает, — образно поясняет он свою мысль в письме А. М. Петровой (26 января 1918 года). — Её плод, ещё не выношенный, но созревающий и уже вызывающий родовые схватки, — Россия. Родиться для мировой своей роли она сможет только через проливы».
Сквозь Бычий Ход Мехмет Завоеватель
Проник к её заветным берегам.
И зачала и понесла во чреве
Русь — Третий Рим — слепой и страстный плод, —
Да зачатое в пламени и гневе
Собой восток и запад сопряжёт!
(«Европа», 1918)
Прогнозируя будущее, Волошин опирался на историю, подкреплённую философско-эзотерическими прозрениями. Хлебников же чаще апеллировал к математике. Пожалуй, ничто не привлекало его столь пристального внимания, как число, числовые законы, властвующие над историей и судьбами людей.
Впрочем, Хлебников был не единственным исследователем этой закрытой для непосвящённых области. В последнее время всё чаще упоминают большой труд «О периодичности всемирно-исторического процесса» А. Чижевского, созданный примерно в одно время с «Досками судьбы» Хлебникова, а также теории Д. Святского, непосредственно сопоставившего даты революционных событий с годами наибольшей солнечной активности.
Ряд экспериментов в области «научной» поэзии проделал в начале 1920-х годов В. Брюсов. По-видимому, в этой специфической сфере он искал выход из идейного и творческого кризиса, явно обозначившегося в последние годы жизни. К подобным опытам поэт обращался и раньше («Хвала человеку», «В дни запустений», «Жизнь», «Сын земли» и т. д.), однако в наибольшем объёме «научные» стихи вошли в сборники «Дали» (1922) и «Меа!» («Спеши!», 1924). Очевидно, Брюсова беспокоил вопрос о правомерности его экспериментов с поэзией. В качестве опоры и поддержки поэт ссылался на ломоносовскую традицию, а также на французов, в частности на почитаемого и Волошиным Рене Гиля. Как явствует из авторского предисловия к сборнику «Дали», он был убеждён, что «поэт должен, по возможности, стоять на уровне современного научного знания и вправе мечтать о читателе с таким же миросозерцанием. Было бы несправедливо, если бы поэзия навеки должна была ограничиться, с одной стороны, мотивами „о любви и природе“, с другой — „гражданскими темами“…». Темы позднего Брюсова весьма разнообразны: прошлое и будущее человечества, пути цивилизации «от совета Лемуров до совета в Раппало», Пифагор и Демокрит, радий и протоплазма, каналы Марса и «мириады миров», «мир электрона» и «змеи интеграла», управление земным шаром в пространстве и отправление «зовов… на планеты товарищу». В отличие от собратьев по перу, Брюсова не пугает машинная цивилизация. Напротив, он испытывает восторг по отношению к бурно развивающейся технике:
Взмах! Взлёт! Челнок, снуй! Вал, вертись вкруг!
Привод, вихрь дли! не опоздай!
Чтоб двинуть косность, влить в смерть искру,
Ткать ткань, свет лить, мчать поезда!
(«Машины», 1924)
В целом же «научные» стихи Брюсова лишены поэтической свежести и глубины мысли. По большей части это игра в новизну, в модные понятия и термины.
На фоне брюсовской поэзии, не претендующей на философские обобщения, книга Волошина, создававшаяся примерно в одно время с «Далями», выделяется своей поэтической силой, глубиной и неподдельностью. Не случайно Вересаев (возможно, первый читатель поэмы), упрекая Волошина в натурализме отдельных мест, наличии «шлака» и «непоэтической» лексики («промежности», «кал», «ёмкость испражнений» и прочее), всё же признаётся художнику: «Вы — лучший из нынешних поэтов!»
Волошину как философу уже не хватает того, что связано исключительно с Россией и её историей. Его интересует человечество как таковое и даже нечто ему предшествующее:
Вначале был единый Океан,
Дымившийся на раскалённом ложе.
И в этом жарком лоне завязался
Неразрешимый узел жизни: плоть,
Пронзённая дыханьем и биеньем…
(«Огонь», 1923)
Волошинское представление об эволюции жизни, развивающееся на стыке науки и мифологии, всё же предельно субъективно и поэтично. Волошин упоминает о пращуре человека, «что из охлаждённых вод / Свой рыбий остов выволок на землю», унесший с собой «весь древний Океан», претворившийся в крови его далёких потомков, отмечает появление «чудовищных тварей» и, наконец, человека, невидимого «среди земного стада». Царь природы, по Волошину, не более чем элемент природы, равноценный с любой её частицей. Однако, идя «через природу», он всё же вырывается вперёд «Отставших братьев: / Птиц, зверей и рыб» за счёт природного огня и «пламени мятежей». Понятие мятежа Волошиным универсализируется.
В первой главе («Мятеж») даётся оригинальная концепция становления мироздания путём мятежа. По Волошину, «Мятеж был против Бога, и Бог был мятежом», то есть мятеж против себя самого в доказательство и обеспечение своего бытия. «И всё, что есть, началось чрез мятеж». Ведь, согласно «Диалектике мифа» А. Ф. Лосева, для того чтобы «вывести это всё, надо его чему-то противопоставить… надо его чем-то отрицать…», и так как «никого и ничего нет кроме этого всего, то… всё будет само противополагать себя себе же».
Эволюцию человечества поэт воспринимает как бунт против равновесия вещей, как столкновение контрастных начал. Зло необходимо хотя бы как ступень к добру, достигаемому через бунт против зла. При этом «благоразумный» возвращается в «стадо»; «мятежник» стремится пересоздать мир и себя, но застревает в «капканах равновесья». К тому же он попадает в плен к собственным иллюзиям. В бунте против материи человеку начинает казаться, что он подчинил себе духов природы, однако в действительности он сам попал в подчинение к эльфам и кобольдам, ундинам и саламандрам, освободив «силы / Извечных равновесий вещества». И с этого момента
Бесы пустынь, самумов, ураганов,
Ликуют в вихрях взрывов,
Дремлют в минах
И сотрясают моторы машин…
(«Магия», 1923)
Люди убили моральную, божественную сущность вещей. А в «обезбоженной», «расчисленной» природе начинают действовать силы, которые овладевают их страстями и волей.
Поэтому за каждым новым
Разоблачением природы ждут
Тысячелетья рабства и насилий,
И жизнь нас учит, как слепых щенят,
И тычет носом долго и упорно
В кровавую расползшуюся жижу,
Покамест ненависть врага к врагу
Не сменится взаимным уваженьем…
Равным силе,
Когда-то сдвинутой с устоев человеком…
В основе волошинской историософии (а также космософии) — гармония равновесий, «зеркальный бред взаимоотражений». «Мир осязаемых и стойких равновесий», возникший из «вихрей и противуборств», обречённый на распад, но и сохраняющий надежду на спасение, восстановление изначальной гармонии. Поэтическую формулу этой мысли мы находим в главе «Космос» (1923).
У Волошина эта система равновесий (равновесие противоположностей), включающих в себя череду взаимопритяжений и отталкиваний, проявляется в космогонических фантазиях и утверждается в историософском восприятии современности. В начале главы даётся поэтическая концепция сотворения мира по Каббале (книга Зогар), упоминаются «двойники — небесный и земной», которые
Соприкоснулись влажными ступнями.
Господь дохнул на преисподний лик,
И нижний оборотень стал Адамом.
Адам был миром,
Мир же был Адам.
Не вдаваясь в историю происхождения этих образов, отметим, что здесь налицо единство, превратившееся в двоицу. Если число «1» (монада) традиционно является выражением такой гармонической целостности, как Бог или космос, то «2» (двоица) чаще всего представляет собой две противоположности, антиномию, нередко таящую в себе гибель. Однако у Волошина подразумевается равновесие противоположностей, единство противопоставления, взаимодополняющих частей монады.
В главе «Мятеж» показано из самого себя рождающееся противоречие (противотворство). Это равновесие-противоречие и является источником существования мира, его способом и формой.
Бог был окружностью,
А центром Дьявол,
Распяленный в глубинах вещества.
Бог-окружность… Волошин, по сути дела, опираясь на древних философов, воссоздаёт здесь картину античного космоса. Ведь ещё Ксенофан утверждал, что существо божье шарообразно. Парменид считал небо самым точным из встречающихся шаров, отмечая, что наподобие Земли и Вселенной Бог неподвижен, конечен и имеет форму шара. Для Волошина же эта шарообразность Бога или небесных сфер не так уж важна. Для него главное — двоица, которой придаётся сакральное, «космизирующее» значение, двоица как материальный и духовный принцип миростроительства, двоица как равновесие. Бог — Дьявол, небесный и земной двойники, соприкоснувшиеся ступнями, два демона, строителя-держателя вселенной, две дуги собора, упавшие друг на друга и тем самым образовавшие несгибаемый свод. И, наконец, «смерть и рожденье — вся нить бытия» (в другом месте: «…смерть и воскресенье — творящий ритм мятежного огня»).
Впервые поэтический взгляд Волошина на мироздание как на целокупность противоположных и взаимоуравновешивающих сфер (сил) выражен в философском произведении «Два демона» (1911,1915). Это два сонета, объединённые по принципу двуединства. Первый демон олицетворяет тлетворность цивилизации, убийственный дух рационалистического начала. Рационалистическое начало в современном мире, считает Волошин, легко подменяется одурманиванием, «наркозом» учений, что ведёт к видимости политических свобод, ложной гармонии и «общедоступному» счастью. Этот демон, «кинувший» «шарики планет / В огромную рулетку Зодиака», не только властелин мира, но и его создатель.
Если первый демон, «князь земли», в чём-то сродни гётевскому Мефистофелю, то его антипод — мильтоновский падший ангел, богоборец, олицетворяющий творческое начало жизни. Не этого ли прекрасного демона, Сатану в непривычном облике («Вот Дьявол — кроткий, странный, грустный…»), усмотрел поэт в рисунке О. Редона (вспомним ещё раз стихотворение «Письмо»)… «Никто до Редона не видел Дьявола с таким лицом — этого Дьявола чувства, так не похожего на обычного Дьявола разума», — отмечал поэт в статье, посвящённой французскому художнику. Ему (этому Дьяволу) не суждено сыграть «в огромную рулетку Зодиака». Комментируя рисунок Редона из цикла иллюстраций к драме Г. Флобера «Искушение святого Антония», Волошин пишет: «Дьявол уносит Антония за пределы мироздания. Миры в непрерывном течении проходят под их ногами. „Где же цель?“ — „Нет цели…“ — отвечает дьявол. И в бледном лице с узким лбом и страдающими глазами бесконечная грусть. „Если бы я это создал, то была бы цель“…»
Этот демон не претендует на лавры победителя. Он — побеждённый, но его внешнее поражение (как в случае с Прометеем) оборачивается победой духа. Отсюда — цепь парадоксов: «Я свят грехом. Я смертью жив. В темнице / Свободен я. Бессилием могуч…» Свободным в темнице, могучим при внешнем бессилии может быть поэт, высшее проявление созидателя-творца, если понимать под созиданием не столько нечто материальное, сколько духовное строительство. «Во мне звучит всех духов лития» — именно поэт, художник, концентрируя в себе «все трепеты и все сиянья жизни», духовный опыт человечества, сплавляет их «в одной симфонии». Это уже не «стройный бред» рационалистической цивилизации, порождающий лишь «призрак истин», а глубинно-интуитивное постижение мира «шестым чувством», присущим лишь художнику. Однако второй демон, хоть он и ближе автору, не отстраняет первого. Это две стороны единого целого.
Исходя из тех же принципов, оценивает Волошин и историю — одновременность движения по времени вперёд и назад. Но такое движение, в сущности, оказывается отсутствием движения. Так, ничего не меняется вследствие взаимодействия классов, правящего и уголовного, которые во время революции, по мнению Волошина, только меняются местами. Ничего не меняется и тогда, когда современность неожиданно «наплывает» на, казалось бы, ушедшие эпохи, которые вдруг «выныривают» из бездны времён. В поэзии Волошина мы соприкасаемся с мифологическим временем.
В мифологическом времени отсутствуют начало и конец; к нему неприменимо понятие линейной протяжённости. В первом же его программном четверостишии, задающем тон всему творчеству («И мир как море пред зарёю…»), поэта «поглощает» время без границ, без начала и конца — он как бы «вписан» в вечность. В стихотворном «Письме» поэт говорит о своём мироощущении такими словами: «…Но мне понятна беспредельность, / Я в мире знаю только цельность…» Волошин уподобляет поэтов «мудрым и бессмертным» кентаврам, перешагнувшим через время, в которых заключены «бег планет» и «мысль Земли».
В стихотворениях из цикла «Когда время останавливается» этот ракурс миров
И день и ночв шумит угрюмо,
И день и ночь на берегу
Я бесконечность стерегу
Средь свиста, грохота и шума.
Когда ж зеркальность тишины
Сулит обманную беспечность,
Сквозит двойная бесконечность
Из отражённой глубины.
Опять «двойная бесконечность», «простирающаяся» в обе стороны. Эта двойственность мироощущения, осознание себя в мгновении и вечности, создаёт силовое поле стихов:
Быть заключённым в темнице мгновенья,
Мчаться в потоке струящихся дней…
Сам временной поток осознаётся в мифологии как нечто цельное, своего рода «ядро» («Я в мире знаю только цельность»), в котором неразделимы причины и следствия. Всё, что совершается в этом «ядре», само для себя и причина, и цель. Именно так смотрит поэт на историю России. Петровская эпоха — это и следствие каких-то процессов, и причина того, что произошло в XX веке. Большевистская эпоха — это следствие, но она же содержит в себе и цель (вот она, заданность) — возрождение России, обретение «поруганного храма», ибо это неизбежно. Да, приход большевиков к власти ознаменовал царство антихриста… Но говорит же Господь в главе «Левиафан»:
Сих косных тел алкание и злоба
Лишь первый шаг к пожарищам любви.
Мифологическое время, как считал А. Ф. Лосев, оборачивается какой-то одной и неподвижной точкой, или вечностью, а всё, что совершается в пределах этой вечности, превращается в нечто неподвижное, то есть в нечто такое, что постоянно возвращается к самому себе, вечно вращается в себе самом. Речь идёт о нераздельной слитности времени и вечности. Время — развёрнутая вечность, а вечность — свёрнутое в одно мгновение время, что находит выражение в волошинской формуле: «Возлюби просторы мгновенья…»
В книге «Путями Каина» отразилось именно такое видение мира и истории поэтом. «Мир познанный есть искаженье мира», — убеждён Волошин. Это же относится и к истории, если воспринимать её традиционно, «линейно».
Мы ищем лишь удобства вычисленья,
А в сущности не знаем ничего…
На вызвездившем небе мы не можем
Различить глазом «завтра» от «вчера»…
Струи времён текут неравномерно:
Пространство — лишь многообразье форм.
(«Космос»)
Нет движения истории. Есть лишь вереница снов. Нет движения времени. Есть лишь «вечность с жгучей пустотою / Неразгаданных чудес…». Почему — чудес? Да потому что мифологическое время, как объяснял Лосев, «вечно вращается в себе самом, находясь целиком в каждой своей точке и тем самым превращая её в фантастическое событие» («Античная философия истории»). Нет жизни в привычно-бытовом понимании этого слова:
Явленья жизни — беглый эпизод
Между двумя безмерностями смерти.
Сознанье — вспышка молнии в ночи,
Черта аэролита в атмосфере…
Среди философов Серебряного века Волошину, пожалуй, ближе других Н. Бердяев, который в своей работе «Смысл истории» выдвигает такой тезис: «В известном смысле историческая память объявляет жесточайшую борьбу вечности с временем, и философия истории всегда свидетельствует о величайших победах вечности над временем и тлением». Речь идёт о преодолении прагматического и фактографического времени.
Из античных философов нельзя не вспомнить в этой связи о Платоне. Думается, что к творчеству Волошина применим известный афоризм древнего мыслителя: время есть подвижный образ вечности, а вечность есть неподвижный образ времени. Эта мифологическая слитность времени и вечности выражена Волошиным уже в стихотворениях из цикла «Когда время останавливается». Вот начало первого из них:
Тесен мой мир. Он замкнулся в кольцо.
Вечность лишь изредка блещет зарницами.
Время порывисто дует в лицо.
Годы несутся огромными птицами.
В начале четвёртого стихотворения эта мысль продолжена:
По ночам, когда в тумане
Звёзды в небе время ткут,
Я ловлю разрывы ткани
В вечном кружеве минут…
Но для Волошина весьма близко и платоновское учение о познании как припоминании. Ведь всякое проникновение в эпоху тогда лишь плодотворно, когда оно есть внутреннее переживание, что перекликается с утверждением Лейбница — человек есть «зеркало вселенной», с рассуждениями Бердяева о том, что человек заключает в себе великий мир, который может быть в данный момент ещё закрытым, но по мере расширения и просветления сознания внутренне раскрывается: «Этот процесс внутреннего просветления и… углубления должен привести к тому, что… человек прорвётся внутрь, в глубь времён, потому что идти в глубь времён значит идти в глубь самого себя» («Смысл истории»), У Волошина в стихотворении «Подмастерье» читаем:
Так, высвобождаясь
От власти малого, беспамятного «я»,
Увидишь ты, что все явленья —
Знаки,
По которым ты вспоминаешь самого себя.
И волокно за волокном сбираешь
Ткань духа своего, разодранного миром.
Весь поэтический строй Волошина воспринимается, как уже говорилось, сквозь призму равновесия противоположностей. Нарушение этого принципа ведёт к катастрофе, что и подтвердили недавние события в России. Исключительной, нерушимой целостностью представляется художнику в это страшное время лишь «Меч молитв», означающий крепость целительного слова. Волошин трактует меч не как орудие смерти, а как символ справедливости, прообраз креста:
Когда же в мир пришли иные силы
И вновь преобразили человека, —
Меч не погиб, но расщепился в дух…
(«Меч», 1922)
Утверждая свой «единственный мыслимый идеал» — «Град Божий», «находящийся… за гранью времён», — поэт даёт повод задуматься о постоянном, как говорил Бердяев, «противодействии вечного во времени, постоянном усилии вечных начал свершить победу вечности».
В своем представлении об истории Волошин в значительной степени ориентируется на теорию О. Шпенглера («Закат Европы»), основная мысль которой — безысходное круговращение истории и неминуемая гибель культуры, перерождающейся в механически потребительскую цивилизацию, где господствуют потребительство и голый техницизм. В письме к М. Шагинян поэт заметил, что для него «очень много разверзла» шпенглеровская «идея судьбы-времени». Волошин считал, что в мире идёт непрерывный распад материи, обрекающий его на полное исчезновение, и высказывает гениальное предположение, что история будущего пойдёт под знаком «интраатомной» энергии. Спасти человечество и этот «гибнущий мир распадающегося вещества» может только встречный «зиждительный поток творящей энергии», горение человеческой любви.
Волошина на протяжении всей жизни интересовали соотношение духовной и технической сторон прогресса, пути нравственного возрождения человека, его спасения от самого себя (то есть тёмного, узкоэгоистического начала). Эти размышления отражены в поэме «Таноб» (1926), которая начинается со слов Иоанна Лествичника: «Я посетил взыскуемый Таноб, / Я видел сих невинных осужденцев. / Никем не мучимы себя же мучат сами…», выполняющих роль своеобразного эпиграфа. Преподобный Иоанн Лествичник и его основной труд «Лествица Райская» не случайно определяют зачин поэмы. В течение сорока лет этот религиозный подвижник прожил отшельником у подошвы горы Синая (Волошина, как известно, называли «киммерийским отшельником»), какое-то время был настоятелем Синайского монастыря, после чего опять уединился и предался размышлениям (как и Волошин, «сей вещественный достиг невещественных сил и совокупился с ними»). Его книга «Лествица Райская» в узком смысле слова представляет собой руководство к монашеской жизни; в широком значении это обращение к человечеству с нравственными проповедями, что, по сути дела, уже на новом уровне делает и Волошин, «имея пользу и лучшее наставление к достижению невидимого». Иоанн ведёт беседы о беспристрастии, о странничестве, о сновидениях, о разбойнике покаявшемся, о памяти, о смерти, о безгневии и кротости, о нестяжании, о воскресении души, о союзе трёх добродетелей — веры, надежды и любви… Все эти «вечные» вопросы были краеугольными и в религиозно-философских исканиях Волошина… Таким образом, «лествица добродетелей» преподобного является, в понимании поэта, спасительной для заблудившегося в дебрях ложных истин человечества. Как «синайский», так и «киммерийский» отшельники явили миру «скрижали, в которых наружно содержится руководство деятельное, а внутренне созерцательное» (или, по Волошину, «Слово, / В себе несущее / Всю полноту сознанья, воли, чувства», то есть истина, которая «взовьётся как огонь / Со дна души, разъятой вихрем взрыва»).
Однако, в отличие от религиозного подвижника VI века, поэт начала XX столетия не столько наставляет «паству», сколько анализирует историю человечества, ставит диагноз его нынешнего состояния. Беда человека в том, что, подобрав ключи к «запретным тайнам» природы, он «преобразил весь мир, но не себя». В отличие от древних, современный европеец не учитывает «моральной сущности» сил природы. Любая созданная им машина на почве человеческой жадности превращается в демона и порабощает своего создателя («Машина», 1922). Подразумевается каждый, «продешевивший дух / За радости комфорта и мещанства». Где же выход? В главе «Магия» читаем:
Ступени каждой в области познанья
Ответствует такая же ступень
Самоотказа:
Воля вещества
Должна уравновеситься любовью.
И магия:
Искусство подчинять
Духовной воле косную природу.
Впрочем:
Но люди неразумны. Потому
Законы эти вписаны не в книгах,
А выкованы в дулах и клинках,
В орудьях истребленья и машинах.
Человеческая мораль, отмечает Волошин вслед за М. Метерлинком и П. де Сен-Виктором, всегда считалась только с силой. Выражением её был сначала кулак, потом меч и, на-коней, порох, с изобретением которого человечество устремилось к пропасти. Оно обречено стать «желудочным соком» в пищеварении «нескольких осьминогов» промышленности, если не встанет на путь самоограничения своих эгоистических интересов.
М. Волошин скептически относится к государству как таковому, государству, возникшему «Из совокупности / Избытков скоростей, / Машин и жадности». Это «Огромный бронированный желудок, / В котором люди выполняют роль / Пищеварительных бактерий». Его задача: производство и воспитание «Обеззараженных, / Кастрированных граждан». Правители и политики, которые в своих личных целях не брезгуют «кровью, / Торговлей трупами / И скупкой нечистот», разлагают общество, плодят потенциальных убийц и мошенников. Отсюда: «Перед преступником / Виновно государство». Да и как иначе, если
Закона нет — есть только принужденье.
Все преступленья создаёт закон.
Преступны те, которым в стаде тесно:
Судить не их, наказывать не вам…
(«Бунтовщик», 1923)
Позиция Волошина порождена особенностями революционного времени, когда правящий и уголовный классы в России наглядно продемонстрировали миру тенденцию к взаимозаменяемости. Возможно, сказался здесь и прошлый интерес поэта к теории «мистического анархизма» Г. Чулкова. Однако Волошин никогда не принимал его основной идеи: безвластие моральное и религиозное. Да и рассуждения «о путях последнего освобождения, которое заключает в себе последнее утверждение личности в начале абсолютном» поэт, вероятно, взял бы под сомнение. Он был солидарен с Достоевским (как и со Шпенглером) в оценке западного мира, где отсутствует «братское начало», зато начало личное, «обособляющееся», гипертрофировано. Волошин идёт ещё дальше: «Нет братства в человечестве иного, / Как братство Каина…»
По мысли Достоевского, основной миссией русского народа было и есть сохранение божественного образа Христа «во всей чистоте», с тем чтобы в надлежащее время явить его миру, «потерявшему пути свои». Именно в этом, как считает и Волошин, сущность и предназначение
Славянством затаённого огня:
В нём брезжит солнце завтрашнего дня
И крест его — всемирное служенье.
(«Европа», 1918)
Пока же машинизированное человечество само заключило себя в темницу, напоминающую Таноб в древней Фиваиде, место для кающихся грешников, утративших собственные души. Христианство в истории человечества обернулось, по мысли Волошина, «горючим ядом», отравившим душу и обрекшим её на «борьбу и муку». Это было первое насилие над природой, а потому «Природа мстила, тело издевалось, — / Могучая заклёпанная хоть / Искала выхода…». Но тщетно — «весь мир казался трупом». Христианство, писал Волошин матери ещё 28 января 1914 года, «выявило в человеческих душах всю смуту противоречий и „преступлений“. Поэтому историческое христианство с его войнами, инквизицией, нетерпимостью — истинно выражает то, что… по божественному замыслу и должно быть…». Что же именно? На смену «последней безысходности» приходит мечта о материи, преодолевшей «разложенье / Греха и смерти в недрах бытия». «Это естественная реакция активной морали, заменившей пассивную, запретительную».
Однако «мечты и бред, рождённые темницей» христианского аскетизма и догматизма, находят выход в безграничном и безнравственном разгуле науки. Пиршество разума приводит к оскоплению природы и самого мироздания:
Теперь реальным стало только то,
Что было можно взвесить и измерить,
Коснуться пястью, выразить числом.
И новая вселенная возникла
Под пальцами апостола Фомы.
Он сам ощупал звёзды, взвесил землю,
Распялил луч в трёхгранности стекла…
Он малый атом ногтем расщепил
И стрелы солнца взвесил на ладони…
(«Таноб»)
Казалось бы, он одержал победу: «На миллионы световых годов / Раздвинута темница мирозданья…» Но эта победа — пиррова, ибо «Хрустальный свод расколот на куски / И небеса проветрены от Бога». Одна инквизиция заступила на место другой. Если раньше «Доминиканцы жгли еретиков, / А университеты жгли колдуний», то теперь насилию подвергается природа как таковая:
В лабораториях и тайниках
Её пытал, допрашивал с пристрастьем,
Читал в мозгу со скальпелем в руке,
На реактивы пробовал дыханье…
Разъятый труп кусками рос и цвёл.
Природа, одурелая от пыток,
Под микроскопом выдала свои
От века сокровеннейшие тайны.
Таким образом, человечество, по мысли Волошина, прошло три глобальные стадии: «Отстоянная радость бытия / И полнота языческого мира» сменилась любовным «жалом» «истребляющего», «покоряющего» христианства, горючая смесь которого взорвалась и «разметала» кладку, «решётки и затворы». Однако «исконная форма мятежа» привела в новую темницу, в которой охолащивается «не тело, а мечта», мозги же «дезинфицируются» от веры. На третьей стадии — те же «запреты и табу», только не на религиозные ереси, а «на всё, что не сводилось к механизму: / На откровенья, таинство, экстаз…». Искушение знанием, не подкреплённым моральным отношением к природе, привело к тому, что «Библейский змий поймал себя за хвост», а человечество оказалось в новой и вечной темнице, в том Танобе, с описания которого и начинается поэма.
Заглавный образ приобретает несколько значений — прямых и метафорических: «глухое подполье», в котором «монах гноил бунтующую плоть»; Таноб для кающихся грешников в древней Фиваиде (причём покаяние — важнейшее условие на пути к очищению, поэтому Таноб — «взыскуемый»); Таноб мироздания, расширение которого не более чем иллюзия; Таноб искажённых, бездушных формул («казематы» из вечных истин); и, наконец, «Мы сами свой Таноб» — человечество, создающее и воспринимающее себя и свой мир не по Божьим лекалам, а согласно собственным желаниям и заблуждениям. Отсюда — окончательный диагноз, поставленный поэтом:
И вот мы на пороге
Клубящейся неимоверной ночи
И видим облики чудовищных теней,
Не названных, не мыслимых, которым
Поручено грядущее земли.
(«Порох», 1922)
«Чудовищные тени» — это, если говорить современным языком, предвестия экологической (человек «Запачкал небо угольною сажей, / Луч солнца — копотью…») и ядерной катастроф:
Вы взвесили и расщепили атом.
Вы в недра зла заклинили себя,
И ныне вы заложены, как мина,
Заряженная, в недрах вещества!
(«Бунтовщик»)
Не случайно книгу Волошина сопоставляют с научными теориями В. И. Вернадского. «Человечество выживет, считал учёный, только в том случае, если мир биологический, биосфера, сменится миром разумным, ноосферой, если человек, неотделимый от природы, но постоянно её насилующий, вернётся к ней, сольётся с ней на базе высшего Разума. Разум же, примирив человека с окружающей средой, должен объединить человека с человеком, принести человечеству заветную свободу» (Розенталь Э. Знаки и возглавья). При этом следование велениям высшего Разума не противоречит стремлению к обретению Бога. В данном случае Волошин не опирается на канонические заповеди:
Единственная заповедь: «ГОРИ!»
Твой Бог в тебе,
И не ищи другого
Ни в небесах, ни на земле…
(«Бунтовщик»)
Сходные мысли высказывает и преподобный Иоанн Лествичник: «Душа, соединившаяся с Богом, для научения своего не имеет нужды в слове других; ибо блаженная сия в себе самой носит присносущное Слово, Которое есть тайно-водитель, наставник и просвещение». И в другом месте: «Кто сподобился быть в сем устроении, тот ещё во плоти имеет живущего в себе Самого Бога, Который руководит его во всех словах, делах и помышлениях».
Наступает следующая стадия мятежа, считает поэт. Мятежа против затверделых истин и «кольцевых нагромождений… систем». Сжатый этими «обожжёнными кирпичами» косных идей дух становится «междупланетной ракетой», черпающей топливо в самой себе («взрываясь из себя»), устремляющейся «Сквозь зыбкие обманы небесных обликов», «Созвездий правящих и волящих планет» к обретению внутреннего Грааля, к «идеалу Града Божия» или «Горнего Иерусалима», как обозначил эту цель синайский старец, то есть — совершенного мира души, которой ты «зришь Христа» и «злостраждешь с Ним».
Себя самого поэт видит в образе библейского Иова, государство сравнивает с враждебным Богу чудовищным Левиафаном («Левиафан»), лишённым сознания и ощущающим лишь голод (здесь чувствуется влияние Т. Гоббса, также уподобляющего государство Левиафану). Стать ли человеку «слизью жил» этого и ему подобных тварей или одолеть чудовище — зависит от него самого. Последнее произойдёт, лишь «когда любовь растопит мир земной», — говорит Господь Иову.
Только «личное моральное осознание» всего происходящего может противостоять войне и распаду, считает поэт.
Ведь каждый добровольно принял на себя свою жизнь и на Страшном суде даст свой личный ответ, «который будет иметь в себе значение космическое». Не случайно апокалиптическим образом суда, видением «внутри себя» «солнца в зверином круге» («Суд») завершается книга М. Волошина «Путями Каина».
Всё, с чем жил, к чему ни прикасался:
Вещи, книги, сручья и одежды,
И земля, где он ступал, и воды,
Из земли текущие, и воздух, —
Было всё пронизано любовью
Серафимовой до самых недр.
Всё осталось родником целящей,
Очищающей и чудотворной силы.
«Тутошний я… тутошний…» Из вьюги,
Из лесов, из родников, из ветра
Шепчет старческий любовный голос.
Серафим и мёртвый не покинул
Этих мест, проплавленных молитвой,
И, великое имея дерзновенье
Перед Господом, заступником остался
За святую Русь, за грешную Россию.
20 февраля 1924 года Максимилиан Александрович и Мария Степановна уезжают из Коктебеля. Им предстоит посетить Москву и Петроград, где Волошин не был пять лет; ему любопытно вновь ощутить круговерть столичной жизни. За домом согласились приглядывать И. В. Зелинский и А. А. Вьюгова, вдова профессора-статистика, получившая прозвище «старушка Божий дар».
В Москве коктебельцы остановились у своего летнего гостя, начальника Ярославского вокзала, инженера Ф. П. Кравца, квартира которого находилась в вокзальном здании. Приезжих сразу же ошеломили московская толчея, шум, соединение красоты и уродства. Сияют купола храмов, и осыпается штукатурка с домов, в которых шестой год не работает центральное отопление. Сама Москва, как показалось Марии Степановне, «стала грязней, тесней и безобразней, благодаря непристойным вывескам и грязным тряпкам. Большинство людей низведено до степени угловых жильцов и потому всё время попадаешь в какие-то человеческие гноища. Одеты и лоснятся израильтяне, а наш брат тускл и потёрт».
Да, Москва — средоточие контрастов. Разруха и роскошь;
Болотный рынок и товарная биржа, описание которой попало даже на страницы журнала «Огонёк» (апрель 1923): «С раннего утра, ещё задолго до открытия фондового отдела, у дверей биржи — Ильинка, 6 — стоит разношёрстная толпа. Котелки и бобровые шапки. Демисезонки и енотовые шубы. Воздух разрывается голосами, то крикливыми, резко взвинченными, то уверенными, бархатно-густыми… Гудит товарная биржа, этот человеческий улей, который ворочает огромными количествами товаров, перебрасывает их из одного конца республики в другой. Лица напряжённые. Каждая минута сосчитана. Опоздал, не согласился, и, смотри, через десять минут товар уже продан и биржевой маклер уже выписывает квитанцию»…
Однако Макс, разумеется, приехал сюда не за этим. Надо показаться врачам, встретиться с друзьями, напомнить о себе поэтическими вечерами. Он обращается к своему старому знакомому, профессору Д. Д. Плетнёву, который устраивает для него консультации у лучших специалистов. Выясняется, что поэту требуется соответствующий режим с соблюдением строгой диеты, но как осуществить всё это в бурлящей и кипящей жизнью Москве… Лечение придётся отложить до возвращения в Коктебель. Затем началась бесконечная череда встреч, «стихонеистовства», знакомств и бесед. Макс, вспоминает Тамара Шмелёва, и тогда, уже не молодой и не очень здоровый, как магнит притягивал к себе всех. Завязывались и отношения деловые, которые, впрочем, Макс не всегда продолжал. Однажды в редакции сборника «Недра» ему «предложили написать краеведческую статью о Восточном Крыме и Карадаге, обещая хороший гонорар. Денег у него, как обычно, было очень мало, но, узнав, как и о чём надо писать, он отказался». Очевидно, и здесь не обходилось без идеологии…
Молодой поэт Лев Горнунг пригласил Волошина выступить на заседании поэтического кружка «Кифара». От этого предложения поэт, разумеется, отказаться не мог. Но предварительно он побывал у Льва Владимировича дома и дал небольшой концерт, так сказать, в кругу друзей. Волошин, вспоминает Горнунг, «читал стихи густым низким голосом, мерно охватывая каждую строчку и делая ударение на последних словах. Это были стихи „Благословенье“, „Космос“, „Петербургский период русской истории“ (поэма „Россия“. — С. П.) и некоторые стихи из цикла о терроре». Читал он стихи и на квартире сотрудника издательства «Недра», поэта П. Н. Зайцева, где среди приглашённых был Борис Пастернак. На этот раз звучали «Благословенье», «Дикое поле», «На вокзале», «Северовосток», «Петербург», «Космос» и кое-что из книги «Путями Каина». Выступил поэт также в Доме учёных на Пречистенке и в Союзе писателей.
Наконец, 26 марта состоялось заседание «Кифары» на квартире артистки Н. Н. Соколовой в Большом Козихинском переулке. Здесь Волошин делился своими воспоминания об Иннокентии Анненском. Рассказывал о своей знаменитой ссоре с Николаем Гумилёвым в мастерской художника Головина, после чего до полуночи читал свои стихи.
Позже, уже перед отъездом Волошина в Северную столицу, к нему зашли попрощаться Л. В. Горнунг и литератор А. А. Альвинг, разговорились о женской поэзии. Волошин заметил, «что у нас сейчас три лучших поэтессы — Ахматова, Парнок и Цветаева. Каждая хороша по-своему. У Парнок очень уж развита внутренняя сторона стиха и закончена форма каждого стихотворения. Можно взять каждое, как вещь, в руки. Ахматова умеет так сказать, как никто не скажет. Цветаева же берёт своей, правда грубой, неожиданностью, бесшабашностью, так что кажется: в данную минуту ничего другого не надо». Как вспоминает Горнунг, говорили они и о других поэтах.
На вопрос, как Волошин относится к Мандельштаму, Максимилиан Александрович ответил, «что очень положительно как к поэту, но избегает встречаться с Осипом Эмильевичем… Мандельштам создал школу не только в поэзии, но и в образе жизни». Рассказывал Максимилиан Александрович о своём визите к Брюсову, который «нежно укорял, что Волошин пришёл к нему не сразу, позвал племянника, мальчика лет семи: „Коля, поди сюда!“ И, когда тот пришёл, сказал о Волошине: ’’Посмотри ему в лицо подольше. Запомни, ты видишь сегодня поэта Максимилиана Волошина». Затем его выставил.
Брюсов просил Волошина прочесть новые стихи… Затем показал, что он сам пишет, и прочёл несколько эротических стихотворений, совершенно далёких от современности. Перед этим просил выйти из комнаты жену… сказав, что будет читать Волошину очень неприличное стихотворение. Та махнула рукой и сказала: «Ах, надоело мне всё это, как будто уж я не привыкла к этому», — и вышла… Волошин считает, что поэзия Брюсова держалась на конкуренции. «Пока он ставил выше себя Бальмонта и Белого и пока силился их обогнать — он писал хорошо. Когда же он обогнал их, то сразу связался с какими-то плохими поэтами и писать стал хуже».
В Москве круг общения Волошина, как всегда, был неизмеримо широк. Е. А. Бальмонт, А. Белый, Д. Благой, Л. Гроссман, К. Кандауров и Ю. Оболенская, М. Кудашева, В. Мейерхольд, С. Парнок, А. Пешковский, сёстры Эфрон… Разве всех перечислишь?.. Среди новых знакомых поэта можно назвать искусствоведа А. Г. Габричевского, с которым Макс проведёт немало весёлых минут в Коктебеле, реставратора А. И. Анисимова, редактора «Красной нови» А. К. Воронского, президента Государственной академии художественных наук П. С. Когана, художника В. А. Фаворского, философа Г. Г. Шпета… 19 марта Волошин был принят Луначарским в Комиссариате просвещения на Сретенке. Можно предположить, что речь шла о создании художественной колонии на базе Дома Поэта в Коктебеле, поскольку 31 марта нарком выписал — от имени Наркомпроса РСФСР — бумагу, в которой «учреждение» Волошина одобрялось и предписывалось оказывать ему всяческое содействие… Да, много произошло в ту весну интересных встреч, но одна из них стоит особняком.
2 апреля Волошин был в Кремле и читал свои стихи Льву Борисовичу Каменеву и его супруге Ольге Давидовне. Организовал это мероприятие, по всей видимости, П. С. Коган, который вместе с Л. Л. Сабанеевым (председателем Совета музыкально-научного института) и препроводил поэта к партийному зубру. Вспоминает Сабанеев: «Я, Пётр Семёнович Коган и бородатый огромный Максимилиан Волошин… шествуем втроём в Кремль на свидание с Каменевым. Волошин хочет прочесть Каменеву свои „контрреволюционные“ стихи и получить от него разрешение на их опубликование „на правах рукописи“. Я и Коган изображали в этом шествии Государственную Академию художественных наук, поддерживающую это ходатайство. Проходили все этапы, неминуемые для посетителей Кремля. Мрачные стражи деловито накатывают на штыки наши пропуска. Хозяева встречают нас очень радушно… Волошин мешковато представляется Каменеву и сразу приступает к чтению „контрреволюционных“ стихов…
Каменев внимательно слушал… Громовым, пророческим голосом… читает Волошин, напоминая пророка Илью, обличающего жрецов… Ольга Давидовна нервно играет лорнеткой… Коган и я с нетерпением ждём, чем это кончится. Волошин кончил. Впечатление оказалось превосходным. Лев Борисович — большой любитель поэзии и знаток литературы. Он хвалит, с аллюром заправского литературного критика, разные детали стиха и выражений. О контрреволюционном содержании ни слова, как будто его и вовсе нет. И потом идёт к письменному столу и пишет в Госиздат записку о том же, всецело поддерживая просьбу Волошина об издании стихов „на правах рукописи“.
Волошин счастлив и, распростившись, уходит. Я и Коган остаёмся. Лев Борисович подходит к телефону, вызывает Госиздат и, не стесняясь нашим присутствием: „К вам придёт Волошин с моей запиской. Не придавайте этой записке никакого значения…“» Что ж, представителям партийного руководства страны не привыкать было ходить «путями Каина». В архиве поэта сохранился черновик его письма Каменеву (ноябрь 1924), в котором он просит «оказать содействие делу Художественной колонии», организованной им в Коктебеле. Думается, нет смысла продолжать эту тему…
Гораздо приятнее отметить, что в те же дни, в марте 1924 года, в жизни Волошина или, как сказал бы он сам, в «истории его души» произошло важное событие. Известный искусствовед и реставратор, знаток русской иконописи Александр Иванович Анисимов пригласил его в Исторический музей посмотреть недавно приобретённые иконы. Среди них была отреставрированная икона Владимирской Богоматери. Поэту дали кресло, и он в одиночестве просидел перед Ликом несколько часов. На следующий день свидание с Богоматерью повторилось. Потом ещё несколько раз. Позже, в марте 1929 года, родится стихотворение «Владимирская Богоматерь»:
…Не погром ли ведая Батыев —
Степь в огне и разоренье сёл —
Ты, покинув обречённый Киев,
Унесла великокняжий стол?
И ушла с Андреем в Боголюбов,
В прель и глушь Владимирских лесов,
В тесный мир сухих сосновых срубов,
Под намёт шатровых куполов.
И когда Хромец Железный[14] предал
Окский край мечу и разорил,
Кто в Москву ему прохода не дал
И на Русь дороги заступил?..
Икона Владимирской Богоматери «явила» Волошину «Светлый Лик Премудрости-Софии», воспринимаемый им как «Лик самой России» (по Соловьёву, «ангел-хранитель земли»). Для поэта это шедевр иконописи, высшее «из всех высоких откровений, явленных искусством». И в то же время это спасительный образ, «над Русью вознесённый», хранящий её в трагические моменты истории, указующий «выход потаённый» сквозь «тьму веков», «в часы народных бед»:
И Владимирская Богоматерь
Русь вела сквозь мерзость, кровь и срам,
На порогах киевских ладьям
Указуя правильный фарватер…
И, наконец, это «слепительное чудо» Истины, откровение «вечной красоты» христианства, даровавшее поэту «власть дерзать и мочь».
6 апреля наши путешественники прибывают в Петроград и сразу же попадают в водоворот встреч и впечатлений. А. Бенуа, Ю. Галабутский, А. Головин, Н. Евреинов, Е. Васильева (Дмитриева), Кедровы, Ю. Львова, Е. Лансере, Ф. Сологуб и А. Чеботаревская, Г. Чулков, М. Шагинян… Происходит знакомство с А. Ахматовой и Э. Голлербахом, который записал свои впечатления от встречи с художником: «Впервые я увидел Волошина… на площади Островского, около Публичной библиотеки. Он шёл под руку с женой по направлению к Невскому, по-видимому, только что побывав у Е. С. Кругликовой, живущей против Александринского театра. Я узнал его по фотографиям и по рисунку Головина. Надо ли говорить, как необычайна была его фигура на фоне Петербурга? В ней не было, прежде всего, ничего „петербургского“: ни в поступи, чуть грузной, но твёрдой и решительной, ни в многоволосье низкопосаженной, короткошеей головы, ни в костюме (короткие штаны и чулки)». Эриху Фёдоровичу как искусствоведу, привыкшему иметь дело с художественными формами, запомнился прежде всего склад волошинской фигуры — «очень дородной, плечистой, животастой, с короткими руками и ногами», голова — «с пепельной шапкой кудрей, с округлой рыжевато-седой бородой, торчащей почти горизонтально над мощной, широкой грудью. Волошина не раз сравнивали то с Зевсом-олимпийцем, то с русским кучером-лихачом, то с протопопом; сравнивали с Гераклом и со львом. Всё это, в общем, верно, но в частности — не точно. Этот „Геракл“ не мог бы разорвать пасть льву, потому что лев был в нём самом… Этот кучер не сел бы на облучок тройки, потому что помнил триумфальное величие античных колесниц. Он не принял бы сан иерея, потому что знавал когда-то глубокие тайны элевсинских мистерий.
Казалось бы, из этой фигуры легко сделать гротеск — так много в ней отступления от „нормы“, — но неизвестно, кого же, собственно, пародировать — московского купчика или евангельского апостола? К тому же чувство достоинства, спокойствие, сановитость, которыми дышала эта фигура, отбивали охоту к шаржу».
Волошины поселились в самом центре, на Невском, у старого знакомого Марии Степановны, Карла Ивановича Бернгардта, бывшего владельца музыкального магазина. Ночевать пришлось в комнате, где стояло несколько красивых чёрных роялей. По свидетельству жены, поэт «долго не ложился спать, сидел в кресле перед окном, смотрел на Невский.
— Макс, отчего ты не ложишься? Ведь поздно.
— Я не могу, Маруся, здесь лечь спать. Я не могу раздеваться при них… Ты представь себе: они стояли в концертных залах, за ними сидели прекрасно одетые люди, они так прекрасно и благородно звучали. Посмотри, какие они строгие и нарядные».
Так и просидел всю ночь, так и не лёг. А хозяевам на другой день пришлось подыскивать для Волошина другую комнату. По мнению Марии Степановны, это «не было оригинальничаньем. Макс был слишком искренний и большой, чтобы дёшево оригинальничать. Живое и моральное отношение к вещам кажется многим удивительным… Макс с его огромными моральными требованиями к себе, с его удивительно ясным сознанием поэта, ощущал мир в многообразии различных форм сознания».
Именно здесь, в этой «музыкальной» квартире, и произошло знакомство Волошина с Голлербахом. Молодой искусствовед и библиограф был буквально очарован поэтом: «…неторопливые, негромкие, мягкие слова (без всяких лишних вставок и добавок, часто засоряющих нашу разговорную речь) проникали в сознание, словно строчки стихов, набранных чётким и округлым старинным шрифтом, и запоминались легко, как хорошо сделанные стихи.
Сразу приковывали к себе глаза — зеленоватые, внимательные, почти строгие глаза, глядевшие собеседнику прямо в зрачки, но без всякой въедливости и назойливости, спокойно и вдумчиво. Отчётливы и приятны были в этом лице очертания рта — изысканная линия губ: такие губы не могут произнести никакой банальности, пошлости. Подстриженная щёточка усов, правильность, изящество, я бы сказал, „духовность“ этого рта. Впечатление духовности волошинского „лика“ не умалялось полнотою, даже некоторой одутловатостью лица, массивностью всей головы, грубоватостью её моделировки и плотностью смугло-розовой лоснящейся кожи. В этом волосатом лице, с бородой, растущей чуть ли не от самых глаз, явственны были черты благородства и нежности… Если угодно, он был аристократичен даже в самом внешнем, светском смысле слова: его приветливость, его умение вести разговор — умение не только „изрекать“, но и слушать, вся его манера себя держать — обличали в нём прекрасно воспитанного человека…
В лице Волошина была монументальная неподвижность: подвижен был только рот, только губы, но не брови, не морщины. В бровях, немножко приподнятых над переносицей, был оттенок чего-то трагического. Вообще, при всей рыхлости лица и мягкотелости фигуры, от Волошина веяло сдержанной затаённой силой, скорее германским волевым началом, самодисциплиной, чем русской „душой нараспашку“, с её добродушием и амикошонством. Чувствовалось, что этот человек духовно щедр, что он может очень много дать, если захочет, но что знает он гораздо больше, чем высказывает, и „быть“ для него важнее, чем „казаться“».
Вторая встреча поэта и искусствоведа состоялась в Ленгизе, где последний заведовал художественным отделом. Волошин с любопытством просмотрел работы современных графиков, познакомился с директором издательства И. И. Ионовым, от которого получил для Коктебеля несколько десятков выпущенных здесь книг. Голлербах обратил внимание на то, что Волошин говорил с директором «без малейшего заискивания, но и без всякой развязности».
Автор воспоминаний, как и многие другие мемуаристы, обращает внимание на волошинскую манеру чтения стихов, которая представляла собой настоящее искусство звучащего слова. «Читал Волошин свои стихи прекрасно — без актёрской декламации и без профессионально-поэтического завывания. Он тонко подчёркивал ритм стиха, полностью раскрывал его фонетику, вовремя выдвигал лирические и патетические оттенки. Читал он стоя, держась руками за спинку стула, иногда кладя на спинку только одну руку, а другой сдержанно жестикулируя. Вообще его жестикуляция была скупа, он иногда немного подымал руку — точнее, подымал полусогнутую короткопалую, пухлую кисть руки — большим пальцем кверху, словно желая этим движением поднять смысл и значение того или другого образа, метафоры, эпитета… Его чтение можно было слушать долго, не утомляясь: дикция его была отчётлива, модуляции голоса мягки. Читая, он слегка задыхался, и эта лёгкая одышка казалась каким-то необходимым аккомпанементом к его стихам — чем-то похожим на шелест крыльев… Когда он улыбался, глаза его оставались совершенно серьёзными и становились даже более внимательными и пристальными… Смеха его я не помню, не слыхал».
Надо сказать, что поэзией «киммерийского отшельника» восторгались далеко не все. А. Бенуа, например, ценил у Макса преимущественно живопись. Скептически относился к творчеству поэта и художник К. Сомов. На собрании «Серапионовых братьев» с резкой критикой волошинских стихов выступил только-только вошедший в литературу В. Каверин. И всё же многие воспринимали Волошина уже почти как классика. В тот приезд его образ увековечили художники Г. Верейский, Б. Кустодиев, Е. Кругликова, А. Остроумова-Лебедева, известный фотограф М. Наппельбаум…
Ну а весна тем временем потихонечку перетекала в лето, которое, как всегда, сулило быть интересным. Тем более что в Дом Поэта обещали нагрянуть никогда раньше не посещавшие его В. Брюсов и А. Белый, а также поэт и переводчик С. Шервинский, теоретик литературы Л. Гроссман, поэтесса А. Адалис и уже бывалые: С. Толстая, супруги Шкапские, Т. Шмелёва, О. Головина, Марусины (а теперь уже и Максины) друзья, Домрачёвы. Особый колорит в жизнь этих «скромняг» должны были внести «профессиональные обормоты»: Вера Эфрон, Мария Гехтман и Константин Кандауров… В «Киммерийских Афинах» нельзя было обойтись без сословий. Афины-то всё-таки античные, хоть и «Киммерийские». Стало быть, не взыщите: если вы одинокие женщины — так вы «нимфы», а ваша комната будет называться «геникеем»; а одинокие (если бывают?) мужчины, извольте проживать в «мужикее». Как вспоминает Т. Шмелёва, питание в доме «было организованным. Воду для приготовления пищи привозили в бочке из источника Кадык-Кой. За очень небольшую плату можно было получить завтрак, обед и ужин. Когда бывало много народу, за стол садились в две смены. Всё происходило на длинной веранде внизу». Сразу после ужина все отправлялись на вышку слушать стихи и «страшные рассказы» Андрея Белого. Как же в этом доме без стихов, без розыгрышей, без мистики?.. Впрочем, мистика, оказывается, бывает естественной. «В нижней мастерской, у входной двери, висел рукомойник, а напротив, под лестницей, находился глубокий внутренний шкаф, в котором хранилась одежда Макса и какие-то вещи.
Вся освещённая луной, в длинном белом одеянии, я (т. е. Т. В. Шмелёва. — С. Я.) стояла около умывальника, когда над головой послышались чьи-то торопливые шаги. Коля Чуковский (сын К. И. Чуковского. — С. Я.) вёл кого-то под руку. Увидев меня, оба вскрикнули, бросились к двери и стали толкать её… (Дверь открывалась вовнутрь. — С. Я.) Испугавшись, я скользнула в шкаф. И тут надо мной загрохотала вся лестница. С вышки бежали на призыв о помощи. Дверь открыли и все устремились вниз. Ничего не понимая, я ещё долго сидела в шкафу». Потом выяснилось, что приятель Н. Чуковского перенёс не так давно нервное потрясение, а тут ещё луна, девушка в белом одеянии да накануне — рассказы Андрея Белого… Тут закричишь! А Волошин всю ночь гонялся со своими гостями за фантомами. Выслушав рассказ племянницы, он вначале рассердился (всё так обыденно), а потом вдохновился: «Моё сообщение очень рассмешило Макса. Он решил на следующее утро представить меня как вчерашнее привидение. Приятель же Коли отнёсся к словам Макса с недоверием и даже обиделся, считая, что его разыгрывают. Вскоре он уехал. Я так и не узнала его имени».
А вот как запомнилось это время самому Андрею Белому: «…летом в 24 году я встретил в доме Волошина единственное в своём роде сочетание людей: Богаевский, Сибор, художница Остроумова, поэтессы Е. Полонская, М. Шкапская, Адалис, Николаева, стиховед Шенгели, критики Н. С. Ангарский, Л. П. Гроссман, писатель А. Соболь, поэты Ланн, Шервинский, В. Я. Брюсов, профессора Габричевсий, С. В. Лебедев, Саркизов-Серазини, молодые учёные биологической станции, декламатор А. Шварц, артисты МХАТа 2-го, театра Таирова, балерины — или жили здесь, или являлись сюда, притягиваемые атмосферой быта, созданного Волошиным. Игры, искристые импровизации Шервинского, литературные вечера, литературные беседы то в мастерской Волошина, то на высокой башне под звёздами, поездки в окрестности, поездки на море и т. д. — всё это, инспирируемое хозяином, оставляло яркий, незабываемый след. Деятели культуры являлись сюда москвичами, ленинградцами, харьковцами, а уезжали патриотами Коктебеля. Сколько новых связей завязывалось здесь. В центре этого орнамента из людей и их интересов видится мне приветливая фигура Орфея — М. А. Волошина, способного одушевить и камни, его уже седеющая пышная шевелюра, стянутая цветной повязкой, с посохом в руке, в своеобразном одеянии, являющем смесь Греции со славянством. Он был вдохновителем мудрого отдыха, обогащающего и творчество, и познание. Здесь поэт Волошин, художник Волошин являлся людям и как краевед, и как жизненный мудрец».
Мудрость мудростью, но летом «творческие» дурачества выходили всё же на первый план. Крым… превращается в Испанию с её корридой. Мужчины — в широкополых шляпах; кто-то, вооруженный табуретом, изображает быка. Брюсов, недавний вожак символистов и горний небожитель, по своему обыкновению командует: «Плащ надо держать так! Бык кидается отсюда! Его надо встретить вот таким образом!» Волошин, философски не уважающий корриду, всё же вмешивается: «Нет, Валерий Яковлевич, вот так, пожалуй, туда его!» Андрей Белый, самый изо всех «европеец», организовывает «джаз-банд» и на гребёночке, на гребёночке… впрочем, идут в ход и пустые кастрюли, ложки, бутылки… Весело, но как при этом не вспомнить о берлинских плясках, безумных выворачиваниях души этого волею судьбы оказавшегося там писателя.
Случались корриды и не сценические. Как-то Георгий Шенгели прочёл своё неопубликованное стихотворение на смерть Гумилёва, из которого следовало, что приговор поэту подписывали «накокаиненные бляди», которым светил «вершковый лоб Максима». Белый взвинтился:
— А позвольте спросить: чей лоб вы имеете в виду?!
— Лоб Максима Горького.
— Как?! В твоём доме, Макс, так говорят о русском писателе?! Нет, я этого допустить не могу!
— Но вы можете жить в обществе, где писателей расстреливают! — кричит Шенгели.
Андрей Белый кубарем скатывается с вышки и несётся в свою комнату:
— Я здесь больше ни минуты не останусь!
Опекающая «детей» Мария Степановна — за ним. Поэт швыряет в чемодан одежду, рукописи, книги… Она что-то ему говорит, и тот через пару минут остывает…
Авторитет Белого конечно же признавали все, но на вечерних поэтических посиделках ему всё же не раз доставалось. Молоденькая студентка Надя Рыкова (в будущем — литературовед и переводчица), поддерживаемая подругами-одногодка-ми, вмешалась в завязавшийся спор о культурах Востока и Запада. Воображая себя истинной «западницей», она со всем студенческим максимализмом накинулась на прожжённого «европейца» Белого, заподозренного ею в приверженности Востоку. Девушка пылко вступилась за «металлическую и каменную культуру против деревянной, за сушь против сырости, за отмериванье и ограниченье против безмерностей и безграничностей, за относительность против абсолютности и т. д. и т. п… Крик стоял ужасный». Андрей Белый вышел из себя, стал отчитывать «девчонок» за их «нахальство». Те огрызались: «У! Аргументы от возраста! Последнее дело! Позор!»
Профессор Александр Александрович Байков, химик и металлург, мало что смысливший в предмете спора поддерживал «девчонок», подливая масла в огонь: «Правильно… куда там наши деревянные церквушки против ихних соборов, едешь-едешь — сотни вёрст одни болота да избы, какая уж тут культура!» Белый, которому так и не дали высказаться, бесился, а Волошин по своему обыкновению лил елей на обе стороны и вскоре утихомирил спорщиков. Максимилиан Александрович казался Наде настоящем хозяином Коктебеля… в том смысле, в каком домовой — хозяин дома, а леший — хозяин леса. Она вспоминает об одной прогулке на Карадаг, в которой принимали участие и «верхи», и «низы». Стояла дикая жара, потом разразилась гроза; все попрятались кто куда мог. Надежда с какими-то случайными спутниками оказалась в шалаше болгарского виноградаря. Вскоре прояснилось, терпко запахла полынь, и в этот самый момент «перед нами возник (именно возник) Максимилиан Волошин. Он, как заботливый пастух, пошёл собирать разбредшееся стадо своих гостей, заглядывал в шалаши, под кусты. Заглянул и к нам. Я увидела снизу вверх его волосатую голую руку с длинной жердью-чаталом, обнажённый торс, мифологическую голову на только что вымытом, ещё облачном и уже голубом небе». И в очередной раз подумалось: вот он, гений места, домовой, леший, великий Пан Коктебеля…
Возможно, об этом же происшествии пишет в своих воспоминаниях художница Анна Петровна Остроумова-Лебедева, которая пережила более драматический эпизод: «Очень запомнилась мне прогулка, затеянная Волошиным, — через Северный перевал пройти на Карадагскую биологическую станцию. Отойдя версты на три и поднявшись на крутые глинистые холмы, мы были неожиданно застигнуты грозой… Небо обрушилось потоками воды… Среди грохота камней и падающей воды Максимилиан Александрович усиленно кричал нам, чтоб мы спрятались в пастуший шалаш. Через несколько минут мы вместе с шалашом и пластом земли поплыли вниз по скату холма.
Незаметные ручьи на глазах превратились в бурные реки. В их пенистых, стремительно мчавшихся водах вертелись камни, оторванные комья глины и дёрна. Всё это мчалось к морю. Картина была грандиозная. Библейский пейзаж бушующей стихии… Волошин не потерял присутствия духа. Просил всех переждать натиск воды. Организовал переправу через воду цепью, и, таким образом, никто не пострадал… Помню то чувство необыкновенной бодрости и подъёма, когда мы вернулись домой по уши мокрые, в глине и песке».
В спокойное время любовались со стороны моря на скалы Карадага, Львиные ворота, Разбойничью бухту. Волошин, вспоминает художница, «с глубокой любовью рассказывал истории и предания каждой бухточки, объяснял строение скал, их геологическое происхождение… Затем он читал стихи. Валерий Брюсов слушал, смотрел, очарованный. Иногда и он начинал декламировать по-латыни отрывки из „Энеиды“». Анна Петровна писала его портрет, который, к сожалению, уничтожила. А ведь это был бы последний портрет поэта…
Волошинский Коктебель… Валерий Яковлевич Брюсов вспоминал его незадолго до смерти: «Я думаю, что в настоящую минуту Коктебель является единственным литературным центром в России… В Москве… я могу перевидать столько людей в разных местах в течение недели, месяца, могу собрать у себя раз в год на именины своих друзей, но иметь постоянно вокруг себя такой круг и вести настолько интересные и содержательные беседы я не имею возможности». Не прощаться ли, не очиститься ли приезжал в Коктебель Брюсов? Судите сами: «Дни, проведённые мною впервые в Коктебеле, проводят новую чёткую черту в моей жизни». Правда, жизни-то уже вышли сроки…
А в жизни Волошина подошли иные сроки, связанные с юбилейными датами. Ю. Галабутский напомнил Максу, что ровно 30 лет назад в печати появилось его первое стихотворение, посвящённое памяти В. К. Виноградова. А 25 лет назад в «Русской мысли» была опубликована его первая критическая статья. Получался двойной юбилей. А чем его отметить, что он может сегодня представить на суд литературной общественности?.. Едва ли власти дадут добро на издание его книжки. Поэтому радоваться-то нечему. «Вначале я это пытался утаить и просил о том же друзей, о сём осведомлённых, — пишет Волошин Габричевским 23 марта 1925 года. — Но это оказалось невозможным, и в Крыму организуется нечто вроде Юбилейного Комитета. Так что скрывать это не имеет смысла. Хотя очень глупо праздновать „Юбилей литературной деятельности“, которая за 30 лет исчерпывается небольшой книжкой стихов, а всё остальное остаётся запечатанным ещё на много лет. Но и отказываться нельзя. Надеюсь, что мне будет высказано достаточно неприятных вещей, чтобы не вызвать новой печатной травли, которая меня постигает всегда после каких бы то ни было лестных отзывов обо мне.
Дата позорища ещё не зафиксирована, но я настаиваю на том, чтобы оно было перенесено на конец мая, когда в Коктебель уже съедутся ближайшие друзья (как я надеюсь)… У меня есть задняя мысль, что кто-нибудь из друзей догадается просуфлировать Центральному Правительству необходимость в этот день утвердить публично постановление КрымЦИКа о закреплении за мной моей дачи, снять с неё местные и курортные налоги и, наконец, выдать мне мандат на устройство (существующей) Художественной Колонии. Иными словами, публичным государственным актом освятить ныне существующее положение вещей. Тогда это оправдает все неприятные и стыдные моменты публичного чествования».
С начала мая Волошин начинает получать поздравления от частных лиц: Викентия Вересаева, Валентина Кривича, Всеволода Рождественского, лётчика-планериста Жардинье… Ждали официальную телеграмму от Енукидзе, но где там… Не вышло и с публикацией юбилейных статей. Лишь на шестой странице «Известия» оповестили, что «31 мая исполняется 30-летний юбилей известного (уже неплохо. — С. Я.) поэта Максимилиана Волошина. Общество изучения Крыма выбрало М. Волошина своим почётным членом. В настоящее время юбиляр проживает в Коктебеле (близ Феодосии)». Хорошо, что пока ещё — «проживает». Хулительных опровержений не последовало. Вот такая помпа!..
Сроки-сроки…Уходят в небытие М. Гершензон, А. Чеботаревская, Р. Штейнер… Рудольфу Штейнеру, в «людном безлюдии», в июле 1914 года, посвящались эти стихи:
Снова
Мы встретились в безлюдьи. И как прежде.
Черт твоего лица
Различить не могу. Не осужденье,
Но пониманье В твоих глазах.
Твоё уединенье меня пугает.
Твоё молчанье говорит во мне:
Ты никогда ни слова
Мне не сказал, но все мои вопросы
В присутствии твоём
Преображались
В ответы…
Но жизнь идёт. Снова лето, и снова гости: Габричевские, Леонид Леонов, Эрих Голлербах. Молодой искусствовед, как и год назад, был под обаянием Максимилиана Александровича, тонко понимал его: «В 1925 году, наблюдая Волошина в Коктебеле, я убедился в его соприродной связи, полной слиянности с пейзажем Киммерии, с её стилем. Если в городской обстановке он казался каким-то „исключением из правил“, „беззаконною кометой в кругу расчисленных светил“, почти „монстром“, то здесь он казался владыкой Коктебеля, не только хозяином своего дома, но державным владетелем всей этой страны, и даже больше, чем владетелем: её творцом, Демиургом, и, с тем вместе, верховным жрецом созданного им храма.
В чисто житейском плане он был обаятелен, как радушный, гостеприимный хозяин, со всеми одинаково корректный (хотя и очень умевший различать людей по их духовному достоинству)… К этому нужно добавить, что при всей ценности его литературного наследия (существующего, однако, для немногих) он был ещё интереснее и ценнее как человек — Человек с большой буквы, человек большого стиля. Его внутренняя жизнь достойна самого внимательного и подробного изучения: я не знаю более соблазнительной темы для „романа-биографии“». То писал Голлербах-прозаик. А это Голлербах-поэт:
Силена стан, апостола осанка,
Платона ум. — О как ему ясна
Тревожной жизни грешная изнанка
И душ людских немая глубина!..
Тогда, в 1925-м, Волошина посетил Михаил Булгаков. Одна из «обормоток» сообщает в своём письме от 18 июня адресату: «Третьего дня один писатель читал свою прекрасную вещь про собаку». Да, Булгаков тогда был «одним писателем», а «Собачье сердце» еще не было признано мировым шедевром. Имя его ещё не встало в ряд самых значительных явлений русской литературы XX века. Всему своё время. Но — на все времена. Как хотелось бы написать о знакомстве и дружбе двух крупнейших художников слова и мысли: Булгакова и Волошина. Но не будем забываться. Дружбы не получилось. Булгаков не увлёкся Коктебелем да, наверное, не оценил и Волошина как поэта и как человека. Да, Булгаков позировал Остроумовой-Лебедевой, читал, играл, пел, режиссировал. Волошин подыгрывал (он мог изобразить и быка, жующего траву, и человеческого эмбриона, заспиртованного в банке)… Вместе с тем жена писателя Любовь Евгеньевна Белозерская вспоминала: «Многие говорили о том, что поэт Максимилиан Волошин совершенно безвозмездно предоставил всё своё владение в Коктебеле в пользование писателей… В поэзии это звучало так:
Дверь отперта. Переступи порог.
Мой дом раскрыт навстречу всех дорог.
(М. Волошин. Дом Поэта. 1926)».
В прозе же выглядело более буднично и деловито: «Прислуги нет. Воду носить самим. Совсем не курорт. Свободное дружеское сожитие, где каждый, кто придётся „ко двору“, становится полноправным членом. Для этого же требуется: радостное приятие жизни, любовь к людям и внесение своей доли интеллектуальной жизни»… Молодая дама, имеющая склонность к поэзии, рассчитывала увидеть в хозяине Коктебеля нечто вроде юноши Ленского — «всегда восторженная речь и кудри чёрные до плеч». А перед ней предстал «могучий человек с брюшком, в длинной подпоясанной рубахе, в штанах до колен, широкий в плечах, с широким лицом, с мускулистыми ногами, обутыми в сандалии. Да и бородатое лицо было широколобое, широконосое. Грива русых, с проседью волос, перевязана по лбу ремешком — и похож на доброго льва с небольшими умными глазами. Казалось, должен говорить мощным зычным басом, но говорил он негромко и чрезвычайно интеллигентным голосом… В тени его монументальной фигуры поодаль стояла небольшая женщина в тюбетейке на стриженых волосах… Всем своим видом напоминала она курсистку начала века с Бестужевских курсов…». Читали стихи, гуляли, поднимались на Карадаг. Булгаков, увы, не был любителем активного отдыха: «Мы всё больше ходили по бережку, изредка, по мере надобности, купаясь. Но самое развлекательное занятие была ловля бабочек. Мария Степановна снабдила нас сачками»… Поднимались на Карадаг. «Впереди необыкновенно легко шёл Максимилиан Александрович. Мы все пыхтели и обливались потом, а Макс шагал как ни в чём не бывало, и жара была ему нипочём. Когда я выразила удивление, он объяснил мне, что в юности ходил с караваном по Средней Азии.
Карадаг — потухший вулкан.
Из недр изверженным порывом,
Трагическим и горделивым,
Взметнулись вихри древних сил…
Такие строки у Волошина.
Зрелище величественное, волнующее. Застывшая лава в кратере — да ведь это же химеры парижской Нотр-Дам. Как сладко потянуло в эту живописную бездну!
— Вот это и есть головокружение, — объяснил мне Михаил Афанасьевич, отодвигая меня от края».
Как-то раз в Коктебеле появился «сосед», проживающий в Старом Крыму, — Александр Грин. Ему очень хотелось познакомиться с Булгаковым. Это был «бронзово-загорелый, сильный, немолодой уже человек в белом кителе, похожий на капитана большого речного парохода. Глаза у него были тёмные, невесёлые… Я с любопытством разглядывала загорелого „капитана“ и думала: вот истинно нет пророка в своём отечестве. Передо мной писатель-колдун, творчество которого напоено ароматом далёких фантастических стран. Явление вообще в нашей „оседлой“ литературе заманчивое и редкое, а истинного признания и удачи ему в те годы не было». Грин с женой звали к себе в гости, на пироги, но визит в Старый Крым почему-то не состоялся.
Из женского населения волошинского дома Любови Евгеньевне больше других запомнилась Наталия Алексеевна Габричевская, жена упоминавшегося искусствоведа А. Г. Габричевского, в которой, уже в зрелом возрасте, проснулся талант художницы-примитивистки. Эффектная, раскованная в поведении, любительница пикантных куплетов. Из окна нижнего этажа, где жили Габричевские, нередко раздавались взрывы здорового мужского смеха. «К женщинам иного плана она относится с лёгким презрением, называя их, как меня, например, „дамочкой с цветочками“. Раз только и ненадолго мы с ней объединились: на татарский праздник (байрам, рамазан? — уж не помню) в Верхних или Нижних Отузах, надев на себя татарское платье, мы вместе плясали хайтарму (и плясали плохо)…»
Л. Е. Белозерская признаётся, что «яд волошинской любви к Коктебелю» проник и в её кровь, но вот её муж «оставался непоколебимо стойким в своём нерасположении к Крыму». Да и особой любви к поэзии у Булгакова не было, хотя он «прекрасно понимал, что хорошо, а что плохо, и сам мог при случае прибегнуть к стихотворной форме…».
Да, автор «Собачьего сердца» явно предпочитал стихотворным чтениям ловлю бабочек. Взбирался с женой на ближайшие холмы и забавлялся, как ребёнок:
— Держи! Лови! Летит «сатир»!
«Я взмахиваю сачком, но не тут-то было: на сухой траве здорово скользко и к тому же покато. Ползу куда-то вниз. Вижу, как на животе сползает Михаил Афанасьевич в другую сторону. Мы оба хохочем. А „сатиры“ беззаботно порхают себе вокруг нас». Позже Любовь Евгеньевна узнает от сестры писателя Надежды, что Булгаков в студенческие годы очень увлекался бабочками, а коллекция его была подарена Киевскому университету.
«Жили мы все в общем мирно, — вспоминает Л. Е. Белозерская. — Если не было особенно дружеских связей, то не было и взаимного подкусывания. Чета Волошиных держалась с большим тактом: со всеми ровно и дружелюбно»… Потом Булгаковы ещё пару раз наведывались в Крым, бывали в Мисхоре, Судаке, Алупке, Ялте, Севастополе. Но Коктебеля избегали. Волошин же, судя по всему, высоко ценил Булгакова. На одной из его акварелей, подаренных писателю, осталась надпись: «Первому, кто запечатлел душу русской усобицы».
Но о вкусах не спорят…
Любили Коктебель поэты, художники, планеристы, археологи. Каждый открывал там свой мир, находил что-то ценное для себя. На плато Тепсень велись раскопки. Даже в XX веке обнаруживались диковинки. При непосредственном участии Максимилиана Александровича был извлечён из земли «фрагмент пифоса»… Привет из античности… Редкостная находка официально была сдана на хранение Волошину. Писались по этому поводу стихи, разыгрывались спектакли…
Но настоящее празднество разворачивалось в день рождения поэта —28 мая (16-го по ст. ст.). Звучали голоса Гомера и Сафо, Ронсара и Шекспира, Пушкина и Лермонтова, Бодлера и Малларме, Клоделя и Ренье, которых озвучивали Сергей Шервинский, Александр Габричевский, Георгий Шенгели, Евгений Ланн, искусствовед Алексей Сидоров, переводчик Лев Остроумов… Проходило «состязание поэтов в сонетах о любви, иллюстрированное живыми картинами». «Соломон и Суламифь», «Дон Жуан и Смерть», «Адам и Ева», «Франческа и Паоло», «Леда», «Зигфрид и Валькирия»… А «Филемона и Бавкиду» заставили изображать самих Макса и Марусю. Иногда эти художественные мероприятия затягивались на несколько дней.
За лето 1925 года в Доме Поэта перебывало 400 человек… и это «уже сверх человеческих сил»; при таком раскладе поэт был «совсем не в состоянии ни себя отдавать, ни в себя принимать». Да и здоровье хромает; Макс тревожится, что уже не выкарабкается. Пора и итоги какие-то подводить. «Отпевая» в стихах астронома В. К. Цераского, поэт, может быть, подразумевает и себя:
Он был из тех, в ком правда малых истин
И веденье законов естества
В сердцах не угашают созерцанья
Творца миров во всех его делах.
Сквозь тонкую завесу числ и формул
Он Бога выносил лицом к лицу,
Как все первоучители науки:
Пастер и Дарвин, Ньютон и Паскаль…
Правительство, бездарное и злое,
Как все правительства, прогнало прочь
Её зиждителя и воспретило
Творцу творить, учёному учить…
Нет, писать стихи, акварели Волошину никто не возбранял; но поэт-то ясно отдавал себе отчёт: своих новых поэтических сборников он больше не увидит; возможно, с акварелями будет получше — кое-что приобрела Третьяковская галерея… Некоторые работы Волошина экспонировались в июне 1925 года на «Крымской выставке», в зале Государственной Академии художественных наук… Огромное количество акварелек (чаще всего — со стихотворными надписями) художник дарил друзьям…
Вспоминает Мария Степановна: «У Макса была поразительная способность не пренебрегать никакой, часто низкокачественной вещью, нужной в работе. Он писал акварели на самой скверной русской акварельной бумаге (изредка хорошую ватманскую бумагу и краски Волошину доставали его близкие знакомые Пазухины. — С. П.). Как часто многие художники в ужас приходили от того, как можно писать на такой бумаге. А Макс говорил: „Не надо бояться плохой бумаги, нужно изучить все её дурные качества и выявить хорошие. Мне это очень помогло и многому научило. Конечно, писать на ватмане очень приятно. Но если его нет, не надо бояться, это даже интереснее“… Часто я, не имея под рукой подходящей кухонной доски, утаскивала у него акварельную дощечку под пирог или подставочку. Как Макс обижался, упрекал: „Зачем же под пирог? Ведь я же на ней акварели писал!“ Утащишь, почти украдёшь дощечку, а Макс всегда обнаружит: приподнимает пирог, увидит и унесёт к себе. И это не было чувство собственности — „это моё“. Он так легко и радостно отдавал свои вещи, но для целей, для которых вещь предназначалась. Он тонко различал разницу в назначении предмета и органически страдал от несоответствия назначения и использования вещи».
Для стихов не требовалось какой-то особой бумаги и специальных принадлежностей. Хотя, конечно, всегда приятно, когда у тебя под локтями стол, за которым хорошо думается. Рабочий стол Волошина стоял у окна. Это была простая чертёжная доска, положенная на козлы. «Доска заказана была Максом в Москве, тщательно вымерена по его указаниям, как и из какого дерева она должна быть сделана. Козлы сделаны самим Максом в Коктебеле. Такой стол был у Макса в Париже. Ящики этого рабочего стола не похожи на шаблонные ящики всех письменных столов. Они наверху стола. „Американское бюро“ — как часто любил называть свой рабочий стол Макс».
Но, увы, никакой самый лучший стол, никакое «американское бюро» не радуют, когда лишний раз приходится убеждаться: «В государстве нет места поэту», понимать, что публикация большей части стихотворений на родине невозможна. Остается уповать лишь на то, что настоящие ценности — непреходящи и настанет их черед, что там — государства и правители…
Как Греция и Генуя прошли,
Так минет всё — Европа и Россия.
Гражданских смут горючая стихия
Развеется… Расставит новый век
В житейских заводях иные мрежи…
Ветшают дни, проходит человек,
Но небо и земля извечно те же.
(«Дом Поэта»)
Пришла мудрость, пришла художническая зрелость, пришло высшее понимание вещей, смысла жизни. О самых сложных вещах писалось легко и просто, словно бы создавалось завещание:
Выйди на кровлю… Склонись на четыре
Стороны света, простёрши ладонь.
Солнце… вода… облака… огонь…
Всё, что есть прекрасного в мире…
Конечно, тяжело переносить в Коктебеле зиму, когда за стеной «море взвивается на дыбы и гудит ветер, и мы неделями не видим человеческого лица» (из письма Габричевским), а единственным обществом можно считать «три честных собачьих морды… и три хвоста, вертящихся турникетом…». Но зато какая здесь иногда стоит «дивная, ясная, хрустальная ночь», когда едва-едва всплескивает море и звенит тишина. К тому же приходят письма от друзей. Отрадно, что они увозят из Коктебеля большую толику радости и красоты, воспринимают Дом Поэта как «атмосферу разлитого добра», что у них здесь, после многих лет кошмара, начинают «улыбаться сердца», как пишет Б. Ярхо словами Лескова. Волошин каждому из своих корреспондентов стремится ответить и по возможности передать «акварельный привет». (К слову сказать, за лето — осень художник раздал и разослал не менее шестисот своих работ.)
1 марта 1926 года в Москве, в Государственной Академии художественных наук, состоялся литературно-художественный вечер с благотворительной целью: помощь поэту и художнику М. А. Волошину. Друзья понимали, что стихи его сейчас практически не печатаются (три стихотворения вышли в бакинском сборничке «Норд»), статьи ему не заказываются, монографию «Суриков» (в полном объёме) пристроить также не удаётся, хотя это вполне безобидный с точки зрения идеологии искусствоведческий труд. И вот литератор Софья Захаровна Федорченко проявляет организационную инициативу, устраивает вечер.
Из дневниковых записей Льва Горнунга: «Михаил Булгаков прочёл по рукописи „Похождение Чичикова“, как бы дополнение к „Мёртвым душам“. Писатель Юрий Слёзкин, который больше был известен до 1917 года, прочёл свой рассказ „Бандит“. Борис Пастернак читал два отрывка из поэмы „Девятьсот пятый год“ — „Детство“ и „Морской мятеж“. Поэт Сергей Шервинский прочёл четыре „Киммерийских сонета“, один из них о художнике Константине Фёдоровиче Богаевском. Поэт Павел Антокольский читал свои старые и новые стихи.
Пианист Самуил Фейнберг играл свои фортепианные произведения. Артист Московского Камерного театра Александр Румнев исполнил „Гавот“ Сергея Прокофьева в своей постановке. Он был в костюме шута. Писатель Вересаев читал отрывки из автобиографической повести». Да, приятно, когда тебя помнят друзья, когда оказывают реальную помощь, которая в данном случае вылилась в 470 рублей. Надо срочно ремонтировать Дом Поэта, надо как-то жить и его хозяевам…
Весна прошла под знаком капитального ремонта и «перекапывания» сада. Мария Степановна в этих житейских сферах была незаменима. Всю свою безграничную энергию она выплеснула на хозяйство, препирательство с рабочими, лазанье по деревьям «с обрезкой», хотя не так давно перенесла серьёзную операцию. Конечно, сдавали нервы, порой выходила из себя. «Маруся захлопоталась, завертелась, утомилась, — сообщает поэт Габричевским, — письма перестала писать и кусается, иногда дерётся». Да, Маруся была женщиной «из простых», могла ругнуться, могла и кулаками поразмахивать. Не случайно отдельные коктебельские постояльцы говаривали: «Не так страшен Макс, как его Маруся». Доставалось от неё и любимому мужу. В дневнике Волошина от 14 марта 1926 года запечатлён весьма выразительный монолог Марии Степановны: «Всё акварельки пишешь? Кому это нужно? Ведь это значит ничего не делать. Это г… (крепкое слово). В такое время, когда люди борются за жизнь… Целые дни убивать на это… Сидишь, водишь кисточкой… Гуляй, пиши. Распредели день. Встаёшь в таком-то часу, до такого-то пишешь. Плохо ли? Хорошо? Это неважно. Сперва будет бездарно, потом втянешься. А на акварели оставишь 2 часа в день и ни минуты больше…» Примерно тогда же она пишет: «Какое счастье, что я около Макса! Господи, какой это большой человек! Мне иногда хочется записывать его слова, мысли. Сколько их падает и утекает напрасно. Ведь очень мало кто знает Макса-человека… Сколько в нём терпимости, мудрости, благородства и бесконечной честности и деликатности к людям. Как хорошо он думает и мыслит о человеке»… Что ж, немало примеров волошинского человеколюбия, надеюсь, даёт и эта книга…
Первый гость в Доме Поэта появился уже в марте. Это был Виктор Успенский, сын гимназической подруги Маруси — Веры Успенской и небезызвестного Бориса Савинкова. А 19 апреля, холодным, пасмурным днём, в Коктебель прибывает Зинаида Ивановна Елгаштина, балерина, ученица В. Ф. Нижинского. «Блистательна, полувоздушна…» Волошин откровенно любовался её красотой и грацией. Балерина же поначалу была смущена: «Дом стоял вблизи прибрежных песков, и волны, пенясь на гребнях, достигали чуть ли не самых его стен. В саду работник-отрок, в тёплых брюках и куртке, в чёрном суконном шлеме, вскапывал клумбу. К нему я и обратилась с вопросом, которая из многочисленных дверей ведёт в помещение поэта Волошина. „Мой муж, — ответил отрок, — поэт, художник и философ“. Мария Степановна указала на одну из дверей. В комнате, куда я вошла, навстречу мне поднялся сидевший за письменным столом человек. Казалось, все разлитые вокруг силы нашли средоточие в его существе. Одетый в костюм туриста, в своих тонах повторяющий местный пейзаж, Волошин производил впечатление странника, одиноко идущего среди окружающей его жизни. „Ждём с утра, — заговорил он оживлённо, — беспокоимся, не застряли ли вы“. Максимилиан Александрович обладал необычайной мягкостью и приветливостью в обращении, что сразу располагало к нему».
Первое удивление было тут же развеяно, и началось общение. Уже вечером Макс изучал привезённые ленинградской гостьей абстрактные аппликации из цветной бумаги — композиции, выражающие музыкальные мотивы. Вскоре женщины ушли спать, а Волошин остался поддерживал огонь в печке. Усиливался шторм, под напором ветра вздрагивали стены дома. «В открытую дверь в полумраке я видела его ходящим по комнате. Этой ночью я поняла, что всё происходящее вокруг и было его настоящей жизнью: среди стихийных сил природы жила и властвовала его мысль».
На другой день Зинаида Ивановна вступила в мир Коктебеля. Максимилиан Александрович, как всегда, выступил гидом. «То был мир его акварелей: Коктебель — страна разлитого света, призрачных, тающих очертаний. И Волошин ревниво охранял этот мир. „Смотри, — говорил он, останавливаясь в некоторых местах, — не води сюда никого“». Стареющий поэт и молодая балерина каждый день отправлялись в горы или бродили по степи. «В этих странствиях узнавала я Максимилиана Александровича тем мальчиком, что, приехав в Коктебель, дружил с чабанами, в горах жёг с ними костры. Исходил все тропы, облазил утёсы, знал, что скрывает каждая расщелина их. Из Феодосии… шёл пешком в Коктебель, в пути подолгу просиживал на холмах, поклоняясь, как чуду, взлёту зубцов Карадага. На одном из этих холмов мы были как-то вечером. „Здесь на закате похоронят меня“, — сказал Волошин. Он указал место, где должна быть вырыта ему могила».
Ещё никогда и ни с кем девушка не совершала столь длительных и задушевных прогулок. Когда становилось знойно, она опускалась на колени и пила капли росы, скрытые в листьях пионов. Массивная фигура Макса мешала ему наклоняться, и Зинаида, сорвав листья, подносила к губам поэта живительные капли.
«Гуляя, Максимилиан Александрович шёл обычно молча, — вспоминает она. — Иногда он только останавливался и стоял, словно прислушиваясь, что происходило в нём самом, и соразмеряя это с окружающим. Мысль его работала с таким напряжением, что была ощутима и мною. Могучим взмахом вырывалась она на простор и, торжествующая, ликующая, неслась и рассыпалась средь неизмеримых пространств. Для меня мысль Волошина была нечто живое, осязаемое, зримое в полёте. Походка Максимилиана Александровича отличалась исключительной лёгкостью, бегом спускался он с гор. У него была маленькая стопа, маленькая и властная рука».
На прогулках Макс всегда противопоставлял свои родные места остальному миру. «Москва — большая деревня», — говорил Волошин, утверждая, что жить он может только в Коктебеле. Это был мир чудес и воспоминаний о греческих поселениях IV века. Все мшистые яблони и груши на горах он считал остатками греческих садов. Зачем ехать в Москву и Ленинград, недоумевал поэт, когда весь цвет литературы и искусства собирается у него здесь, в Коктебеле.
Не обладая хорошим музыкальным слухом, Волошин имел абсолютное чувство ритма и к идущей рядом балерине относился очень трепетно, заинтересованно. «Максимилиан Александрович придавал большое значение искусству танца как выражению общей художественной культуры народа. В статье „Бельведерский торс“… М. А. пишет: „Римляне лишь смотрели на танцы, греки танцевали сами“. И далее он сопоставляет две культуры: римскую „солдатскую“ и культуру античного мира. Он ценил телодвижения человека как выражение его ритмического начала. Часто просил меня пройти вперёд, а затем идти ему навстречу. Стоял и смотрел. В его восприятии я не шла, а ступала по земле… Ещё ярче М. А. воспринимал движение рук. Их струящийся ритм. Одно из его любимых мест — источник на Святой горе. Вода там холодная, водоём затенён. Здесь он всегда пил, причём отходил от водоёма и стоял. Я должна была зачерпнуть воды и в чаше рук поднести ему. Говорил, что это и есть настоящее утоление жажды и из этого движения человека родилась античная чаша… М. А. не любил классический танец, формы его казались ему мёртвыми. Подлинный танец он видел в творчестве Дункан. А на моё движение, принимавшее Коктебель, смотрел он с какой-то радостью».
Редкое душевное сближение «киммерийского отшельника» и «северной нимфы» позволяло Волошину говорить с ней о самом сокровенном. Как-то речь зашла о его первой жене. «„Макс привёз к себе принцессу“, — говорили о ней болгары». Так «звучала» она и в его рассказах. На вопрос, почему они разошлись, Максимилиан Александрович ответил: «Маргарита всю жизнь мечтала иметь бога, который держал бы её за руку и говорил, что следует делать, что не следует. Я им никогда не был. Она нашла его в лице Штейнера».
Однажды поэт и балерина стояли на скале, обращённой к морю. «Небо полыхало отсветом заката. „Хочешь, я зажгу траву?“ — спросил Максимилиан Александрович. Желания наши были общими. И вот возложил он руки на травы, что стелились у его ног, и отвёл их. Огонь запылал, и дым стал восходить к небу. Волошин стоял, опершись на посох, и смотрел на свой Коктебель. Волосы и складки одеяния — он был в обычном коричневом шушуне — были размётаны осуществлённой им силой. Закат догорал. Догорал и костёр…»
Тем временем Коктебель заполняется новыми гостями. Приезжают Софья Толстая, внучка Л. Толстого и вдова С. Есенина, поэтессы Вера Звягинцева, Клара Арсенева и Елизавета Тараховская, искусствовед и философ Сергей Дурылин, писатель Сигизмунд Кржижановский, поэт Сергей Соловьёв, другие постоянные гости. Является колоритный художник Виктор Андерс, десять лет пробывший на каторге за убийство пристава. Зинаиде Елгаштиной особо запомнился К. Ф. Богаевский. «Среди „разноязычной“ толпы, населявшей этот дом (тут были поэты, литераторы, художники, артисты, учёные, люди, ищущие в жизни высших истин и просто наслаждавшиеся ею), — художник Богаевский был лишь мимолётным гостем, но не участником общей жизни. Сдержанный, молчаливый, Константин Фёдорович оставлял впечатление человека, всеми чувствами, помыслами, всем существом своим ушедшего в какой-то иной мир, мир, неотделимый от воспеваемой им земли».
Да и Волошин казался девушке одиноким, даже в окружении гостей: «Он был приветлив ко всем, радушен со всеми, его интересовала жизнь каждого. Но слово „друг“ в его устах звучало истиной лишь по отношению к Богаевскому… Его обращение к нему „Костя“ было согрето подлинным человеческим теплом, и приезда Константина Фёдоровича из Феодосии Максимилиан Александрович ожидал всегда с нетерпением. Как оживал он в эти моменты творческого общения!.. Они понимали друг друга с полуслова…»
В Доме Поэта поначалу возникали бытовые проблемы: не все новоприбывшие определились с питанием, но Волошины звали всех разделить с ними ужин, рассчитанный на двоих. Макс был глубоко убеждён, что чем больше даёшь, тем больше прибудет. «Наша собственность — это только то, что мы отдаём», — постоянно повторял жене.
И всем — хватало благодаря Максиной бесконечной приветливости и лёгкости, с которой он относился к тяготам быта… А проблема решалась сама собой: то «приходила посылка от друзей, то что-нибудь принесут крестьяне», — вспоминала Мария Степановна. Да, стареющий поэт не менялся в главном — добротолюбии. Стоящие «на перепутьях» всегда могли найти у него защиту, помощь, утешение. Как и двадцать лет назад, он мог сказать о себе теми же словами:
Я жил на людных перепутьях
В толпе базарных площадей.
Я подходил к тому, кто плакал…
Макс и Маруся утешали и молодую харьковскую стенографистку Лидию Тимофееву, перенесшую личное горе, и Софью Толстую, недавно потерявшую мужа — Сергея Есенина, «говорили, успокаивали, пригревали…». И сам Волошин нуждался в понимании. «Мне кажется, — пишет 3. И. Елгаштина, — Максимилиан Александрович испытывал большую радость, когда он встречал в другом человеке отзвук своего мировосприятия. Он не был избалован этим». Макс был в восторге, когда в это лето впервые после революции в Коктебеле появилась Елизавета Кругликова, друг его парижской юности. Вот уж с кем у него не переводились общие темы… Перешагнувшая шестидесятилетний рубеж, но веселая, и оживлённая, она, по воспоминаниям Зины Елгаштиной, сохранила «легкость и беспечность парижской богемы» и сразу стала душой коктебельского общества. Парижская художница, «исчадие» Монмартра и Монпарнаса, легко превратилась в местную «обормотку»: «Как-то ночью ей захотелось арбуза. И она предложила мне пойти на базарную площадь, где, закрытая брезентом, лежала куча арбузов. На куче спал татарин. Разбудили его, сказали, что мы из дома Волошина, хотим купить арбуз. Татарин и не шевельнулся. „Бери сколько хочешь, кушай сколько хочешь“. Мы вытащили из-под него по арбузу». Макс Волошин был в восторге от этой проделки, вспомнив, видимо, свои парижские похождения.
В этот же сезон в Доме Поэта исполнял свои романсы композитор Михаил Гнесин. Доктор С. Я. Лифшиц, который когда-то проводил с Максом сеансы психоанализа, выступал с лекциями о психических травмах у нормальных людей. Однажды в мастерскую завалилась непонятно откуда взявшаяся компания комсомольцев, десятка два. Без комплексов. Затребовали у Волошина стихов. Тот что-то прочёл. Похвалили (один юноша сказал: «Очень художественно»). Макс не обиделся, он даже опоздал на ужин, беседуя с молодёжью. По воспоминаниям Л. Тимофеевой, при расставании один из комсомольцев поцеловал протянутую Максом для прощания руку.
Собирались даже по случаю 700-летия со дня смерти Франциска Ассизского, о котором в ноябре 1919 года Волошин писал:
Ходит по полям босой монашек,
Созывает птиц, рукою машет,
И тростит ногами, точно пляшет,
И к плечу полено прижимает,
Палкой, как на скрипочке, играет,
Говорит, поёт и причитает:
«Брат мой, Солнце! Старшее из тварей,
Ты восходишь в славе и пожаре,
Ликом схоже с обликом Христовым,
Одеваешь землю пламенным покровом.
Брат мой Месяц и сестрички звёзды,
В небе Бог развесил вас, как грозды,
Братец ветер, ты гоняешь тучи,
Подметаешь небо, вольный и летучий…
……………………………………………….
Брат огонь, ты освещаешь ночи,
Ты прекрасен, весел, яр и красен.
Матушка земля, ты нас питаешь
И для нас цветами расцветаешь…
…………………………………………………..
Братья-звери, будьте крепки в вере:
Царь Небесный твари бессловесной
В пастухи дал голод, страх и холод,
Научил смиренью, мукам и терпенью».
И монашка звери окружали,
Перед ним колени преклоняли,
Ноги прободенные ему лизали.
И синели благостные дали,
По садам деревья расцветали,
Вишеньем дороги устилали,
На лугах цветы благоухали,
Агнец с волком рядышком лежали,
Птицы пели и ключи журчали,
Господа хвалою прославляли.
(«Святой Франциск»)
Волошину всегда был духовно близок этот нищий святой монах, братающийся с Солнцем, Месяцем, умиряющий и восхваляющий всё живое. День его памяти не был пустой формальностью, поводом для общения. Ставший не так давно католическим священником Сергей Соловьёв отслужил литургию, а Сергей Дурылин прочитал отрывки из «Сказаний о бедняке Христове»…
Осень проходит под знаком подготовки к персональной выставке акварелей Волошина в ГАХН, но — не привыкать — не состоялась ни эта, ни совместная с Богаевским. Опять они — вдвоём с Марусей, чтение вслух, прогулки по берегу моря, работа за мольбертом (В. А. Пазухин посылает ему английские акварельные краски). Сердце поэта жаждет гармонии, умиротворения, о чем свидетельствует стихотворение, написанное 20 ноября 1926 года:
Фиалки волн и гиацинты пены
Цветут на взморье около камней.
Цветами пахнет соль… Один из дней,
Когда не жаждет сердце перемены
И не торопит преходящий миг.
Но пьёт так жадно златокудрый лик
Янтарных солнц, просвеченных сквозь просинь.
Такие дни под старость дарит осень.
Поэтическое творчество Волошина в последнее семилетие его жизни развивается не столь интенсивно, как раньше. Однако не будем забывать, что именно в это время поэт создаёт свои программные, во многом итоговые, произведения: «Таноб», «Дом Поэта», «Четверть века», «Владимирская Богоматерь»… Себя и свой дом Волошин воспринимает в контексте мировой истории, даже шире — вселенной (о мифологическом подтексте этого и других стихотворений уже говорилось):
…Я много видел. Дивам мирозданья
Картинами и словом отдал дань…
Но грудь узка для этого дыханья,
Для этих слов тесна моя гортань.
Заклёпаны клокочущие пасти.
В остывших недрах мрак и тишина.
Но спазмами и судорогой страсти
Здесь вся земля от века сведена.
И та же страсть и тот же мрачный гений
В борьбе племён и в смене поколений…
(«Дом Поэта»)
Однако стихи впитали в себя и горькие соки «современности»:
…И ты, и я — мы все имели честь
«Мир посетить в минуты роковые»
И стать грустней и зорче, чем мы есть.
Я не изгой, а пасынок России.
Я в эти дни её немой укор
И сам избрал пустынный сей затвор
Землёю добровольного изгнанья,
Чтоб в годы лжи, паденья и разрух
В уединеньи выплавить свой дух
И выстрадать великое познанье…
Ну а концовка стихотворения, заключающая в себе высшую мудрость и обращённая в будущее, в вечность, является своеобразным катарсисом, почти что молитвенным очищением от смут земных, от суеты мирской:
…Благослови свой синий окоём.
Будь прост, как ветр, неистощим, как море,
И памятью насыщен, как земля.
Люби далёкий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе.
Весь трепет жизни всех веков и рас
Живёт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.
Законченное 25 декабря, стихотворение это стало завершением не только года (1926-го), но и, по большому счёту, духовных странствий поэта в исторических пространствах Киммерии. А чуть раньше, в ноябре, вышла небольшая книжка Евгения Ланна «Писательская судьба Максимилиана Волошина» (издание Всероссийского Союза поэтов, тираж —1000 экземпляров), претендующая на подведение некоторых творческих итогов своего героя. В ней слышатся вполне различимые упрёки поэту (и подспудные — времени): наделённый «талантом, вкусом и тонкостью», Волошин так и не смог до конца реализовать себя, не сумел вписаться в русскую литературу. Возможно, он отпугнул читателя своей глубиной и усложнёнными образами… Может быть, в своих статьях хотел казаться слишком оригинальным и уносился в сферы, далёкие от повседневной жизни… Но факт остаётся фактом: художник разминулся со своими «союзниками по символизму». «Одиночкой он прошёл через революцию, одиноким и, в сущности, вне литературы стоит он теперь».
Ещё за двадцать лет до появления этой книжки Иннокентий Анненский провидчески сравнивал творческую судьбу Волошина с «одинокой свечой, которую воры забыли, спускаясь в подвал, — и которая пышет и мигает, и оплывает на каменном приступке…». В марте 1909 года он писал поэту, ещё не выпустившему ни одного поэтического сборника: «Вы будете один… Вам суждена, может быть, по крайней мере на ближайшие годы, роль мало благодарная». Впрочем, понимал это и сам адресат, определивший своё положение в «житейских заводях» и литературном море метко и категорично: «Не их, не ваш, не свой, ничей».
В начале 1927 года Волошины снова отправляются в столицы: нужно показаться врачам, повидаться с друзьями, которых становится всё больше, выступить со стихами, поприсутствовать на своей персональной выставке (если она в очередной раз не сорвётся). На этот раз художнику сопутствовала удача. Ещё 9 января он отправил в Москву 173 акварели, а 26 февраля в ГАХН получил возможность увидеть их в непривычной для себя, официальной обстановке. Увидел Волошин и свой собственный портрет работы А. Габричевского, прослушал доклады о своём творчестве, сделанные С. Дурылиным и С. Сидоровым. Оба отмечали связь волошинской живописи с поэзией, говорили о том, что местный пейзаж вырастает в универсальный благодаря особому «тайновидению» художника. Так, немного не дотянув до своего 50-летнего юбилея, Волошин испытал по-настоящему «юбилейные» чувства; впервые в жизни его чествовали; впервые он слушал «научные» речи о своих работах.
С лечением вышло как и в прошлый раз, хотя были назначены серьёзные процедуры, пущены в ход различные «электрические аппараты», чудо современной техники, но эффект был скорее отрицательный. К тому же поэт торопился в Северную столицу: ещё в начале января хранитель Русского музея П. И. Нерадовский предложил устроить вернисаж художника и Волошин дал согласие.
30 марта поэт и его жена, теперь уже официальная (в Москве Волошины зарегистрировали свой брак), выезжают в Ленинград. Открытие выставки в Доме печати на Фонтанке было назначено на 14 апреля, но художник в дороге подхватил грипп, а при его ослабленном организме это серьёзно. За две недели, остающиеся до начала выставки, Волошин сумел встать на ноги, но чувствовал себя отвратительно и сидение в президиуме было не в радость. Выступали В. Белкин и В. Рождественский, но на этот раз анализ подменился эмоциями и вычурными характеристиками самого виновника торжества. В прессе появились отзывы, и просто положительные, и восторженные, но не слишком оригинальные. Отмечалось, что в пейзажах Волошина проступает «строгий, монументальный, архаический лик земли», присутствует «изумительное разнообразие оттенков», вместе с тем проскользнуло и несколько упрёков — в некотором однообразии его работ и влиянии на них Богаевского.
В этот приезд мало с кем удалось пообщаться из-за болезни. Среди тех, кто навестил поэта дома (Волошины остановились на этот раз у Лидии Аренс), был известный юрист и писатель А. Ф. Кони. Сам немало поднаторевший в искусстве беседы, он отмечал редкий дар поэта: «У Максимилиана Александровича есть удивительная способность: встретит он человека; человека нет — один пепел. Он возьмёт… подует — уголёк затеплится. А дальше подул, — какой там уголёк, целое пламя, костёр, который согревает всех окружающих!» И это, заметим, в состоянии болезни, когда глаза-то открывать не хочется…
30 апреля путешественники вернулись в Коктебель. Болезнь не отпускала Волошина, даже усугубилась осложнением на лёгкие и воспалением плечевого сустава. И всё же поездка казалась успешной. Макс наконец-то был признан официально как художник, хотя, заметим, это признание мало относилось к Волошину-поэту.
Ну а в Доме Поэта, как всегда в преддверии лета, уже толпился народ. Среди старых знакомцев были и новенькие: критик Корнелий Зелинский, поэты Илья Сельвинский и Вера Инбер.
Приближался, теперь уже настоящий, юбилей Волошина — 50-летие со дня рождения. И хотя родился поэт 28 мая (по новому стилю), отметить это знаменательное событие решили «в Духов день, когда земля — именинница», который выпал в том году на 13 июня. Были и величальные стихи в адрес юбиляра, и шаржи, и скетчи, но всех превзошла новосёлка Коктебеля Вера Инбер, воспевшая и «расточительный закат», и тучного «вегетарьянствующего» поэта, и виды коктебельского берега,
…Когда на пляже,
Голей гола,
Чернее сажи
Лежат тела.
Лежат гирлянды животов, и ног, и спин,
Без разделения на женщин и мужчин…
В начале сентября впервые приехал в Коктебель и поэт Всеволод Рождественский, оставивший свои воспоминания: «Залаяла собака, за ней другая, и навстречу из-за стола, на котором, видимо, только что был подан ужин, выскочило такое множество народу, что я в первую минуту совершенно растерялся. Приветствия, возгласы, радостные восклицания… Навстречу мне шёл сам хозяин…
— Ну вот, наконец! — произнёс Максимилиан Александрович очень мягким, приветливым голосом, раскрывая широкие объятия. — Телеграмму получили ещё вчера. Но я так и подумал, что вам захочется побродить по Феодосии, подышать воздухом моего города (он так и сказал — „моего города“ — неоспоримым тоном хозяина всех этих мест). Видели вы башню Климента Шестого? Если бы не эти ужасные ларьки и киоски, которые облепили её со всех сторон, она была бы прекрасна. У неё строгое и величественное лицо…
— Макс, Макс! Да подожди ты со своей историей, — выручила меня одетая почти так же, как Волошин, маленькая подвижная женщина с седоватыми, коротко подстриженными волосами, расчёсанными на мужской пробор. — Дай ты ему отдохнуть с дороги. Поужинать, наконец! Сюда, сюда! Лезьте через эту скамейку. Вот ваше место. Слева от вас московский астроном, справа художница. Она же чемпион по плаванью. Знакомить не буду. Делайте это сами. Здесь все друзья.
И действительно, не прошло и десяти минут, как я уже чувствовал себя как дома. Разговор за столом не умолкал ни на минуту, острая, непринуждённая шутка то там, то здесь поднимала взрывы самого беззаботного молодого смеха. Понемногу в лунных сумерках я начал различать знакомые — пусть только издали — лица. Группа ленинградских художников: Петров-Водкин, Остроумова-Лебедева, скульптор Матвеев. Московские филологи, поэт Г. Шенгели, какие-то старцы с профессорскими бородками и самый пышный цветник молодёжи всех возрастов и темпераментов, скрипачи, балерины, художники и просто энтузиасты литературы. Ужин продолжался долго и шумно. Было истреблено неисчислимое количество чёрного винограда, рассыпанного на подстилке из свежих листьев, выпито две огромные бутыли лёгкого, со сладковатой кислинкой, деревенского вина. Я, оказывается, попал на праздник, день рождения и совершеннолетия одной из „отроковиц“ — дочери известного учёного. Голова у меня гудела от усталости, от обилия впечатлений этого первого крымского дня, но я не отрываясь следил за нитью обшей беседы».
Потом были танцы, гулянья под луной, посиделки «на полукруглой деревянной скамеечке лицом к морю и звёздам». Макса поместили в середину, и начались «страшные и нестрашные рассказы», шарады, загадки и наконец стихи, стихи без конца… Разошлись глубокой ночью. Рождественского положили в мастерской на диване под сенью «огромного лика царицы Таиах». Поэт долго не мог заснуть, ворочался, прислушивался к шуму прибоя, наконец забылся тревожным сном. Ему снились незнакомые города, люди с гортанной речью, морские сражения, канонада, которая всё усиливалась… Вдруг громовой удар прокатился над самой его головой. Он проснулся. Кто-то тряс его за плечо: «Скорее во двор! Дом не выдержит!» Действительно, пол уходил куда-то в сторону, чуть пружиня, выгибались стены… Наступало 12 сентября 1927 года, когда разразилось печальной памяти крымское землетрясение. «Хлопали двери, скрипели деревянные ступени лестниц. Весь дом был в движении, суматохе. Люди выскакивали во дворик, едва закутанные в простыни и одеяла.
Когда я выбежал на свежий воздух, глазам моим предстало необычайное зрелище. Всё население волошинского жилища в самых фантастических одеяниях, наскоро наброшенных на плечи, шумно и бестолково роилось среди колючих кустов небольшого дворика. Все взгляды были обращены на только что покинутый дом. А его чуть-чуть пошатывало, стены прогибались, то тут, то там давая лёгкие трещины. С крыши, от полуразвалившейся трубы, сыпались обломки кирпича, сползала черепица. Движение шло толчками, с самыми неправильными интервалами. Земля была неспокойной, и порою казалось, что её, как огромную скатерть, кто-то тихонько поддёргивает из-под ног… Больше всего тревожило море. Что, если огромный вал обрушится на берег, заливая всё вокруг? Но залив был совершенно спокоен и привычно отражал высоко поднятую луну».
Толчки прекратились на рассвете. Но многие не решались вернуться в такой ещё недавно гостеприимный дом и расположились табором под открытым небом. Вернувшись в мастерскую, Рождественский увидел развалы книг на полу, сдвинутую мебель и заклиненные ставни. «На диване рядом с подушкой лежала привезённая когда-то хозяином со склонов Везувия вулканическая „бомба“, упавшая с полки рядом с моей головой. Мелкие осколки стекла хрустели под ногами. Но огромное гипсовое лицо царевны Таиах сияло резким, чуть приподнятым разрезом глаз всё так же таинственно и спокойно…»
Последствия землетрясения были масштабными и зловещими. Тогда под Ялтой, в Кичкинэ, оказался профессор Московской консерватории, известный пианист А. Б. Гольденвейзер, который записывал: «В Ялте никто не спит. Все под открытым небом. Навалом всякий скарб, тюфяки, подушки, кое-где спящие дети… На набережной кучи камней, обвалившаяся штукатурка… Люди бродят, как мухи, подавленные пережитым ужасом и ожиданием новых толчков… Телеграф и телефон испорчены… В Гаспре слегка обрушились зубцы на башнях. В Кореизе разрушена больница и трое убитых. Церковь совсем разваливается. Жутко было ехать вдоль скал Копенеиза. Нависли камни, всё шоссе ими завалено и ежеминутно могут обвалиться новые и задавить нас… Церковь Фороса кажется слегка покосившейся… В Севастополе значительные разрушения…»
Да, поспешил поэт с утверждением: «В остывших недрах мрак и тишина». Ворочались ещё под крымскими пластами матери-земли великаны-гекатонхейры («Было так, как будто какой-то гигант в припадке ярости схватил мой дом и трясёт его», — пояснял Волошин). Зато как легко и приятно работалось в спокойное время, ранней осенью, в каморке под чердачными балками. «Лёгкий бриз проходит по ней волнами набегающей свежести, пахнет полынью с ближайшего степного взгорья, стрижи с тонким писком перечёркивают синий квадрат окна. Вся комната наполнена ровными ритмическими вздохами моря. На подоконнике всегда либо золотая пахучая дыня, либо тарелка с чёрным виноградом. По издавна установившейся традиции эта комната предназначена поэтам, и не одно поэтическое поколение видело её оголённые стены», — вспоминал Всеволод Рождественский, который по-настоящему влюбился в Коктебель и приезжал сюда ежегодно.
Ну а Волошина тяготят мысли о срочном ремонте дома, его необходимо стянуть чем-то наподобие обруча, чтобы в будущем «гиганты» не нанесли ему больший ущерб. Вообще это землетрясение измотало поэта, необходимо было подумать об отдыхе и лечении в каком-либо санатории, пока не начался новый «наездной» сезон.
1927 год Волошин завершает программным стихотворением «Четверть века», написанным свободным стихом. Поэт начинает подводить итоги жизни, сопрягая свою биографию с жизнью века и ощущая свою сопричастность не только важнейшим событиям последних двух с половиной десятилетий, но и всей истории человечества:
…Я проходил по тропам Тамерлана,
Отягощённый добычей веков,
В жизнь унося миллионы сокровищ
В памяти, в сердце, в ушах и в глазах…
Дух мой отчаливал в жёлтых закатах
На засмолённой рыбацкой ладье —
С Павлом — от пристаней Антиохии,
Из Монсеррата — с Лойолою в Рим…
Я со ступеней тысячелетий,
С этих высот незапамятных царств,
Видел воочью всю юность Европы,
Всю непочатую ярь её сил…
И вновь поэт соотносит (в себе и через себя) земное с вселенским, Запад с Востоком, науку с религией:
…С чем мне сравнить ликованье полёта
Из Самарканда на запад — в Париж?
Взгляд Галилея на кольца Сатурна…
Знамя Писарро над сонмами вод…
Было… всё было… так полно, так много,
Больше, чем сердце может вместить:
И золотые ковчеги религий
И сумасшедшие тромбы идей…
В период, «когда расточала Европа / Золото внуков и кровь сыновей», он «ни германского дуба не предал, / Кельтской омеле не изменил»; «прозревал не разрыв, а слиянье / В этой звериной грызне государств, / Смутную волю к последнему сплаву / Отъединённых историей рас». Свою потребность быть «в годы лжи, паденья и разрух» в России и с Россией Волошин ощущает как зов судьбы, высшее предназначение поэта:
…посреди ратоборства народов
Властно окликнут с Востока, я был
Брошен в плавильные горны России
И в сумасшествие Мартобря.
Здесь, в тесноте, на дне преисподней,
Я пережил испытанье огнём…
Он выполнил своё предназначение. Никогда ещё не выражал Волошин свой «символ веры» — Поэта и Человека — с таким пафосом:
…В шквалах убийств, в исступленьи усобиц
Я охранял всеединство любви,
Я заклинал твои судьбы, Россия,
С углем на сердце, с кляпом во рту.
Даже в подвалах двадцатого года,
Даже средь смрада голодных жилищ
Я бы не отдал всей жизни за веру
Этих пронзительно зорких минут…
Юность века и молодость поэта закончились одновременно:
Из напряжённого стержня столетья
Ныне я кинут во внешнюю хлябь,
Где только ветер, пустыня и море
И под ногой содроганье земли…
Наступивший 1928 год начинается с поездки. Появилась возможность отдохнуть и подлечиться в Кисловодске. С бору по сосенке были собраны кое-какие деньги, и 26 января Волошины прибывают в Кисловодск. Отдохнуть здесь было можно, а вот нарзанные ванны при волошинском кровяном давлении оказались противопоказанными. Опять не слава богу! К тому же снова грипп, температура; да, организм поэта даёт систематические сбои. Но как-то всё обошлось; Макс выкарабкался и вскоре уже разгуливал по Кисловодску. Он здесь впервые, ему всё интересно; появляются новые знакомые… Среди них — митрополит Александр Введенский, один из основателей обновленческой церкви[15]. Судя по всему, два этих человека поняли и полюбили друг друга. В памяти митрополита запечатлелась «светлая личность» Волошина, близким сердцу оказалось его «философско-поэтическое творчество».
Слегка развеявшиеся в новой обстановке, 23 марта Волошины возвращаются в Коктебель. Наступают привычные трудовые будни. Мария Степановна занимается домом и садом; Максимилиан Александрович разбирает корреспонденцию, вникает в то, что делается в стране. А в стране тревожно; похоже, что снова «клубятся кровавые сны». Арестована группа специалистов угольной промышленности Донбасса, всюду ищут и находят «вредителей», раскрывают «заговоры». Неспокойно и здесь. Руководство КрымЦИКа обвиняют в буржуазном национализме и пособничестве «кулацким элементам». Слово «контрреволюция» снова становится наиболее ходовым. Запахло расстрелами. Начиналось то, о чём предупреждал поэт в своей лекции «Россия распятая»: страна вступала в период жестокого «социал-монархизма».
Вместе с тем природа живёт по своим законам… «В весне распятый» Коктебель вступает в период «цветения и тишины». В конце мая начинается традиционный «наезд». Приезжают старые и новые знакомые. Из самых старых — закадычный друг Александр Пешковский, из новых — поэт Рюрик Ивнев, правнучка поэта, друга Пушкина, студентка Елена Дельвиг. Вообще летом 1928 года был установлен рекорд посещаемости: через Дом Поэта прошли 625 человек!
Жизнь поэта катилась своим чередом. Время от времени возникали тяжбы с сельсоветом, который не упускал возможности лишний раз прижать «мироеда», владельца «доходного дома» и обложить его данью. Психологию большевистского шантажа усвоили и простые пастухи, которые однажды через суд пытались вытребовать у Волошина 90 рублей за покусанных волками (обвинялась безобидная собака поэта) овец. Суд, естественно, был на стороне «сельского пролетариата», так что Волошиным в результате пришлось отказаться от собак…Что же, не только взлётами духа наполнено бытие поэта, но и всякими неурядицами («грязными человеческими вожделениями и делишками»), но это не главное. В феврале 1929 года Волошин пишет стихотворение, посвящённое памяти Аделаиды Герцык и точными штрихами воссоздающее её неповторимый духовный облик:
…Своих стихов порывистые строки,
Свистящие, как шелест древних трав,
Она шептала с вещим напряженьем,
Как заговор от сглаза и огня.
Слепая — здесь, физически глухая, —
Юродивая, старица, дитя, —
Смиренно шла сквозь все обряды жизни:
Хозяйство, брак, детей и нищету.
При этом события земного бытия, «житейских повечерий», «В душе её отображались снами — / Сигналами иного бытия». Стихотворение непроизвольно подтверждало глубинную связь двух поэтов, родство их судеб:
…Когда ж вся жизнь ощерилась годами
Расстрелов, голода, усобиц и вражды,
Она, с доверьем подавая руку,
Пошла за ней на рынок и в тюрьму.
И, нищенствуя долу, литургию
На небе слышала и поняла,
Что хлеб — воистину есть плоть Христова,
Что кровь и скорбь — воистину вино.
И смерть пришла, и смерти не узнала:
Вдруг растворилась в сумраке долин,
В молчании полынных плоскогорий,
В седых камнях Сугдейской старины.
А буквально через неделю, 16 февраля, Волошин заканчивает поэму, точнее, «Сказание об иноке Епифании». Оно было задумано как дополнение к «Протопопу Аввакуму», который, к слову сказать, всегда незримо присутствовал рядом с поэтом. Волошин не упускал случая почитать «Аввакума» своим гостям на вышке дома или на берегу моря и некоторых этим чтением «перекормил». Г. Шенгели по окончании последнего сезона жаловался: «…слушал норд-ост и „Аввакума“ и отчаянно скучал».
В работе над «Сказанием» о соратнике Аввакума старце Епифании поэт опирается на его Житие, в котором видит оплот веры, торжество духа, готовность идти на смерть и муки во имя убеждений. Повторяются и черты поэтики: лексико-фразеологическая архаика, свободный стих, воспроизводящий живую, образную речь инока. Примерно тогда же поэт вновь обращается к поэме «Святой Серафим», намереваясь представить её в новой редакции. Все эти произведения свидетельствуют о постоянстве настроений «закатного» Волошина, его неизменной обращённости к сферам высокого Духа.
Очередное лето наступает неожиданно рано. В середине мая уже становится жарко. Естественно, гости не заставили себя ждать. Среди неофитов — поэт Марк Тарловский и будущий «классик» советской литературы, пасынок Лидии Аренс, Всеволод Вишневский, актёр театра Мейерхольда Алексей Темерин. На какое-то время заехал Александр Фомин, ведущий в Судаке раскопки Генуэзской крепости. Приятной неожиданностью стало появление волошинских подруг детства, сестёр Вяземских, и особенно вернувшейся из дальних странствий Татиды. Молодой журналист Иннокентий Басалаев оставил заметки о «сезоне-29». Они интересны с точки зрения того, как представители новой, «советской цивилизации» воспринимали Волошина и его мир: «Издали он похож на толстую мужиковатую бабу, хозяйски расхаживающую по своему двору. Ближе он кажется седым полным иереем, переодевшимся в жёлтую блузу и детские штанишки. Иногда он просто русский бородач-мужик. И однажды он был… паном. Не врубелевским — болотным, студенистым, волшебным. Нет. Обрусевшим паном эллинов». Что ж, и не такие Волошин встречал характеристики…
Автор записок представляет поэта в роли «заклинателя». У одной из актрис заболела голова. Волошин был тут как тут. Задрапированная в розовую полукупальную комбинацию дама «с хорошей театральной искренностью держала свою кинематографическую ладонь. Он в жёлтом и длинном камзоле-блузе, в открытых сандалиях, блестя пенсне, водил по её ладони своими короткими полными пальцами, казалось, знающими все тайны исцеления, и молча заговаривал. На знойном дворике было пусто. В воздухе стояла горячая тишина. Случайно проходящие мимо гости не могли сдержать улыбок. Равнодушно смотрело небо, привыкшее ко всему». Воздержимся от комментариев, заметив только, что в Доме Поэта случались разные гости… Впрочем, есть в этих воспоминаниях и любопытные зарисовки: «По двору в кухню идёт высокий, с маленькой головой и как бы срезанным затылком Евгений Замятин. У него налаженные отношения с кухней. Он ходит туда за водой для бритья, заказать обед или поговорить с хозяйкой… Идём с Всеволодом (Рождественским. — С. П.) к Евгению Ивановичу. Замятину нравится, что дверь его флигеля можно держать день и ночь открытой. Это не Ленинград… Евгений Иванович сидит без рубашки (худой, загорелый торс, крепкие мышцы) перед складным зеркальцем и неторопливо, терпеливо, — как всегда, что бы он ни делал, — бреется безопасной бритвой.
— Как вам нравится моя комната?
— Комната нравится, — отвечает Всеволод, — но ведь мимо ходят целый день!
(Надо сказать, что тропинка к двум деревянным культурно-„нужным“ домикам, называемым всей дачей „гробами“, вела мимо замятинского флигеля.)
Замятин в ответ острит:
— Изучаю утробную жизнь наших обитателей.
…Дачу он назвал „волхоз“ — волшебное вольное волошинское хозяйство».
Журналист Басалаев не случайно выделяет в своих записях фигуру Замятина. Евгений Иванович в конце августа действительно становится объектом всеобщего внимания: стало известно о выходе за границей его романа-антиутопии «Мы», написанного ещё в 1920 году. Тогда же на писателя обрушилась пресса, вновь загуляло набившее оскомину словосочетание «контрреволюционная вылазка», однако в коктебельском «обормотнике» Замятин воспринимался как герой, бросивший вызов системе. В воспоминаниях об этом прямо не говорится, но видится между строк: «Потом компанией провожаем его до автобусной станции. В ожидании автобуса рассаживаемся на перила маленькой станционной террасы… Молодые женщины интересуются Евгением Ивановичем и настойчиво допрашивают, какая у него жена. Он улыбается, шутит. О жене не рассказал». Мы узнаём, что называется, из первых рук, как в течение месяца во всех вечерних, а также «Литературной», газетах «много писалось о Замятине как авторе романа „Мы“. Бранили и требовали оргвыводов. Каждый номер газеты на даче буквально рвался. Каждое новое сообщение о Замятине обсуждалось горячо всеми. Сам Замятин, надо отдать ему должное, держал себя спокойно.
Перед отъездом Замятин показал письмо-ответ, которое он хотел послать в редакцию „Литературной“. Письмо было небольшое и сжатое. Во всяком случае, оно претерпело, видимо, много, прежде чем было послано в газету. В „Литературной“ было напечатано письмо длинное и острое. В нём Замятин заявлял о своём выходе из Союза писателей».
К самим же хозяевам «волхоза» Басалаев относится без особого почтения, снисходительно: Мария Степановна — только «с веником в руках или с иголкой и ножницами… В жаркие дни она надевает полотняные мальчишеские штанишки и сразу теряет свою последнюю женственность.
Она не пишет стихов, не рисует, не танцует. Она поёт. Однако это очень своеобразное пение, без готовых канонов, без памяти. У ней свои мотивы, свои мелодии, каждый раз новые, каждый раз вновь придумываемые. Потому ей иногда бывает трудно повторить одну и ту же песню… Несмотря на некоторое однообразие и унылую форму лейтмотива, в её пении — простом и несложном — всегда важен тон, окраска вещи; она умеет вложить в песню своё отношение к словам, дать в ней свой голос. Это очень самобытное пение. Так поёт птица, так поёт простоволосая деревенская женщина — для себя, для своего сердца, для своего ребёнка».
Сам же поэт выглядит в воспоминаниях журналиста дряхлым стариком, шастающим по дому со своими бумажками и жаждущим внимания слушателей: «Слева за выступом стены скрипнула дверь и послышались шаги.
— Вы ещё не спите? — теноровый знакомый голос.
— Пожалуйста, Макс! — привстал Всеволод. — Входи!
… Он сел на край кровати, подвинул лампу ближе… Поднял тонкий, папиросной бумаги лист на уровень лица, ближе к блестевшим пенсне, и прочёл:
— Сказание об искушении инока Епифания бесами.
Здесь, на чердаке, он показался другим… перед нами сидел по-домашнему простой, оживлённый старик, с короткой полной шеей и толстой спиной, полнота которой ему явно мешала. Его спутанные — в этот час без ремешка — волосы лезли в глаза, он смахивал их со лба лёгкой рукой, снимая пенсне и становясь на секунду незнакомым. Грузное тело его, осевшее на кровати, было неуклюже и нескладно.
Свои стихи он читает немного нараспев, протяжно, ровным голосом, как старинное повествование или житие… Чудовищная в наше время тема должна восприниматься иронически. Но, благодаря наивности тона, искренности и духу примитива, сказание трогательно живо». Единственное, что привлекло в пожилом поэте молодого советского человека, это совершенное владение иронией: «Оттого постоянно чувствуется расстояние между ним и объектом. Все рассказы его прошиты иронической ниткой мастера, познавшего богатство и нищету материала. Рассказывает ли он о прошлом Коктебеля, об играх дачных детей, или о греческих мифах, или о своих гостях, — ирония оживляет, сравнивает, снижает, восхищает, но никогда не убивает…»
Другой молодой человек, впервые посетивший Коктебель, филолог Моисей Альтман, был настроен более серьёзно. Его как литературоведа интересовала прежде всего поэзия Волошина: «Читает он без всякой напевности, отчеканивая и выбрасывая с огромной силой каждое слово, а слова эти между собой никаким цементом связок и частиц не соединены, держась друг на друге собственной своей тяжестью. И язык его в огромном рту словно камни ворочает и выбрасывает за „ограду зубов“ (сказал бы Гомер) прямо в уши, разрывая их, и сквозь них — прямо к вам на дно, я бы сказал, даже не души (это звучало бы розово), а внутренностей, желудка, живота: так весь организм им потрясается. Его слова в его чтении действуют почти физически. И стихотворение в целом — циклопическая постройка… Основное — сила. И самое близкое определение, какое я мог дать его стихам… это то, что они львиные… Подавляла и эрудиция не учёного, а образованного человека. Что ни назовёт — и в самых различных областях, и в „моей“ даже области (античность), — а я и не слыхал. Вот где бы и у кого поучиться»…
А Учитель между тем действительно на глазах стареет, сильно сдаёт. Удручающее впечатление он производит на Юлию Оболенскую, посетившую Коктебель в сентябре: «…всегдашний детский задор, но силы уже не прежние и то, что прежде было только курьёзно, сейчас трагично». Поэт ещё держится за жизнь: отбирает акварели на выставку Общества имени Костанди в Одессе, начинает переводить две новеллы Флобера для готовящегося собрания сочинений писателя… Но силы уже на исходе. 9 декабря у художника случился инсульт, вызвавший расстройство артикуляции, а также — парез руки и ноги. Но даже и в этом состоянии Макс пытается шутить. «Моё астральное тело кем-то похищено», — сообщил он Богаевскому. Однако, увы, не до шуток. «Уже Макса нет, это не прежний Макс!» — заключает его старый друг.
К счастью, через неделю здоровье Волошина частично восстановилось, он начинает подходить к рабочему столу, а в январе пытается рисовать. Поэт заканчивает переводы из Флобера, и Госиздат выплачивает ему гонорар. По весне он уже гуляет, старается регулярно уделять толику времени работе, но быстро устаёт. Радуют вести, касающиеся его акварелей. Ещё в декабре художник узнал об успехе одесской выставки и даже получил деньги от продажи двадцати работ; теперь же становится известно, что несколько его произведений отправлено в Лондон, кое-что продаётся и в своей стране. В общем-то жизнь была бы вполне сносной, если бы не постоянные удары со стороны местных властей: то Курорттрест покушается на часть его дома, то какие-то чины забирают хлебные карточки: «Будем кормить только рабочих!» Волошин понимает: эти атаки будут продолжаться. На исходе жизни ему постоянно приходится защищаться, писать в различные инстанции, объяснять, просить, изворачиваться. Он пытается найти надёжную защиту, отойти под эгиду Пушкинского Дома или Литфонда; затевается соответствующая переписка с руководством этих организаций… Грустно, прискорбно, если не сказать, трагично: на это уходят последние запасы жизненной энергии…
А на дворе уже стояло лето. Только в природе всё было ритмично и прекрасно; только она не таила в себе подвохов (если не считать землетрясения). Впрочем, и приезды гостей были ритмичны и неизбежны, как явления природы. Среди приехавших в Коктебель — Евгения Ребикова, сблизившаяся с поэтессой Марией Петровых, в которой видит огромный талант.
Прибывали и маститые. Из соседнего Судака пожаловали отдыхающий там вальяжный советский граф Алексей Толстой, с которым Макс обсуждал его будущий роман о Петре Первом. При графе был и Вячеслав Шишков. Приезжали юные, едва оперившиеся литераторы. Поэт и переводчик Семён Липкин, которого захватил с собой к Волошину Г. Шенгели, оставил воспоминания. Подъезжая к Коктебелю, Шенгели предупредил его: «Купаются здесь в костюмах Адама и Евы, мужчины — справа, женщины — левее». Вознамерившись освежиться, Липкин двинулся к морю, как было велено, вправо. «У самого моря стояла спиной ко мне голая, крупная женщина, видимо, не очень молодая, судя по жировым отложениям. Шенгели ошибся? Я пошёл влево. Там, хохоча, плескались две девушки. Делать нечего, снова пустился вправо. Голая женщина одевалась, щурясь на солнце. Я узнал по портретам: то был Алексей Толстой. Я, не будучи знаком, поздоровался с ним по-деревенски. Он сказал: „Холод смертный. Бодрит, мерзавец“. Действительно, моё Чёрное море здесь оказалось холодным».
Липкина определили в «гумилёвскую» мансарду, и жизнь его влилась в коктебельский ритм: «Завтрак. Свежее, цвета топлёного молока, масло, горячий домашний хлеб, чай. За столом собралось человек пятнадцать. Кроме знакомых мне супругов Тарловских и Шенгели — Алексей Толстой, профессор Десницкий из Ленинграда, литературовед, тоже литературовед, тоже ленинградец, Мануйлов, поэтесса Звягинцева, с которой на всю жизнь подружился, переводчица Рыкова, две женщины, имена которых забыл, — высокие, плоскогрудые, седые, стриженные по-мужски, как потом оказалось, отличные пловчихи. Во главе стола сидел Волошин, напротив — его жена Марья Степановна, маленькая, остроглазая. Меня представили Волошину. Он показался мне похожим на памятник первопечатнику Фёдорову». Разговор шёл о том о сём, обсуждались московские новости. Негодовали по поводу и вышучивали «рапповских зловещих невежд». Волошин, казалось, относился ко всему добродушнее, чем его окружение. Но вскоре стало ясно: он немного играет, успокаивая себя, умиротворяя других.
Вечером Алексей Толстой читал свой рассказ «День Петра». Слушали, пили отузское вино, восхищались рассказом. Никто не осмелился на критические замечания. Только Волошин сказал: «Алихан, ты удивительно талантлив, какой огромный писатель вышел бы из тебя, если бы ты был образован». Липкин подумал: «Если уж Алексей Толстой мало образован, то что сказать о таких, как я?»
Понемногу начинающий поэт стал осваиваться в «обормотской» жизни, понял, на чём основывалась здешняя экономика: «Против дома, к тополю, рядом с рукомойником, был прибит ящик, вроде почтового, самодельный. В него каждый опускал деньги — кто сколько сможет. На этих деньгах держалось хозяйство, и кое-что оставалось на зиму». Ну а Толстой, уезжая, мог оставить, с «графского» плеча, весьма солидную сумму.
Разумеется, «студент» Липкин держал экзамен по курсу «Поэзия» у «профессора» Волошина. «Профессор» слушал его стихи внимательно, но вместо оценки прочёл «соискателю» небольшую лекцию: «В молодости многие пишут стихи, иногда неплохо. Но поэтом бывает только личность. Личность создаётся Богом. Та глина, из которой Бог лепит личность поэта, состоит из страдания, счастья, веры и мастерства, а мастерство есть знание, навыки и ещё что-то, а это „что-то“ называют по-разному: натуры примитивные, но чистые — волхвованием, более тонкие — тайной или музыкой. Года два тому назад (то ли лектор, то ли слушатель ошибается в сроках. — С. Я.) нас навестил Андрей Белый, изрёк: „Мной установлен закон построения пушкинского четырёхстопного ямба, я заключил закон в математическую формулу“. — „Боренька, — отвечаю я, — вот и напиши, как Пушкин“».
Похоже, что к осени 1930 года здоровье Волошина более-менее стабилизировалось. Он вновь совершал длительные прогулки, на одну из которых взял с собой молодого поэта. Липкин запомнил: «Дорога была нелёгкая, жаркая, ветреная, ветер высушил стебли трав и колючки по бокам тропы, то падающей, то поднимающейся. Волошин, несмотря на свою тучность, ступал легко. При этом он безустанно говорил, главным образом, о греческом и итальянском прошлом этих одичавших мест». Он связывал воедино Элладу и Среднюю Азию, север Европы и наше Причерноморье, рассказывал историю возникновения караимской ереси[16], говорил об этногенезе крымских татар, которых ценил за их честность и трудолюбие. «Древние виноградари и тайноведцы подземных вод» — так он их определял; запало в память мемуариста и самоопределение Волошина «христианский коммунист».
Однако для власть имущих оно слишком мудрёно — куда проще и весомее клеймо «кулак». Искоренение кулачества тогда уже вошло в разряд первостепенных задач партии и правительства. Ещё с осени 1929 года по посёлку поползли страшные слухи, вспоминает Ф. Ф. Синицына, внучка священника, купившего ещё летом 1906 года десятину земли рядом с домом Волошина. Говорили о том, что Максимилиан Александрович попал в список «кулаков»: «Они должны были составлять не менее 5 процентов от всех хозяйств. В посёлке наёмным трудом никто не пользовался, батраков вообще не было… В список попали все трудолюбивые семьи, имевшие лошадей либо другой скот, все владельцы сеялок, веялок и прочего инвентаря. Не забыли лавочника Сапрыкина и бывшего владельца кафе „Бубны“ грека Синопли… Лишение избирательных прав попа — моего дедушки, „кулака“ Волошина и многих других никого не взволновало. Гораздо больше пугало постановление от 30 января 1930 года Политбюро ВКП(б) о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств». «Подлежу уничтожению как класс», — грустно шутил поэт. Вскоре Волошиным вручили приказ о конфискации домов с датой принудительного выселения. «Макс сказал, что записал в своём дневнике один из вариантов выхода из тупика — самоубийство… Маруся со свойственной ей решительностью назначила дату самоубийства на день их выселения из дома». Она понимала, что конфискация домов для Макса «не просто потеря жилья и крыши над головой. Его дом для него родное детище».
Но и на этот раз всё обошлось, «счастливый жребий дом мой не оставил»… Друзья поэта через Москву образумили ретивых начальников, и Волошиных снова оставили в покое. Возникла очередная пауза мнимого затишья. Однако эти треволнения не прошли даром, именно тогда состояние здоровья поэта резко ухудшилось. В январе 1931 года художник переживает настоящую депрессию. Он вновь ощущает «медленный отлив друзей», о многих из них не имеет сведений; осложнились за последнее время отношения между ним и супругами Константином Кандауровым и Юлией Оболенской. Между тем Константин Васильевич не так давно перенёс тяжёлую операцию, он сам нуждается в сочувствии. Волошин пишет ему и ожидает ответа. Лёжа «с дырой в животе, в которую можно всунуть кулак», Кандауров 2 августа 1930 года диктует Юлии письмо Волошину: «Дорогой друг, гранит нашей долголетней дружбы хотя и покрылся последние годы каким-то налётом, но твоё письмо очистило его, и он опять засверкал своей поверхностью. Дорогой мой, твоё письмо во время тяжёлых переживаний произвело на меня огромное, глубокое впечатление, до сих пор иначе и быть не могло!..
Дорогой мой Макс, большую благодарность шлю тебе за рисунок, который я собираюсь подарить моему доктору».
Зная об интересе Волошина к загадкам гиперфизического мира, Константин Васильевич описывает свои ощущения во время операции и болезни, когда лица близких людей виделись ему «другими»: «…курьёзное ощущение раздвоения, растроения и даже многоличие какой-то своей личности. Доходило до того, что я искал свой рот, который мне казался моим, рот, который стоял поперёк лица… Я не знал и не мог понять, которая нога моя, которая неизвестно чья… Много было фантастических положений… Можно ли было предположить, что тебе, художнику, поэту, работнику искусств, придётся от такого же работника получать несколько странное, психологически ничем не связанное с искусством письмо…» Письмо это передала Максу Женя Ребикова. Возможно, оно явилось продолжением каких-то предыдущих разговоров двух художников… Кто знает, в каких незримых пространствах блуждали они…
Большую психологическую помощь поэту оказывает в это время Казик, Казимир Мечиславович Добраницкий, партийный работник, журналист. Он не только утешает поэта в письмах, но и наведывается в Коктебель, чтобы урезонить местные власти, которые спят и видят, как бы лишить Волошиных хлеба и керосина. Его вмешательство на какое-то время создаёт Дому Поэта «иммунитет», как пошутил однажды художник. И вскоре уполномоченный Наркомснаба по Феодосийскому району направляет в посёлок директиву: коктебельской лавке снабжать «поэта-художника Волошина» хлебом «по нормам 3-ей категории» (300 граммов на душу в сутки). Теперь надо наконец решить вопрос о пенсии Наркомпроса, который постоянно ставится и снимается ответственными товарищами с повестки дня. Дело затягивается, а пока что, надеется Добраницкий, Союз писателей «от себя» может высылать поэту определённую сумму. Тот же Казимир Мечиславович пытается пристроить в «Новый мир» воспоминания Макса о Черубине де Габриак, продать в Москве какие-то его акварели. Парадоксально, но факт: в последний год жизни Волошину начинает казаться, что он обрёл настоящего «доброго гения» в лице этого молодого коммуниста. Скоро приходит отрезвление: Казик, стремительно идущий в гору как партийный функционер, охладевает к беспартийным Волошиным.
27 марта решается важный вопрос: Союз писателей даёт согласие на то, чтобы устроить летом у Волошиных платный дом отдыха. Макс получает перевод на 100 рублей, та же сумма приходит и в апреле, а в мае художник подписывает Союзу дарственную на «каменный флигель» Дома. К самому же Максу народ в этом году не торопится; приятной неожиданностью стал для Волошина приезд в июне Евгения Яковлевича Архиппова с женой. С Евгением Яковлевичем, педагогом и библиографом, имеющим склонность к поэзии, Максимилиан Александрович познакомился в Новороссийске, когда возвращался после своего кисловодского «лечения». Между ними сразу завязались тёплые отношения. Евгений Архиппов оставил потомкам «Коктебельский дневник», в котором описал, по сути дела, последнее лето в Доме Поэта, отмеченное присутствием его хозяина.
Разумеется, сразу же — экскурсия по дому, прогулки по окрестностям; все четверо пошли на место недавних раскопок. Известно, что с помощью Волошина подводные археологи обнаружили остатки мола древнего города, Каллиеры. Волошин-художник написал небольшую акварель предполагаемого города, растворившегося в веках. Волошин-поэт посвятил Каллиере один из самых красивых поздних сонетов:
По картам здесь и город был, и порт.
Остатки мола видны под волнами.
Соседний холм насыщен черепками
Амфор и пифосов. Но город стёрт,
Как мел с доски, разливом диких орд.
И мысль, читая смытое веками.
Подсказывает ночь, тревогу, пламя
И рдяный блеск в зрачках раскосых морд.
Зубец, над городищем вознесённый,
Народ зовёт «Иссыпанной Короной»,
Как знак того, что сроки истекли,
Что судьб твоих до дна испита мера,
Отроковица эллинской земли
В венецианских бусах — Каллиера.
(«Каллиера», 1926)
Возможно, в этом сонете заключён и личностный мотив. Как знать, какие чувства испытывал поэт, издавна читавший «смытое веками» в морщинах своей Киммерии, «земли глухой и древней», слагая стихи о том, «что сроки истекли, / Что судьб твоих до дна испита мера…».
Ближайший холм по береговой линии от мастерской к Карадагу — «это и есть сторожевой крепостной холм, охраняющий Каллиеру, — рассказывает Е. Я. Архиппов. — …Остатки Каллиеры лежат на плоскогорье… А в соседней бухточке, за старым кордоном, по дороге к мысу Мальчин, находятся и остатки античного порта с фундаментами волнореза под водой. На французских картах начала XIX века порт обозначен как „Порт тавро-скифов“. Гибель Каллиеры надо отнести к тому же времени, когда погибла античная Феодосия, в IV веке опустошённая полчищами гуннов».
Ходили ещё в Каньоны и на Топрак-Кая. Далеко не молодой, переживший «удар», Волошин тем не менее вырывался от своих спутников вперед. Его шаг был «крупный, точный и уверенный». Он ловко пользовался посохом, но«…так переставляет посох рука епископа, одетого в парчовые одежды, во время его краткого пути от престола, через царские врата, на амвон для благословения молящихся. Поэтому редкие кочевники домов отдыха и санаториев, встречавшиеся нам во время прогулок, так столбенели; иные сторонились с дороги, смотря вслед и долго и трудно осмысливая воочию увиденную прошедшую перед ними мифическую великолепную фигуру». Время от времени поэт склонялся над какой-нибудь травинкой или гнёздами камней. «Тот наклон головы, та внимательность… говорили о большем, чем перебирание и рассматривание окраски… Эти кучечки камней казались подорожными чётками. Язык их ему был понятен».
Архиппову запомнились беседы о митрополите Александре Введенском и поэте Андрее Белом, чтение Волошиным «Владимирской Богоматери» и «Святого Серафима», стихотворений из цикла «Усобица» и фрагментов из книги «Путями Каина». По сравнению с мартом 1928 года, когда Волошин читал стихи в Новороссийске под завывание норд-оста, его манера исполнения, как считает его друг и почитатель, несколько изменилась. Тогда в голосе действительно «было гудение набата, на высоких нотах несущее предрекаемую беду. Это было пение набата о земной беде, о возмущении земли, пропитанной кровью. Но гудение густое, ровное… развёртываемое, как текст библейского пророческого повеления… В коктебельском чтении эти ноты были смягчены, голос не делал предрекающего упора… но сохранил, особенно в чтении „Усобицы“, шепотную предсказательную зловещесть. Соответственно голосу Максимилиан Александрович чаще выбирал мирные чтения…».
Запомнились и трогательно-юмористические моменты. Макс, как известно, сидел на строгой диете. Маруся строго следила за рационом его питания. Волошина это, естественно, раздражало. В ответ на запрещение Марии Степановны выпить третью чашку чая или взять ещё один кусок пирога Максимилиан Александрович мог разразиться абсурдно-убедительной фразой: «Ты сидишь и считаешь, сколько я выпил, а того не считаешь, сколько я за всё это время не выпил и не съел…» И вслед за ней — «слепительная ясно-взорная» улыбка во всё лицо…
Вроде как и было чему улыбаться. 20 ноября в газетах появляется сообщение ТАСС о том, что Совнарком РСФСР удовлетворил ходатайство Федерации объединений советских писателей о назначении персональной пожизненной пенсии писателям А. Белому, М. Волошину, Г. Чулкову. Правда, свою первую пенсию художник получит лишь в конце января 1932 года. Жить ему останется полгода…
В декабре 1931-го поэту становится хуже. Осмотревший его в Феодосии врач диагностирует: «Миокардит с ослаблением мускула сердца». Сам Волошин чувствует себя очень постаревшим: он ощущает упадок сил, физических и творческих; двигаясь, задыхается, а ведь как ещё хочется наклониться к цветку или поднять камень… К тому же ведутся работы в горах: разрушается «пейзаж моей души», грустно замечает художник. Да, невесело… Союз писателей своими силами не может осуществить ремонт и содержание дома отдыха, поэтому намеревается сдать его в аренду родственной организации… Партиздату. А что, пытаются объяснить Волошину, — та же «пишущая братия». Сейчас все организации — на одно лицо, смотрящее в светлое будущее… коммунизма. Он ещё пытается работать — записывает свои воспоминания, но идут они мучительно трудно. Не хватает какого-то творческого импульса, общения…
Из письма М. С. Волошиной к М. А. Пазухиной от 28 марта 1932 года: «Масе советует врач Ессентуки. Он очень худо себя чувствует. И меня это убивает. Кротость у него непередаваемая. Я знаю, что он очень огорчён и томится — и своим состоянием, и тем, что ему не работается, но он так приветлив и ласков — ни жалоб, ни нытья, а светлый, светлый и всячески старается своего состояния не обнаруживать».
Но смерть медленно и верно подбирается к поэту. Лёжа, он задыхается, и с 15 июля проводит ночи, сидя в кресле. Все его болезни, прошлые и настоящие, ополчаются против него: сердечная недостаточность, артрит, астма, воспаление лёгких, нарушение речи… Постепенно отказывают почки… Навестивший Волошина в Коктебеле в конце июля писатель В. Владимиров (Долгорукий) оставляет страшную запись: «Он сидел в кресле на балкончике второго этажа… Часов с 11 утра на балкончике уже не было солнца, но всё же больному было жарко и душно, ему трудно было говорить. Жажда постоянно мучила его, а много пить было запрещено. Он поводил языком по засохшим губам. Глаза потухли…» Волошину впрыскивали камфару, давали кислород, но процесс был необратим. 10 августа началась агония. Вечером в клубном саду играл духовой оркестр… 11 августа в 11 часов поэта Максимилиана Волошина здесь, на земле, не стало.
Было известно, что художник завещал похоронить себя на коктебельской горе Кучук-Енишар. 12 августа, во второй половине дня, когда жара спала, скорбная процессия начала своё восхождение. Тяжёлый гроб был положен на линейку, которую тянули две лошади. Подъём был долгим и трудным. Люди помогали лошадям, лошади — людям. На вершине хребта, там, где небо опускается в «родную бездну», тело поэта-сына было предано матери-земле…
…И на крутом холме, где мак роняет пламя,
Где свищут ласточки и рушится прибой,
Мудрец, поэт, дитя, закрыв лицо кудрями,
Свой посох положил для вечности земной… —
написал Всеволод Рождественский, отдавая свою дань любви художнику.
«Одиннадцатого августа — в Коктебеле — в двенадцать часов пополудни — скончался поэт Максимилиан Волошин, — читаем мы в воспоминаниях М. Цветаевой „Живое о живом“. — …Поэту всегда пора и всегда рано умирать, и с возрастными годами жизни он связан меньше, чем с временами года и часами дня… Итак, в свой час… суток, природы и Коктебеля… в свой час сущности. Ибо сущность Волошина — полдневная, а полдень из всех часов суток — самый телесный, вещественный… Таково и творчество Волошина… — плотное, весомое, почти что творчество самой материи, с силами, не нисходящими свыше, а подаваемыми той… сожжённой, сухой, как кремень, землёй, по которой он так много ходил и под которой теперь лежит».
С горы Кучук-Енишар открывается удивительный вид на залив и скалистый край гряды, очертания которого поражают своим сходством с профилем поэта. Что это — мистический знак того, что отныне этот край навечно принадлежит поэту? А может быть, это его сбывшиеся стихи?
Земли отверженной застывшие усилья.
Уста Праматери, которым слова нет!
И гигантский профиль Волошина, устремившего взор туда, где смыкаются небо и море, и его могила на противоположной стороне залива хорошо просматриваются с вышки Дома Поэта. На месте упокоения Волошина виднеется дерево, маслина, ствол и ветви которого напоминают крест. Дерево это никто не сажал…
Жизнь — бесконечное познанье…
Возьми свой посох и иди!
…И я иду… и впереди
Пустыня… ночь… и звёзд мерцанье.
…Не я ли
В долгих планетных кругах
Создал тебя?
Ты летопись мира,
Таинственный свиток,
Иероглиф мирозданья,
Преображенье погибших вселенных…
«Человек — это книга, в которую записана история мира», — вспомним ещё раз эту запись из дневника Максимилиана Волошина за 1907 год. «Весь трепет жизни всех веков и рас / Живёт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас», — вторит он себе двадцать лет спустя в итоговом стихотворении «Дом Поэта». Не станем забывать, что читает эту книгу поэт, чей «дух древнее, чем земля и звёзды», потому и проникает его мысль сквозь толщу времён, познавая «иных миров в себе напоминанья».
«Великий пафос лирики завещан» нам Волошиным, и завещание это безгранично. Лирическое «я» поэта включает в себя образы-символы из самых разных сфер — литературы, искусства, мифологии, религии. Это и Вечный Жид, и Иисус Христос, и штейнеровский «Солнечный дух», и космический первочеловек Адам Кадмон, и Кентавр, и Эдип, и Зевс, и Орфей, и множество персонажей-демонов, вроде Дмитрия-императора, Стеньки Разина или протопопа Аввакума.
«Орфеем, способным одушевить и камни», назвал хозяина Коктебеля Андрей Белый. С мифом об Орфее — об обречённости любви — соотносил Волошин трагическую участь поэта. Не забывал он и о великом посвящённом Древней Греции, придавшем могущество солнечному культу Аполлона Орфее (Орфей — «исцеляющий светом»), первосвященнике и царе, с именем которого связана целая система религиозно-философских взглядов (орфизм).
Эта светлая аллея
В старом парке — по горе,
Где проходит тень Орфея
Молчаливо на заре…
Всё смешалось. Мы приидем
Снова в мир, чтоб видеть сны.
И становится невидим
Бог рассветной тишины.
(«Эта светлая аллея…», 1905)
В этих стихах слышатся отголоски орфического учения о переселении душ, заимствованного сектой орфиков у фракийцев и перешедшего к пифагорейцам, а много веков спустя — в современные Волошину оккультные учения. Орфики воспринимали тело как «темницу» или «могилу души», а идеал видели в блаженном бессмертии или бестелесном бытии души. Однако вырваться из телесной тюрьмы, полагали они, невозможно, ибо после смерти душа попадает в новое тело, то есть в новую тюрьму, причём, как и в индусском учении о карме, в новой телесной жизни получает возмездие за прегрешения жизни прошлой. Как знать, может быть, это прямо или косвенно отражено в IX сонете «Corona Astralis», посвящённом
Тому, кто в тьму был Солнцем ввергнут в гневе,
Кто стал слепым игралищем судеб,
Тому, кто жив и брошен в тёмный склеп.
Но не будем привязывать стихи к закостенелым учениям… Хотя, думается, Волошину было близко то, что отличало учение орфиков от индусов: идеал бытия души после «спасения» от круговорота рождений — не в «потухании» её в нирване, а в её блаженном индивидуальном бессмертии в божественном небесном мире, там, где
Вечность с жгучей пустотою
Неразгаданных чудес
Скрыта близкой синевою
Примиряющих небес…
(«По ночам, когда в тумане…», 1903)
Но если у индусов и орфиков переселение душ есть зло бесконечно длительной привязанности души к земле и телу, а спасение — в окончательном отрыве от телесного мира, то у Волошина нет этого отвержения телесности даже во имя тяготения души к Богу:
Плоть моя осмуглела,
Стан мой крепок и туг,
П
Влажны мускулы рук…
(«Я, полуднем объятый…», 1910)
В поэзии Волошина нет страха перед инобытием. Точнее, в ранних стихах ощущается ужас перед вселенной, перед космосом («Но ужас звёзд от знанья не потух…»), предчувствие, что «И труп Луны, и мёртвый лик Сатурна — / Запомнит мозг и сердце затаит…». Однако сложившийся (не без влияния Штейнера) взгляд поэта на человеческую жизнь как на бытие, растворённое в космическом времени и лишь на мгновение воплощённое в земной оболочке, лишён трагичности. Не муки испытывает душа в своих странствиях, а видит сны, хоть и томится памятью. Подобно тому, как воплощается душа человека, неоднократно меняя земные оболочки, так же и душа истории постоянно возрождается, меняя свои временные, национальные рамки.
«Вся Россия делится на сны…» — писал, тоскуя о родине, В. Набоков в 1926 году. У Волошина на сны делятся вся земная жизнь человека и мировая история. И это, может быть, закономерно для поэта Киммерии. Ведь, согласно «Метаморфозам» Овидия, божество сна — Гипнос обитал в киммерийской пещере, из недр которой вытекал родник забвения, дающий начало Лете. Свою же миссию Волошин видел в прочтении этих снов. Откроем записи в «Истории моей души», сделанные 26 сентября 1907 года: «Если судьба привяжет к России, я буду в глубине своей комнаты добросовестным историографом людей и разговоров, а на площадях газет — толкователем снов, виденных поэтами. Быть толкователем снов и добросовестно записывать свои сны, виденные на лицах современников, — вот моя миссия в России». Миссия оставалась неизменной, однако со временем меняется ракурс мировосприятия.
Космический ужас, «внежизненные обиды», возможно, через личное восприятие Христа, через «жажду оцета»[17] переводятся в земную плоскость. «Зрачки чужих, всегда враждебных глаз», направленных со всех сторон на поэта, становятся реальностью (знамением истории, если угодно), а его путь «в пространствах вечной тьмы» космоса оказывается блужданием «в лесу противочувств, / Средь чёрных пламеней, среди пожарищ мира»…
Что же касается затронутой выше темы, то она с творческой зрелостью поэта претерпевает существенные изменения — от антропософского «Солнечного духа», свершившего на земле «мистерию Голгофы», Волошин идёт к восприятию православного Образа, как правило, открыто не называемого. Правда, христианство Волошина, отчётливо обозначившееся в его творчестве в последние полтора-два десятилетия жизни, в значительной степени основывалось на софиологии Владимира Соловьёва, было связано с его трактовкой человека как связующего звена между природным и божественным мирами (у Волошина: каждый «есть пленный ангел в дьявольской личине»). Конечно, ощущается здесь и влияние Достоевского, о чём неоднократно уже говорилось.
Своеобразную точку зрения высказывает на этот счёт Э. М. Розенталь («Знаки и возглавья»): «Макс ищет ответ не у позднего Достоевского, пришедшего после долгих сомнений и колебаний к Богочеловеку, а у Достоевского, ещё раздираемого сомнениями и пытающегося отыскать будущее человечества в действиях самих людей, которых, правда, ещё никто не встречал…»
Волошин до конца жизни использовал религиозно-философский опыт Вл. Соловьёва, а также Достоевского, которого постоянно перечитывал, что в итоге выразилось в соотнесении соловьёвской Софии-Премудрости Божией с ликом Владимирской Богоматери. Н. А. Бердяев писал: «Вл. Соловьёв всегда понимал христианство не только как данность, но и как задание, обращённое к человеческой свободе и активности… дело Христово в мире есть прежде всего организованная любовь. И дела любви по соловьёвскому сознанию нужны не для оправдания, как то обнаруживалось в западных спорах об оправдании делами и верой, а для осуществления Царства Божьего». Мысль Соловьёва — «Человечество должно не только принимать благодать и истину, данную во Христе, но и осуществлять эту благодать и истину в своей собственной и исторической жизни» — была для Волошина откровением и руководством к действию: «во все периоды в центре стоял для него вопрос об активном выражении человеческого начала в Богочеловечестве».
Максимилиан Волошин являет собой редчайший пример жизнетворчества: основа жизни и линия поэзии сливаются у него в одно целое, и целое это — подвиг христианской любви к людям, к России.
Воспринимая «пути России» с позиции телеологии (высшей, космической цели), поэт вместе с тем далёк от наивного (простодушного) оптимизма. Предпоследнее четверостишие стихотворения «Северовосток» звучит так:
Сотни лет навстречу всем ветрам
Мы идём по ледяным пустыням —
Не дойдём и в снежной вьюге сгинем
Иль найдём поруганный наш храм…
«Сгинем» или «найдём»… Одно из последних произведений Волошина — «Владимирская Богоматерь» — содержит в себе то же «расщепление» судьбы. Поэту видятся
Два ключа: златой в ЕЁ обитель,
Ржавый — к нашей горестной судьбе.
А двумя десятилетиями раньше у Волошина родилась одна из самых загадочных строк: «Явь наших снов земля не истребит…», что может породить различные толкования, но можно принять и такое: живя на земле, овеянной поэзией мифов, Волошин не мог не выразить в своих стихах глубинную суть античной трагедии — все события в конечном итоге ведут к восстановлению изначальной гармонии, «цельности».
И ещё одна мысль, касающаяся сновидений. Как известно, и в Библии, и в древнерусском эпосе много говорится о снах, как о временном «небытии» (смерти); проснувшись, герой воскресает, подобно Лазарю, обновлённый и преображённый пророческой вестью…
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!
«Русский сон под чуждыми нам именами», которым «грезит» сейчас и которым «грезила» тогда Россия, возможно, обернётся, если прислушаться к Волошину, духовным очищением, обретением «поруганного храма» и воскресением, о чём, в сущности, пророчествовал и поэт:
Не жизнь и смерть, но смерть и воскресенье —
Творящий ритм мятежного огня.
…Разговор о творчестве Максимилиана Волошина никогда не придёт «к конечному пределу». Невольно вспоминаются слова самого поэта: «…Продлённый миг / Есть ложь… / И беден мой язык», да и высказывание Марины Цветаевой: «Макс сам был… тайна…»
И всё же рискнём «подвести итоги».
Максимилиан Волошин вошёл в историю русской культуры как «гений места», «хранитель Коктебеля и Карадага», строитель и хозяин Дома Поэта. Он уникален своей творческой широтой, способностью совмещать эзотерические откровения с научно-публицистическим пафосом и героико-философским эпосом. В историко-литературном обиходе давно закрепилось мнение, что Волошин — единственный поэт-летописец своей эпохи.
Его стихи о России запрещались в России как при добровольцах, так и при большевиках. Стихотворение «Русская революция» вызывало восхищение у таких полярных людей, как Пуришкевич и Троцкий. В 1919 году красные и белые, беря по очереди Одессу, начинали свои воззвания одними и теми же словами из волошинского «Брестского мира». Первое издание «Демонов глухонемых» было распространено большевистским Центагом, а к выпуску второго — приступал добровольческий Осваг.
Поэт вспоминал, что «в моменты высшего разлада» ему «удавалось, говоря о самом спорном и современном, находить такие слова и такую перспективу, что её принимали и те и другие. Поэтому же, собранные в книгу, эти стихи не пропускались ни правой, ни левой цензурой», поскольку ни та ни другая не могли принять его главный принцип: «Человек… важнее его убеждений. Поэтому единственная форма активной деятельности, которую я себе позволял, — это мешать людям расстреливать друг друга». Да и собственная его жизнь могла оборваться в любую минуту. «Кто меня раньше повесит — красные за то, что я белый, или белые за то, что я красный?..» — писал он в августе 1921-го А. М. Петровой.
В последние годы жизни Волошина и в последующие пять-шесть десятилетий его стихи распространялись «тайно и украдкой» в тысячах экземпляров. Сегодня его книги — на полках наших библиотек; сбылось то, о чём писал поэт, обращаясь к Е. И. Дмитриевой, а возможно — к любому своему будущему читателю:
Меня отныне можно в час тревоги
Перелистать,
Но сохранят всегда твои дороги
Мою печать…
На дне души гудит подводный Китеж —
Наш неосуществимый сон!
На четырёхугольной вышке Дома Поэта всё так же стоит его хозяин, вглядываясь в звёздную даль, в чернеющее перед ним море… Откуда-то с прибрежной полосы, или это только чудится, доносятся обрывки разговора:
— Когда мы жили в Севастополе… я помню деревья… Они росли сквозь дома. Мама, почему деревья растут сквозь дома?
— Это бывает после войны, когда дома разрушены.
— А отчего бывают войны?
— Оттого, что злые духи распоряжаются поведением людей.
— А богатырь может победить злых духов?
— Конечно, Макс.
— А тот, кто пишет сказки, поэт, он может?
— Он тем более…
— Господи, я так хочу стать поэтом, помоги мне!
…А на вышке уже собрались «обормоты». Заразительно смеются Марина Цветаева и Сергей Эфрон, о чём-то горячо спорят Алексей Толстой и Мандельштам, дружески беседуют Николай Гумилёв и Лиля Дмитриева, командарм Кожевников, в форме почтового чиновника, что-то доказывает Казику Добраницкому; присутствуют и никогда ранее здесь не бывавшие Сергей Маковский и Константин Бальмонт. Но нет среди них Макса…
А вдалеке завиднелась направляющаяся к ним «по лону вод» фигура в чём-то белом. Пышные волосы, борода, на лбу — венчик. Возможно, это «гений места» и «устроитель судеб» Коктебеля… Может быть, Одиссей, только что покинувший «смолёную ахейскую ладью»… Или… Видение исчезло. Да и было ли?..
Откуда-то издалека нарастает колокольный звон, всё преображается. И уже трудно различить — морская ли гладь простирается перед глазами коктебельских гостей или это таинственное озеро Светлояр раскинуло свои воды… Заворожённо и благоговейно наблюдают они, как в глубине его показались купола церквей и медленно-медленно потянулись к поверхности… Серебряный звон всё слышнее и слышнее… И вот уже открылся глазам красавец Китеж, город русских преданий, поэтической мечты и неумирающей надежды…
1877, 16 мая — В Киеве, в семье коллежского советника, члена Киевской палаты уголовного и гражданского права Александра Максимовича Кириенко-Волошина и его жены Елены Оттобальдовны, в девичестве Глазер, родился сын Максимилиан.
1878, 23 февраля — А. М. Кириенко-Волошин назначен членом Таганрогского окружного суда. Переезд семьи в Таганрог.
1879— Разрыв отношений между родителями. Мать с сыном переезжают в Севастополь.
1881, 9 октября — Смерть отца.
Декабрь — Переезд в Москву.
1884 — Занятия по индивидуальной программе с домашним учителем, студентом Н. В. Туркиным.
1886 — Увлечение Ф. М. Достоевским («Бедные люди», «Неточка Незванова»).
1887, май — Поступление в частную гимназию Л. И. Поливанова.
1888— Переход во 2-й класс 1-й Московской казённой гимназии.
Октябрь — ноябрь — Первые самостоятельные стихи.
1893, 31 января — Первое публичное выступление Волошина: на литературно-музыкальном вечере в гимназии он читает стихотворение Пушкина «Клеветникам России».
3 июня — Отъезд с матерью в Крым.
Июнь — Перевод в Феодосийскую гимназию.
Декабрь — Сближение с А. М. Пешковским.
1894, Весна — Начало дружеских отношений с А. М. Петровой. Увлечение рисованием.
Осень — В печати появляется первое стихотворение, опубликованное в сборнике памяти директора гимназии В. К. Виноградова. Декабрь — Знакомство с художницей Е. Ф. Юнге.
1897, 6 июня — Получает аттестат зрелости.
1 августа — Зачислен на юридический факультет Московского университета.
Октябрь — Попадает под надзор полиции.
Ноябрь — Вступает в Попечительство о бедных.
1899 — Исключён из Московского университета и выслан в Феодосию со свидетельством о неблагонадёжности.
Конец февраля — Посещает в Ялте А. П. Чехова.
29 августа — Первое заграничное путешествие (Австрия, Италия, Швейцария).
Декабрь — В качестве вольнослушателя посещает лекции в Берлинском университете.
1900, февраль — Восстановлен на втором курсе юридического факультета Московского университета. Изучает историю искусства.
20 мая — Выходит первая статья — «В защиту Гауптмана» («Русская мысль», № 5).
26 мая — Заграничное путешествие с В. Ишеевым, Л. Кандауровым и А. Смирновым (Австрия, Германия, Италия, Греция).
21 августа — Подвергнут аресту в Судаке. Выслан из Москвы.
Начало сентября — С инженером В. О. Вяземским отправляется в Среднюю Азию на изыскания трассы Ташкентско-Оренбургской железной дороги.
Ноябрь — Принимает решение не возвращаться в Московский университет.
Декабрь — Увлечение сочинениями Ф. Ницше и Вл. Соловьёва.
1901, 20 марта — Приезд в Париж.
Середина апреля — Знакомство с художницей Е. С. Кругликовой и коллекционером С. И. Щукиным.
24 мая — Начало путешествия по Испании с художниками Е. Н. Давиденко, А. А. Киселёвым, Е. С. Кругликовой.
Ноябрь-декабрь — Посещение лекций в Сорбонне и в Высшей русской школе в Париже. Знакомство с историком, правоведом М. М. Ковалевским.
1902, январь — В Высшей русской школе читает доклад о Н. А. Некрасове и А. К. Толстом.
Март — Принимает решение целиком посвятить себя искусству и литературе.
Май — Начало занятий живописью.
Конец августа — Путешествие по Италии.
Конец сентября — Знакомство с К. Д. Бальмонтом.
Октябрь — Знакомство с хамбо-ламой Агваном Доржиевым. Увлечение буддизмом.
Лучшие стихотворения года: «Как мне близок и понятен…», «Небо запуталось звёздными крыльями…».
1903, январь — Приезд в Петербург. Знакомство с А. Н. Бенуа, A. А. Блоком, В. Я. Брюсовым, В. А. Серовым, К. А. Сомовым, B. В. Розановым и др.
Февраль — Приезд в Москву. Знакомство с А. Белым.
11 февраля — Знакомство с будущей женой М. В. Сабашниковой.
Лето — Начало строительства дома в Коктебеле. Работа над переводами стихотворений Э. Верхарна.
18 ноября — Знакомство с А. Р. Минцловой.
1904, 10 января — В редакции парижского журнала «Плюм» знакомится с Э. Верхарном, О. Мирбо, О. Роденом и др.
Середина марта — Приезд в Париж М. В. Сабашниковой.
Конец марта — Увлечение поэзией Вяч. Иванова.
Конец июня — Знакомство с Айседорой Дункан, А. С. Голубкиной.
Первая половина августа — Знакомство в Женеве с Вяч. Ивановым.
1905, 9 января — Приезд в Петербург; становится свидетелем Кровавого воскресенья.
Первая половина апреля — Сближение с ирландской художницей В. Харт.
Июль — Поездка с А. Р. Минцловой в Руан, осмотр Руанского собора.
Середина сентября — Увлечение антропософией Р. Штейнера.
Конец октября — Знакомство с Р. Штейнером.
1906, 2 марта — Стихотворение «Ангел Мщенья».
12 апреля — Бракосочетание с М. В. Сабашниковой в Москве.
Май — Встреча Р. Штейнера с Д. С. Мережковским, 3. Н. Гиппиус, Д. В. Философовым и Н. М. Минским на квартире у Волошиных.
Июнь — Волошины отправляются в свадебное путешествие по Дунаю.
Сентябрь — Петербург. Знакомство в «Башне» Вяч. Иванова с М. А. Кузминым и С. М. Городецким.
6 октября — Чтение лекции «Пророки и мстители» в Литературно-художественном кружке.
10 октября — Волошины поселяются в «Башне», этажом ниже Вяч. Иванова.
Декабрь — Знакомство с А. К. Герцык.
1907, январь-февраль — Участие в «средах» Вяч. Иванова. Общение с Н. А. Бердяевым, С. М. Городецким, М. А. Кузминым, В. А. Пястом, А. М. Ремизовым, Г. И. Чулковым, А. К. Шервашидзе и др.
27 февраля — Читает в Литературно-художественном кружке лекцию «Пути Эроса».
Начало марта — Осложнение отношений с Вяч. Ивановым и М. Сабашниковой.
Начало мая — Москва. Общение с Ю. Балтрушайтисом, А. Белым, В. Брюсовым, С. Соловьёвым, Эллисом.
Лето — Общение с сёстрами Герцык, проживающими в Судаке. Работа над циклом стихов «Киммерийские сумерки».
1908, март — Знакомство с Е. И. Дмитриевой.
Лето — Сближается с А. Н. и С. И. Толстыми.
1909, 3 марта — Читает лекцию «Аполлон и мышь».
4 марта — Знакомство с И. Ф. Анненским.
9 марта — Участие в постановке пьесы Ф. Сологуба «Ночные пляски» в Литейном театре.
30 мая — Приезд в Коктебель Е. И. Дмитриевой и Н. С. Гумилёва.
Сентябрь-октябрь — Работа в «Аполлоне».
Начало ноября — Литературная мистификация: Черубина де Габриак.
22 ноября — Дуэль с Н. С. Гумилёвым.
1910, конец февраля — В московском издательстве «Гриф» выходит первая поэтическая книга «Стихотворения. 1900–1910».
Август — Работа над венком сонетов «Corona Astralis».
Декабрь — Знакомство с М. И. Цветаевой.
1911, 18 января — Читает лекцию в Литературно-художественном кружке «Новые течения во французском экзотизме».
Конец апреля — Отъезд в Крым.
5 мая — В Коктебель приезжает М. И. Цветаева.
Сентябрь-октябрь — Пишет статьи по литературе и искусству для «Московской газеты».
1912, 11 января — Участие в праздновании юбилея К. Д. Бальмонта.
12 февраля — Участие в диспуте, организованном «Бубновым валетом» в Политехническом музее в Москве.
25 февраля — Участие во втором диспуте «Бубнового валета».
Июль — Расписывает стены коктебельского кафе «Бубны» с В. П. Белкиным, А. В. Лентуловым и А. Н. Толстым.
Лето — Переводит книгу Сен-Виктора «Боги и люди».
Декабрь — Приезд в Москву. Встречи с К. С. Станиславским, А. Н. Толстым, М. И. Цветаевой и др.
1913, начало января — Беседы с В. И. Суриковым.
Конец января — Знакомство с М. П. Кювилье.
12, 24 февраля — Участие в диспутах о картине И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван», изрезанной А. Балашовым. Конец февраля — Выпускает брошюру «О Репине».
Март — Лекционное турне: Смоленск, Витебск, Вильно. Читает лекцию «Жестокость в жизни и ужасы в искусстве».
Лето — Работает над книгой о готике. Занимается живописью. Конец ноября — В московском издательстве М. и С. Сабашниковых выходит книга П. де Сен-Виктора «Боги и люди» в переводе М. Волошина.
Декабрь — В Петербурге выходит книга статей «Лики творчества».
1914, январь — Работает над книгой о готике.
Середина февраля — В Москве выходит книга «Маркиз д’Амеркёр» Анри де Ренье в переводе Волошина.
Начало июля — Накануне Первой мировой войны отъезд из Коктебеля в Швейцарию.
Июль-август — Дорнах. Принимает участие в строительстве антропософского храма («Гётеанума») под руководством Р. Штейнера. Общение с А. Белым, А. Тургеневой, М. Сабашниковой. Октябрь — Начинает рисовать акварелью.
1915, 2 января — Отъезд из Дорнаха в Париж.
Январь — Работа в Национальной библиотеке и занятия в студии Ф. Коларосси.
Апрель — Сближение с М. О. и М. С. Цетлиными.
Май — Общение с Л. Бакстом и П. Пикассо.
Июнь — Общение с Б. Савинковым, Д. Риверой, И. Эренбургом и М. Воробьёвой-Стебельской (Маревной).
29 июня — Приезжает в Биарриц, на виллу Цетлиных.
Октябрь — Велосипедная экскурсия по Испании.
1916, январь — Общается с Д. Риверой, Ф. Леже, А. Модильяни, Н. Тарховым, М. Шкапской.
Февраль — В Москве выходит книга стихов «Anno Mundi Ardentis. 1915».
25 марта — Навсегда покидает Европу.
Лето — Пишет монографию о Сурикове. Выступает на поэтических вечерах в Коктебеле и Феодосии.
Середина ноября — Освобожден медицинской комиссией от воинской повинности.
1917, январь — Четыре волошинские акварели представлены в «Мире искусства».
1 февраля — Читает лекцию «Судьба Верхарна» в Драматическом театре.
8 марта — Подписывает заявление об охране памятников искусства вместе с И. Э. Грабарём, Б. К. Зайцевым, К. В. Кандауровым, В. Ф. Ходасевичем и др. (опубликованное в газете «Утро России»),
Весна — В Коктебеле составляет сборник своих переводов стихотворений Э. Верхарна, готовит третью книгу своих стихов «Иверни». Лето — Программные стихотворения «Подмастерье» и «Материнство». Рисует акварелью.
12 августа—12 сентября — В Коктебеле гостит М. Горький. 10–25 ноября — В Коктебеле гостит М. И. Цветаева.
Коней, ноября — Программные произведения «Святая Русь», «Две ступени», «Мир», «Москва».
Декабрь — Стихотворения «Петроград», «Стенькин суд», «Dmetrius-lmperator», «Демоны глухонемые», сонеты из цикла «Термидор».
1918, 2 января — Установление советской власти в Феодосии.
Апрель-май — Стихотворение «Европа» и поэма «Протопоп Аввакум». Немецкая оккупация Крыма.
Май — Выход в свет волошинского сборника «Иверни».
Ноябрь-декабрь — Лекционное турне: Ялта, Севастополь, Симферополь. Севастополь.
1919, январь — Читает лекции в Народном университете (Севастополь).
В Харькове выходит четвёртый сборник стихов Волошина «Демоны глухонемые».
Около 19 января — Приезд в Одессу.
Февраль-март — Выступает на литературных собраниях. Общение с Э. Г. Багрицким, Л. П. Гроссманом, В. М. Инбер, В. П. Катаевым, Ю. П. Олешей, А. Н. Толстым, Н. А. Тэффи и др.
Апрель — Участвует в работе союзов искусств. Общается с А. Е. Адалис, И. А. Буниным, А. В. Немитцем, А А. Экстер и др. Переводит А. де Ренье.
10 мая — Отплывает вместе с Т. Д. Цемах из Одессы в Крым.
17 мая — Получает полномочия по охране памятников искусства в Феодосийском уезде.
Весна — В издательстве «Творчество» выходит книга Волошина: «Верхарн (Судьба. Творчество. Переводы)».
Конец июня — В связи с «делом Н. А. Маркса» едет в Феодосию, Керчь и Екатеринодар.
Лето — В одесском издательстве «Омфалос» переиздаётся книга «Верхарн (Судьба. Творчество. Переводы)».
Октябрь — декабрь — Работа над поэмой «Святой Серафим».
1920, январь-февраль — Участие в работе Феодосийского литературно-артистического кружка (ФЛАК).
Февраль-март — Читает лекции и стихи в Еврейском литературном обществе в Феодосии.
Лето — Пишет лекцию-статью «Россия распятая».
Июль — Ссора с О. Э. Мандельштамом.
Конец июля — Стихотворение «Северовосток». Вызволяет О. Э. Мандельштама, арестованного врангелевской контрразведкой.
19 ноября — Назначен инспектором по охране памятников искусства и науки в Феодосийском уезде.
1921, январь — В качестве инспектора работает в Феодосийском уезде, берёт под контроль памятники искусства и частные библиотеки. Февраль — апрель — Участвует в культурно-просветительной работе Крымнаробраза. Переводит В. Гюго.
9 мая — Вступает во Всероссийский Союз поэтов.
Конец июня — Преподаёт в Институте народного образования. Примирительная встреча с Н. С. Гумилёвым.
Ноябрь-декабрь — Читает лекции в Народном университете и на командных курсах. Голод в Крыму.
11 декабря — Смерть А. М. Петровой.
1922, январь — Живёт в Феодосии в доме И. К. Айвазовского. Преподаёт на командных курсах. Начало работы над книгой «Путями Каина». Февраль — май — Сближение с М. С. Заболоцкой.
8 мая — Избран председателем КрымКУБУ (Комиссии по улучшению быта учёных) по Феодосии.
28 июля — Выдана охранная грамота Дому Поэта в Коктебеле от Крымсовнаркома.
1923 8 января — Смерть матери.
Февраль — В берлинском журнале «Новая русская книга» (1923, № 2), выходит поэтический цикл «Стихи о терроре».
Март — М. С. Заболоцкая переезжает в коктебельский дом Волошина на правах жены.
Весна — Волошин распределяет академические пайки среди феодосийских деятелей науки и искусства.
Сентябрь — Переиздание в берлинском русском издательстве книги «Демоны глухонемые».
Ноябрь — Выход статьи Б. Таля «Поэтическая контрреволюция в стихах М. Волошина» в журнале «На посту» (1923, № 4).
1924, январь — Завершение работы над поэмой «Россия».
Март — Чтение стихов на «Никитинских субботниках» и в Кремле. Встречи с А. Белым, В. Я. Брюсовым, В. В. Вересаевым, А. К. Воронским, С. А. Клычковым, А. М. Пешковским и др.
31 марта — Получает от А. В. Луначарского удостоверение на право создания в Коктебеле на базе Дома Поэта бесплатного дома отдыха для писателей.
6 апреля — Приезд в Ленинград.
20 апреля — Читает стихи в Комитете современной литературы при Институте истории искусств.
Апрель-май — Встречи с Е. И. Васильевой (Дмитриевой), А. Я. Головиным, Э. Ф. Голлербахом, Е. С. Кругликовой, Б. М. Кустодиевым и др.
Лето — В Коктебеле впервые — А. Белый и В. Я. Брюсов.
1925, 29 января — Постановлением КрымЦИКа за Волошиным закреплены дом и участок земли в Коктебеле.
Начало мая — Избран почётным членом Российского общества по изучению Крыма (РОПИК) в Москве.
12 июня — Приезд в Коктебель М. А. Булгакова.
Июнь — Волошинские акварели демонстрируются на «Крымской выставке» в Москве.
17 августа — В день именин Волошина отмечается 30-летие его литературной деятельности. Представление «Поэты — поэту». Октябрь — В Одессе на Первой выставке Общества им. К. К. Костанди представлены десять акварелей Волошина.
1926, апрель-май — Работа над поэмой «Таноб».
Октябрь — Успех акварелей Волошина на Второй выставке Общества им. К. К. Костанди в Одессе.
25 декабря — Стихотворение «Дом Поэта».
1927, январь — 173 акварели отправлены в Москву — в Государственную Академию художественных наук (ГАХН).
26 февраля — Открытие выставки работ Волошина в ГАХН.
9 марта — Регистрация брака с М. С. Заболоцкой.
13 марта — Творческий вечер Волошина в ГАХН.
Февраль-март — Выходит небольшая книга Е. Л. Ланна «Писательская судьба Максимилиана Волошина». Встречи с В. В. Вересаевым, Л. П. Гроссманом, С. Н. Дурылиным, М. П. Кудашевой, А И. Цветаевой, Г. А. Шенгели и др.
14 апреля — Открытие выставки картин Волошина в Ленинграде. Выступление со стихами в Литературно-художественном обществе. Конец апреля — Принят во Французское астрономическое общество.
Июль — Посылает 16 акварелей в Севастополь на выставку Ассоциации советских художников. Участвует в Третьей выставке в Феодосийской галерее И. К. Айвазовского.
Октябрь — Посылает картины на Третью выставку Общества им. К. К. Костанди в Одессу.
1928, март — Акварели Волошина представлены на выставке «Помощь Крыму» в Ленинграде.
Апрель — Вступает в члены Всероссийского Союза писателей.
Конец сентября — Избран членом Общества им. К. К. Костанди в Одессе.
1929, январь — Участие в выставке крымских художников в Симферополе.
Март — Участие в выставке акварелистов в Ленинграде.
26 марта — Стихотворение «Владимирская Богоматерь».
Апрель — Акварели Волошина представлены на выставке «Графика и искусство в СССР» в Голландии.
Июнь — Участие в Пятой выставке живописи и графики в Феодосии.
Октябрь — Акварели Волошина представлены на Пятой выставке Общества им. К. К. Костанди в Одессе.
Ноябрь — Подписывает договор на перевод произведений Флобера для Государственного литературного издательства. Участие в выставке русской графики в Риге.
2 декабря — Инсульт.
1930, январь — Переводит «Юлиана Странноприимца» Флобера.
Май — Акварели Волошина представлены на выставках в Риге и Лондоне.
Осень — Пишет «О самом себе». Севастопольский музей приобретает акварели Волошина.
1931, январь — Ухудшение здоровья и душевного состояния.
Февраль — Решение передать Дом Союзу писателей.
2 марта — Поэту выписан членский билет Всероссийского Союза писателей.
Июнь — Приезд в Коктебель Е. Я. Архиппова с женой. Временный подъём духа.
21 ноября — М. Волошину, А. Белому, Г. Чулкову назначается персональная пожизненная пенсия.
Середина декабря — Обострение астмы.
1932, 29 января — Впервые получает пенсию.
Март-апрель — Работа над воспоминаниями.
11 августа — В 11 часов на 56-м году жизни поэт Максимилиан Волошин ушёл из жизни.
12 августа — Погребение на горе Кучук-Енишар в Коктебеле.
Волошин М. А. Собрание сочинений. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 1899–1926 / Сост. и подгот. текста В. П. Купченко, А. В. Лаврова; Коммент. В. П. Купченко. М.: Эллис Лак, 2000; 2003.
Волошин М. А. Стихотворения. Т. 1–2 / Под ред. Б. А. Филиппова, Г. П. Струве, Н. А. Струве; При участии А. Н. Тюрина; Вступ. ст. Б. Филиппова, Э. Райса. Paris: YMCA-Press, 1982; 1984.
Волошин М. А. Стихотворения / Сост., подгот. текста и примеч. Л. А. Евстигнеевой; Вступ. ст. С. С. Наровчатова. Л.: Сов. писатель, 1977. (Б-ка поэта. Малая серия).
Волошин М. А. Стихотворения и поэмы / Сост., подгот. текста В. П. Купченко, А В. Лаврова; Вступ. ст. А. В. Лаврова; Примеч. В. П. Купченко. СПб.: Пб писатель, 1995. (Б-ка поэта. Большая серия).
Волошин М. А. Автобиографическая проза. Дневники / Сост., вступ. ст., примеч. 3. Д. Давыдова, В. П. Купченко. М.: Книга, 1991. (Из литературного наследия).
Волошин М. А. Записные книжки / Сост., предисл., примеч. В. П. Купченко. М.: Вагриус, 2000.
Волошин М. А. Из литературного наследия. Т. 1 / Отв. ред. А. В. Лавров. СПб.: Наука, 1991.
Волошин М. А. Из литературного наследия. Т. 2 / Отв. ред. А. В. Лавров. СПб.: Алетейя, 1999.
Волошин М. А. Из литературного наследия. Т. 3 / Отв. ред. А В. Лавров. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.
Волошин М. А. История моей души / Сост. В. П. Купченко. М.: Аграф, 1999.
Волошин М. А. Коктебельские берега: Стихи, рисунки, акварели, статьи / Сост., автор вступ. ст. и коммент. 3. Д. Давыдов. Симферополь: Таврия, 1990.
Волошин М. А. Лики творчества / Отв. ред. Б. Ф. Егоров, В. А. Мануйлов. Л.: Наука, 1988.
Арефьева Н. Г. Максимилиан Волошин и античность. Астрахань, 2000.
Бужор Е. С. Жизнь и эпоха Максимилиана Волошина. М.: Компания «Спутник», 2003.
Волошина М. (Сабашникова М. В.) Зелёная Змея. История одной жизни / Пер. с нем. Н. М. Жемчужниковой; Вступ. ст. С. О. Прокофьева. М.: Энигма, 1993.
Волошина М. С. О Максе, о Коктебеле, о себе. Воспоминания. Письма / Сост., подгот. текстов и примеч. В. П. Купченко. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 2003.
Волошинские чтения. Сборник научных трудов. М.,1981.
Воспоминания о Максимилиане Волошине. Сост. и коммент. В. П. Купченко, 3. Д. Давыдова. М.: Сов. писатель, 1990.
Гольдштейн П. Дом Поэта. Иерусалим, 1980.
Дом-музей М. А. Волошина: Путеводитель / Н. А. Кобзев и др. Симферополь, 1990.
Крым Максимилиана Волошина: Фот., документы, открытки из гос. и част, архивов / Авт. — сост. 3. Д. Давыдов, В. П. Купченко. Киев: Мистецтво, 1994.
Куприянов И. Т. Судьба поэта (личность и поэзия Максимилиана Волошина). Киев: Наукова думка, 1978.
Купченко В. П. Странствие Максимилиана Волошина. СПб.: Logos, 1996.
Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877–1916. СПб.: Алетейя, 2002.
Ланн Е. Л. Писательская судьба Максимилиана Волошина. М.,1927.
Левичев И., Тимиргазин А. Коктебель. Старый Крым. Новый крымский путеводитель. Симферополь: Сонат, 2003.
Максимилиан Волошин — художник. Сборник материалов / Сост. Р. И. Попова. М.: Сов. художник, 1976.
Материалы Волошинских чтений 1989 г. (тезисы докладов и сообщений, статьи). Коктебель, 1995.
Материалы Волошинских чтений 1991 г. (тезисы докладов, статьи, сообщения). Коктебель, 1997.
VIII и IX Волошинские чтения. Материалы и исследования. Симферополь: Крымский архив, 1997.
М. А. Волошин — поэт и мыслитель: Материалы Десятой междунар. науч. конф. Симферополь: Крымский архив, 2000.
Менделевич Э. С. «Пойми простой урок моей земли…» (Статьи о Максимилиане Волошине). Орёл: Труд, 2001.
Образ поэта: Максимилиан Волошин в стихах и портретах современников / Вступ. ст., сост., подгот. текстов и примеч. В. П. Купченко; Послесл. и подбор портретов Д. А. Лосева. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 1997.
Пинаев С. М. Близкий всем, всему чужой… Максимилиан Волошин в историко-культурном контексте Серебряного века. М.: Изд-во РУДН, 1996.
Розенталь Э. М. Знаки и возглавья: Максимилиан Волошин и мы. М., 1995.
Розенталь Э. М. Планета Макса Волошина. М.: Вагриус, 2000.
Шапошников А. К. Коктебель. Исторические названия окрестностей. Симферополь: Амена, 1997.
Albert М.-A. Maximilian Volochine: esthèt, poète, et peintre (1877–1932). Des ateliers de Montparnasse aux rivages de Cimmérie. Paris: L’Harmattan, 2002.
Marsh С. M. A. Voloshin: Artist — poet, a study of the synaesthetic aspects of his poetry. Birmingham, 1983.
Reese-Antsaklis M. Mystical verses on the antique: Voloshin’s «Altari v pustyne» // Slavic and East Europ. J. Tucson, 1984: vol. 28, № 4. p. 425–444.
Vroon R. Cycle and history: Maksimilian Voloshin’s «Puti Rossii» // Scandoslavica Copenhagen, 1985: vol. 31. p. 55–73.
Wallrafen C. Maksimilian Volosin als kiinstler und kritiker. München, 1982.
Автор выражает благодарность директору Государственного литературного музея Н. В. Шахаловой, заместителю директора по науке Е. Д. Михайловой, заведующей фондами Л. И. Морозовой, научному сотруднику отдела Серебряного века Л. А. Даниловой, а также генеральному директору Крымского республиканского эколого-историко-культурного заповедника «Киммерия М. А. Волошина» Б. П. Полетавкину, заведующей фондами Дома-музея М. А. Волошина Т. И. Сериковой за предоставленные для работы над книгой материалы.