Клод Роке
Брейгель, или Мастерская сновидений
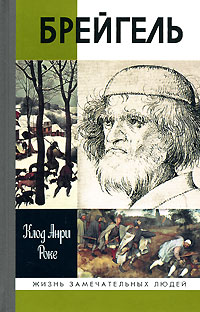
Зеленое: газон, кусты, справа дерево с круглой кроной (пожалуй, настоящее);
фиолетовое: кое-где видное небо;
белое: слева полуразрушенный склеп в виде куба с фронтоном и черной дверью.
Вдали: окутанный дымкой город Брейгелланд, ощетинившийся шпилями, колокольнями и куполами…
Приведенный выше отрывок из пьесы бельгийского драматурга Мишеля де Гельдерода может напомнить читателю, чем является Питер Брейгель Старший для нидерландско-бельгийской и — шире — европейской культуры. Брейгель — не просто превосходный живописец, один из многих. Бельгийская литература Нового времени очень многому училась и у него, и у фламандской народной культуры, которую он так полно сумел отразить в своих картинах, что стал как бы ее символом. «Проделка Великого Мертвиарха», например, не только обыгрывает ряд брейгелевских сюжетов («Триумф Смерти», «Безумная Грета», «Страна лентяев»), но сама структурирована по законам живописного произведения, воздействует на зрителя системой
Литература черпает сюжеты из живописных полотен — явление странное, чрезвычайно редкое. Конечно, и «Вавилонская башня», и «Слепые», и «Избиение младенцев» — сюжеты библейские; образы «Безумной Греты» и «Страны лентяев» связаны с фольклором (в первом случае — фламандским, во втором — общеевропейским); «Триумф Смерти» — сюжет средневекового искусства (народного театра, скульптуры, лубочных картинок); природный же годовой цикл изображался многими художниками и, в частности, мастерами книжной миниатюры. Однако в примерах, на которые я ссылаюсь, речь идет о влиянии брейгелевской трактовки этих сюжетов, брейгелевской
Или, вернее, так: Роке ничего не объясняет, но пытается научить нас воспринимать зрительные образы (очень емкие по своей природе — вспомним, что, для того чтобы передать свои впечатления от одного женского портрета Лукаса Кранаха, нидерландскому режиссеру Полю Верхувену понадобилось создать целый фильм «Плоть и Кровь»), осуществив их
В главе четвертой Роке рассказывает, как, по его мнению, к Брейгелю приходил замысел картины, что служило первоначальным импульсом для ее написания:
(1) «Это начинается со своего рода видения — какое-то место, пейзаж…»;
(2) «Или же это начинается с цвета, с желания и предвкушения определенного цвета…»;
(3) «Бывает, что ты вдруг видишь будущую картину всю целиком, как сон, — а иногда это и происходит во сне…»;
(4) «Бывает и так, что все начинается с идеи. В основе таких вещей, как „Добродетели и Пороки“, „Изгнание мага Гермогена“… <…> лежит определенная мысль, они должны быть
Роке строит свою книгу, используя все эти принципы, то есть он как бы иллюстрирует
Принцип (4) Роке использует главным образом на «микроуровне» — уровне метафор. Разъясняя значение этого принципа в живописи и графике, он пишет: «Нужно уметь выбрать в любом действии самый выразительный момент, самый ясный и запоминающийся жест… Не просто экономно мыслить, но и экономно рисовать». Его собственные метафоры настолько точно соответствуют этому правилу, что превращают рассказ о художнике чуть ли не в поэтическое произведение:
пена — «слюна, выступающая в уголках губ по-стариковски болтливого моря»;
«…эти красные вымпелы, которые поначалу, увиденные с такой высоты, из такой дали, кажутся летящими мертвыми листьями в гризайле дождя» (гризайль — картина, написанная различными оттенками серого цвета);
«У комнаты больше нет ни стен, ни потолка! Как будто какой-то великан просто поднял дом вверх, убрал его из пределов видимости — так поднимают стеклянный колпак, прикрывавший блюдо с сыром»;
«Мертвецы терпеливо ждут, топчутся на месте. Они поднимутся в атаку по сигналу, а пока переговариваются друг с другом, сухо постукивая нижними челюстями» — и так далее, множество раз.
В главе седьмой (о картине «Падение Икара») содержится головокружительная зеркальная метафора, развернутая на полторы страницы: небо как море (Икар — «Одиссей небесного океана»); море как небо, в котором тонущий Икар «пролетает» над руинами затонувшего Вавилона; подводное небо — цвета луны, и в нем сияет сине-зеленое солнце…
Определенная идея лежит и в основе каждой главы. Например, сквозная идея третьей главы «Сады и войны» — тема экзотики — развивается от одной подглавки к другой таким образом: цветы на картинах Брейгеля и вообще отношение к цветам в Голландии — турки и путешествие Кукке в Константинополь; ученичество Брейгеля у Кукке — другие учителя Брейгеля — античные модели в голландской архитектуре вообще и строительство дворца Кукке — экзотические животные в Антверпене, обезьяны на картинах Брейгеля, брейгелевская «Вавилонская башня».
Принцип (2) — цвет. Книга полна указаний на самые разные цветовые оттенки. Но дело даже не в этом. Разъясняя приемы обращения Брейгеля с цветом, Роке пишет: «Нужно понимать, что недостаточно просто поместить рядом две красивые краски, потому что с яркой краской должна соседствовать краска более или менее приглушенная — тогда каждая из них будет подчеркивать достоинства другой». Сам Роке строит некоторые свои эпизоды на сочетании разных оттенков двух контрастных цветов (что, конечно, придает этим рассказам определенный эмоциональный настрой). Вот, к примеру, все обозначения цветов (или намеки на цвета) из рассказа о доме Географа, куда приходил подросток Брейгель:
Принцип (1) — «место, пейзаж» составляет одну из главных структурных частей книги Роке. Собственно, книга посвящена не только Брейгелю, но и стране, в которой он жил. Роке приходит к пониманию художника через понимание его страны. Книга начинается с описания (документально не засвидетельствованного, но, возможно, совершенного Брейгелем) путешествия по Голландии. Так же подробно рассказывается о городах, где Брейгель жил после возвращения на родину, — Антверпене и Брюсселе. Но характерно, что о более раннем периоде жизни Брейгеля и, в частности, о его путешествии по Италии Роке почти ничего не сообщает — он не может представить себе в живых подробностях Италию того времени и, следовательно, впечатления молодого художника.
Принцип (3) — сновидение — является главным организующим принципом книги; он проявляется и на макроуровне, и на уровне отдельных эпизодов. Дело в том, что о Брейгеле вообще известно очень мало. Самыми подробными и достоверными источниками сведений о нем являются его картины. Но в них нужно вжиться, понять их на уровне интуиции. И, соответственно, передать свои впечатления о них тоже невозможно, пользуясь лишь «рациональными» средствами выразительности. Роке очень тактичен, когда высказывает свои предположения, но граница между ними и точными фактами в его книге все время остается зыбкой. Условно линию повествования можно изобразить в виде волнообразной кривой, повторяющееся звено которой распадается на две части: относительно нейтральный в эмоциональном смысле рассказ, основанный на реальных фактах, и — эмоциональный всплеск, результат и выражение «вживания» в факты: видение, кусок квазипоэтического текста (текста, насыщенного метафорами) или обобщающие философские рассуждения. Часто маркируется и сам момент (или процесс) вживания,
Подведем предварительные итоги. Воспроизводя в своей прозе живописные приемы Брейгеля, Роке учит нас
Иконы существуют вне времени (иначе говоря, относятся к «вневременному настоящему»), ведь они представляют собой божественный прообраз событий, которые непрерывно повторяются в культе и в космосе. <…> Кроме того, взаимосвязь икон основана на принципе аналогии — прежде всего с событиями человеческого жизненного цикла (рождение, зрелый возраст, старость, смерть).
Анри Роке не случайно делает своим героем именно Брейгеля. Биография Брейгеля — биография самого обычного человека, бедная внешними событиями: деревенское детство, годы обучения ремеслу живописца, не очень далекие путешествия в молодости, женитьба и ничем не примечательная семейная жизнь с любимой женщиной, повседневная тяжелая работа, заурядная смерть, два сына, которые, как могли, продолжили его дело. Вот, пожалуй, и все. Но за этим — предельная интенсивность переживания его собственной жизни, а также природы, жизни других людей, религии, феноменов смерти, времени… Именно эта свойственная Брейгелю насыщенность переживания
«Иконными» были и картины Брейгеля, зримое выражение его жизни, — именно потому они могли оказывать влияние на литературу. Сама по себе интенсивность переживания еще не является залогом той гармонии, которая привлекает нас в работах Брейгеля. Вспомним, например, фильмы Питера Гринуэя, поражающие контрастом внешней красоты жизни и стоящей за этой красотой жестокости (скажем, «ZOO» с его идеей
Босх — художник, оказавший сильное влияние на живопись Брейгеля; человек, не побоявшийся нарисовать «в натуральную величину» не только ад, но и сотворение мира (картина на створках алтаря «Сады земных наслаждений»). Брейгель, как и Босх, видит мир в его целостности, потому что смотрит на него с огромной высоты — высоты коллективного религиозного опыта, проверенной временем традиции. С этой высоты война, например, представляется такой: «Солдаты, чьи тела в гуще сражения переплелись в одно целое, напоминают майских жуков, скарабеев или кузнечиков, которые пожирают друг друга». Роке задает неизбежный вопрос: «Но кто же может смотреть под таким углом зрения на эти скорлупки шлемов и копий?» И отвечает на него: «Можно было бы вообразить, что зритель находится на горе, более высокой, чем эти горы и этот скальный выступ, которые возвышаются посреди просторной речной долины подобно островам. Однако представить себе здесь столь высокую гору очень трудно. Остается думать об орле или ангелах, или о Духе Божием, созерцающем один из моментов нашей истории; или о духе человека, художника: подняв на мгновение глаза над той долиной Книги, в которой помещается рассказ о кровавой битве и самоубийстве Саула… <…> человек этот видит вещи такими,
Однако, как ни странно это для нас, отдельный человек, увиденный в столь масштабной перспективе, не кажется «песчинкой». Уникальность Брейгеля как художника заключается в том, что он совмещает приемы панорамной живописи и миниатюры. Гармоничность его картин вытекает из уравновешенности целого и его частей. Для Брейгеля каждая деталь значима — Роке так передает свои впечатления от «Вавилонской башни»: «Невозможно представить себе ничего более громадного под небом, на морях или на земле, чем эта башня: даже гора служит всего лишь опорой, вокруг которой обвиваются ее стены, — а между тем я различаю на одной из самых дальних строительных площадок желтую птичку, которую рабочий кормит с руки крошками хлеба». Брейгель был знаком с принципами ренессансной (итальянской) живописи, но то, что он делал сам, скорее напоминает древнеегипетское искусство: там тоже каждая человеческая фигурка, каждая деталь на рельефах, изображающих, скажем, годовой сельскохозяйственный цикл, отчетливо видна. Искусство Брейгеля не есть современное, определяемое субъективным взглядом на мир искусство; изображенные им сцены
Человек на картинах Брейгеля не является песчинкой, потому что он — часть разумно упорядоченного целого, он неразрывно связан с традицией и с природой. Его страдания и смерть в каком-то смысле естественны. В его самосознание входит такая черта, как скромность, ибо он не ощущает себя центром вселенной. Вместе с тем человек Брейгеля обладает свободой выбора и ответственность за свои несчастья в определенной степени несет сам. Выбор между добром и злом, между верой и неверием человек вынужден делать постоянно, на протяжении всей жизни —
В центре панорамы ада в «Безумной Грете» — не Смерть или Дьявол, Владыка Зла, но будничный человеческий порок: гротескная фигура маркитантки в солдатских обносках, с узлом ворованных вещей, и озлобленные деревенские бабы, которые грабят брошенный хозяевами дом. Ад начинается в человеческом сердце. Его источник — эгоистическое сознание (одна из ипостасей индивидуализма) или безумие. По мнению Роке, Брейгель создавал «Безумную Грету», прекрасно зная, «как смеется обнаглевшее и нелепое в своей наглости „я“».
Брейгеля — персонажа книги Роке — от безумия спасает решение «сохранить душевное здоровье» и видение, помогающее ему осознать свою связь с Фландрией — не, так сказать, этнографическим заповедником, а страной, которая есть прекрасная часть космоса, которую «овевает дыхание Библии» и которая еще помнит римских легионеров. «Здоровым» можно считать все то, что является плодом длительного естественного развития, что связано с окружающей средой, фазами природного цикла и цикла человеческой жизни, историей. Для того чтобы передать это свое ощущение, Роке многократно пользуется образами раковины и дерева. Прилагает он их и к дому Брейгеля, который описывает удивительным способом: сначала речь идет о том, что видно из чердачного окна этого дома; потом — о его предыстории, о постройках, стоявших раньше на этом месте; потом — о собранных в доме книгах и археологических раритетах (то есть о вещах, помогающих сохранить живую связь с прошлым); и лишь потом — собственно об обстановке дома и семейной жизни художника. «Душевное здоровье» предполагает и умение распоряжаться временем, вести себя сообразно своему возрасту — поэтому Брейгель, которого изображает Роке, достигнув зрелости, отказывается от суетных удовольствий, постепенно все более ограничивает круг своего общения и, ведя жизнь затворника, спешит выразить в своих картинах то, что может выразить он один. Очевидно, так вел себя и реальный Брейгель, потому что все его живописные полотна созданы за удивительно короткий период в каких-нибудь десять-двенадцать лет. «Душевное здоровье», наконец, несовместимо с насилием — потому так неоднозначна оценка Нидерландской революции в книге Роке. Потому, по его мнению, достойная художника позиция в эпоху общественных потрясений может заключаться только в одном: в том, чтобы противопоставить «озлобленному безумию разрушения свой труд живописца, мудрость живописи». Кажется, именно такую позицию занял (в подлинной жизни) Питер Брейгель.
Что же все-таки хотел изобразить на своих гравюрах и картинах Брейгель? Роке вкладывает в его уста такой монолог:
«Я рисовал сцену мира, пустую. <…> Я рисовал горы, долины, реки, всю необъятную ширь пространства. Для меня оно не было просто местом, где разворачивается наша история: я видел историю и драму самой земли. Я видел, что земля, как и мы, — пленница времени, которое ее изменяет. <…>
Я писал Время. <…>
Я изобразил четыре времени человеческой жизни. <…> А теперь я напишу Триумф Смерти… <…> то, как она постоянно ведет с нами явную или скрытую войну».
В другой главе Роке пишет, что лучшей своей работой Брейгель считал цикл «Времена года», изображающий «круговращение мира».
Форма есть не одеяние, но тело мысли.
Как совместить в рамках одной книги рассказ о конкретном человеке, биография которого не дает абсолютно никакого материала для создания занимательной фабулы, разговор о его картинах, который, судя по их характеру, неизбежно должен перерасти в рассуждения о сложных философских проблемах, и подробное описание страны, где он жил (с историческими экскурсами в самые разные эпохи, начиная от эпохи Античности и кончая тем совсем недавним временем, когда Роке увидел на улице Брюсселя девочку, катающуюся на скейтборде)? Скорее всего, форму такой книги опять-таки подсказал Брейгель, потому что фраза, которой Роке характеризует творческий метод этого художника, вполне приложима и к его собственному произведению: «Брейгель любил писать как философ: как Эразм или Мор писали свои книги,
Роке берется решить задачу, сопоставимую с той, какие решал Брейгель: создать «икону», вмещающую в себя всю (типичную и одновременно идеальную, образцово прожитую) человеческую жизнь в ее взаимосвязях с природой и с исторической традицией. А для решения таких задач жанры современного — ориентирующегося на единичное, индивидуальное — искусства в принципе не приспособлены. Поэтому и получается странная вещь: когда пытаешься найти аналогии композиционной структуре этой книги, то на память приходят примеры из древней литературы. И дело здесь, конечно, не в том, что Роке сознательно подражает этим образцам, а в каких-то общих закономерностях человеческой психики.
В древнеегипетской литературе существовал жанр «риторической композиции», использовавшийся в основном для прославления фараонов. Фараон — существо, соединяющее в себе божественную и человеческую природу, — хотя и обладал индивидуальными чертами, выступал в определенной, повторявшейся из века в век роли, поддерживая космический порядок и нормальное функционирование космоса. Поэтому рассказ о его деятельности (если он был написан в жанре «риторической композиции») состоял из отдельных эпизодов, выстроенных не по хронологическому или сюжетному принципу, а с точки зрения их относительной значимости, а также в соответствии с закономерностями логических ассоциаций. Отдельные самостоятельные в смысловом плане блоки текста, которые могли представлять собой рассказ о военной кампании или строительстве храма, либо просто длинную цепочку эпитетов, соединялись в «песни», «песни» — в «главы», «главы» (по три, семь или девять) — в «части» текста (последних обычно было три или пять). Каждая структурная единица имела общую тему, но внутри нее блоки группировались по принципу «логической рифмовки» — параллелизма, который выражался в сопоставлении или противопоставлении двух крайних частей, содержавших аргументацию для подтверждения мысли, выраженной в центральной части. Чтобы усилить ощущение единства структурной единицы (например, «песни»), в ней использовали так называемые «ключевые» слова или фразы (нечто вроде повторяющегося рефрена) или/и определенные, характерные именно для этого отрывка грамматические конструкции.[2]
Нечто очень похожее делает Роке, что и позволяет ему соединить в связное целое разные по стилистике «блоки» текста. Хотя каждый «блок» может быть опубликован как отдельный рассказ, главы четко связаны с определенными темами, а всю книгу можно приблизительно разделить на три смысловые части.
В первой части (главы первая — четвертая) преобладает описание «места действия»: Голландия (1) — Антверпен (2) — тема связей Нидерландов с «экзотическими» странами (3) — Брюссель (4).
Вторая часть (главы пятая — одиннадцатая) почти целиком (за исключением главы восьмой) посвящена анализу картин Брейгеля, то есть рассказу о внутреннем мире художника, и в смысловом отношении является центральной.
В третьей части (главы двенадцатая — восемнадцатая) преобладает тема истории, Нидерландской революции, которой посвящены три большие главы (двенадцатая, четырнадцатая, шестнадцатая); но и здесь очень много места уделено разбору картин Брейгеля (главы тринадцатая, пятнадцатая, семнадцатая).
Отдельные главы книги разделены на пронумерованные разделы (они, в свою очередь, тоже разбиты на части, отделенные друг от друга пропущенной строкой), в которых под разными углами зрения варьируется основная тема главы и которые часто контрастируют между собой по степени эмоциональной окрашенности и по смыслу. Некоторые эпизоды на первый взгляд вообще не имеют отношения к теме книги (рассказы о протестанте Грациане Виарте и его возлюбленной, об анатоме Андреасе Везалии, о художниках Альбрехте Дюрере, Луке Лейденском, Хуго ван дер Гусе, о графе Эгмонте). Однако на самом деле они «оттеняют» основную фигуру, о которой идет речь, фигуру Брейгеля, представляя те качества, которые у Брейгеля отсутствуют. Роке, подобно своему герою, как бы смотрит на полотно истории (или полотно человеческой жизни) сверху, с большой высоты, и все его персонажи равноправны. Именно поэтому картина эпохи, которую он рисует, кажется такой исчерпывающей. Избранная композиция открывает перед автором очень широкие возможности, ибо ее жесткая «кристаллическая решетка» способна принять в себя самые разные наполняющие компоненты (в том числе интереснейшие рассуждения самого Роке как культуролога и искусствоведа — например, о звучании старофламандского языка и о манере речи Брейгеля; о картинах, созданных в технике гризайля, как выражении самых непосредственных порывов художника).
В некоторых местах Роке вводит и «ключевые слова»-рефрены, как это делали древние египтяне (глава первая, разделы 2 и 3: «Ему некуда спешить. <…> Ему некуда торопиться. <…> Никто его не подгоняет»; глава третья, раздел 5: «Весь Вавилон резонировал от завихрений ветра и шума воды. <…> Весь Вавилон резонировал подобно раковине»; глава четвертая, раздел 3: «Я хорошо представляю себе. <…> Итак, Брейгель покидает Антверпен. <…> Я могу себе представить… <…> Итак, он уехал из Антверпена» и т. д.). Поскольку рефрены используются относительно редко, они не только подчеркивают связность текста, но и придают поэтический характер отдельным его кускам.
Форма, придуманная Роке для написания именно этой книги, обладает ценностью и сама по себе, ибо позволяет совместить взгляд ученого и взгляд поэта, чувство и интеллект. По сути, книга представляет собой диалог двух достойных друг друга собеседников — художника далекой эпохи, который действительно продолжает говорить с нами посредством своих произведений, и современного художника, пытающегося его понять. Я открыла эту книгу, потому что люблю картины Брейгеля, а закрыла с ощущением, что нашла больше, чем искала, и с желанием прочитать другие книги прекрасного мастера слова Анри Роке.
Посвящаю второе издание своего перевода памяти Мстислава Баскакова и того летне-осеннего провала во времени, когда мы двое сосуществовали с этой книгой.
Посвящается А.
Реальные формы городов и крепостей менее долговечны, чем их образы, иногда очень хрупкие, зато на протяжении веков оберегаемые от беспощадных укусов времени — в других городах, в стенах библиотек и музеев: эти образы, созданные с помощью чернил, воды и угля, но оставшиеся невредимыми среди руин, можно уподобить бумажным бабочкам, спасающим на своих крыльях целые миры. В Безансоне и Бостоне хранятся три рисунка, выполненные пером и коричневыми чернилами, на которых мы видим — вдали, отделенную от зрителя водной поверхностью, — часть древней городской стены Амстердама. Брейгель легкими штрихами изобразил башни и башенки, маленькие колокольни, ворота и земляной вал, каменные или деревянные мосты, отдельно стоящий дом, утопающий в зелени, хижину на сваях. Все это выглядит как таинственный остров. И нетрудно представить себе Питера Брейгеля, рисующего здесь же, сидя в лодке. Это не родная для него страна: может быть, страна его грез, где ему никогда не доведется жить. Он смотрит на нее с нежностью и пристальным вниманием. Он видит, как блестящая вода тихо обтекает круглую крепость, как за воротами открывается море, по ту сторону которого — прибалтийские земли и великие северные страны, Норвегия и Россия. Видел ли он, рисуя этот пейзаж, маленькие постройки, которые изобразит позднее у подножия Вавилонской башни; вставали ли в его воображении глиняные рвы, валы и потерны крепости, близ которой выстроились у причала корабли Вавилона? Полная тишина нависла над башенками, их шиферными крышами. Быть может, он был бы счастлив, если бы жил в этом городе, в этом букете донжонов, залитом серебристым светом? Одиночество в лодке — сладостное, благое, спокойное — и требовательные крики чаек…
Этот вид Амстердама не есть достоверное отображение того, что мог видеть тогдашний путешественник. Брейгелю нравилось воспроизводить своим пером игру округлых форм у края воды, арки и переходы, пояса аркад и бойниц. Ему нравились зубцы башен, призматические фасады, далекие кружева балконов. Детали точны. Однако не исключено, что взаимное расположение построек было искажено воображением художника и что Брейгель — подобно тому, как человек переставляет на столе бутылки и кувшин, которые собирается нарисовать, — сблизил ворота Святого Антония и башню Свих-Утрехт. Может быть, он никогда и не ездил в Амстердам? И источником вдохновения для него послужили рисунки картографов, таких, как Антони ван ден Вейнгаарде или Корнелис Антонисзон? Они начинали с того, что тщательно прорабатывали какой-то мотив, а потом свободно компоновали свои рисунки, создавая обширные композиции — например, вид с птичьего полета бескрайней местности с крошечными мельницами на горизонте, плотинами, деревушками и запорошенным снегом городом на переднем плане, рядом с которым помещено изображение его герба. Так, во всяком случае, полагает хранитель городских архивов Амстердама. А нам не обойтись без помощи архивистов, потому что башня Свих-Утрехт была разрушена еще в XIX веке, а ворота Святого Антония уже давно не зажаты между крепостными валами — они превратились в отель «Весы», возвышающийся на площади Нового рынка. И все же: разве Брейгель поставил бы под своим рисунком дату «1562», если бы именно в том году не обозревал самолично стены и плотины Амстердама?
В том году Дирк Волкертзон Корнхерт был одним из трех нотариусов Харлема. Если Брейгель действительно посетил Амстердам, если путешествовал по Голландии, я думаю, он заехал и в Харлем, а возможно, даже совершил поездку специально для того, чтобы встретиться с Корнхертом. Несомненно, этот человек привлекал его не как чиновник, а как гравер, поэт, автор суховатых комедий, переводчик Плутарха, Боэция, «Одиссеи», чей Улисс посреди лазурного моря говорит языком моряков, привыкших к туманам и холоду (я люблю эту «Одиссею» на ирландский манер, где Пенелопа так похожа на Изольду). Корнхерт, наверное, увиделся с Брейгелем не в городской гостинице, среди псевдоантичных бюстов, мрамора и шпалер на героические сюжеты, а у себя дома, в бедном, аскетичном жилище ученого, где принимал его вместе с Корнелией, своей супругой (чтобы жениться на ней, простолюдинке, он порвал с собственной патрицианской семьей и распростился со всеми надеждами на наследство)… Итак, он приглашает Брейгеля и еще нескольких друзей в свой дом, они съедают обильный ужин, состоящий в основном из мидий и селедки (и я бы очень удивился, если бы в тот день отсутствовал самый близкий друг хозяина, поэт Герман Шпигель); потом, ближе к ночи, Брейгель и Корнхерт остаются наедине, среди книг и первых оттисков гравюр, развешанных на веревке, которая протянута поперек мастерской. Корнхерт — превосходный гравер, работающий в технике офорта, но он создает рисунки и гравюры главным образом для собственного удовольствия, подобно тому, как другие для собственного удовольствия играют на клавесине или флейте (правда, ему случается и зарабатывать с их помощью на пропитание, когда не хватает писательских гонораров). Однако прежде всего он был и остается ученым, а также — поскольку считает непорядочным забывать об общественном благе и необходимости обеспечения прочного мира — человеком политически активным. Таким мы и видим его на гравюре Гольтциуса, его ученика, созданной несколько позднее: взгляд философа, решительная складка губ. Корнхерт и Брейгель — почти ровесники, я бы сказал, что они похожи друг на друга, даже внешне. Но один охотно пускается в длинные рассуждения, а другой, как известно, всегда отличался склонностью к лаконизму. Один с трудом сдерживается, чтобы не говорить слишком много; другому, напротив, приходится делать над собой усилие, чтобы не молчать.
Очень долго — по меньшей мере семь лет — Корнхерт был весьма близок к
Дом полон книг. Ими заставлены полки вдоль стен рабочего кабинета, завалена мастерская; они лежат стопками на клавесине, и даже на кухне несколько штук втиснуты между горшочками с солью и мукой. Их можно увидеть на ступеньках лестницы, на полу у стены. Некоторые разложены, раскрытые, на столах. У подножия тяжелых томов с бороздчатыми обрезами примостились карманные издания; ряды благородных кожаных переплетов цвета каштана или слоновой кости прерываются синими и белыми пятнами обложек брошюр, светлыми бликами разрозненных страниц. Здесь все перемешано, подобно тому, как в городе колонны дворца соседствуют с повозкой бродяги: возвышенные слова ученых мужей и разменная монета реплик на злобу дня. Несомненно, Корнхерт скорее предпочтет временно перейти на самый скудный бюджет, нежели откажет себе в удовольствии получить то или иное новое сочинение из Женевы или Мадрида. А вот и поэтические сборники — истинное сокровище для просвещенного человека. Книги светятся под лампой. Светятся, когда к ним подносят свечу. Улица, которую видно сквозь маленькие квадратные окна зеленого стекла, безмолвна. Колокола отзванивают каждый час. Время от времени — редкие шаги в ночи. Судя по тому, что уже очень поздно, это, скорее всего, патруль. Сильные руки хозяина и гостя перебирают книги и перелистывают их, словно колоды карт.
Брейгель рассказывает Корнхерту антверпенские новости. Кристофер Плантен закрывает свою типографию и собирается уехать из города. Антверпен еще не оправился от банкротств 1557 года, и это болезненно сказывается на кредитных операциях. Говорят, будто Плантен едет в Париж, чтобы взять там ссуду. Однако скорее всего он хочет избежать ареста, неотвратимость которого предчувствует. Другие члены
— Рассказывают, — говорит Брейгель, — будто ван Геел заплатил своим наемникам, захватившим ратушу, и тем, что должны были присоединиться к ним позднее, деньгами регентши.
— Вы это знаете? Да, он приехал в Брюссель, переодевшись купцом, и, встретившись с Марией,[7] рассказал ей, что, якобы отрекшись от ложной доктрины, бежал из Мюнстера, дабы разоблачать безумие Иоанна Лейденского и потом, вернувшись, сразиться с ним. Он просил два полка, чтобы покорить Вестфалию и отвоевать Мюнстер прежде, чем это сделают друзья Лютера. Регентша позволила себя убедить. Он вернулся в Амстердам, поселился в гостинице под императорским гербом, стал другом бургомистра. Я иногда напоминаю эту историю моим коллегам из ратуши. Если бы анабаптисты захватили Амстердам, они освободили бы Мюнстер — и тогда, быть может, Бокелзон, которого называют Иоанном Лейденским, действительно стал бы владыкой мира.
— Ненадолго, — говорит Брейгель.
Брейгель стоит у двери в библиотеку.
— Я воспринимаю все это, — говорит Корнхерт, — как нескончаемый диалог со множеством участников. И мечтаю однажды собрать все противоречивые реплики в одной книге. Книга возьмет на себя роль синода. Все те, что веруют в Евангелие, но убивают друг друга, примирятся.
— Это будет хорошая книга, — соглашается Брейгель. — Хотя сомневаюсь, что она умиротворит все души. Если для решения подобной задачи недостаточно Евангелия, то какая философия с ней справится? Ученые теологи, быть может, и придут благодаря тебе к согласию; ну а все остальные?
Тут он умолкает, ибо замечает печаль в глазах собеседника, такого прекрасного человека, и понимает, что тот готов пожертвовать жизнью за свою любовь к справедливости и истине, за веру в Дух Божий, который присутствует в каждом человеке, даже если многие об этом не помнят.
— Царство духовности… — произносит еще Корнхерт. Потом они молчат.
Дирк Корнхерт проводил Брейгеля до гостиницы. Они шли вдоль канала. Красная луна выкатилась над Харлемом. «В этом человеке есть что-то детское», — подумал Брейгель. Не замедляя шага, он поглядывал на достойное лицо своего спутника под крестьянской шляпой с опущенными полями, со шнуром вокруг тульи. Он думал о их разговоре. И еще — о картинах, которые ему показал Корнхерт почти перед самым уходом (правда, так и не сумев припомнить имен художников). Корнхерт же смотрел на дремлющий Харлем, на темную воду канала под луной, покрытую рябью. И спрашивал себя, позволит ли ему судьба прожить всю жизнь в этом городе, умереть в своем доме. Эти двое могли бы стать близкими друзьями, но их встреча была, несомненно, единственной, и история не сохранила о ней никаких свидетельств.
Ему некуда спешить. Ему нравятся эти дороги, нравится, что башмаки людей и копыта коров оставляют в грязи залитые водой выемки, в которых отражается небо. Он бредет между плетеными изгородями по этим пастушьим тропам, следы на которых, когда грязь подсыхает, кажутся письменами Египта. Кто знает, быть может, следы птиц на снегу, звездчатые росписи их лапок, а также отпечатки коровьих копыт в грязи в совокупности составляют Библию, которую мы читали бы как ту, другую, если бы были мудрее? Жрецы Этрурии и Рима, прорицатели, которые умели истолковать полет птицы, биение крыльев и те фигуры, которые образуют внутренности или облака, с такой же легкостью читали сны природы, как и наши, человеческие сны. И как знать, может быть, природа осведомлена лучше, чем люди, так легко отвлекающиеся на всякие побрякушки, о том, что готовит нам Время в своих сокровенных мастерских? Цыган или цыганка, читая по руке, иногда верно предсказывают наш путь. Астролог обозначает на карте планет дату нашего рождения и определяет направление нашей жизни. Разве менее разумно верить, что следы, оставленные животными, или вот эти перекрещенные соломинки могли бы указать нам — умей мы их прочитать, — под какие крыши или какие звезды приведут нас наши шаги?
Безмятежный покой на дорогах между пастбищами, соединяющих одну хижину с другой. Перистые облака, похожие на шерсть, развешанную перед очагом, пламя которого окрашивает ее в яркие цвета; на шерсть в отблесках горящего угля — пурпурных оттенков. Однако по тем же дорогам когда-то проходили пророки с глазами как пожар. На этих дорогах, таких мирных, что даже птица не взлетает при приближении человека, а продолжает двигаться прямо перед ним, появлялись пророки, выходцы из кузниц, конюшен, пекарен, — с Библией на устах и в сердце, одержимые Духом, как они о себе говорили. Одержимые Духом, нетерпимые к любым формам рабской зависимости, к любой лжи, прикрывающейся тиарой и митрами. Эти люди были похожи на Амоса, пастуха; они возносились над хлевами и плугами так же внезапно, как Елисей. Они пребывали в радужном и грозовом свете Апокалипсиса, на пороге Тысячелетнего царства справедливости — были пророками и мучениками! Они бродили по двое, и жители городков принимали их за вернувшихся Еноха и Элию. Все это происходило в тех же залитых светом лугах, среди люцерны. И для того, чтобы как можно скорее треснула скорлупа старого мира, чтобы скорее воссиял Новый Иерусалим, не имеющий ничего общего с нечистотой и порочностью нынешних времен, эти пророки приносили огонь и меч в города и епископские дворцы, в дома знати.
Я представляю себе Брейгеля, шагающего по тем же дорогам Голландии, по которым Иоанн Лейденский направлялся к Мюнстеру, своему Новому Иерусалиму, где ему суждено было на краткое время воздвигнуть царствие оргий, резни и безумия. Я представляю, как Брейгель грезит об отце, которого не знал. Тот мужчина, которого он видел иногда в раннем детстве, рядом со своей матерью, был ли ему отцом? Мать никогда об этом не говорила. Разве она не объясняла, что отец умер почти сразу же после его рождения? И все же он помнит мужчину, который брал его на колени, сажал себе на плечи, и тогда он — Питер — плыл над дорогой почти на высоте древесных крон и крыш. Темная борода, очень низкий голос, очень большая и сильная рука, которая сжимала его руку или опускалась ему на голову. Голос, называвший его «малышом» или «маленьким Питером». Мужчина наклонился к нему, а он сидит на склоне холма, выплетая из соломы и полевых цветов короны, перстенечки… Мне видится, что Брейгель думает об отце, об этом мужчине: не последовал ли он за одним из тех пророков, что проповедовали братскую любовь и справедливость, зримое царствие Христово среди людей? А может, напротив, он погиб в Мюнстере, был казнен на плахе по слову Иоанна Лейденского, ибо восстал против этого царя безумной ярости и жестокого маскарада?
Ему некуда торопиться. Он просто идет от одной деревни к другой. Он наслаждается этим одиночеством, этим странствием, этой тишиной, этими грезами в пути, на дорогах между полями. Он вновь обрел то счастливое чувство, с которым путешествовал в молодости. Его багаж легок. Он носит широкополую шляпу, и так приятно, войдя в гостиницу, снять ее размашистым жестом и, усевшись, положить, еще сверкающую дождевыми каплями, себе на колени; почувствовать себя человеком, который остановился на минуту передохнуть в этой спокойной, знакомой обстановке и вот сейчас двинется дальше, как если бы знал — куда. Он садится в темном углу гостиницы или у очага, смотрит сквозь мутное стекло на двор, где стоят телеги, курица с церемонной размеренностью возится в соломе, пес, обремененный возрастом и меланхолией, вздыхает на пороге, уткнув морду в лапы. Серое небо, аспидные тучи над крышей амбара. Из-за того, что топят торфом, немного дымно. Кто-то входит, кто-то выходит; в общей зале говорят, не стесняясь, в полный голос. Он забудет название деревушки, но не забудет это мгновение жизни на голландской земле.
Улица маленьких домиков, увитых плющом; черные или зеленые ворота; тишина. Бревенчатые или каменные мосты — на них, дойдя до середины, приятно остановиться и посмотреть, как небо отражается в воде. Он идет от одной деревни к другой. Ничто его не подгоняет. Иногда вечер опускается, когда ближайшая деревня едва-едва вырисовывается вдали, на линии горизонта. Солнце здесь бывает как медь, или как золото, или, когда туман, — как тлеющие угли. Днем ветрено, иногда до вечера шумит в ветвях дубов и ив буря. Он любит эту страну, хотя для него она не родная. Любит этот особенный свет Фрисландии и Голландии. Любит умные механизмы мельниц и шлюзов.
Кажется, будто здесь в начале времен отделение вод от суши не было завершено, ибо Бог возжелал испытать предприимчивость людей. Кажется, будто потоп именно здесь все еще бушует у наших ног. Вода стоит вровень с землей. Путешественник проходит через деревни, в которые — еще в прошлом веке — врывалось море, захлестывая поля и опрокидывая дома и церкви, как если бы это были лодки и большие корабли. Как рассказывают, во время наводнения из всех жителей этой низменности, которая сегодня покрыта пастбищами, а тогда несла на себе пятьдесят колоколен, спаслась лишь одна маленькая девочка, спавшая в колыбели вместе с кошкой: колыбель застряла, подобно птичьему гнезду, в развилке дуба, и могучее дерево устояло перед потоками воды. Здешние люди, говорит себе Брейгель, совершили не меньший труд, чем строители Вавилонской башни, но только их творение росло не вверх, а вширь, до самой линии горизонта. Они вырвали свой сад из пасти моря. Они отразили прожорливые морские валы, и эта туманная долина есть их обетованная земля. Он время от времени нагибается, с любовью берет в руки земляной ком, рассматривает и кладет обратно.
Один итальянский путешественник оставил прекрасное описание земель, по которым странствовал Брейгель. «Вся Голландия, — пишет он, — удивительно густо заселена, и люди там в большинстве очень высокого роста, хорошо сложенные, проворные и мужественные, весьма учтивые, человеколюбивые, приятные в обращении, веселые, искусные и благоразумные. Когда ты вступаешь в эти деревни, созерцая людей, а также публичные и частные строения, тебе сразу же открываются учтивость и благочиние местных жителей. Но потом, когда ты заходишь в их дома, видишь множество утвари и инструментов всякого рода, порядок и чистоту во всем, ты испытываешь еще большее удовольствие и удивление. Быть может, ничего подобного нет во всем мире; во всяком случае, я слышал, как это утверждали фурьеры императора Карла V, прошедшие с Его Величеством почти всю Европу, — а как известно, именно фурьеры, которые заходят по своему желанию в любой дом, деревушку или местечко, могут судить о таких вещах лучше других. А после этого загляни в мастерские, посети работающие публичные заведения, поднимись на их корабли и, наконец, обозри дамбы и земляные насыпи, построенные этими людьми не только ради сохранения острова, но также и для того, чтобы защитить многочисленные города и их жителей. Подумай о множестве каналов и рвов, которые видишь на каждом шагу, созданных человеческими руками для обеспечения не только первоочередных нужд, но и всякого рода мелких удобств; подумай, какими средствами сохраняются луга и пастбища, как выводят из канала в канал и потом в море огромное количество воды, которая наступает со всех сторон, ибо местность заболочена и лежит очень низко, — и, хорошенько поразмыслив надо всем этим, ты ясно увидишь: все делается здесь с таким великим умением использовать инструменты и свои руки, что это кажется чудесным и невероятным, однако проявляется в этой стране в тысячах прекрасных и достойных вещей. Да, Голландия — маленькая страна, но наполненная вещами великими и примечательными; здесь имеется множество больших городов и красивых деревень, статных мужчин и женщин, рослой скотины, есть и великие богатства, и великое могущество».
А далее Гвиччардини, которого я только что цитировал, говорит: «[Здешние] женщины отличаются большой смелостью, светлыми волосами и возвышенным духом; и они обычно настолько активны и самовольны, что выполняют почти все мужские работы, особенно в торговле».
В век Рейсдаля, который любил рисовать речные суда, их было очень много на реках и каналах Голландии — иногда они плавали под парусом, но чаще такое судно тянула лошадь. Большей частью это были скромные по виду суденышки, но в каждом из них свободно размещалось около шестидесяти человек. Однако порой можно было увидеть и очень комфортабельные лодки для торжественных выездов, настоящие плавучие дворцы из дерева и бархата. По воде путешествовали и ночью, при свете фонарей, ориентируясь на звон колоколов. В городах лодки отходили от пристани каждый час. Самые богатые нанимали лодку с каютой и с удовольствием наблюдали, как проплывает мимо иллюминаторов залитый лунным светом берег. Они пили маасское вино в дружеской компании. Потом засыпали под льняными простынями, пока вдоль корпуса лодки, на которой уже смолкли все звуки, скользили хижины и поля, земля, широко раскинувшаяся под звездами и ветром, высокие облака, придрейфовавшие со стороны моря. Красивая меховая шапка и дорожный плащ с позументом слегка колыхались на вбитом в стену дубовом крюке. Они могли вечером причалить в Амстердаме, почитать при свете лампы Вергилия, заснуть в своем раскачивающемся на волнах пристанище, а утром, раздвинув занавески, увидеть, как солнце восходит над крышами Гааги, над ее бирюзовыми колокольнями.
Было ли и во времена Брейгеля так же много лодок? Я не знаю. Но легко представить себе, что и он иногда оставлял привычную сухопутную дорогу, дабы проделать часть пути по каналу или реке. Такое путешествие есть, по сути, скольжение, и мир раскрывается перед неподвижным пассажиром как книга, страницы которой переворачивает ветер. Путешественник, даже когда он держит перед собой книгу или рисует, то есть когда глаза его опущены вниз, ощущает просторный пейзаж, окружающий его и незаметно меняющийся в зависимости от времени суток, от положения солнца в небе; вдруг, из-за того что в облачной пелене образовался прорыв, вспыхивает живое сияние цвета соломы, апофеоз земной славы в обрамлении мельниц и полей, все еще залитых обычным неярким светом, и возникает предчувствие, что нам доведется испытать здесь, на земле, нечто иное, медвяно-сладостное, — счастливое, ангельское заблуждение! Все часы в мире, течение времени, движение волн и облаков напоминают человеку, что время его собственной жизни, которое кажется ему неподвижным, истекает капля за каплей и, с точки зрения вечности, уже сочтено.
Плеск воды похож на доверительные признания. Лодка движется между временами года. Каждый из нас подобен Одиссею и Ясону: мы думаем, что заплыли очень далеко, за пределы мира, но все равно рано или поздно возвращаемся на родину, вновь видим ее поля и луга, поленья, сложенные под лавкой, развешанное на веревке белье, небо, окрашенное в тона детства и меланхолии, узкую глинистую тропинку, что вьется среди кустов, — и чувствуем мучительную боль в сердце.
Думал ли Брейгель о том путешествии, которое совершил Лука Лейденский — в своей лодке, которую сам снарядил, украсил и снабдил всем необходимым для грез и работы, — когда пожелал нанести визиты живописцам Зеландии, Фландрии и Брабанта, а было это около сорока лет назад? В Мидделбурге Лука встретился с Яном Мабюзом и пригласил его, вместе со всеми художниками города, на роскошное пиршество. Мабюз сопровождал его до Гента, Мехельна, Антверпена — и в каждом из этих городов устраивался банкет! Лука Лейденский жаждал увидеть не только художников, но и их полотна и гравюры. Ян Мабюз, близко знавший императора и папу, вел себя как вельможа и носил одеяние из золотой парчи. Одежда Луки была сшита из тончайшего желтого камлота,[8] сверкавшего, как чистое золото. Не возникало ли между этими двумя знаменитостями чувство соперничества? Наверное, было приятно наблюдать, как они ослепляли всех вокруг, пытаясь затмить друг друга. Была ли лодка Луки вызолочена, как гондола дожа, — от носа до кормы, вплоть до бахромы и украшений палубного тента? Хрустальные бокалы позванивали от боковой качки, вино и солнце просвечивали сквозь прозрачное стекло; даже когда лодка останавливалась у шлюзов, пиршество ни на минуту не прерывалось. А эти послы, которые представляли лишь самих себя, обменивались рецептами грунтовок и лаков, как повара обмениваются рецептами блюд.
Однако самой лучшей оказалась встреча с Альбрехтом Дюрером: тот тоже решил навестить своих собратьев из Фландрии и Голландии, и прежде всего Луку Лейденского, которым давно восхищался, как и Лука — им. Они обменялись письмами, договорились о месте свидания, еще издали узнали друг друга и ускорили шаги. Дюрер был так растроган, что в первый момент потерял дар речи. Потом сжал Луку в объятиях и, улыбнувшись, подивился, какой у того маленький рост в сравнении с величием его имени. Если мы знаем эту мелкую подробность, то, несомненно, лишь потому, что сцена происходила в присутствии посторонних, — потом они уже никого не допускали к своим беседам. Они проводили вместе долгие дни. Дюрер рисовал портрет Луки — в то самое время, как Лука рисовал портрет Дюрера. Брейгель видит в воображении их молчание, их перекрещивающиеся взгляды. Каждый смотрит на своего визави взглядом хищной птицы; рука на мгновение зависает над металлической пластиной или листом бумаги. Но они и разговаривали — например, об Италии, которую Дюрер хорошо знал, а Лука там никогда не был. Они поверяли друг другу секреты, вовсе не обязательно связанные с резцом и кислотой. Они рассказывали друг другу о своих снах и о том, что боятся смерти, хотя верят в вечную жизнь. Лука вспомнил о своей юности, о рано возникшем желании рисовать и писать маслом, о годах учения — у гравера, который украшал воинские доспехи, работая в технике офорта, а потом у ювелира; и тогда Дюрер заговорил о своем отце, который тоже был ювелиром и сыном ювелира, о том, что он и сам освоил это искусство: ведь одни и те же навыки кочуют из одной мастерской в другую — от чернения доспехов можно перейти к доспехам всадников Апокалипсиса, к гравюрам для молитвенных книг; а живописец, рассматривая игру тосканских деревянных мозаичных столешниц, с их орнаментами в виде шахматной доски, ромбов, зубчиков и раковин, извлекает для себя уроки перспективы и учится лучше компоновать в воображении россыпь кровель и сжатые хлеба на холме. Они разговаривали о перспективе и о пропорциях, о божественной музыке объемов, о комбинациях небесных светил, определяющих нашу жизнь. Они говорили о металлах, зреющих под землей, о кометах и о магах. О Венеции. О своих собратьях. К последним Дюрер относился с большей мягкостью, с большей снисходительностью, чем Лука. О посредственном гравере он почти всегда отзывался так: «Он сделал все, что было в его силах, показал все лучшее, на что способен». Он всегда находил в чужом произведении хоть что-то, заслуживающее похвалы: улавливал тот переходный момент, когда художник наконец начинал работать с удовольствием, ощущал вдохновение — некую искру, просветление, обещание свыше. И благодаря своей нерасчетливой мягкости Дюрер всегда жил в мире с художниками — людьми ранимыми и неуживчивыми.
Маленьким мальчиком, бросая камешки в воду канала или охотясь за лягушкой, Брейгель мог видеть лодку Луки и Дюрера, скользящую меж луной и солнцем. Сегодня, сидя в лодке, он предается мечтам о встрече с ними. Он придумывает, о чем бы стал с ними говорить, отталкиваясь от всех гравюр этих художников, которые знает, которыми наслаждался и на которых учился. Разве нарисовал бы он Альпы и другие пейзажные панорамы так, как сумел это сделать, без уроков Дюрера? А фигуры крестьян и апостолов — без Луки Лейденского? Эти мастера говорят с ним, даже пребывая за гранью смерти. (А с кем однажды станет говорить он сам?) Они и сейчас с ним, в этой лодке, под этим небом, которое то покрывается тучами, то проясняется (он успевает отметить и запомнить этот конкретный миг жизни), как и он ощущает себя рядом с ними, ощущает себя внимательным наблюдателем, сидящим в их лодке. Как, кстати, Лука ее назвал? Это неизвестно. Может быть, совсем просто — «Святой Лука». Брейгель видит гравера в его плавучей мастерской; взгляд мастера — на уровне берега; опускается ночь; плеск воды, мнится, складывается в слова; губы воды целуют борта лодок; опускается ночь, луна выходит из-за облаков; Лука все еще работает при свете свечи; потом засыпает, полный зрительных впечатлений, в своей раскачивающейся на волнах постели. Как это может быть, спрашивает себя Брейгель, что все другие живописцы и граверы не предпочитали, подобно Луке, работать в лодках? А я вот побывал в такой ореховой скорлупе, скользящей по водным дорогам, по дорогам дождя, и на своей сложенной чашечкой ладони рисовал карту и форму мира.
Стада овец, как хлопья, на дальних пастбищах. День, подобно тучной овце, медленно уходит прочь. Хлопья снега и пушистая шерсть. Ветер доносит звон далекого колокола. Между зимой и весной, между осенью и зимой небо бывает серебристым и часто идет снег. Солнечный свет и ветер. И все мы движемся, как эти лодки, — к конечной точке своего пути. И наши сердца подобны этой буро-ржавой завесе, сквозь которую в сумерках или на рассвете пробивается солнце, окрашивая ее в пурпурные тона. С берега кто-то нас приветствует плавным жестом руки; можно догадаться, что он улыбается; ветер доносит одно слово. Закутанные мальчишки бегут по откосу, стараясь не отстать от нашей лодки. Я вижу человека, который шагает к своему дому, к своему очагу. Он закрывает за собой дверь. Я, быть может, никогда его больше не увижу — до самого Страшного Суда. Будем ли мы вспоминать этот миг, когда солнце вдруг осветило мир, в котором ты возвращался домой, чтобы съесть свою миску супа, а я все плыл и плыл к затянутому сеткой дождя горизонту? Большие коровы, черно-белые и бурые, как скалы, как подводные рифы, поднимают морды к облакам, не переставая жевать траву, и вновь опускают их долу. Превосходные животные! Их молоко бьет ключом, сливается в молочные реки — более щедрых коров не сыскать во всей Европе. И притом они дают очень хороший приплод. Эта земля, отобранная у воды, изобилует силой и жизнью. Порой у кромки воды можно увидеть лошадь, белую, как пена или снег. Шелест ветра, шелест ветров в листьях дубрав и ивняке, в зарослях прибрежного камыша; шум воды, шум вод — протоков, по которым движется наша лодка, и той бурлящей влаги, из которой в начале времен поднялась земля. И шелест наших мыслей…
Альбом зарисовок, сделанных Брейгелем во время этого путешествия, утрачен. Может быть, он сгорел вместе с другими бумагами и рисунками, которые художник просил уничтожить после его смерти?
Эта земля подобна дырявой лодке в открытом море — из нее нужно постоянно выкачивать воду. Человеческий гений обращает силу ветров, направляющих к земле волны, против моря, используя в качестве ловушек паруса и колеса. Дикие ветры мчатся издалека, свободные ветры, владыки неба, — но, попадая в ловушки из холста или дерева, становятся ручными, как волы, влекущие плуг. Многие страницы «Голландского альбома» заполнены изображениями водоподъемников,
(Видел ли Брейгель водоподъемники с Архимедовым винтом? Такие сооружения, в которых вместо колеса используется наклонная спираль, позволяют поднимать воду на высоту дома. Эти
Брейгель, который очень скоро начнет рисовать лебедки и колесные механизмы Вавилонской башни (но если люди его эпохи уже сумели, с помощью крыльев и парусов, подчинить себе ветры и воздушные потоки, то до каких же небесных высот могли бы они возводить свои строительные леса — пока в конце концов эти леса не были бы опрокинуты и разрушены бог знает какими ветрами со звезд, солнца и луны либо всклокоченной гривой непредсказуемой и опасной кометы! А эти первые каменщики, эти великие болтуны из Сеннаара — кто мог бы помешать им изобрести, пусть не сразу, а, к примеру, по достижении третьего этажа, такую лебедку, которую вращает ветер, как осел вращает жернова или как ручей вращает замшелое колесо мельницы? Разве изобретение механизмов не есть, так же как и истина, порождение Времени; разве появление одного механизма не влечет за собой появление следующего, подобно тому, как в книге одно слово следует за другим, — и так до конца истории? Сделав один шаг, делаешь и второй…), этот Брейгель смотрит на мельницы и ветряки Фрисландии и Голландии глазами инженера. Он отмечает разные способы, обеспечивающие вращение крыльев.
На последнем рисунке — мельник, готовящийся встретить бурю: похожий на моряка на мачте, он прицепляет к крыльям «дверцы», то есть закрывает пустые ячейки каждого крыла дощечками, называемыми «дверцами ветра».[9] На фоне чернеющего неба надпись: «А ты умеешь поймать ветер?» На заднем плане — лодки, спешащие к порту. Они плывут, ориентируясь на колокольню. Чайки на канале спят, спрятав голову под крыло.
«…Я расскажу тебе о море Океане, которое является великой составной частью или даже владыкой этой провинции — и не только потому, что непосредственно примыкает к ней.
До нас не дошло ни одного письма Брейгеля; вероятно, он вообще писал мало. Но, несомненно, он мог написать письмо, подобное приведенному выше посланию некоего путешественника (как знать, не пересекались ли даже их пути в Делфте, Лейдене, Роттердаме или Бохуме?), украсить его рисунком парусника на волнах и вздымающегося грозного вала и отправить кому-то из своих французских или итальянских друзей.
Богатые флорентийские семьи посылали своих сыновей в Антверпен.
Умение
Несомненно, при случае Брейгель мог поговорить на французском и итальянском, испанском и немецком языках, возможно, и на английском: ведь он жил в этом приморском Вавилоне, пересек Францию и добрался до Сицилии, был подданным Испании, а в лавке-мастерской «Четыре ветра» частенько встречался с приезжими из всех стран Европы. Он знал и несколько турецких слов: научился им у Питера ван Эльста, своего покровителя и приемного отца, которому довелось побывать в Константинополе. «Большинство здешних людей, — говорится в „Описании“, — в той или иной мере владеют грамматикой, и почти все, вплоть до крестьян, умеют читать и писать. Более того, им настолько привычна сия наука языка, что это достойно уважения и восхищения, ибо здесь имеется почти неисчислимое множество тех, кто, хотя и не бывал никогда за пределами страны, помимо своего материнского языка может говорить на разных других, главным образом на французском, который им хорошо знаком; но многие говорят и на немецком, английском, итальянском, испанском, а другие — и на некоторых более экзотических языках». Лютер в «Застольных беседах» приводит пословицу о том, что если фламандца в наглухо завязанном мешке провезти по всей Франции и Италии, он все равно изыщет способ понимать наречия этих стран.
Питер Брейгель был молчаливым человеком. Но он любил подшучивать над своими учениками и иногда даже, чтобы попугать их, изображал привидение. Судя по рассказам о нем, он охотно принимал приглашения на церковные праздники, свадьбы, банкеты. А за большими столами на празднике жатвы или на свадьбе люди не молчат. Каждый, в свой черед, рассказывает какую-нибудь историю или поет песню, припев которой подхватывают все; и он, обычно выдававший себя за родственника новобрачной и приносивший хорошие подарки, не мог отказаться спеть песню и что-то рассказать. Он не сидел в стороне, погруженный в свои думы. Ему это все нравилось.
Он, вероятно, говорил хорошо, складно (а иногда и резко). Умел вовремя вставить нужное слово. Было в нем что-то простонародное — и в то же время он выражал свои мысли как ученый человек. Тот, кто в своих картинах демонстрирует такое пристрастие к поговоркам, наверняка сам охотно употреблял (а при случае и придумывал) яркие лаконичные фразы. У него всегда была наготове история: из тех, что не кончаются, а как бы кусают себя за хвост; или из тех, что разветвляются, но при этом рассказчик не теряет нити повествования; или из тех, что подобны чудесным шкатулочкам, вложенным одна в другую, — но также и такие, которые можно изложить в трех словах, повторить гостям на другом конце стола, потому что они не расслышали, и которые позволяют рассказчику, едва успевшему подняться по общей просьбе, почти тотчас же, под дружный взрыв хохота, вернуться к своей тарелке. Брейгель умел украшать застолья людей философского склада или собратьев-художников, а не только развлекать гостей на деревенских свадьбах, — но менял ли он тон своих рассказов? Он чувствовал себя одинаково свободно с вельможей, купцом и слугой. Он подчинялся логике образов, всплывавших в его сознании, и сам удивлялся своим рассказам, возвышенным или смешным. Слово, независимо от рассказчика, следовало собственным курсом и выбирало направление пути — как происходит со снами, этими живописными полотнами, которые рождаются сами по себе в мастерской ночи.
Быть моряком — вот какую жизнь он хотел бы прожить. Нет такого паруса или троса, названия которого он бы не знал, причем на многих языках. Он охотно помогает членам экипажа, даже в ясную погоду. И ничем не выделяется среди этих молчаливых людей, образующих братское сообщество (они называют друг друга «брат», даже если незнакомы). Он чувствует себя помолодевшим, как только ступает на палубу корабля, качающуюся под его ногами. Засунуть весь багаж в большой холщовый мешок и позаботиться о скромном местечке на ночь, а потом писать или рисовать на коленях и вновь обрести этот привычный запах дерева, шум волн и ветра, это счастливое ощущение детства. Как хорошо вдруг почувствовать, что тебя несет бурлящее могучее море.
Брейгель сел на корабль в заливе Зейдер-Зе (у дамбы Валхерен) ранним утром, когда шел снег и кричали белые и серые птицы: было холодно, он поднял ворот матросской блузы, но порадовался тому, что уже начинает светать. Он отправился морем в Антверпен. Но прямым ли путем? Английский берег лежит в нескольких часах плавания от Амстердама; до Ирландии или Шотландии можно добраться за несколько дней. Путь от Голландии до Дании или Норвегии занимает меньше недели. Может быть, он решил посетить Лондон, Гётеборг[12] или Тронхейм?[13] Нам это неизвестно. Брейгель испытывает удовольствие от того, что никто не знает, где он сейчас. Человеку порой достаточно нескольких шагов, нескольких часов, чтобы скрыться от знакомых и близких. Он бежит на какое-то расстояние, пусть даже короткое, как бегут в древнее царство смерти, — а между тем продолжает жить, совершает сознательные действия и ощущает себя живым! Для каждого, кто попадается ему на пути, он всего лишь другой человек, путешественник, чужак, первый встречный. Брейгеля обычно принимали за купца. Всегда, когда он появлялся у дверей риги, где праздновалась свадьба, люди думали, что он — дядя или кузен новобрачной. Большинство тех, кто случайно встречался с ним, не будучи знакомым, видели в нем самого обычного человека. И разве они ошибались, разве он не был
Он сел на корабль, потом, может быть, на другой. Плыл то в открытом море, то вдоль берега. Иногда на галиоте, иногда на рыбачьей барке. Сначала к Антверпену, потом повернул на север. Часто земля оставалась в пределах видимости. Он любит видеть вдали города и деревни, колокольни, поля, крыши хуторов. Он смотрит на эту безмятежную землю, как смотрят на спящего. Вообще человек, который находится в море, пребывает в более бодрствующем состоянии, чем те, чей путь пролегает меж плетеными изгородями и зарослями камыша, каменными оградами и пастбищами. Он говорит себе, что в момент смерти и потом, на пути в свое новое пристанище, тот, кто уже стал незримым духом, наверняка видит землю и людей на ней, залитых обычным дневным светом, — да, конечно, умерший, покидающий нас, должен видеть жизнь, которая остается здесь, внизу, как видит ее путешественник, несомый и укачиваемый морскими волнами. Древние имели основания утверждать, что есть три рода людей: живые и мертвые, а также те, кто на море, — причем последние больше напоминают незримых странников, нежели путников на земных дорогах. И еще они говорили, что сон — брат смерти; однако грезить о жизни, находясь в море, — значит пребывать в бодрствующем состоянии более интенсивного рода, чем обычное. Те вещи, которые порой видят моряки, стоя у штурвала на рассвете, или ночью, или днем, под мглистым, пронзаемым просверками молний грозовым небом, — что знают о них спящие под крышами городских особняков и деревенских домов? Звезды смотрят на море откровеннее, чем на землю, и жизнь на море кажется такой ясной, какой она бывает только в великих снах!
Один корабль, потом следующий… Иногда, возможно, Брейгель перебирался на другое судно прямо в открытом море, в шлюпке, — когда хотел резко изменить маршрут. Это были и бродяжничество, и работа одновременно: Кок заказал ему серию эстампов с видами военных кораблей. Предполагалось ли, что там будут представлены и рыбацкие шхуны, и обычные торговые суда? Нет, только военные корабли, с пушками, выглядывающими из портов или даже стреляющими; огонь и дым; сражение; горящий корабль, который уже начинает погружаться в воду. Именно такого рода картины нравятся заказчикам. Их можно увидеть во множестве — в Лионе, в Швейцарии. Всем подавай пушечную пальбу. В конце концов он сам, вероятно, заронил эту идею в голову Кока, когда показал ему свое полотно: порт Реджо-ди-Калабрия, подожженный турками, и битва на зеленых водах Мессинского пролива (ад и безумие на фоне райской природы и свет Сицилии, этот свет оттенка розовых лепестков и цветочной пыльцы, свет аллилуйи, разлитый над холмами). Невозможно забыть ни одну из этих пушек с их круглыми бронзовыми жерлами, похожими на глаз циклопа, и особенно ту, на корме, что нацелена в сторону преследователей и стоит рядом с судовым колоколом (который даже от самого легкого бриза позванивает, как стеклянный). Военные корабли, торговые корабли — по сути, это одно и то же: какой корабль с приличным тоннажем сегодня обходится без артиллерийских орудий? Морские дороги, как и все прочие, кишат грабителями; но ведь и империи, и царства, как намекнул один презренный пират царю Александру, — разве не представляют они собой сообщества преступников, занятые крупномасштабным нескончаемым разбоем?
Император вопрос ему задал:
«Почему ты морским разбойником стал?»
А тот подумал и отвечает:
«Почто меня разбойником величают?
Ведь я, хоть и правда разбой вершу,
Гораздо меньше тебя грешу;
А коли бы в латы твои облачился,
Я бы и царской короны добился!»
Кто имеет землю, воюет; а всякая война есть скотство.
Брейгель рисует галеры с парусами, как створки раковин. Он их рисует издали, в тот момент, когда весла опускаются вниз и касаются серой поверхности воды; хотя галеры и далеко, он видит в воображении бритоголовых потных каторжников с обнаженными торсами, слышит их перебранку, угадывает усилие, с которым они налегают на огромное весло. Он, собственно, рисует их убожество — ну и, конечно, галеру, которая издали похожа на насекомое. Без этих подонков разве хватило бы у государей силы оспаривать друг у друга моря и бороться за первенство на торговых путях? Брейгель рисует бедственное положение каторжан и их свирепость; но зритель этого не увидит, если не станет особенно задумываться. А увидит он грациозность паруса и корпуса галеры, которая по своим очертаниям напоминает ласточку (это летучее прожорливое чудовище, страшное для мух), грациозность чаек (каждый спуск такой птицы на воду означает смерть одной рыбины, которая, в свою очередь, питается более мелкими рыбешками, и т. д.). Он рисует, продуваемый холодным ветром, под шум волн, и знает, что рисунок заслужит похвалу и принесет ему хорошие деньги. Он рисует корабли, готовящиеся дать залп по своему собрату, и эти скрипучие галеры: в них несчастные, укравшие кусок хлеба, военнопленные или сомнительные христиане налегают на весла, как дьяволы, благодаря милости судей, которые могли бы их повесить. И сия адская печь подогревает котелок империй! Слава христианнейшему государю, который прогуливается по своим морям и мечтает обмотать весь мир вокруг собственного брюха, как кушак! Брейгель рисует высокие корабли и между ними — галеры с каторжанами. Кто пожелал, чтобы он сейчас сидел на холодке, а другие томились в геенне огненной? Кто даровал Иуде его долю, разбойникам — их, а ему, Питеру, — его счастливое наследство?
Море не всегда бывает пустынным. Есть такие места, где корабли снуют туда и сюда, как гуляющие на бульваре или прихожане на соборной площади воскресным днем — или как куры, голуби и воробьи во дворе, когда им бросают горсть зерен. Парусники приветствуют друг друга, сближаясь при встречном движении, и иногда с одного борта на другой люди что-то кричат: делятся новостями из противоположного полушария или просто из соседней деревни. В трюмах одних судов — шелка и пряности, других — сушеная рыба. Чего только не возят по морю! В недрах некоторых громадных сундуков скрываются живописные полотна и шпалеры: их доставляют в Испанию, в Италию, в Новый Свет. И все корабли кажутся свободными, как птицы. Но Брейгель видит нити, которые ими управляют. Судьба каждого корабля, в то самое время, когда он плывет здесь, в гризайле моря, пены и небесной сини, обдуваемый неутомимыми ветрами, определяется в мыслях и расчетах людей, которые никогда не покидают пределов порта. Каждый корабль производит впечатление замкнутого цельного мирка, подобного яйцу в скорлупе; однако тому, кто умеет видеть, он представляется состоящим из разрозненных частей, как слоеный пирог. Общая сущность всех этих разнообразных товаров — золото в сундуках, а золото есть не что иное, как зримая форма деловых бумаг, хранящихся в банке, на Бирже, в ссудных конторах. Жаль, что на картине нельзя изобразить, под волнами, содержимое водной утробы, а под корабельными скорлупками — не только все то, что вмещают эти короба, развозящие по миру товары, но и доход, который они приносят. Векселя — средства передвижения куда более быстрые и надежные, нежели зримые корабли, отданные на волю волн и ветров, судьбы которых столь переменчивы.
Витрувий много говорит о деревьях и очень мало — о деревянной архитектуре. Для Брейгеля же, который уважает всех камнерезов и каменщиков, начиная со строителей Вавилонской башни, самая прекрасная архитектура (или, по крайней мере, самая милая его сердцу) — это архитектура плотников, которая изначально была делом крестьян: тех, кто возводил дома и церкви с помощью топора и тесла; кто использовал для соединения досок и крепления стропил не гвозди, но клей, деревянные болты, нагели, шипы и желоба. И первые памятники деревянной архитектуры — не хижины и лачуги, а корабли. Лишь научившись строить эти плавучие дома (или, скорее, эти гордые и вместительные дворцы), человек начал изобретать для себя настоящие жилища и, может быть, потому, что деревьев было не так уж много, в конце концов стал для суши создавать из камня подобия сооружений, которые для рек и морей строились из дерева; однако колонны и карнизы все еще хранят память о стволах и балках. Витрувий говорит: каменщики возводят кладку способом «ласточкин хвост»; между торцами поперечных балок остаются пустоты; строители обрубают вертикально концы балок и прибивают к ним маленькие дощечки — так, что мы видим триглифы; а чтобы скрыть швы, которые портят вид, их промазывают воском; отсюда — чередование триглифов и метоп (промежутков между торцами балок) в дорическом ордере. И точно так же, как хижина родилась из соединения ветвей и их переплетения, все другие архитектурные формы возникли на основе плавающего ствола, который человек пытался оседлать; или нескольких связанных стволов, образующих плот; или выдолбленного ствола, который уже есть лодка; или бочки, шеста, весла, паруса. Даже эти высокие корабли в форме кубка.
Брейгель — и в Голландии, и в Фрисландии — часто посещал верфи: их там больше, чем церквей! Он чувствовал себя счастливым среди стука молотков и колотушек, бивших по дереву с регулярными и нерегулярными промежутками, то приглушенно, то более отчетливо; среди жужжания задыхающихся пил. Ему нравилась эта работа; да и мог ли он правильно рисовать корабли, не понимая их, или понимать их, не зная их внутреннего устройства, всего того, что можно увидеть только во время их строительства? Разве достаточно любоваться триумфальным скольжением северных кораблей по водной глади, если тебе недоступны соображения инженера относительно моря и его высоких стремительных волн? Брейгель подмечает все и грезит среди каркасов, ребер, корпусов, похожих на перевернутые церковные кровли, спусковых салазок будущих кораблей — скелетов, постепенно обрастающих корабельной плотью; завтра эти корабли будут уже качаться на горбатых спинах морей, и им предстоит прожить пять, десять, может быть, двадцать лет, пока их не обглодает и не сожрет море или не спалит, как пучки соломы, огонь — и тогда на смену им придут другие кораблики и новые флаги заполощутся на утреннем ветру. Брейгель счастлив, как Ной и его сыновья, когда они, оседлав корпус ковчега, стучат по нему молотками, задраивая свой ящик под струями бешеного ливня, уже мечтая о том мгновении, когда в угольно-черном небе, раздираемом вспышками молний, закроется последняя створка. Брейгель же видит в мечтах Соломона. Он представляет храм Соломона и его дворец, дворец дочери египетского фараона, которую Соломон взял в жены. Он думает об удивительной дружбе Хирама и Соломона, царя Тира и царя Израиля. Храм Соломона сооружался в тишине, не было слышно ни пил, ни деревянных колотушек, потому что камни обтесывали в горах; кедры же и пихты доставляли с гор Ливана, то есть их рубили и распиливали на доски очень далеко от территории храма: на месте оставалось только собрать постройку. А внутри храм, по распоряжению Хирама (не царя, а архитектора), был весь обит деревом — как сундук. Обит кедровой и пихтовой древесиной — какой прекрасный запах, лучше любых благовонных воскурений! И это прекрасное здание плыло по волнам времени к Мессии. О, неф Соломона, корабль мудрецов! Укрой нас, бежавших из мира безумцев, нас, все еще барахтающихся в волнах, которыми не утолить жажду, в горьких водоворотах нашей истории! И наше сердце, сей оракул и внутренний храм, — пусть пурпурная древесина нашего сердца тоже оденется золотом, сиречь светом Твоим, Господи!
Гравюры, выполненные по рисункам Брейгеля, появились у Кока около 1565 года. На некоторых из них над современными (я хочу сказать: современными Брейгелю) кораблями летят Дедал и Икар или мчится по небу Фаэтон. Арион играет на лире, сидя на спине дельфина. Иногда морское чудище высовывает свою лысую голову меж корпусами судов и смотрит на нас угрюмым взором. А рисуя среди карак[14] поэта, выброшенного за борт сицилийскими матросами (эпизод из «Истории» Геродота), Брейгель, возможно, вспоминал путешествие, которое он сам совершил в молодости: солнце над Таорминой, дымящуюся Этну в тумане и голубое небо. А может, он видел в своих грезах Дедала, обретшего убежище у царя Сицилии Коклоса, чье имя означает «раковина»? Фаэтон, Икар — это те, кто потерпел кораблекрушение в небе. Думал ли Брейгель о всех судах, которые были поглощены морем и забыты, о прилепившихся к ним водорослях и раковинах, которые образуют подводные сады, лишенные солнечного и лунного света? Знал ли он, так любивший истории о привидениях, рассказы о корабле-призраке и о Летучем Голландце, этом Вечном Жиде морей?
Мы знаем, какое будущее ожидало корабли, которые он рисовал. Рассматривая эти гордые суда, мы думаем о том, что они плывут к славе Лепанто,[15] к смертоносным ветрам, бушующим над армадой, которую испанский король назвал Непобедимой. Мы слышим первые победные крики морских гёзов и понимаем: Брейгель не успел узнать ни о победе испанцев и венецианцев над турками, ни о победе англичан и голландцев над надменной Испанией. Он просто рисовал огромные паруса, гонимые силой северного ветра, а мы сейчас говорим об Истории, дальнейший ход которой он, быть может, предчувствовал. Он воспринимал игру парусов и ветра как соотношение клапанов органа и музыки (или губ и речи) — и этот язык странствий был его жизнью. Он видел серебристых ангелов дождя, которые летели рядом с судном, задевая стопой за снасти. Когда он оставался в одиночестве и всматривался вдаль, надвинув капюшон по самые брови, то слышал всем своим существом шум корабля, подобный шуму леса, и ощущал, как порой и каждый из нас, присутствие рядом с собой таинственной жизни. Красное солнце двигалось каждый день по небу и потом исчезало — как лампа, которую забирает чья-то рука. Иногда перо морской птицы опускалось, словно снежинка, на палубу. Путешественник летел по пенному морю под огромными белыми парусами подобно ребенку из сказки, которого ночью и днем несет на своем царственном крыле дикий гусь. И это путешествие по волнам, когда он то пересекал затененные пространства, то оказывался под снопами солнечного света, было зеркалом его, путешественника, жизни.
Гвиччардини, как и Брейгель, испытывал влечение к морю и всему, с ним связанному, и, конечно, восхищался жителями Нидерландов, которые в совершенстве владели навигационным искусством. «Они, — говорил он, — весьма искушены во всем, что касается моря, потому что постоянно имеют дело с кораблями, которых у них великое множество, причем рассеянных почти по всему миру; и они столь уверенно чувствуют себя на море — благодаря своему опыту и надежности своих кораблей, — что не только плавают под парусами на протяжении всего года, но и никогда не заходят в порт, как бы ни бушевала буря, до конца путешествия, мужественно сопротивляясь всем ветрам и штормам; а посему нисколько не теряют времени и достигают пункта назначения быстрее всех других моряков».
Он смотрел на море и корабли глазами предпринимателя (каковым, несомненно, и был): «…Но чтобы вернуться к нашей главной теме после того, как мы рассказали об ущербе, который разбушевавшийся Океан причиняет одной части этой страны, когда ополчается против нее, достаточно перечислить те удобства и выгоды, которые он дает всей провинции, когда остается спокойным, ибо выгоды эти таковы, что без них страна, несомненно, не могла бы обеспечить существование и половины людей, которые ныне ее населяют. Ведь хотя земля сия весьма плодородна, ее не хватает, чтобы их прокормить, да и промыслы местных жителей не производят всего необходимого. Удобство же близости моря состоит в том, что к ним ежедневно доставляют изо всех стран все виды товаров — как продукты питания, так и другие вещи, нужные для человека, — причем в расчете на жителей не только этой страны, но и многих других провинций… Из какового удобства проистекает, что страна, о коей мы говорим, является, так сказать, портом и ярмаркой всей Европы; посему здесь и процветают торговля, предпринимательство, хаос бесконечного скопления лиц, как иностранцев, так и местных, старающихся устроить свои дела».
Гвиччардини бросает на море — это царство Поста — взгляд гурмана и в то же время хорошего управляющего: «Выгоды же, которые дает сам Океан, его собственные дары (отличные от вышеупомянутого огромного удобства), столь велики, что поистине достойны его величия; они состоят, как легко предположить, из бессчетного количества рыбы всех мыслимых сортов, которые не только могут удовлетворить самый взыскательный вкус, но отчасти питают и бедняков, притом наполняют не только желудки людей, но и их кошельки — ведь излишков остается так много, что некоторые сорта рыбы, главным образом лосося и сельдь, посылают (в засоленном виде) во Францию, Испанию, Германию, Англию и другие страны, вплоть до Италии».
Его поражали повадки сельди: «Сельдь, которую римляне называли
Море — это поистине страна сказочного изобилия: «Количество рыбачьих и прочих судов, главным образом здешних и французских, а также отчасти английских, которые в рыболовецкий сезон находятся в пределах указанного контура, неисчислимо… Проведя тщательные изыскания в землях Фрисландии, Голландии, Зеландии и Фландрии (потому что другими землями, по причине малости их участия, можно пренебречь) относительно того, сколько судов в мирное время обычно занимается этим промыслом, я насчитал (другие приводят даже большие цифры) семь сотен… Если учесть, что суда обычно выходят на лов по три раза, и хорошенько все посчитать, получается, что каждое судно доставляет за сезон как минимум семьдесят ластов…» (
Но, как известно, благами сказочного острова лентяев нигде нельзя насладиться с большей полнотой, чем под одним из волшебных деревьев со множеством птиц. Поэтому, поведав читателю о сельди, треске и лососях, Гвиччардини заканчивает свой рассказ так: «Если только три эти вида рыб, которые так прекрасно засаливаются, за вычетом расходов на соль приносят этой стране ежегодный доход, превышающий два миллиона экю, то можно вообразить, какое богатство обычно и неизменно проистекает от продажи остальной рыбы. Но мы напрасно стали бы пытаться произвести расчеты, ибо богатство сие — нечто неисчислимое, чудесное и неописуемое. А потому не будем тратить усилий и лучше отдохнем в тени прекрасных дерев, кои открываются нашему взору».
Люди, подобные Гвиччардини, умели восхищаться прекрасными кораблями и при этом не забывать о выгоде, которую они приносят. Такого предпринимателя легко представить сидящим за рабочим столом: вот он поднимает глаза, чтобы посмотреть сквозь витражное окно на свой корабль, который входит в порт или только появился на горизонте, а потом снова возвращается к бумагам, проставляя в красных клеточках суммы, которые ассоциируются в его уме с этой поистине золотоносной ладьей. Перед ним стоят поблескивающие весы. Но, как ни странно, эти люди, внешне похожие на нотариусов или маклеров, сохраняли веру в фей, химер и сирен. Так, Гвиччардини, повествуя о Харлеме, пишет: «В этот город (согласно тому, что рассказывает Ле Мейер, описывают хроники Голландии и утверждает народная молва) в 1403 году доставили морскую женщину, обнаженную и немую, обнаруженную в одном из голландских озер, куда, очевидно, ее забросили морские бури. Эту женщину они одели и приучили питаться хлебом, молоком и другими продуктами; позже она научилась прясть и исполнять другую работу, вела себя честно и преклоняла колени перед алтарем, выполняла также другие церковные обряды, подражая своей хозяйке, и прожила много лет, оставаясь немой. Рассказывают также как о событии совершенно достоверном, что около 1526 года во фрисландском море поймали морского мужчину, который во всем походил на нас, других людей, и, как говорят, имел бороду, волосы, волоски на теле, какие бывают у нас, но только очень жесткие (напоминающие свиную щетину); его приучили есть хлеб и другую обыкновенную пищу; говорят, что поначалу этот человек был совершенно диким, а потом привык к своей жизни (правда, не совсем), но так и остался немым. Он прожил несколько лет и умер от чумы в 1531 году, хотя прежде один раз сумел избежать сходного несчастья. А в норвежском море, у города Элепоха, поймали другого морского человека, облаченного в подобие епископского одеяния; его подарили царю Польши, но он прожил только три дня (ибо не хотел принимать пищу) и за все это время не издавал других звуков, кроме тяжких вздохов; и у меня есть его портрет, где он изображен в своем естественном виде. Все это, конечно, явления странные и новые; но ежели мы вспомним, что писали Плиний и другие достойные доверия авторы о подобных морских людях, которых иногда находили, то не станем нисколько удивляться — особенно если вспомним и то, что те же авторы писали о тритонах и других морских чудищах, а также о похожих на них земных сатирах и фавнах, каковых сатиров святой Иероним один раз упоминает как несомненно существующих».
Неужели и Дюрер верил, что видел кости великана, подобного тем, которые жили во времена Ноя? В дневнике он пишет: «Я видел в Антверпене громадные останки гиганта. Длина его берцовой кости — пять с половиной футов. Она чрезвычайно тяжелая и очень толстая — так же, как и его лопатка, которая должна была принадлежать широкоплечему человеку, и другие кости. И этот человек имел рост восемнадцать футов и правил в Антверпене; он совершил множество чудесных деяний, которые по повелению властей этого города уже давно были описаны в одной старой книге». Я думаю, что речь идет о скелете косатки,[17] найденном землекопами у подножия замка Стен, господствующего над портом. Надпись на одной гравюре 1515 года, которая изображает реку Шельду и суда на рейде, гласит:
Когда Дюрер узнал, что во время сильного шторма волны выбросили на берег пролива Зирикзе (в Зеландии) тушу кита, то немедленно собрался в дорогу. Туша имела в длину более ста туаз,[18] а никто в тех краях не видал кита, который достигал хотя бы трети этой величины. Тушу невозможно было транспортировать морем, и говорили, что потребуется более шести месяцев, чтобы разделать ее на месте и добыть жир… Дюрер поднялся на борт судна, но в первую же ночь оно стало на якорь в открытом море, потому что было очень холодно. Во время плавания художник видел полностью затопленные деревни — над поверхностью воды выступали только верхушки крыш. Когда корабль подходил к Арнемёйдену, одному из семи островов Зеландии, Дюрер едва не погиб: «В тот момент, когда мы причалили и бросили трос, с нами столкнулся большой корабль. Все спешили сойти на берег, образовалась давка, меня оттеснили назад, и в конце концов рядом со мной на борту остались только Георг Кёзлер, две пожилые женщины, лодочник и маленький мальчик. Тот другой корабль толкнул нас снова, когда эти люди и я еще стояли на палубе и не могли никуда укрыться; большой трос лопнул, и тут же поднялся сильный ветер, который погнал наш корабль к морю. Мы все стали звать на помощь, однако охотников пойти на риск не нашлось, и ветер продолжал гнать нас в открытое море. Тогда я обратился к лодочнику, призвав его сохранять мужество, положиться на Бога и подумать, что можно сделать. Он ответил, что если бы ему удалось поднять маленький парус, мы могли бы попытаться причалить еще раз. С большим трудом мы все это проделали, наполовину распустили парус и пристали к берегу».
Все эти усилия и риск оказались напрасными: «В понедельник мы снова взошли на корабль и направились к Зирикзе. Я хотел увидеть большую рыбу, но отлив уже унес ее в море…» Читая эти путевые записки, мы вспоминаем ту картину Брейгеля (может быть, последнюю), которая хранится в Вене, называется «Буря на море» и изображает кита, спасающего Иону. На заднем плане, за струями ливня, мы видим берег с фламандскими колокольнями. Брейгель вполне мог бы быть тем маленьким мальчиком, отправившимся посмотреть на выброшенное на берег чудище и отнесенным ветром в открытое море, — или тем художником, который, замерзший, под угрозой гибели не утратил ни веры, ни мужества. Достаточно было взойти на корабль под чернильно-черными небесами, чтобы всего в нескольких кабельтовых[19] от колоколен столкнуться с Левиафаном. В раскатах грозы внезапно открывалась страшная Библия. Ветер кричал прямо в лицо путнику свою проповедь: «Подумай о себе! Вспомни о смерти!» Знакомое море вдруг изрыгало из бездонных глубин гигантского зверя. Человек ощущал себя поглощенным утробой ночи. Присмотритесь внимательнее: почти на каждой картине Брейгеля (и на многих других фламандских полотнах) совсем недалеко от деревни или постоялого двора проплывает корабль, надвигается буря, происходит кораблекрушение, моряков ожидает близкая гибель, переход от этого мира к Божиему суду.
Вскоре после Троицына дня 1525 года Дюрер увидел во сне потоки воды, которые низвергались с неба с такой высоты, что их падение казалось очень медленным, и ударялись о землю. Он слышал шум воды, которая, достигая земли, ускоряла свое движение. Всю местность уже затопило. Сила урагана, треск и толчки были поистине ужасными. Дюрер проснулся, дрожа всем телом. И тут же, ночью, набросал сепией,[20] бистром,[21] темно-синей и зеленой краской этот ужасный потоп. Он никак не истолковал этот свой сон, да и не пытался найти ему объяснение. А просто записал в дневнике: «Пусть Господь обратит все к лучшему». В тот год по всей Германии люди ждали нового потопа.
Счастлив тот, кто возвращается в Антверпен на корабле. Он совершает плавный переход от моря к полям, хуторам и дорогам, деревням и телегам. Видит мельницы на холмах, у подножия которых блестят лужицы, оставленные рекой. Небо, огромное небо, а в нем в беспорядке облака, стремящиеся к морю, дымки из труб, летящие дикие гуси. Все больше и больше лодок, беззаботно маневрирующих между большими кораблями, которые разворачиваются, ложатся на курс, набирают в паруса ветер, удаляются от берега. А вот и серые неспокойные воды Шельды с плывущими по ним клочками соломы; над волнами носятся возбужденные чайки. Шум и крики, пронзительные звуки труб на ветру. Запахи города и пакгаузов, коров на пристани, рыбы, хищных зверей, привезенных на кораблях. Брейгель, стоя у борта, мог бы перечислить приезжему, впервые попавшему в Антверпен, все, что тот видит на берегу: ворота Кроненбург, аббатство Святого Михаила, башни ворот Святого Георгия, собор Богоматери и церковь Святого Иакова, ратушу, церковь Святой Вальпургии, ворота Кипдорп, Красные ворота, серо-зеленые крепостные стены, приземистый замок Стен. Среди этих мест нет ни одного, которое не было бы связано с воспоминаниями его юности. И вот уже судно входит в город парусов и мачт, пузатых корабельных корпусов — в раскачивающийся, как палуба, портовый город. Приближается к молу, хорошо замощенной эспланаде, называемой здесь
Антверпен, писал Гвиччардини, производит все, чего только можно пожелать, «ибо здесь не только изготавливают сукна, все виды полотна, шпалеры, ковры, подобные турецким, бумазею, доспехи и всю другую военную амуницию, выделывают кожи, пишут картины, красят ткани, делают краски, занимаются золочением и серебрением, производят венецианское стекло и всякого рода товары из золота, серебра, шелка, растительных волокон, шерсти, любых металлов, а также другие вещи без счета — например, разные шелковые ткани типа бархата, атласа, дамб[22] и прочее; но производят они с помощью шелковичных червей — наперекор природе и местному климату — и сам шелк, пусть в небольших количествах, а поступающую из-за границы шелковую пряжу, превосходного качества, перерабатывают на месте и потом наряжаются в шелка. Наконец, здесь с большим искусством и изобретательностью улучшают качество металлов, воска, сахара и других привозных товаров и делают великолепную алую краску, которую мы называем „киноварь“». А сколько же художников в тот год, в те года было в Антверпене? Сколько скульпторов, граверов? Несколько сот человек. В 1535 году триста живописцев уехали из Антверпена в Италию, примерно треть из них — по приглашению герцога Мантуанского.
Брейгель не только имел обыкновение прохаживаться по
«Этот город, — говорит Гвиччардини, — удивительным образом день ото дня становится многолюднее и краше. Тем не менее там живут сегодня (хотя часть низших классов и некоторые другие люди, придерживающиеся более строгих нравов, сохраняют старый обычай питаться скромно), потребляя столь роскошную и разнообразную пищу, что это кажется не совсем пристойным. Соответственно и одеваются мужчины и женщины всех возрастов очень хорошо (сообразно со своими возможностями и положением), всегда избирая новые и красивые фасоны, однако многие — гораздо более богато и помпезно, чем дозволяют приличия и порядочность. И потом, там во всякий час дня и ночи можно увидеть свадебные пиры, банкеты, танцы; со всех сторон слышатся звуки всяческих музыкальных инструментов, пение и веселые возгласы; короче говоря, повсюду и на всех путях являют себя богатство, могущество, высокомерие и блеск этого города». Дважды в день, утром и после полудня, негоцианты торжественным шествием устремлялись к Бирже, а перед группой ганзейских купцов даже выступал духовой оркестр, причем инструменты были шире и выше самих музыкантов.
Дюрер любил Антверпен, как ни один другой город Нидерландов. Здесь он чувствовал себя так, будто находился на берегах американского континента или в самом средоточии мира. Он заплатил три флорина за две солонки из слоновой кости. Лаврентий Стерк, счетовод, поднес ему в качестве презента деревянный индейский щит. Эразм Роттердамский подарил короткий испанский плащ и три портрета из своей коллекции. Дюрер посетил только что построенный дом Арнольда ван Лире, бургомистра, на Принсенстраат, и нашел его прекрасно спланированным и удивительно просторным, комнаты — роскошными, очень большими и многочисленными, башенку над домом — богато украшенной, а сад — громадным.
Думал ли Дюрер когда-нибудь, что ему доведется увидеть, как Карл, направляющийся в Ахен, чтобы принять императорскую корону, совершит триумфальный въезд в Антверпен? Человек, у которого Дюрер гостил, Петр Эгидий, первый секретарь города, издатель Эразма Роттердамского и друг Томаса Мора, которому тот посвятил «Утопию», был одним из главных распорядителей праздника и всех церемоний. Он повел Дюрера в мастерскую живописцев (она располагалась в арсенале), где изготавливались детали триумфальных арок, подмостки для представлений, всякого рода декоративное убранство, прецессионные колесницы. Эгидий самолично чертил планы и запечатлел образ того праздничного химерического города из полотна и раскрашенного дерева, в одночасье возникшего среди города повседневного и занявшего куда более прочное место в памяти людей, чем тысячи обыкновенных домов, которых с каждым веком остается все меньше. Дюрер же написал проспект ожидаемых празднеств и чудес:
И Дюрер купил за пять пфеннигов памфлет Лютера и еще за пфенниг —
«Всего несколько лет назад, — думал Брейгель, — я мог увидеть Дюрера вот на этих улицах, у этого причала. Я мог бы встретиться с Томасом Мором, который приехал с посольством в Брюгге и, когда испанцы удалились в Брюссель, чтобы обсудить его предложения, решил посетить Антверпен». Предпочел ли бы Брейгель жить в то время? Сам остров Утопия возбуждал его фантазию куда меньше, нежели начальные страницы книги Мора: «…Пока я там (в Антверпене. —
Искусствоведы придумывают прозвища художникам, чьих имен они не знают. Отсюда эти выражения-эмблемы:
Корнхерт показал Брейгелю картины, которые только что приобрел и сам еще толком не успел рассмотреть, в последний момент, по внезапному порыву: несколько полотен, проданных ему оптом на аукционе выморочного имущества. О прежнем владельце картин ничего не было известно — умер ли он или каким-то иным образом исчез; о художнике — тоже (он мог быть заезжим путешественником). В комнате, куда ввели Брейгеля, царила полутьма: картины были прислонены к лестнице, Корнхерт и Корнелия пытались расставить их на клавесине, а самое большое полотно укрепили на мольберте. Брейгель приблизился к ним, держа в руке подсвечник. То, что он увидел, тронуло его душу, как ни одна другая картина, которую он знал прежде. Его поразила даже не гениальность этих работ, а то обстоятельство, что они открывали перед ним новую дорогу, были провозвестием будущих творений — его собственных.
И вот теперь он сходит на берег в Антверпене, не замедляя шага, пересекает территорию порта, идет по городским улицам… Вот он уже в полумраке своей комнаты, ставни которой еще не успел открыть. Он счастлив вновь оказаться дома, в своей мастерской, увидеть большой стол, заваленный, как снегом, листами бумаги. Его самое живое впечатление от путешествия — это не города и облачное небо, не слова и лица, не ураган на море и вздыбленные валы под гудящим ветром, но те картины, которые он видел в Харлеме, ночью, при свете свечи.
Одна из них (так он сначала подумал) представляла притчу о званных на пир, как ее рассказывает Лука.[25] Хозяин дома устраивает пир, но приглашенные отказываются прийти — один только что женился, другой должен испытать купленных волов и прочее; тогда хозяин говорит своему рабу: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых… пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Он принимает их во дворе мызы — а мыза высокая, как замок, с башенками и даже зубцами, — большие столы на козлах накрыты белыми вышитыми скатертями и сплошь заставлены пирамидами фруктов, блюдами с мясом и корзинами со сладкими пирожками. Множество крестьян, одетых по-праздничному, едят и пьют, смеются и рассказывают истории. Маленький оркестр играет, поднявшись на импровизированную эстраду из бочек, и несколько пар танцует. У ворот усадьбы выстроилась цепочка нищих и калек (может быть, и разбойников) с шапками в руках — их просят войти, сесть за стол и позаботиться о себе. Они чинно проходят, на костылях. Собаки, чуть в стороне от гостей или под столами, обгладывают кости. В глубине, на втором плане, изображен стол поменьше. Под зеленым с золотом балдахином, на фоне задрапированной узорчатой тканью стены, сидят старик, хозяин дома, и похожий на него молодой человек в белом одеянии. Картина, значит, изображает не пиршество, описанное у Луки, а возвращение блудного сына. За пределами замка можно различить поля и конюшни, стада, сжатые нивы. Дальше открывается широкая перспектива: смотрящий покидает пределы усадьбы, чтобы бродить по дорогам, задерживаться у озер, блуждать в синих и черных лесах, подниматься по уступам гор к их заснеженным вершинам, выходить к морям-океанам, на которых сражаются корабли и пламя горящих судов, раздуваемое ветром, напоминает ленты ярмарочных балаганов. Это огромный мир, в котором затерялся блудный сын; мир, открытый со всех сторон, в любой час приглашающий к странствию. В городе с башенками, похожими на изделия кондитера, можно увидеть сквозь открытое окно (его проем украшен гирляндами и фонариками) публичных женщин, разодетых в бархат и золотые мониста, — тех самых, с которыми блудный сын промотал наследство. А ниже города изображены: местность, где царствуют чума и голод; двор, в котором блудный сын исполнял свое рабское служение; выдолбленное из дерева корыто и свиньи, которых он в своем убожестве пас. И, обежав взглядом все эпизоды картины, зритель не сможет не сопоставить этот адский двор с райским двором отцовской усадьбы. Всякий, кто рассмотрел картину, сам, подобно Одиссею, проделал путь от горестной жизни обездоленного к безмятежному торжеству возвращения на родину; однако Брейгель был растроган не только прекрасным сюжетом картины, но и задумкой художника: картина эта не была, как у Патинира, включением одного эпизода в обрамление огромного пейзажа (наподобие «Бегства в Египет» или «Печали Иова»), но представляла собой органичное соединение пейзажной и жанровой живописи — той живописи, что отображает мир, и той, что отображает человеческую жизнь. Он подносил свечу, от нее падали тени на поля, скатерти, снежные гребни гор в самой дальней точке картины.
И из-за свечи казалось, будто дни и рассветы, снега и ночи проносятся, сменяя друг друга, над полями, крышами, стадами и кораблями, над лодками на озере, над снежными гребнями гор в самой дальней точке мира. И Брейгель говорил себе, что этот мир, в котором живут персонажи притчи, — не просто декоративное обрамление. Он составляет неотъемлемую часть притчи. Я странствую по зримому миру, изобилующему горами и морями, городами, лесами и пашнями, но это странствие прежде всего заставляет меня задуматься о моем другом, истинном путешествии — переходе от незримого к незримому. Я — человек, идущий по дороге. Впрочем, каждый человек — идущий по дороге. Многие спят на ходу, как солдаты, которые держатся за борт телеги, движущейся впереди них и прокладывающей путь в ночи. Многие идут по миру, смотря под ноги, ни разу не взглянув даже на самих себя и вовсе не видя мира, который их окружает. Многие так и шагают от рождения до смерти, ничему не удивляясь. Я же хотел бы во все глаза смотреть и на эту жизнь, и на жизнь незримую. Я знаю, что путешествие по видимому мною миру есть лишь притча о путешествии души. И я буду рисовать, чтобы лучше понять эту притчу. Я буду рисовать то, что вижу, чтобы научиться угадывать незримое.
Ван Мандер говорит, что в Мидделбурге, у Мельхиора Винтгиса, управляющего Монетным двором Зеландии, хранились три замечательные картины Патинира, одна из которых, со множеством маленьких фигур, изображала битву и была прорисована так тонко, что превосходила в этом смысле любую миниатюру. Брейгель мог ее видеть, если побывал в Мидделбурге, повторяя путь Дюрера, который в свое время был приглашен на свадьбу к Патиниру, сделал один или два портрета этого художника (серебряным карандашом), получил от него — в помощь себе — ученика, хорошо владевшего красками, и оставил хозяину в день своего отъезда рисунок «Святой Христофор» на серой бумаге, подкрашенной розовой и белой акварелью. Какая же битва — написанная так масштабно и в то же время с таким вниманием к мельчайшим деталям — искрилась доспехами и копьями сражающихся, украшая гостеприимный дом Мельхиора в Мидделбурге? Была ли то битва Иисуса Навина, который остановил колесницу Солнца, схватившись за поводья, и не давал Луне взойти на небосклоне, пока не одержал победу? Или — битва Моисея, разгромившего царя Васанского Ога? Или — та битва, которую Саул проиграл филистимлянам? Библия полна описаниями битв, они там упоминаются чаще, чем жатва и любовь в тени скирд. Вплоть до последних страниц Апокалипсиса бушует война. На заре истории братоубийственная рука вонзила клинок в горло Авеля. На закате мира по телам убитых и их крови прокатятся, подпрыгивая, как на ухабах, колесницы Гога и Магога. А в наши дни, даже самые безмятежные, свинцовые тучи войны маячат на горизонте постоянно. Нет на земле долины, которую никогда не пересекал отряд кавалерии или пешее войско. Египетское море до сей поры обгладывает покрытое ржавчиной оружие из арсенала Фараона. Брабантский крестьянин нет-нет да и затупит свой лемех о шлем римского легионера. Да и внукам нашим предстоит подбирать на склонах холмов останки тех, кого погубит Зверь из Эстремадуры. Библия — это кровавое колесо (как, впрочем, и весь мир). Даже когда Бог воплотился в человеческом теле, копье прошло через его обнаженную грудь, ища дорогу к сердцу. Все человеческое оружие и вся человеческая ярость ополчились против безоружного Бога.
Брейгель написал последнюю битву Саула и его гибель. Если бы справа от основной сцены художник изобразил, например, пихту, то смерти царя можно было бы и не заметить, потому что Саул убил себя в стороне от сражающихся, у скалы. Достаточно отрезать левый край полотна, чтобы картина превратилась в безымянную батальную сцену на фоне обширной гористой местности, пересеченной рекой. Да и в пейзаж этот нужно пристально всматриваться, чтобы различить подробности битвы: лучников, занявших удобную позицию на горном плато, арбалетчиков, переправу войск с одного берега на другой и, в ближайшей к нам долине, густое месиво шлемов, коней, копий — настолько густое, что его можно принять за серые струи ливня, за россыпь игл и булавок, хотя на самом деле это копья, алебарды, пики; настолько густое, что невозможно понять, где филистимляне, а где сыны Израиля, или определить, на чьей стороне преимущество. Солдаты, чьи тела в гуще сражения переплелись в одно целое, напоминают майских жуков, скарабеев или кузнечиков, которые пожирают друг друга. Из этой груды чешуйчатокрылых вырывается лошадь, куда лучше различимая, чем отдельные фигурки в человеческом водовороте, и более них достойная жалости. Но кто же может смотреть под таким углом зрения на эти скорлупки шлемов и копий в ущелье и долине, у берега реки, стремящей свои воды к прославленным городам; на эти штандарты, эти вымпелы, эти красные знамена, которые поначалу, увиденные с такой высоты, из такой дали, кажутся летящими мертвыми листьями в гризайле дождя? Кто смотрит на это зрелище смехотворного исступления, на эту ярость, втиснутую в узкую трещину, перерезающую великолепный пейзаж, на наши игры, это копошение кровожадных насекомых, в обрамлении безмятежного мира, под светом погожего дня? Кто видит этот выгон Войны, на котором косит траву Смерть? Кто рисует эти безумные колосья, которые сами себя жнут, чтобы насытить аппетит воронов? Можно было бы вообразить, что зритель находится на горе, более высокой, чем эти горы и этот скальный выступ, которые возвышаются посреди просторной речной долины подобно островам. Однако представить себе здесь столь высокую гору очень трудно. Остается думать об орле или ангелах; или о Духе Божием, созерцающем один из моментов нашей истории; или о духе человека, художника: подняв на мгновение глаза над той долиной Книги, в которой помещается рассказ о кровавой битве и самоубийстве Саула (произошедшем в стороне от сражающихся, у скалы), человек этот видит вещи такими, какими их описывает древняя хроника. И вот уже пейзаж разворачивается, приоткрывается перед нами. Форма скопления солдат задана раковиноподобной структурой окружающей среды.
Самуил помазал елеем лоб Саула, и с тех пор царь Саул двигался навстречу своему безумию, навстречу этому мигу, когда безумие толкнуло его в ночные объятия смерти. Он отравил себя завистью к юному пастуху, который услаждал его игрой на гуслях и сумел отбросить филистимлян далеко от границ Израиля. Трижды Саул поднимал копье, желая пригвоздить Давида к стене, а позже со своими солдатами преследовал его в горах. Он также присваивал жертвенные дары, которые должен был принести Господу, и лгал, как бесчестный купец. И когда Господь умолк и царь уже не получал от Него ответов — ни бросая жребий, ни во сне, ни через пророков (а пророк Самуил умер), — Саул, некогда осудивший на смерть некромантов, сам спустился, спрятав свой облик под чужой одеждой, ночью, в пещеру волшебницы из Аэндора, чтобы она вызвала для него тень Самуила. Старый Самуил, закутанный в плащ, поднялся из глубин земли и предсказал царю, что тот будет раздавлен, как орех меж камней, — он, и его солдаты, и его сыновья — филистимлянами. И вот теперь конец этот уже близок. Войска Саула бегут. Под стрелами филистимлян пали Ионафан, Аминадав и Мелхисуа, его сыновья. Теперь враги ищут царя. Он укрылся на холме, чтобы спокойно умереть, чтобы не пасть от руки идолопоклонников, чтобы они не издевались над ним и не оскверняли его тело прилюдно — на дороге или на площади. Он ранен. Панцирь окрашен кровью, и руки тоже испачканы липкой красной жижей. Ему трудно дышать. Корона, нахлобученная на седые волосы, сползла почти до глаз. Он похож на старого шута, переодетого царем Израиля. А между тем он действительно тот, кого Бог избрал для царствования над этим народом. Он поднимает к небу лицо слепца. Предчувствует ли он, что Давид вскоре прикроет его глаза с любовью, нежностью и уважением?
Он знает глубину своего греха, своего ничтожества, и рыдания застревают в груди, как камень, — у него, лишенного благодати слез, нет больше сил надеяться, что Господь в Своей вечной славе возвысит его и благословит. Ветер, который колышет где-то в глубине мира победоносные знамена филистимлян, доносит сюда звериные вопли обезумевших солдат; но эти звуки кажутся далекими, как смех его детства и час коронации. Какое темное пламя преследовало его по пятам всю жизнь? Он знает, что три его сына истекают кровью в зарослях тростника и что кто-то уже успел снять с них доспехи и оружие. Он подзывает оруженосца в красном одеянии, которого видит рядом с собой, и просит, чтобы тот нанес ему смертельный удар, прикончил из сострадания; но оруженосец не смеет совершить святотатство, ему не хватает мужества, чтобы прервать агонию старого царя. А что, если он сам приблизит ночь, заставит ее прийти прежде, чем филистимляне их обнаружат? Саул приставляет к горлу собственный меч и падает на него. Оруженосец тотчас бросается на свой: художник изобразил его в тот миг, когда он умирает рядом с царем. Ночь смерти окутывает войско Израилево. Все мужчины и все женщины Израиля бегут из своих деревень, по равнине, вдоль Иордана, и вот уже филистимляне грабят и занимают их дома. Завтра мародеры обнаружат в росистой траве, на горе Гелвуе, тела Саула и трех его сыновей. Они отрубят царю голову, и заберут его оружие, и распространят эту новость по всей стране, по всем храмам своих ложных богов, среди всего народа. Оружие Саула повесят в храме Астарты, а обезглавленное тело прибьют к стене Бефсана. Господи, дозволь, чтобы люди Иависа, верные воины, под покровом ночи собрали эти останки, эти священные реликвии, чтобы они сожгли тела Саула и его сыновей и погребли их кости под дубом!
Безумие царя. А безумие народа? Ведь только по своему безумию народ Израиля восхотел царя. Они поверили филистимлянам. Они пожелали, чтобы у них был вождь, как у других народов. Обетования Божьего, Его защиты им было недостаточно. Они разыскали Самуила, судью и пророка.
Самуил сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его; и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его; и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; и поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим; и от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим; и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела; от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда».[26] Но народ упорствовал, и Самуил помазал на царство некоего Саула, который был выше и красивее всех юношей Израиля и на которого указал ему Бог.
Посреди изображенного на картине пейзажа возвышается дерево, сломанное бурей или старостью. Глядя на него, можно было бы подумать, что Израиль погиб и Бог отвратился от его сыновей. Однако мы знаем, что Самуил помазал на царство Давида и тот стал царем в изгнании. Подобно тому, как труп Саула остается незримым для солдат, которые сражаются в долине, мы не видим на картине юного Давида — но угадываем его скорое появление. Саул преследовал Давида, желая его убить, и Давид укрылся по другую сторону горы. Они двое были как день и ночь. Ни ненависть, ни безумие Саула не могли омрачить любви, которую Давид испытывал к несчастному царю. Но Давид вынужден был бежать. Он, который еще совсем недавно пел перед царем и которого люди прославляли за его боевые подвиги, за его победы, стал теперь изгоем, которого на дорогах и в пустыне выслеживает отряд солдат. Кто сегодня вспоминает об этом макизаре?[27] А художник — помнил ли он о том, как рука императора Карла покровительственно легла на плечо юного Вильгельма Оранского, когда он, Карл, шел к трону, от которого собирался отречься? Мог ли Брейгель предчувствовать, что Вильгельм станет государем и освободителем Семнадцати провинций? В самом низу картины, слева, он не только проставил дату и свое имя, но и дал точную отсылку на Книгу Самуила, на ее последнюю главу: Saul XXXI CAPIT. BRUEGEL M.CCCCC.LXII. Это, кажется, был единственный раз, когда он обозначил текст, который комментировала его картина. Тем самым он как бы говорил: «Читайте!» Читайте эту последнюю главу, которую нельзя понять, если вы не читали всего повествования об отношениях Саула и Давида. Давид не был совершенным царем, но он — прародитель Христа, единственный князь мира в нашем исполненном ярости мире. Сюжет этой картины — не смерть Саула, но пришествие царя Давида и обещание Пришествия Слова, которое станет нашей плотью. Нужно уметь видеть за хаосом и яростью битв, за безумием и убожеством царей и народов приход молодой жизни и то, что она обещает. Нужно уметь видеть незримого Давида. Различал же Брейгель за криками и стонами, за всей какофонией битвы в долине шум ручья и шелест ветра, отзывающиеся в струнах арфы, — псалмы царя Давида!
В тюрьму Валансьенна был заключен по обвинению в ереси молодой человек двадцати лет от роду, некий Грациан Виарт. Коммерсанты Эно[28] имели обыкновение обучаться своему делу у банкиров Франции и Англии: перенимали у последних искусство вести расчетные книги, узнавали все тонкости обращения с векселями; вот почему они охотно — невзирая на сатирические памфлеты,
Дочке смотрителя тюрьмы в Валансьенне не было еще и восемнадцати лет. Она влюбилась в этого молодого человека, который должен был умереть, может, уже завтра, утопленный в кадке с водой или задушенный жгутом из полосы ткани, которую оторвут от его же белья. Она, как Ирина, оплакивала своего Себастьяна, но не желала, чтобы он умирал! Она любила Грациана, причем это не было внезапно возникшим чувством, порожденным лишь состраданием к чужому несчастью: они знали друг друга с детства и каждое воскресенье, выходя из церкви, успевали обменяться несколькими нежными словами. А теперь они разговаривают через прутья решетки или через толстую дверь, перешептываются о том, что любят друг друга и будут любить всегда. Она осмеливается украдкой, в уголке кухни, прижать губы к черствому хлебу, который понесут ему в камеру, и когда на минуту представляет себе, что целует не те теплые губы, что будут касаться хлеба, но уже остывший лоб мертвеца, то не может этого выдержать, вдруг ощущает резкую боль в сердце и понимает, что им нужно бежать, обоим, что ждать больше нельзя: ей кажется, она уже различает шаги палача, рослого детины, не ведающего, что он творит, — топот сапог на лестнице. В тот же вечер — и это, несомненно, чудо Господне — ее отец, который обычно не покидает пределов тюремного участка, выходит из дома, чтобы заглянуть к пригласившему его соседу. Она берет ключи и отпирает двери. Сам ангел жалости водит ее дрожащей рукой. Уже ночь; они бегут к земляному валу: им нужно спрыгнуть в речушку, полную тины, и переплыть ее. У девушки больше нет сил. Она умоляет Грациана, чтобы он продолжил путь в одиночестве, Бог его защитит. В итоге Грациан благополучно добирается до Антверпена, а девушка находит убежище в доме вдовы Мишель Деледаль. Но через несколько дней сосед, выглянув в окно, видит в саду вдовы разыскиваемую преступницу. Солдаты очень скоро окружают дом и начинают его обыскивать. Девушка просыпается, услышав шум внизу, поднимается с постели, вылезает через окно на крышу курятника, но не осмеливается выбежать на улицу, поскольку почти раздета. Она прячется за кустом роз. Уже поздняя осень, она дрожит от холода, а листьев на кусте почти не осталось. Между тем солдаты с фонарями начинают обшаривать все закоулки сада, обнаруживают беглянку, связывают ее — хорошо еще, если кто-то бросил девушке ее платье и плащ — и отводят к судье. Жаклин — чтобы пощадили ее отца — находит в себе мужество сказать, что Грациан принудил ее к сообщничеству. Судья, достаточно умный седобородый человек, католик, цедит сквозь зубы, что она подвергла своего родителя серьезной опасности из-за развратной любви. — Но ведь Грациан был всего лишь подозреваемым? — Если он бежал, то точно виновен (виновен хотя бы в том, что бежал); а уж девица, недостойная дочь, его сообщница, в любом случае заслуживает смерти. Ее и предали смерти в тот же день: она была попросту удавлена у позорного столба, на рыночной площади Валансьенна. Грациан услышал об этом уже через два дня, в Антверпене: новости быстро распространяются в этой стране теней и страдания, которую топчут сапоги судей, сапоги палачей и сапоги прелатов.
В хронике еще сказано: «Грациан вызвал в Антверпен младшую сестру казненной и женился на ней, чтобы таким образом выполнить, насколько это было в его силах, обещание, данное ее старшей сестре». Мне же хочется думать, что Грациан Виарт был на тех кораблях, которые в конце концов освободили Фландрию от ее злых демонов.
На картинах Брейгеля мало цветов. Я не забыл о бледно-сиреневом ирисе, растущем посреди канавы, в которую падают
Но уже во времена Брейгеля Старшего Голландия и Фландрия были охвачены эпидемией «цветочного безумия». Люди порой жертвовали состоянием, чтобы приобрести одну луковицу. Пришла ли эта страсть из монастырей бегинок? Или из красилен — из их садов вдоль земляного вала, где на специальных сушильных рамах была развешана шерсть всех цветов и среди этих каркасов с шерстью выращивали для нужд производства резеду, марену и вайду?[32]
И если дома, их фасады, украшались таким множеством роз, то не потому ли, что, как сказал один современный Брейгелю поэт, в стране, где солнце светит весьма редко, цветы — это тысячи заменяющих его крошечных светил?
В Антверпене в середине XVI века один фармацевт, Питер Коуденберг, акклиматизировал в своем саду четыре сотни растений из Америки и стран Востока. Этот человек проводил в порту даже больше времени, чем среди оранжерей и грядок. Он просил всех знакомых капитанов привозить ему — в больших ящиках, которые он сам изобрел и соорудил, дабы защитить драгоценный груз от любых превратностей путешествия, — растения, произрастающие в землях антиподов. Лиги друзей цветов и братства садоводов (те и другие считали своей покровительницей святую Доротею) устраивали общие собрания и соперничали друг с другом. В сонете Плантена «Счастье этого мира» есть строка: «Сад, украшенный благоуханными шпалерами». Несомненно, Плантен печатал каталоги растений с не меньшим удовольствием (и не меньшей выгодой), чем подборки географических карт. Даже война делала сады еще краше! Так, фламандцы, осаждавшие по приказу императора Тунис, впервые привезли на свою родину гвоздики.
Брейгель, несомненно, знал Оже Гислена де Бубек, человека примерно его возраста, который исполнял должность посла Священной Римской империи при Сулеймане. Этот вельможа прожил семь лет в Константинополе, в купленном им доме на одном из холмов над Босфором, в компании обезьян, птиц и двух бурых медведей — в письмах он называл свою виллу «мой Ноев ковчег». Когда осенью 1562 года он вернулся на родину, то привез с собой не только античные монеты и греческие манускрипты (в том числе сочинение ботаника Диоскорида), но также саженцы сирени и диких каштанов, луковицы гладиолусов и тюльпанов (по-турецки тюльпан называется
В ту эпоху турки были кошмаром Европы. В Италии, Испании люди боялись прогуливаться вблизи морского побережья — вдруг откуда ни возьмись налетали пираты в тюрбанах, хватали кого попало, и потом их несчастные жертвы оказывались на каторжных работах, на галерах или в гаремах Туниса, Алжира, Константинополя. Раз в четыре года воины султана привозили с Балкан подростков, которых превращали в янычар и рабов. В 1533 году турки осадили Вену. Трехтысячное войско — его белые шатры образовали второй, полотняный город вокруг города каменного, число защитников которого не достигало и двадцати тысяч, — расположилось на обоих берегах Дуная. Осада длилась два месяца. Дело кончилось тем, что зима, дожди, грязь лишили турок мужества и заставили отступить. Однако Красная Борода, великий адмирал их флота, продолжал опустошать берега Италии. В апреле 1534 года он захватил Тунис: Сицилия практически оказалась в его власти. Между зимой 1534-го и весной следующего года турки 35 раз атаковали европейские суда, нарушая покой христианского Средиземноморья. Наконец, галеры и караки Генуи, галеоны Неаполя, каравеллы Португалии, папский флот, флот кавалеров Родосского ордена, откликнувшись на призыв императора, образовали армаду в триста судов, которая собралась в Барселоне и потом, подняв паруса, двинулась к Тунису. Именно в этот момент, когда всем было ясно, что назревает война, Питер Кукке ван Эльст отправился в Константинополь.
Кукке учился в мастерской Бернарда ван Орлей, живописца и рисовальщика картонов. А потом, как рассказывает ван Мандер, «он посетил Италию и Рим, великую школу искусств; там он без устали предавался изучению статуй и монументов. После того как он вернулся в Нидерланды и овдовел, брюссельские торговцы шпалерами из семейства ван дер Муйен поручили ему отправиться в Константинополь, ибо рассчитывали произвести там фурор, изготовив специально для Великого Турка прекрасные и богатые драпировки. Они снабдили Питера несколькими рисунками, чтобы он подарил их султану. Однако последний, будучи верным закону Магомета, не мог принять изображения людей и животных. Поэтому этот проект не имел никаких иных последствий, кроме самого путешествия и связанных с ним огромных расходов». Возможно, Кукке повез в Турцию не картоны — что было бы, так сказать, прелюдией к будущим заказам, — а те картины, которые имитировали шпалеры: их писали темперой, как и картоны, но на холсте; они были менее дорогими, чем шпалеры и живопись маслом. Производство подобных картин обогатило бюргеров Мехельна. Мария Верхюлст, на которой Питер Кукке женился вторым браком, владела этим искусством в совершенстве. Брейгель, несомненно, тоже в нем упражнялся: именно этим можно объяснить его особую манеру составлять масштабные композиции, а также тот факт, что он написал темперой «Притчу о слепых» и «Поклонение волхвов» — на мой взгляд, самое прекрасное и трогательное из своих произведений, которое представляет собой, по существу, слегка подкрашенный рисунок: грубый холст просвечивает сквозь мазки, изображающие снег, солому, холмы, трудно сказать, возник ли этот изысканный и нежный образ, пребывающий почти на границе зримого и незримого, благодаря искусству художника или чудесной работе времени над той хрупкой, осыпающейся штуковиной, каковой является картина, написанная темперой по холсту.
Мне трудно поверить объяснениям ван Мандера относительно целей этого путешествия и причин его неудачи. С одной стороны, могли ли фламандцы не знать о запрете, который ислам налагает на изображение живых существ? С другой, разве сами турки не изображали султана, его жен, его ланей, сражения, охоты, дворцовых музыкантов и танцовщиц? Разве Джентиле Беллини не написал портрет Мехмета II? Быть может, истинная цель поездки Кукке состояла в том, чтобы привести с Востока какой-то секрет красильного искусства: изготовления темно-красного дамасского шелка, или цветных драпировок Алеппо и Акры, или ковров Исфагана.
Я не знаю, привез ли он эти секреты (или сами растения и семена, как Бубек). Но он привез рисунки. «Питер прожил в этой стране ровно год, — говорит ван Мандер, — он выучил турецкий язык и, будучи неспособным оставаться в бездействии, развлекался тем, что рисовал с натуры город Константинополь и его окрестности. Эти рисунки позднее были переработаны в семь гравюр на дереве, изображающие различные манеры поведения турок. На первой можно увидеть, как император турок ездит верхом в сопровождении гвардии янычар и своей свиты. На второй — турецкую свадьбу: как появляется невеста, а впереди и позади нее шествуют музыканты. На третьей — турецкие похороны за пределами города. На четвертой — праздник новолуния. На пятой — застольные обычаи турок. На шестой — как они путешествуют. На седьмой — их способ ведения войны. На всех этих гравюрах мы видим красивые задние планы и очень любопытные действия персонажей: то, как они носят тяжести, и другие подобные вещи; их манеры и позы (переданные очень хорошо); маленькие фигурки женщин, изящно одетых и окутанных покрывалами; самые разнообразные костюмы — и все это создает весьма благоприятное впечатление об уме мастера Питера. Самого себя он изобразил на седьмой гравюре — одетым по-турецки и держащим лук. Он указывает пальцем на персонажа рядом с собой, который держит длинное копье с горящей паклей на конце». Эти гравюры опубликовала через три года после смерти Питера Кукке Мария Верхюлст, на которой он женился вскоре после возвращения из Турции. Издание было озаглавлено: «Нравы и обычаи турок и жителей принадлежащих им областей, скопированные с натуры Питером Кукке ван Эльстом, который побывал в Турции в году от Рождества Христова M.D. 33 (1533)».
Брейгель стал учеником Питера ван Эльста через несколько лет после того, как тот вернулся из Турции. Сколько лет было тогда Брейгелю? Десять, может, тринадцать. Он слушал рассказы ван Эльста с удовольствием и жадностью, стараясь отделить истину от попыток ее приукрасить. Он постоянно расспрашивал учителя о том, что тот видел вдали от родины, о дорожных приключениях и чудесах света. Но Питер ван Эльст, похоже, более об этом не думал. Он, казалось, совсем не стремился быть окруженным тем ореолом дальних странствий, который мальчик столь явственно различал вокруг него. Все его мысли были сосредоточены на вещах, которыми он занимался в данный момент и собирался заниматься дальше. В доме у него все кипело, как в портовой конторе. Шпалеры, картины, чертежи фасадов и планы садов, витражи: все эти проекты, заказы, работы выполнялись одновременно, то и дело прерываемые визитами клиентов и заезжих путешественников, и в результате здесь царила вечная спешка. Константинополь, когда ван Эльст о нем вспоминал, казался не более далеким, чем Нюрнберг или Базель. Пара дней — и ты уже там, вот и все дела; а потом возвращаешься. Он сто раз видел, как солнце восходит над Босфором, а теперь живет под здешними небесами и, в общем, ничем не отличается от тех, кто ни разу в жизни не покидал Брюсселя. В отличие от него юный Брейгель относился ко всем путешественникам с чувством, очень близким тому, которое он однажды испытал, дотронувшись до римской монеты: Цезарь (или один из его солдат) мог, как и он, держать ее в своих пальцах! Он ощущал нечто вроде головокружения, когда представлял, что мир откроется перед ним, едва он сделает первый шаг. Что его до сих пор удерживает здесь? Он мог бы отправиться в Италию. Ходить по горным тропам. Добраться до Рима и увидеть все то, что видел Кукке. Вернется ли он сюда? После Рима он бы хотел увидеть Иерусалим. А может, дошел бы до Венеции и сел на корабль, отплывающий в Китай? Он видел себя путником в этих пейзажах из гор и облаков — путником, который бредет под падающим снегом. Вернется ли он? Он вернется. Вернется стариком. Вновь увидит антверпенский порт и лавчонки своего детства. Люди не узнают его. Он забудет некоторые обиходные слова или будет произносить их как-то иначе.
Мария Верхюлст Бессемере опубликовала, одновременно с турецкими гравюрами, работы своего мужа по архитектуре. Это была отнюдь не самая малозначимая часть его наследия. Гвиччардини, например, пишет о Кукке: «Ему ставят в заслугу то, что он перенес сюда из Италии архитектурное мастерство, переведя на французский язык прекраснейшую и превосходную работу Себастьяно Серлио,[33] уроженца Болоньи, и тем (так они считают) совершил величайшее благо и оказал услугу этой стране». А у ван Мандера мы читаем: «Он писал книги по архитектуре, геометрии и перспективе. Поскольку же он был человеком ученым и хорошо владел итальянским языком, то перевел на наш язык и книги Себастьяно Серлио; таким образом, своими трудами он просветил Нидерланды и направил на верную дорогу архитектуру, которая здесь сбилась с пути. Благодаря ему трудные пассажи Витрувия ныне могут быть прочитаны с легкостью, да и вряд ли теперь есть нужда читать рассуждения этого автора касательно ордеров. Итак, именно Питеру Кукке мы обязаны тем, что узнали истинный способ строительства и восприняли современный стиль». Сочинение Кукке, собственно, называлось: «Измышление колонн с капителями и их пропорции согласно Витрувию и другим авторам, в сокращенном изложении для нужд живописцев, скульпторов и резчиков камня; опубликовано по просьбе добрых друзей». Книга увидела свет в 1539 году, то есть через двенадцать лет после пребывания Питера ван Эльста в Риме. Увеличение количества и ассортимента печатающихся в Нидерландах книг и эстампов способствовало росту популярности античных и итальянских архитектурных моделей. В 1546 году Иероним Кок открыл под вывеской «Четыре ветра» ту лавку эстампов, с которой Брейгель будет сотрудничать всю жизнь. Почти одновременно Кок начал издавать трактаты по архитектуре, такие, как
Эти подборки материалов в равной степени ценились и живописцами, и теми, кто был связан со строительством зданий. Питер Кукке тоже вовремя откликнулся на новую моду: узнав, что в Венеции вот-вот должна появиться пятая книга Серлио, он тотчас засел за перевод полного собрания его сочинений — и Серлио, который тогда находился в Фонтенбло, очень порадовался этому известию.
Однако вклад Кукке в развитие архитектуры отнюдь не ограничивался книгами. Триумфальный въезд принца Филиппа Испанского в Антверпен в 1549 году предоставил ему случай для создания великолепной серии проектов праздничного убранства улиц. Построенные по ним декорации из раскрашенного дерева воспроизводили — в самом сердце старого города — флорентийские дворцы. Орнаменты, выполненные в технике гризайль, стали образцом для позднейших работ камнерезов. Две тысячи рабочих возводили этот город грез и аллегорий. Кукке был не единственным ответственным за строительство лицом: с ним сотрудничали Иероним Кок, Флорис и, может быть, Вредеман де Фрис. Согласно обычаю каждая нация, представленная в Антверпене, должна была построить для принца триумфальные ворота. «Испанские» ворота с пилонами и четырьмя обелисками являли собой памятник древнеримского стиля, но в их оформлении присутствовали и некоторые восточные элементы.
Многие искусствоведы сомневаются в том, что Брейгель учился живописи у Питера Кукке. Действительно, невозможно обнаружить общие черты между его картинами и работами Кукке, созданными под влиянием итальянской моды. Ван Мандер мог считать такое ученичество самоочевидным на основании одного лишь факта женитьбы Брейгеля на дочери Кукке Манекен: «Он обучался живописи у Питера Кукке ван Эльста и позднее женился на его дочери, которую часто носил на руках, когда она была еще ребенком, а он жил в доме у Питера». Ван Мандер мог также спутать Питера Кукке и Маттиаса Кока, старшего брата Иеронима. Кок был превосходным пейзажистом. «Именно он, вдохновившись итальянской или античной манерой, первым придал картинам этого жанра разнообразие, которого им прежде недоставало, а еще он с большой фантазией составлял композиции. Он писал превосходные картины — как маслом, так и темперой», — говорит ван Мандер. Маттиас был сыном Яна Велленса Кока из Лейдена, тоже пейзажиста. О Велленсе говорили, что он одним из первых (если не первым) стал подкрашивать свои рисунки акварелью. Брейгель — ученик Маттиаса Кока? Это можно себе представить. «Пейзаж с хутором в окружении деревьев, у подножия холмов», «Скалы в заливе» (рисунки Кока, ныне хранящиеся в Лувре) и даже «Похищение Европы» (несмотря на то, что персонажи этой картины выписаны в итальянской манере) напоминают работы Патинира или Герри мет де Блес, но в них можно также усмотреть провозвестие брейгелевских мельниц и деревьев, скал над морем, бескрайних далей. «Ночной пейзаж», который ранее приписывали Брейгелю, теперь считают работой отца Маттиаса Кока. Кроме того, если мы примем гипотезу ученичества Брейгеля у Маттиаса, то станет понятным и сотрудничество Питера с Иеронимом — человеком, которого ван Мандер охарактеризовал довольно пренебрежительно: «О его (Маттиаса. —
Повару подобает предлагать публике самые разные кушанья,
И жареные, и вареные;
Кому блюдо не нравится,
Тот вправе от него отказаться.
Но в этом не стоит винить ни посетителей, ни шеф-повара.
У Кока действительно был товар на все вкусы, и он улавливал все новейшие веяния моды».
Жаль, что мы не можем посетить лавку-мастерскую «Четыре ветра»: в отличие от типографии и дома Кристофера Плантена она не сохранилась до наших времен. Нам остается только положиться на свое воображение. Граверы, вероятно, работали в задней части помещения, у окон; дневной свет падал на блестящие медные пластины; прессы с колесами в форме заключенной в круг звезды напоминали штурвалы кораблей; повсюду — склянки с черной тушью, пробные оттиски. Дальше начиналась собственно лавка: мельтешение клиентов и любопытных, развешанные эстампы, картоны, пачки упакованных гравюр (эти свертки подручные грузили на телеги и потом доставляли в порт или развозили по дорогам страны). Здесь печатали только гравюры, но зато гравюры на любой вкус: копии с работ Рафаэля и Иеронима Босха, Тициана и Микеланджело; образы святых и патриархов, Добродетелей и Пороков, богов и богинь, всевозможных животных; карты земли и неба, планы и виды городов; зарисовки обычаев и костюмов, театр пословиц; пейзажи Америки и Брабанта; архитектурные чертежи; уличные сценки и сцены крестьянской жизни; изображения конькобежцев на замерзшей Шельде, кораблей и моряков, бедствий войны, триумфа императора, чудовищной рыбы, выброшенной на берег Гронингена.[35] Образы высокой культуры, образы народной фантазии — нередко перемешанные. Серия пейзажей Кемпена[36] и Брабанта, озаглавленная:
Брейгель так долго сотрудничал с мастерской «Четыре ветра» не потому, что не мог иным способом заработать себе на жизнь, а потому, что ему это нравилось. Нравилось принадлежать к этой команде, к этой семье, быть в курсе последних изобретений и торговых сделок; нравилось выражать свои мысли так, чтобы простые люди их понимали и принимали. Икар и Дедал, летящие над водной гладью Шельды, — это Овидий, переведенный на язык фламандских торговцев и крестьян. «Большие рыбы поедают малых», «Война сундуков и копилок» — это образы на все времена; но они воспринимаются с особой остротой в ситуации, когда один пивовар становится владельцем двадцати четырех пивоварен в Антверпене или когда банкротство одного финансиста влечет за собой разорение целого города. Ему, молчуну, нравилось это немое слово — мысль, которая находила непосредственное выражение в гравюре и разносилась, подобно листьям на ветру, по всей стране, по всей Европе. Ему нравилось, оставаясь в неподвижности перед деревянным мольбертом и листом бумаги, воображать тысячи спектаклей, которые он поставил в разных домах; пейзажи, которые развернул перед всеми теми, кто никогда бы их не увидел иначе как в этом театре теней, сооруженном посредством туши. Умение создавать простые формы и незабываемые, емкие, как пословицы, образы пришло к нему в годы сотрудничества с «Четырьмя ветрами». Мы знаем, каким живописцем ему предстояло стать, и думаем, что он слишком медлил, слишком долго пребывал в безвестности; но ведь он в это время совершенствовал свой талант! Он формировался как художник, осваивая почти анонимное искусство эстампа, создавая работы, которые, быть может, в большинстве своем просто не дошли до нас. Один рисунок пером 1550 или 1559 года изображает море в момент начинающейся бури, под струями дождя, недалеко от Антверпена, который виднеется на горизонте. На островке, что странно, мы различаем колесо и висельника, раскачивающегося на ветру. Водоворот волн передан точно так же, как в «Буре», которую Брейгель напишет в самом конце жизни.
«Здешние женщины, — рассказывал Гвиччардини, — помимо того, что (как я говорил выше) красивы лицом и имеют превосходные фигуры, отличаются хорошими манерами и учтивостью, ибо, согласно обычаям, с самого детства начинают свободно разговаривать с любым встречным и, по причине такой практики, разговоров и всех прочих вещей, становятся сообразительными и проворными — но тем не менее, несмотря на столь великую свободу и вольность в обращении, сохраняют, что весьма похвально, порядочность и пристойный внешний вид; они часто отправляются одни по своим делам — не только в городе, но зачастую и в сельской местности, где они ходят из одной деревни в другую с одной-двумя подругами, и ничего заслуживающего порицания из этого не проистекает. Они, безусловно, очень благоразумны и активны и занимаются не только домашними делами, в которые мужчины почти не вмешиваются, но участвуют также в покупке и продаже товаров и недвижимости, помогают делом и советом во всех других мужских начинаниях и совершают все это с такой ловкостью и прилежанием, что во многих местностях Провинции, особенно в Голландии и Зеландии, мужчины предоставляют им заниматься почти всем; каковая практика, в совокупности с естественным для женщины желанием первенствовать во всем, несомненно, делает их весьма властными, а иногда — чересчур докучливыми или высокомерными. Что ж, перейдем теперь к другой теме».
В Нидерландах женщины иногда становились «художницами», это отметил еще Гвиччардини, упомянувший «Анну Смейтерс из Гента, поистине превосходную и достойную художницу». Анна Смейтерс была женой скульптора Яна де Гере и матерью живописца Луки де Гере. Ван Мандер, прежде чем перейти к рассказу о Луке, характеризует его мать: «Госпожа Анна Смейтерс была превосходной миниатюристкой, автором раритетных работ, исполненных с удивительной тонкостью. Она создала, среди прочих, такое изображение: мельница с крыльями, мельник с мешком поднимается по лестнице, лошадь с телегой на холме, несколько прохожих — и все это можно спрятать под половинкой зерна пшеницы». Гвиччардини в своем «Описании» упоминает и других женщин-живописцев: Лиевину Бенинг, Катерину ван Хемессен и Марию Бессемере.
О Марии Бессемере рассказывали, что она приняла вызов Анны Смейтерс. К изображению мельницы величиной с половинку зерна пшеницы она пририсовала мальчика, держащего в руке игрушечную мельницу — тоже вполне различимую. Эта история напоминает анекдот о занавесе Парразия и птицах Зевксиса.[37] Однако, говоря по правде, талант Марии заключался вовсе не в подобных фокусах — не в умении «подковать блоху» или создать другую диковинку, которую не сделаешь без лупы ювелира или часовщика, — а в силе воображения и оригинальности композиционных решений. Если бы я писал научную (хотя и воображаемую) биографию Брейгеля, то, несомненно, отверг бы идею о том, что его обучал живописи Питер Кукке. На эту роль скорее подходит Мария Верхюлст. Именно она могла обучить Питера — как тридцатью годами позднее обучила своего внука Яна. Могла передать Питеру технику миниатюры и технику живописи темперой по льняному холсту. Ведь Брейгель, как мне представляется, сочетает в своих картинах принципы монументальной композиции, свойственной шпалерам, и тонкость миниатюры. Он и был миниатюристом: Джулио Кловио, итальянский миниатюрист, получил от него в подарок крошечную копию «Вавилонской башни» на пластине из слоновой кости (ныне утраченную); а кроме того, в медальон «Страшного Суда», написанный самим Кловио, была вставлена работа «Корабли в бурю» (или, может быть, «Конец мира») — «квадратная миниатюра, написанная наполовину его рукой, а наполовину — рукой мэтра Пьетро Бруголе». Брейгель, конечно, не мог бы сотрудничать с Кловио — этим «новым Микеланджело малых форм», как назвал его Вазари, человеком, который был на тридцать лет старше его, — если бы делал только первые шаги в жанре миниатюры. И действительно, он был миниатюристом уже тогда, когда изобразил кишащих, как муравьи, солдат в последней битве Саула. И тогда, когда писал реки и долины, увиденные с вершины горы, он включал в эти пейзажи и острие колокольни, и резной контур далекой крыши, и дикого кролика, которого вот-вот убьет охотник. Он часто соединял в одном образе бесконечно великое и бесконечно малое. То есть он соединял две чаши мировых весов: ведь только так и можно найти меру для происходящего в мире. И если ему был столь дорог сюжет «Вавилонской башни», то не потому ли, что его «Вавилон» и есть гигантская миниатюра? Невозможно представить себе ничего более громадного под небом, на морях или на земле, чем эта башня: даже гора служит всего лишь опорой, вокруг которой обвиваются ее стены; а между тем я различаю на одной из самых дальних строительных площадок желтую птичку, которую рабочий кормит с руки крошками хлеба. Далеко внизу, в нежной колышущейся дымке, синие крыши города видны настолько отчетливо, что я могу распутать клубок улочек, по которым бегали, когда были детьми, нынешние строители.
Питер Кукке, возможно, посвятил Брейгеля в секреты шпалерного искусства. Когда осаждали Тунис, император взял с собой Яна Корнелиса Вермейена, чтобы тот запечатлел, как очевидец, подвиги христианской армии. Это произошло через год после поездки Кукке в Константинополь. Осада была грандиозной авантюрой; и не менее впечатляющим событием оказался мятеж испанских пленных, которые бежали из своей тюрьмы, разожгли костры, чтобы подать знак кораблям-освободителям, и, не дожидаясь подхода армады, первыми атаковали изнутри гарнизон города. Видел ли Вермейен кровь, оторванные руки и ноги, агонизирующих солдат, раны, гной? Или он не видел ничего, кроме блеска моря, великолепия развертывающихся войск и красоты задуманных им двенадцати шпалер, в сладостном колорите которых будет преобладать желтый цвет («Смотр войск в Барселоне», «Высадка императорской армии», «Атака на остров Галит», «Вылазка осажденных» и т. д.)? Он создал картины, на которых мы видим корабли и лодки, весла и паруса, гарцующих или скачущих галопом кавалеристов, пушки, солдат и капитанов, пики и алебарды, шлемы с плюмажами, мушкеты, морские волны, крепостные стены, листву деревьев. Мария Венгерская, в то время регентша Нидерландов, повелела выткать по этим картинам шпалеры. Рассказывали, что Питер Кукке сотрудничал с Вермейеном. И что Брейгель помогал учителю. А если это так, он наверняка был знаком с Вермейеном и мог извлечь урок из его пейзажей, увиденных с высоты птичьего полета, с кораблями на переднем плане и смутно различимыми очертаниями порта вдали; мог обратить внимание на то, как художник изобразил с краю картины самого себя, рисующего битву. Все это напоминает «Корабли близ Неаполя», одно из первых живописных полотен Брейгеля, и некоторые его альпийские пейзажи, на которых он изображал себя стоящим под деревом, с пером или кистью в руке. Если бы шпалеры не воспринимались как второстепенный, прикладной вид изобразительного искусства, мы бы, несомненно, лучше поняли, сколь многим Брейгель обязан им — в плане видения мира, манеры составлять масштабные и крепкие композиции, а не только в том смысле, что в мастерских Мехельна рисовальщики картонов копировали его картины. По циклу «Времена года», который Брейгель рисовал для особняка Йонгхелинка (несомненно, имея в виду ротонду), хозяин мог бы заказать шпалеры. Работая над этими картинами, Брейгель, вероятно, вспоминал шпалеру ван Орлея «Охоты Максимилиана» или «Месяцы» того же художника, по которым изготавливали шпалеры в мастерских Брюсселя. Быть может, он думал и о «Вавилонской башне» — серии шпалер, которую ныне можно увидеть в Кракове, — когда решил создать картину на тот же сюжет.
Питер Кукке дал ему начатки архитектурного образования. Художник, написавший две «Вавилонские башни» — большую, которая сейчас находится в Вене, и малую, роттердамскую (ту, где сверху донизу по всей стене вдоль каната лебедки тянутся красная полоса кирпичной пыли и белый след извести), — такой художник определенно был архитектором. Брейгель увидел это Здание зданий в своих грезах, но потом все точно просчитал. Он вычислил необходимую мощность подъемников и других механизмов, пригодных для использования на стройке. Он продумал, как будут двигаться по наклонным плоскостям ломовые дроги, насколько широкими должны быть подъездные пути, чтобы две телеги могли разъехаться — все это он предусмотрел. Он рассчитал дальнобойность пушки и размеры контрфорсов. Он комбинировал элементы разных архитектурных ордеров и решал вопросы, связанные с освещением. Он с наслаждением художника и добросовестностью чертежника прорисовывал бойницы, арки, орнаментальные украшения и карнизы. Он сконструировал образ, обладающий силой сновидения, достоверностью воспоминания и точностью архитектурного проекта. Он с равным удовольствием изображал доставку материалов для строительства и те ступени здания, на которых обитают пока только каменщики и птицы. «Некоторые из его лучших работ ныне принадлежат императору, — писал ван Мандер. — Например, большая картина, которая изображает Вавилонскую башню, увиденную сверху, со множеством весьма колоритных деталей, и потом картина на тот же сюжет, но в малом формате». Вавилонская башня,
Питер Кукке решил построить в Антверпене дворец, который сочетал бы в себе все, что ему нравилось в архитектуре. Он уже давно приобрел участок земли в том квартале, где ван Схонбеке установил с внешней стороны старого земляного вала свой насос. Ван Схонбеке был тем самым пивоваром, который приобрел двадцать четыре пивоварни и разорил своих конкурентов, мелких пивоваров с Каммер-штраат, потому что машина, которую он изобрел, — своего рода замок на воде, совсем близко от порта, на территории, которая вскоре получит название Дома пивоваров, — позволяла с очень небольшими затратами качать воду из канала Херенталс и распределять ее по всему городу, по всем пивоварням ван Схонбеке; а в то время распространился слух, будто другие пивовары, берущие воду из пруда Мейр, своей недоброкачественной продукцией травят клиентов. Когда члены городского магистрата попытались на этом основании запретить конкурентам ван Схонбеке варить пиво, те ответили, что вода из
Антверпен перестраивался и весь как бы трещал по швам. Не только ван Схонбеке, но и Граммайе, Булман, ван Хенкстховен — его соперники и собратья — вспарывали лабиринт старых улиц и переулков, сооружая прямые и светлые магистрали. Стали сносить все эти дома из дерева и соломы, которые загорались от первой же искры и впитывали грязную воду. Один венецианец, Марино Каралли, вздыхал: «Антверпен огорчает меня, ибо я вижу, что он превзошел Венецию». А Гвиччардини, антверпенец в душе, наоборот, радовался: «Антверпен, помимо того, что он окружен красивыми и крепкими стенами, обеспечен превосходными артиллерийскими орудиями, боеприпасами и другим военным снаряжением… имеет в настоящее время, кроме прочих больших и малых улиц, двести двенадцать широких проспектов, по большей части прямых и красивых… Сейчас в Антверпене более тринадцати с половиной тысяч домов и достанет места еще для полутора тысяч. Так что если город и впредь будет продолжать процветать, как процветал много лет и процветает ныне, то это свободное пространство вскорости должно заполниться жилищами; и тогда в совокупности здесь будет пятнадцать тысяч домов и множество прекрасных садов… Помимо частных домов, здесь имеется немало красивых и величественных общественных зданий: Шпалерная биржа, Дом гильдии мясников, Новая палата городских весов; далее — великолепное здание, которое сдают в аренду англичанам, называемое Подворье Лире, потому что оно было построено по проекту Эрта из весьма благородного семейства Лире в стиле королевского дворца и предназначалось для придворных императора Карла V; далее — роскошные
Дом Кукке радовал глаз чередованием бело-голубого камня и кирпича. Главный фасад напоминал фасады флорентийских палаццо. Внутренние фасады были обращены к обрамленным портиками дворам и садам. Коринфские колонны сочетались с тосканскими пилястрами, а треугольные фронтоны — с фронтонами полукруглыми. В особняке имелись длинные залы для прогулок в дождливые дни и гостиные для менее официальных бесед. Камины были обильно украшены гротескными изображениями и рельефами, воспроизводившими самые прекрасные сцены «Энеиды». Лестницы из снежно-белого мрамора вели на верхние этажи. В галереях, освещавшихся через широкие окна, можно было развесить шпалеры и картины. Библиотека располагалась в шестиугольном помещении, а зала для музицирования была круглой: ее мозаичный пол, выполненный в лазурных и золотых тонах, изображал колесо в обрамлении гирлянд из виноградных лоз; на стене, между колоннами, были представлены Аполлон и музы. На фризах фасадов, обращенных к парадному двору, можно было увидеть олицетворения Тибра и Арно, которые издалека приветствовали Шельду, царя рек, в то время как Меркурий увенчивал главу Шельды короной. Якоб Йонгхелинк отлил из бронзы изображения Семи Планет — они окружали фонтан, в центре которого дремал Вакх. В садах было множество увитых зеленью беседок. Одна беседка, стоявшая среди гвоздик и тюльпанов, напоминала о путешествии хозяина дома в Константинополь. Античные статуи возвышались, как вехи, среди лабиринта тропинок. Утреннее солнце окрашивало в розоватый цвет благородный фасад особняка, а на закате все окна, выходившие во двор, и фонтан с планетами казались кумачовыми или малиновыми.
Питер Брейгель мысленно видел все это еще тогда, когда только начинали готовить строительную площадку. Вместе с землекопами он натягивал шнур, делал мелом пометки на земле. Шагая по освобожденному от деревьев участку, он воображал, что идет по садовым аллеям или по столовой, где блестит эмалированная посуда. Нередко он отправлялся в Намюр или Динан, ездил вдоль Мааса, чтобы найти подходящие сорта мрамора; а иногда его посылали в порт за другими материалами или за итальянским мрамором. Кукке делал чертежи, но сам не строил. Брейгель выполнял функции посредника между архитектором и начальником строительства. Ему доводилось и крутить ворот, и укладывать кирпичи вместе с каменщиками. По вечерам Кукке просматривал записи, которые Брейгель вел во время своих поездок, и его зарисовки орнаментов, инструментов и механизмов, несущих конструкций здания, строителей за работой. Если Питер рассказывал ему о посетителе или о рабочем, имени которого не знал, Кукке говорил: «Не пойму, о ком идет речь. Лучше нарисуй его мне». Кукке требовал, чтобы Брейгель описывал каждую вещь точными терминами — причем не только по-фламандски, но и по-французски, по-итальянски, по-испански, а если возможно, то и на латыни, языке Витрувия. Это была игра. Но Брейгель жадно тянулся к знаниям. Он ходил, бегал, мало спал. Любил встречать рассвет на стройке. Даже когда шатался без дела, смотрел по сторонам; и взгляд его был таким же активным, как рисующая рука. Ночами ему снились блоки и приставные лестницы. «Недостаточно видеть вещи так, как видят их все люди, — объяснял Кукке. — Их нужно понимать. Для этого ты и рисуешь. Ты должен воссоздавать в воображении то, что видишь. Это касается даже игры орнамента на алебастре: ты должен знать, как орнамент был вырезан. Помнишь, что говорил Альберти?
Кукке решил отпраздновать день рождения своей дочери Марии одновременно с новосельем и пригласил по этому поводу кучу друзей: художников и скульпторов, клиентов, эшевенов[38] Антверпена и некоторых других городов, испанцев, немцев и, разумеется, итальянцев, которым, вероятно, казалось, что они каким-то чудом очутились во флорентийском дворце, перенесенном посредством магии на берег Шельды. Гости толпились в залах, во дворах, в садах, освещенных факелами. Когда зажгли канделябры и люстры, некоторые картины впервые предстали перед зрителями во всем великолепии. Например, огромное полотно Франса Флориса, изображавшее трапезу морских богов: тритоны и нереиды, чьи обнаженные тела переплетались, как волны, вместе с богинями в коронах из раковин и жемчужин угощались рыбой и крабами, лангустами и омарами; столом им служил перламутровый бассейн, какой не увидишь нигде, кроме как в подводных дворцах Нептуна. Гости Кукке оставляли свои подарки на буфетах или на полу около каминов. Мария грациозно сошла по широкой лестнице, скользя рукой по перилам из темного дерева, — маленькая дочь Фландрии среди этого триумфа Италии и античности. Она была одета в платье зеленого бархата, украшенное золотой вышивкой на античный манер. Питер смотрел на ее длинные светлые волосы, ниспадавшие на плечи. Про себя он называл ее «Юной Сивиллой». Мать провела девушку в музыкальный салон, и едва та опустила руки на клавикорды, все, кто был в доме и даже в саду, замолчали и обратились в слух.
Немного позднее Питер Брейгель вышел из особняка. Обернувшись, он бросил взгляд на освещенные окна, на совсем новую каменную облицовку фасада. До него доносились смех и слова, обрывки музыки. Он чувствовал себя безработным. Его труд закончился. Чудесная стройка исчерпала свой смысл, создав эту безупречную раковину. Ну и что дальше? Он ощущал себя чужим в этой толпе богачей. Знал, что важный этап его жизни завершен. Он думал о своей судьбе, приведшей его от родной деревни к этому вельможескому дому, хозяева которого приняли его как сына. А ведь он мог быть среди тех, кто сейчас прижимается к садовым решеткам, пытаясь хотя бы издали приобщиться к чужому празднику. Но мимо его деревни проезжал Кукке, важный, нарядный, веселый господин, и колесо Фортуны повернулось — этот человек неожиданно решил остановиться в местной гостинице. Он уселся, заказал себе еды и питья. Потом поднялся и вышел. На заднем дворе, на двери, увидел рисунок углем и мелом, почти смытый дождями: поднявшуюся на дыбы лошадь с развевающейся гривой, черными копытами, островками пятен на крупе и на груди, хвостом, как у кометы. А как она смотрела — какой у нее был глаз! Кукке остановился перед этим каретным сараем, за которым начинались поля. Остановился перед этим зверем, нарисованным углем и мелом на зеленовато-розовой двери. Вернувшись в залу, спросил: «Кто нарисовал лошадь?» — «Какую лошадь?» — «На двери сарая, на заднем дворе». — «А! Мальчишка-половой, кому же еще». Мальчик прислушивался, не выпуская из рук кувшина. «Это ты сделал?» — «Вы о лошади? Ну, я». — «Ты любишь рисовать? Тебе хорошо здесь?» — «Как посмотреть. Мне везде хорошо». — «Ты хотел бы стать художником в Антверпене?» — «Да». — «Мне нужен ученик. Поедешь со мной? Тогда иди, договорись о своих делах». Снаружи, за раскрытой дверью, было серо-голубое небо, солнце проглядывало сквозь тонкую сетку дождя, пахло сиренью — он это точно запомнил.
Брейгель прошел сквозь толпу любопытных, смотревших на праздник. Там были нищие и калеки, надеявшиеся на милостыню или объедки с барского стола. Были и бедняки, которые не ждали ничего подобного, а просто хотели посмотреть, как развлекаются богатые. Многие из них работали на новых мануфактурах: по очистке соли и сахара, мыловаренных, красильных. Они зачастую не получали за свой труд и половины того вознаграждения, которое считалось нормальным для плотника, каменщика или ученика мясника. Брейгель затерялся в темных переулках, уходя все дальше от этих людей, прижавшихся к решеткам ограды, и от праздника, на котором смеялась и пьянствовала буржуазия Антверпена. Пройдут годы — совсем немного лет… И те же нищие — или их дети — ночью, очень похожей на эту, внезапно разгромят центральный собор и все другие церкви Антверпена. Они будут врываться во дворцы синьоров и поджигать роскошные особняки. Пламя охватит картину «Праздник богов и богинь». А потом дождь и трава довершат разрушение покинутых и опустошенных жилищ.
Я, чья слава в былые дни достигала небесных высот,
Я, о ком слышал любой неизвестный и дикий народ,
Я, что был так богат и людьми и всяким иным добром,
Я, столь красивый и гордый в наряде роскошном своем,
Я, который всегда был первым среди городов, пока
Гражданских раздоров беда не пришла на сии берега,
На которого гнула спину Европа и, больше того, весь мир,
Потому что весь мир я кольцом своих рук охватил, —
Чем же теперь я стал и какая судьба меня ждет?
Сегодня, выйдя из здания антверпенского железнодорожного вокзала, мы оказываемся рядом с Зоологическим садом. Каждый раз, глядя на его вывеску, я вспоминаю о том, что уже во времена Брейгеля в городе было много экзотических зверей. Антверпен напоминал одновременно Вавилон с его кишением разноплеменных толп и гору Арарат, к которой только что пристал ковчег с животными. Лев, которого Дюрер видел в Генте и потом зарисовал, наверняка прибыл из Антверпена — как и тот носорог, чей знаменитый портрет тоже является творением Дюрера. В Антверпене Дюрер приобрел — или получил в подарок — веточку белого коралла, рог буйвола, копыто лося, раковины, чешуйку большой рыбы, черепаху, несколько высушенных рыб, маленького зеленого попугая и обезьянку. Дети в порту всегда ждали, когда будут выгружать контейнеры с животными, узнавали их характерный резкий запах. С не меньшим нетерпением они ждали, когда грузчики понесут на вытянутых руках клетки и вольеры с редкостными птицами.
В 1562 году Брейгель сделал для Кукке рисунок «Торговец, которого обворовывают обезьяны», имевший большой успех. На нем мы видим — на фоне фламандского пейзажа, под деревом — заснувшего безмятежным сном бродячего торговца и стайку маленьких обезьянок, которые, гримасничая, растаскивают его товар. Это был популярный сюжет. Ему посвящена, например, картина Херри мет де Блеса, на которой, правда, сама фарсовая (или басенная) сценка занимает немного места: она помещена в обширный пейзаж, выполненный в духе Патинира. Ныне эта картина хранится в Дрездене. Ван Мандер же видел ее в Амстердаме, на Вармус-страат: «У Мартина Папенбрука можно увидеть громадный пейзаж работы Херри мет де Блеса: посреди картины, под деревом, торговец предается сну, в то время как обезьяны разворовывают принадлежащий ему товар и потом развешивают этот товар на деревьях, вовсю веселясь за чужой счет. Некоторые люди усматривают в этом сатиру на папство: они считают, что обезьяны символизируют мартинистов или приверженцев Лютера, которые обнаружили источники доходов папы и обозвали их „галантерейным товаром“. Мне же такая интерпретация кажется сомнительной. Херри определенно не хотел сказать ничего подобного — ведь искусство не является инструментом сатиры». Быть может, само имя
Рисунок Брейгеля, скорее всего, был просто шуткой. Но он мог содержать в себе и крупицу мудрости. Человек, который заснул в пути и видит сон, в то время как его грабят, — не есть ли это аллегория человеческого духа, лишенного бдительности? Аллегория души, которая, вместо того чтобы бодрствовать, позволяет гримасничающему миру расхищать ее сокровища? Обезьяны здесь — образ разбазаривания благ. Оцепенение и пустое кривлянье — то и другое противно природе истинного человека.
В тот же год Брейгель написал двух обезьян, сидящих в амбразуре стены. Они прикованы цепями к большому вделанному в кладку кольцу. У них под ногами рассыпано немного ореховой скорлупы. Одна обезьяна смотрит в нашу сторону, другая — вдаль: на город Антверпен, парусники, плывущие по золотистой Шельде, бледно-зеленое небо, по которому летят птицы. Картина очень маленькая, но от нее невозможно оторваться. Арка амбразуры притягивает взгляд. Он сначала сосредоточивается на городе, на реке, на небе с летящими птицами. А потом возвращается к бедным плененным созданиям: к этому лицу-маске, которое смотрит на нас, к красноватой шерсти на голове обезьяны, к ее зрачкам, обведенным белыми кругами, иссиня-черной мордочке, к тоске порабощенного существа. Не являются ли эти звери олицетворением рабства и неволи? И если да, то идет ли речь о порабощенных народах или о душе, которая прикована к своим страстям и ошибкам, хотя могла бы летать подобно птицам? Быть может, эта картина Брейгеля была — как и лев из Гента, нарисованный Дюрером, — всего лишь
Но я полагаю, что было бы вполне в духе Брейгеля, если бы это окно — такое высокое, выше любого дома в Антверпене, и притом проделанное в такой толстой стене, — оказалось амбразурой Вавилонской башни. Именно с какого-то из этажей Башни кто-то бросает этот взгляд вдаль, на порт и город. Сам Брейгель жил в одной из тысяч ниш Вавилона. И потом, он видел Вавилонскую башню: она — сперва как прозрачное облако, потом как грозовая туча — поднималась на берегу Шельды, господствуя над городом и равниной. Он ее видел во всех деталях. Он ее писал. Писал эти синие крыши. Сперва только в своем воображении. Потом — через год — вполне реальными красками. Но все началось с того первого видения. Антверпен и был Вавилоном. Антверпен был символом мира. Мира, этой огромной раковины, которая создала для себя башню, отбрасывающую тень — вопреки всем законам природы — не на землю, а на небо. Вавилон! Одна из самых красивых колесниц в праздничном шествии 1561 года — колесница Гордыни — изображала Вавилонскую башню. У подножия башни преклоняли колени перед царем Нимвродом архитектор и резчики камня. Башня уже пронзала облака. Все тогдашние зрители восприняли эту сцену как аллегорию Антверпена. Быть может, Кристофер Плантен, наблюдая в тот день за праздничным кортежем, уже знал, что когда-нибудь опубликует свою «Многоязычную Библию» — Библию для Вавилона.
Думал ли Брейгель о Вавилоне, когда ходил вокруг римского Колизея и внутри его ступенчатого кратера? Тот Вавилон, что воздвигся под ветром Антверпена, имел форму Колизея. Однако по сравнению с этим истинным колоссом Колизей римлян кажется ничтожным. Стены Вавилона соотносятся с любыми иными стенами так, как время существования мира — со сроком человеческой жизни. А высота Башни столь велика, что любая гора рядом с ней видится бугорком взрытой кротом земли.
Все время, пока Брейгель писал эту картину, он действительно обитал в Вавилонской башне — даже когда спал. Точнее говоря, именно в снах она являлась ему с наибольшей отчетливостью. Он видел кольцевые дороги: по ним катились телеги, груженные камнем и известью. Видел огромную рампу, которая, подобно полоске срезаемой яблочной кожуры, спиралеобразно тянулась от долины до самых облаков — до той высоты, где каменщики простужались, работая на колеблемых ветром лесах. Он испытывал головокружение, слыша, как скрип блоков перемешивается с криками птиц. Время от времени он отдыхал в деревянных хибарах и на каждом этаже присаживался в выемке между контрфорсами, чтобы перевести дух. Рабочие, встречавшиеся ему по пути, сами не рыли котлован под фундамент — они даже не были детьми или внуками первых строителей. Ведь идея строительства родилась так давно! К уступам Башни и ее галереям успели прилепиться, подобно птичьим гнездам, деревни. Семьи каменщиков делились с Брейгелем супом и хлебом. Город, готические крыши которого виднелись далеко внизу, сквозь дымку тумана, стал для этих людей чужим. Они оттуда пришли, вот и все. И больше не вернутся — теперь их отделяет от того места огромное расстояние. Брейгель улавливал, как от деревни к деревне меняется произношение и что-то нарушается в окраске слов: это предвещало рождение новых языков, необходимых для общения с «глухими» рабочими, выходцами из противоположной части мира. Именно мира — потому что эта Башня и была миром: была такой же круглой и огромной, как мир, имела такой же, как у него, возраст и впереди ее ждало такое же будущее. И Брейгель бродил по дорогам Вавилона, по его улицам, под его аркадами, так же, как некогда странствовал в горах Италии, — переходя от долины к долине, от деревни к деревне. Он наклонялся к амбразурам и тогда видел Шельду, колокольни и корабли Антверпена, порт. Он искал глазами свой дом, выступ крыши над амбаром, мастерскую, где некий художник, носивший его имя, писал грандиозный образ Вавилона. Он долго смотрел на корабли и плоты, груженные кирпичом и брусом. Он наблюдал, как они движутся вдоль потерн и пристают к подножию Башни, где их уже ждут запряженные лошадьми телеги. Он заглядывал сквозь проемы и внутрь сооружения. И тогда перед ним открывались каверны и пропасти. Весь Вавилон резонировал от завихрений ветра и шума воды под сводами нижнего этажа: река протекала под Башней. Он представлял себе пристани, погруженные во мрак, склады за железными воротами и решетками; видел в своем воображении клоаку Башни. Порой он боялся, что затеряется в этом лабиринте сводов и туннелей. Весь Вавилон резонировал подобно раковине — раковине из камня. Как бы высоко ни находились каменщики, они тщательно прорабатывали мельчайшие детали постройки: изобретали орнаменты для каждого арочного проема, форму разделяющих эти проемы колонок. Когда Брейгель поднимал голову, он видел над собой строительные леса, еще не законченные стены, которые напоминали руины, и вечно недостижимое небо.
Башня была гигантским олицетворением Тщеты. Все это рано или поздно исчезнет. Вся эта конструкция из камня, такая прочная и так умело построенная, когда-нибудь уподобится песку на морском дне. Четкие формы арок и столбов ничуть не более долговечны, чем формы облаков, проплывающих мимо амбразур. Расчеты архитекторов, работа лебедок подобны сну, который забудется в момент пробуждения. Смерть и запустение завершат эту эпопею из камня и битума. От Вавилона, как и от Трои, останутся только воспоминания и поэма — метафора вечного детства человечества. Метафора этой тщетной погони за ветром, которая и есть наша жизнь. Мы знаем о тщете Вавилона, говорил себе Брейгель, но разве менее тщетны наши труды и желания? Нам читают книгу Екклесиаста, но мы ее не понимаем. Иначе разве мы попадали бы в кораблекрушения, топтали без смысла дороги, пытались завоевать мир? Это неправда, что Башня существовала когда-то. Мы строим ее сейчас и будем строить вечно. Подобно ночным снам, которые никто не видит, когда бодрствует, но которые тем не менее суть наши корни, Башня является формой нашего бытия. Маленький человечек, которого я различаю на мачте, — он работает с парусами, не думая о маршруте корабля, — как может он знать, что груз его судна предназначается для порта Вавилона? Он не видит ни гигантского города, ни его тени — а между тем участвует в строительстве Башни, как и все мы. Каменщик, который выравнивает слой раствора с упорством ласточки, строящей гнездо, который сидит, свесив ноги в пустоту, и вдыхает свежий утренний воздух, — знает ли он, какую стену возводит? Каменотес, поставивший рядом с собой кувшин, чтобы время от времени утолять жажду (ибо он работает среди пыли и шума механизмов), — поднимал ли он хоть раз глаза на колосса, которому служит?… Вот царь — или император — появился на строительной площадке. Он мечтает покорить весь земной шар. А ведь его ждет неизбежная смерть. Как и того императора, чью агонию мы видим на картине «Триумф Смерти». Ашшур, Ниневия, Вавилон опустились на дно. На поверхности плавают лишь немногие разрозненные обломки потерпевших крушение цивилизаций — мы все еще помним, например, Рим эпохи Цицерона. Башня — это сама История, цикл ее веков. Она подобна дереву, возраст которого определяют по годовым кольцам: каждый ее этаж есть итог определенного этапа в развитии человечества; но пока мы строим новые этажи, приходится постоянно переделывать или обновлять то, что подтачивается и разрушается временем.
Прошел день. Прошло много дней. Разве сам он не был суетнейшим из людей — он, который с таким тщанием и упорством писал образ этих суетных трудов? Не только с тщанием — с удовольствием! С тем удовольствием, которое испытывают каменщик, каменотес, человек, заснувший на плоту с грузом бруса, предназначенного для последних этажей Башни. Никто из тех работяг, которых он видел на стройке, не думал, не помнил о Вавилоне и его империи — все они просто с радостью занимались каждый своим делом. Это правда, что мир есть всего лишь туман, морок и что бессмысленны все наши начинания в нем. Однако трудиться, как трудятся эти люди, живущие только сегодняшним днем, — наименее суетное из всех человеческих занятий.
Верхняя улица и улица Блас сегодня являются границами квартала Мароль. Расстояние между ними невелико, и их соединяет — а также следует параллельно им — несколько улочек с красивыми названиями: улица Господа Нашего, Зеркальная улица, Лисья улица, улица Шерстянщиков (прежде она называлась Адской улицей), улица Дубильщиков, улица Ювелиров, улица Вышивальщиков, улица Мебельщиков, улица Бочаров, улица Плотников, улица Трубочистов. Если вы воображаете, что это место осталось таким, каким его видел Гельдерод,[39] когда долгими зимними вечерами посещал последних кукловодов, которые, как он думал, могли случайно сохранить в своих марионеточных представлениях текст давно забытой мистерии; если надеетесь встретиться в этом квартале с образами народной фантазии, красноречием и шутками простолюдинов; если хотите побродить по лабиринту многолюдных улочек, дворов и тупиков, в совокупности напоминающих театр (немного, может быть, грязный, но зато пронизанный очень странной и древней мелодией — нежной мелодией Брабанта); если ожидаете увидеть скопление зубчатых крыш на фоне неба, как бы несущих караул у подножия холма, на котором расположились особняки буржуазии; если мысленно приготовились заглянуть в заведения, где торгуют жареным мясом и пивом, обсуждают дела и просто убивают время, — в одном из таких тускло освещенных притонов Верлен некогда выстрелил из револьвера в Рембо, и вам кажется, что в них и по сей день должны скрываться подозрительные личности, которых любил описывать Жорж Эккоуд,[40] старый учитель Гельдерода и его Вергилий в этом крошечном аду, наспех сконструированном из разных обстоятельств, мрачной гауптвахты, розовых и черных тупичков; одним словом, если вы ищете «Золотой шлем» и старую Бельгию, лучше не тратьте понапрасну усилий и не ходите в Мароль.
Зажатый между рампами и утесами Дворца правосудия, этого вызывающего головокружение чудовищного сюрреалистического замка в стиле
На углу Верхней улицы и улицы Красных ворот, тихой и слегка подымающейся в гору, висит мемориальная табличка, которая указывает на дом Брейгеля. Значит, он жил здесь? Этот дом, как известно, принадлежал Марии Бессемере Верхюлст, теще Брейгеля, и им до сих пор владеют потомки художника. Дом из коричневого кирпича, очень маленький, с садиком за стеной и окнами на старинный манер. Его разрешается осматривать только по специальной договоренности с хозяевами. Я припоминаю, что оттуда можно увидеть мрачный, почти черный купол церкви Нотр-Дам де ла Шапель, похожий на монгольский шлем. Церковь, кажется, почти всегда бывает закрыта. Однажды зимним вечером, в сумерках, мне все-таки удалось увидеть могилу Брейгеля. Подняв восковую свечу, мы попытались прочитать эпитафию. Но поскольку света явно не хватало, я принял обычное обращение к Богоматери за обращение к Богоматери Одиночества (
Мы встречаем людей из прошлого, которых любим, совсем не в тех местах, где они жили. Нам достаточно следовать по дорогам снов, по дорогам дружбы, чтобы войти в их дома и стать свидетелями их жизни. Мы узнаём о том, что они где-то рядом, по легким намекам. Так, когда я, приподнявшись на цыпочки, впервые пытался заглянуть с улицы Красных ворот в сад Брейгеля, маленькая девочка лихо съезжала на скейтборде вниз по склону. И я вдруг взглянул на этого ребенка теми же глазами, какими смотрел в Вене на брейгелевские «Детские игры». В другой раз, тоже недалеко оттуда, малыш прислонился к наклонной стенке ограды и мечтательно разглядывал свой ботинок, пока над ним проплывали облака. Вечные образы детства, небо над городом, гонимые ветром облака — все это и было нетленной родиной Брейгеля. Это — а не форма квартала, в котором он, может быть, жил, или дом, принадлежавший ему согласно данным кадастра. Теперь, когда мысли мои возвращаются к кварталу Мароль, я вижу группки детей, играющих или предающихся своим мечтам; их присутствие, вопреки вавилонской громаде Дворца правосудия и неприглядности кирпичных улиц-коридоров, изглаживает всякое уродство и скуку — так один-единственный кустик желтых живучих цветов, выросший среди руин и ржавого железа, способен внезапно напомнить нам о верности и красоте земли.
22 октября 1555 года император в присутствии всех рыцарей Золотого Руна, облаченных в темно-красные плащи, слагает с себя звание Великого магистра Ордена: начиная со следующего дня это звание будет носить его сын Филипп. 25 октября, около трех часов пополудни, во дворце, построенном архитектором Кауденбергом, в большой зале герцогов Брабантских, где висит золотистая шпалера, изображающая историю Гедеона,[42] происходит церемония отречения от престола. Карл одет во все черное, на нем нет никаких украшений, кроме цепи ордена Золотого Руна. Ему пятьдесят пять лет. У него седая бородка. Ему трудно ходить, и каждый может видеть, что его пальцы от подагры утратили гибкость. Одной рукой он опирается на трость, а другой — на плечо Вильгельма Нассауского, принца Оранского, своего пажа. Добравшись до балдахина, он напоминает собравшимся о том, что сделал за время своего правления: о войнах, путешествиях, завоеваниях. Говорит о своей усталости и немощности. Объявляет, что передает Фландрию сыну, и призывает его всегда защищать здесь католическую веру, править этой страной с любовью. Он просит у всех прощения за зло, которое, возможно, совершил. В зале нет ни одного человека, местного или приезжего, который не плакал бы почти на всем протяжении речи императора (это мы знаем со слов одного из свидетелей церемонии). Карл и сам не может сдержать слез. Он говорит: «Не думайте, будто я оплакиваю власть, которую с себя слагаю. Я оплакиваю прощание со страной, в которой родился, и с такими вассалами, как вы». И потом официально облекает Филиппа полномочиями верховного правителя Нидерландов. Филипп II берет слово, чтобы извиниться за то, что не говорит ни по-французски, ни по-фламандски; его речь зачитывает епископ Аррасский, будущий кардинал Гранвелла,[43] сам же король ждет окончания церемонии с отсутствующим видом.
16 января 1556 года Карл, находясь в своем маленьком особняке у Лувенских ворот, который он уже давно предпочел дворцу Кауденберга, отрекается от королевств Кастилии, Леона, Наварры, Гренады; отрекается от земель и островов посреди Океана — как уже открытых, так и еще неведомых; отрекается от звания Великого магистра орденов Компостеллы, Алькантары и Калатравы; отрекается от королевств Арагона, Валенсии, Серданьи,[44] Сардинии, Каталонии, Руссильона, Майорки и Сицилии; отрекается от графства Барселоны. Верховным сувереном всех этих земель отныне будет Филипп II. Карл оставляет себе только графство Франш-Конте, но и от него откажется через пять месяцев. Что же касается императорского титула, то, если собранию выборщиков будет угодно, он намерен передать его своему брату Фердинанду.
28 августа Карл покидает Гент и направляется во Флиссинген.[45] Оттуда две эскадры — испанская и фламандская — сопровождают его до берегов Испании.
Ему предстоит окончить свои дни в монастыре Святого Юста в Эстремадуре, среди монахов, в выделенном для него, но еще не достроенном доме. Какое долгое и скорбное путешествие! Прощание с властью — этап за этапом. 3 февраля 1557 года гвардейцы выставят перекрещенные алебарды у порога его дома — в знак того, что все земные почести завершаются здесь.
Он готовится к смерти: 30 августа 1558 года просит отслужить для него заупокойную мессу и исполнить Реквием. Он присутствует на службе вместе с людьми из своего ближайшего окружения, облаченными в траур. Вечером у него начинается жар и он ложится в постель, из которой ему уже не подняться. На рассвете 21 сентября, когда еще совсем темно и лишь восковые свечи слабо освещают комнату, он вдруг прижимает к груди крест и произносит очень слабым голосом:
Траурные церемонии проходят во всех землях Империи, но самая впечатляющая из них разыгрывается в Брюсселе. 29 декабря, в морозный и ветреный день, траурный кортеж покидает пределы дворца и направляется к церкви Святой Агаты. Во главе процессии шествуют представители духовенства в черно-серебряных одеяниях; за ними идут музыканты королевской капеллы, эшевены и именитые граждане, а дальше — две сотни бедняков с факелами (тишина такая, что слышно, как потрескивает горящее дерево). За бедняками следуют приближенные императорского дома. Факелоносцы одеты в длинные рясы с надвинутыми на глаза капюшонами, подобно скульптурным фигурам плакальщиков из усыпальницы герцогов Бургундских. Далее, предваряемая знаменами, движется большая колесница-корабль, которую влекут тритоны, — аллегория царствования Карла. Высшие сановники и военачальники ведут под уздцы коня императора, несут его шлем, шитую золотом мантию, скипетр и меч, державу, корону, колье Золотого Руна. Каждый народ и каждое королевство, входившие в империю Его Величества, представлены группой дворян в трауре и конем без седока, с черным султаном на голове. Завершает процессию Филипп II со знаком Золотого Руна на груди, одетый, как и нищие, в длинную черную рясу с капюшоном и сопровождаемый всеми рыцарями Ордена.
Гроб императора, стоящий на катафалке в форме четырехъярусного венца, накрывают покровом из золотой парчи с вытканным на нем алым крестом. Сверху возлагают все инсигнии императорской власти. Автор «Описания похорон…», опубликованного Кристофером Плантеном, утверждает, что все присутствовавшие на церемонии имели возможность осознать, «как мало значения следует придавать этим земным вещам — столь бренным, преходящим и суетным».
Один итальянский поэт, который оставил нам «Описание погребальной церемонии, состоявшейся в Брюсселе», вкладывает в уста Карла, только что достигшего небесных пределов, такие слова:
Моим оружьем против христиан и мавров
Была не жажда славы, не стремленье
Расширить сей империи владенья
И тем снискать себе венок из лавра.
Не ради злата, но лишь истины взыскуя,
Я стал проводником святой Петровой веры
Как в старой, так и в новой полусферах —
Лишь ради Господа, которого люблю я.
Недолго я вкушал земного хлеба —
И этот мир отверг, явив собой пример,
Как можно приобресть еще и небо.
Ликуя, к эмпиреям я взлетел,
И зрю Создателя, и гимн пою хвалебный,
Воистину прекрасен мой удел!
Итак, Цезарь переселился из Империи в Эмпиреи.
В 1563 году Брейгель покидает Антверпен и переезжает в Брюссель. Его брак будет заключен не в городе его юности, не в городе, где его приняли в число мастеров и откуда (с тех пор прошло уже десять лет!) началось его путешествие в Рим, а в церкви Нотр-Дам де ла Шапель, которая расположена между кварталами Саблон и Мароль, на брюссельском холме. В книгу его нового прихода будет внесена запись:
Другие, более важные вехи расставил он сам: я имею в виду даты, которые Брейгель почти всегда указывал на своих полотнах. Эти полотна можно рассматривать как страницы своего рода дневника — дневника снов. Однако, по правде говоря, дата на картине свидетельствует лишь о дне окончания произведения — и ничего не сообщает о его генезисе. Но ведь корни снов иногда уходят в глубины нашей жизни, а может быть, — кто знает? — даже во времена, предшествовавшие нашему рождению; и как последний шаг путешественника неотделим от его первого шага, о котором этот человек, вероятно, уже и не помнит, так и день появления законченного образа есть лишь последнее звено в длинной цепочке дней. День, который, наконец, скрепляет печатью завершенный труд, таит в себе сокровища многих и многих часов — а как давно начался отсчет этих часов, с какого события или переживания он начался, не знает и сам художник. Понятно, что под видимой поверхностью картины скрывается много слоев грунтовки и краски, которые взаимодействуют со светом и все вместе — как ночь, порождающая день, — создают воспринимаемый нами образ. Но под невидимыми слоями; под слоями, отвергнутыми и уничтоженными художником; под слоями, которые существовали лишь в его воображении и никогда не стали реальностью, — сколько еще было чистых движений его духа! Кто сможет сказать, насколько глубок образ, и разглядеть — в ночи, из которой он появился, — его подземные корни; источники, дававшие ему пищу; те причины, что обусловили его рост? В настоящей живописи незримого всегда больше, чем зримого. Так узоры инея на окнах — этот сад, осыпающийся от нашего дыхания, — возникают благодаря ветрам, которые приходят сюда из Исландии. Значит, белые травы, на которые я смотрю сегодня утром, — дар страны, находящейся в очень далеком уголке мира, жители которой вряд ли вообще задумываются о нашем существовании. Я стою, прижавшись лбом к стеклу, и вдруг чувствую, что внутри меня грезит кто-то другой, глубинный: он тоже прижимается лбом к стеклу и грезит, очарованный белым садом инея — очарованный жизнью.
Брейгель любил проставлять на своих картинах даты: поступая так, он как бы размечал вехами свой жизненный путь и связывал законченную работу с определенным расположением светил, с течением человеческих дел. Он охотно указывал год и ставил свою подпись: BRVEGEL (так он с недавних пор стал писать свое имя, и нам трудно судить, почему он вдруг отказался от буквы «Н» — или решил не использовать ее в подобных случаях). Он изменил орфографию своего имени в 1559 году — но стоит ли нам останавливаться на этом факте? Впрочем, то, что касается имени, часто касается и сущности его обладателя. Аврам однажды стал
Мы не знаем, унаследовал ли Брейгель свою фамилию — которую его потомки будут носить в первоначальной, полной форме, — от отца или же получил ее как личное прозвище, по названию родной деревни: деревни Брёгел недалеко от Брее, в Кемпене (на территории нынешнего бельгийского Лимбурга), либо деревни с таким же названием близ Бреды, в северном Брабанте (на территории нынешних Нидерландов). У ван Мандера мы читаем о «Питере Брейгеле, родившемся близ Бреды, в деревне Брёгел, от которой он и заимствовал свою фамилию». В «Книге о живописи» ван Мандер начинает главу, посвященную Брейгелю, так: «Природа сделала удивительный выбор в тот день, когда в одной неизвестной деревушке Брабанта — среди крестьян и ради того, чтобы появились изображения крестьян, выполненные кистью, — она пробудила к восприятию искусства живописи, к вечной славе Нидерландов, человека, богатого дарованиями и духом: Питера Брейгеля, родившегося близ Бреды, в деревне Брёгел, от которой он и заимствовал свою фамилию, чтобы затем передать ее потомкам». Однако ван Мандер вполне мог спутать Брее
Я хорошо представляю себе маленького Питера в этой двойной деревне, целостном замкнутом мирке: на одном берегу ручья — Малый Брогель, на другом — Большой (противостоящие друг другу как «толстосумы и голодранцы»). Должно быть, здорово родиться в деревне, которая носит одно имя, но состоит из двух несхожих частей, подобно черно-белому пирогу. Как подумаешь об этом, на ум приходят еще и такие пары: снег и ворон; голая ветка на фоне зимнего неба и вдали, между деревьями, красное, как раскаленные уголья, солнце; декабрьский мороз и полуденное оцепенение июля, пропитанное золотым благоуханием жатвы. Хорошо родиться в месте, название которого означает «лесная поросль» или «густой кустарник». Это обещает детство, полное шалостей и смутных предчувствий, со всеми радостями, которые может подарить лес, где растут орешник, ольха и ива. Это значит, что ты будешь весь перепачкан соком ежевики; будешь вырезать себе из тростника свистульки, дудочки, флейты и
Итак, Брейгель покидает Антверпен. Он отказывается от своих привычек, не будет больше бродить ветреными днями по этому городу и его причалам, гулять по берегу под крики чаек, мечтать среди дюн о Вергилии, видеть особое свечение моря. Не будет садиться за длинные, покрытые сукном столы поэтов-риторов (это зеленое сукно, кажется, придает дополнительную ясность произносимым здесь речам). Не будет обедать в тавернах с моряками и докерами. Он лишает себя общества самых близких друзей — Франкерта, Ортелия. Порывает с гостеприимной и суматошной обстановкой лавки «Четыре ветра». Правда, многих из тех, с кем он привык каждодневно общаться, здесь уже нет. Они уехали в Лейден, Амстердам, Лондон. Плантен не вернулся из Парижа. Не осторожность ли гонит Брейгеля из Антверпена? Но ведь Брюссель едва ли можно считать более безопасным местом для свободных духом людей. В окрестностях этого города, в лесах читают свои проповеди протестантские вероучители. Брюссельцы уже привыкли к патрулированию улиц и гонениям на инакомыслящих. И все же: Брейгель будет подвергаться меньшему риску, если отдалится от тех представителей либеральных кругов, с которыми был близок в Антверпене. И потом, кардинал Перрено де Гранвелла, фактический правитель Нидерландов, — один из заказчиков его, Брейгеля, работ.
«Когда он жил в Антверпене, — говорит ван Мандер, — то сожительствовал с некоей служанкой, которую сделал бы своей женой, если бы она не обладала тем недостатком, что слишком много врала. Питер заключил с ней следующее соглашение: каждую ее ложь он будет отмечать зарубкой на длинной палочке. Свадьба состоится только в том случае, если к условленному дню палочка не успеет покрыться зарубками целиком. Палочка, однако, заполнилась очень скоро. После этого он влюбился в дочь вдовы Питера Кукке, проживавшей тогда в Брюсселе, — в ту самую девушку, которую он, когда она была еще ребенком, носил на руках, — и женился на ней. Ее мать поставила условие, чтобы он переехал жить в Брюссель и таким образом отдалился от своей прежней возлюбленной, забыл о ней». Но разве человек, которого ван Мандер рисует ненавистником лжи, стал бы вести двойную жизнь? Наверняка басня о палочке с зарубками вставлена в повествование для того, чтобы убедить нас в правдолюбии Брейгеля, а может, чтобы показать: вступление в брак и изменение места жительства означали для художника начало новой, более соответствующей его натуре жизни. Он оставил прежнюю жизнь и город своей юности, чтобы вести более замкнутое и — в творческом плане — более плодотворное существование. Он променял порт, близость моря, дыхание ветров над этим городом-раковиной, в котором звучат отголоски всего мира, на город земной, тихий, кажущийся суровым из-за своих двойных стен, окруженный пашнями и лесами, построенный на холме, — и поселился на Верхней улице.
Я могу себе представить тот решающий для Брейгеля разговор — серьезный, дружеский, радостный. Мария находилась недалеко — может быть, в соседней комнате, отделенная от них только дверью из светлого дуба. Она предавалась своим мечтам, улыбалась, ждала. И чертила пальчиком на груди, раздвигая кружево над корсажем: «Питер и Мария»; или просто: «Да». Наконец дверь открылась. Мария поднялась и, сделав один шаг, переступила порог, отделявший ее девические годы от новой жизни молодой женщины. Сватовство Брейгеля не было для ее матери неожиданностью. И все же этот разговор наедине должен был состояться: во-первых, того требовал обычай, а во-вторых, нужно было урегулировать кое-какие вопросы. Питер и хозяйка дома, знавшая его почти с самого детства, уселись в высокие кресла, друг против друга; сквозь оконные стекла просачивался холодноватый свет. Их разделяла толстая отполированная столешница. Разговаривали ли они о прошлом? Наверняка очень мало: ведь Мария-младшая ждала окончания беседы в соседней кухне, у огня. Но они думали о прошлом. Питер смотрел через окно на облака, гонимые ветром. На тонкое деревце в саду. В глубине дома служанка, поставив радом с собой деревянную кадку, отмывала до блеска черные и белые плитки пола.
Мария Верхюлст высказала пожелание, чтобы дочь после замужества жила недалеко от нее, заметив, что дочь — ее лучшая подруга. Она не призналась, что страдает от одиночества с тех пор, как десять лет назад умер ее муж. Просто объяснила Питеру, что Мария должна помогать ей в торговле шпалерами и что она, мать, еще не успела посвятить свою наследницу во все тонкости семейного дела.
— Питер, вы же не собираетесь всю жизнь сотрудничать с «Четырьмя ветрами». Вы благодаря им зарабатываете себе на пропитание (кстати, не так уж много), ваши рисунки хороши — тут мне возразить нечего. Но вы должны, наконец, заявить о себе как о живописце. И потом, вы философ — вам нужно свободное время. Если Мария будет работать, это предоставит вам большую свободу. У нас в Брюсселе есть дом, где, как мне кажется, вы вполне могли бы устроить свою мастерскую. Дом не очень просторный, но места там хватит. Вы даже могли бы взять в помощь себе двух-трех учеников.
Он молчит. В нем вновь пробуждается давно забытое недоуменное чувство бедного мальчика, которого приняли в чужую семью и обращаются с ним как с принцем — в то время как он знает, что должен рассчитывать только на себя, всего добиваться своими силами.
— Ваша щепетильность неоправданна. Богатство не принадлежит нам. Нужно уметь и принимать его, и терять, если такова воля Божия. Поскольку же вам был дарован знак — Господь не воспрепятствовал вашей любви, — продолжайте принимать дары Провидения, не считая, что это каким-то образом ущемляет вашу гордость. Что еще нам остается делать в этой жизни, если не отвечать Божественному предназначению и не следовать ему? И потом, речь идет даже не о вас. Я думаю о моих будущих внуках.
Итак, он уехал из Антверпена. Городской совет Брюсселя воспринял эту новость с радостью и настойчиво просил его создать серию работ — картонов или живописных полотен — во славу канала, его сооружения и торжественного открытия. Брейгелю бы хорошо заплатили, и вообще подобная просьба была большой честью. Он мог бы стать, если бы пожелал, не только привилегированным художником Брюсселя, но и лицом, приближенным к муниципальным властям, одной из заметных фигур в городской жизни. «Я сделаюсь еще большим молчуном, — говорил себе Брейгель, — не побоюсь даже славы грубияна, но буду как можно больше времени проводить дома, в моей мастерской, и бродить по лесам — среди красных осенних листьев или в хрупком раю заиндевелых деревьев, слушая далекий колокольный звон, под падающим снегом. Я буду работать. Сокращу ночной сон. Буду стараться извлечь максимум пользы из долгих часов затворничества. Когда я думаю об этом, когда думаю о моей будущей работе — работе, которая начнется совсем скоро, — я ощущаю за спиной биение огромных крыл и, мнится, вижу собственное сердце, красное в ночи, пылающее, как фонарь на мачте того корабля, что отплывает в другую часть света».
Он уехал из Антверпена. Он поселился в Брюсселе, на Верхней улице.
В те годы Брюссель был красивым городом. Двор покинул Мехельн и обосновался здесь. Вельможи построили для себя дворцы: Нассау, Кулембург, Бредероде и многие другие. Гвиччардини восхищался ими: «Здешние дома в большинстве своем хороши и надежно построены, однако особо следует отметить наличие многих прекрасных дворцов, и прежде всего — ратуши с очень красивой и высокой башней; затем — дворцов высших сановников страны, каковые приезжают сюда, дабы заниматься своими делами и делами управления, и составляют двор короля или его наместника. Помимо уже упомянутых, здесь имеется и множество других красивых и необычных зданий, принадлежащих посланникам, приближенным принца и другим дворянам и бюргерам города; часто дома окружены большими фруктовыми садами, украшенными — как, впрочем, и весь город — красивыми прозрачными фонтанами с очень чистой и приятной на вкус водой. Кроме всего этого имеется королевский дворец, который, хотя построен не совсем в античной манере, является просторным и удобным, вполне достойным двора, а главное, расположен в очень приятном месте. К упомянутому дворцу примыкает весьма благородного вида обширный парк, по всему периметру обнесенный каменной оградой и простирающийся вплоть до внешней городской стены. В парке размещаются несколько особняков принца и других лиц, площадки для состязаний и иных развлечений (приватных и публичных), для игры в лапту, а также все прочее, потребное для королевского удобства: сад, лабиринт и пруд с лебедями, предназначенный для разведения рыбы особо ценных сортов. Кроме того, в этом парке встречаются холмы и долины с виноградниками и многообразными фруктовыми деревьями, а также прелестные небольшие рощи, где водятся многие породы диких животных, и животных этих можно наблюдать прямо из окон дворца — как они пасутся, играют и размножаются…» Брюссель, продолжает свой рассказ Гвиччардини, имеет форму сердца. И он вспоминает, как гулял в садах, зеленеющих меж двух городских стен, — «прекрасных садах, с лужайками и кустарником, которые делают это место прохладным, здоровым и приятным, придают ему красивый внешний вид и в будущем обещают сделать его еще краше».
Верхняя улица, где поселился Брейгель, когда-то была проселочной дорогой. Теперь она постепенно превращается в улицу дворян и буржуазии. Муниципальные власти сносят деревянные и саманные дома. По их распоряжению соломенные крыши заменяют черепичными. Только квартал, примыкающий к собору Сен-Гюдюль, пока уклоняется от выполнения этого предписания и, несмотря на то что расположен почти в центре города, сохраняет свой деревенский вид: свои лужи, свои улицы, которые покрываются жидкой грязью после первого же дождя, свою траву, свои ограды и деревья, «свои крошечные домики и глинобитные хижины». Эшевены, заботясь о предотвращении пожаров, не только запрещают использование в качестве строительных материалов соломы и дерева, но и приказывают рыть в разных местах города колодцы.
Город процветает. Присутствие в нем послов, крупных чиновников, церковных иерархов, придворных привлекает сюда ремесленников не только со всего Брабанта и из соседних провинций, но даже из Германии, Испании, Италии. «В Брюсселе, — говорит Гвиччардини, — представлены пятьдесят две профессии, распределенные по девяти группам, которые называют девятью „нациями“; из каковых профессий особенно полезной и важной считается профессия оружейников, ибо они не только производят красивейшие латы всех видов и фасонов, но и делают столь превосходную закалку, что латы эти становятся непробиваемыми даже для аркебуз. Однако еще более достойным восхищения — и приносящим великую пользу — является ремесло шпалерных мастеров, у которых можно увидеть изделия из шелковых, золотых и серебряных нитей, поражающие воображение как дороговизной исходных материалов, так и качеством работы». Вся Европа покупала или копировала брюссельские шпалеры.
К несчастью, сообщение Брюсселя с Антверпеном, этим морским портом, открытым всему миру, осуществлялось только по сухопутным дорогам или по Сенне — реке с нерегулярным уровнем воды, малопригодной для судоходства из-за отмелей. Император решил соединить оба города каналом. А поскольку вертикальное смещение между Брюсселем и Антверпеном достаточно велико, требовалось сооружение четырех шлюзов. Канал предполагали прокладывать в направлении на Вилворде, потом он должен был проходить через Виллебрук и впадать в Рюпел. Жители Мехельна противопоставили этому проекту свой, добиваясь, чтобы их город стал одним из этапов на пути следования судов. Однако инженер Жан де Локангьен и два крупных торговца тканями отстояли интересы Брюсселя.
Работы по сооружению канала начались в июне 1550 года. А его торжественное открытие состоялось 12 октября 1561 года. Это был грандиозный праздник. Приехавший из Антверпена художник, Ян Лейс, изготовил декоративное убранство для барок и парусных шлюпок, и они в течение нескольких дней циркулировали между Брюсселем и морем, чтобы все желающие могли совершить эту увеселительную прогулку. Старый брюссельский порт на правом берегу Сенны уступил место внутренним докам, где было удобнее осуществлять погрузку и разгрузку товаров. В городе сразу же были вырыты два новых водоема — Лодочный и Купеческий доки; сооружались и разгрузочные пристани. В 1565 году перпендикулярно двум первым докам был проложен канал с доком Святой Катерины. Позднее к ним прибавились еще два: док Пакгаузов и док Грязного хутора. Брейгель, которому нравились деревенский вид квартала Сен-Гюдюль и большие деревья в окрестностях Брюсселя, наверняка получал удовольствие и от этих строительных работ. Несомненно, он воспринимал Виллебрукский канал как звено, соединившее два главных для него города: город юности и этот, второй город, где начинался новый этап его жизни. И еще он должен был испытывать чувство, подобное тому, что испытывали очевидцы открытия Бруклинского моста.[46]
ANDREAE VESALII Bruxellensis[47] — эта надпись на первой странице семитомного сочинения «О строении человеческого тела» соединяет имя знаменитого анатома с названием его родного города. Ян ван Калкар, фламандский художник, с которым Везалий познакомился в Венеции, художник настолько замечательный, что его гравюры долгое время приписывали Тициану (чьим учеником он и в самом деле мог быть), — так вот, Ян ван Калкар, наверное, с особым патриотическим удовольствием связал эти два имени на титульном листе, изображавшем следующую сцену: сеанс препарирования в ротонде с античными колоннами; все теснятся вокруг стола с трупом, над которым возвышается, подобно герольду, Скелет, сжимая, как древко знамени, рукоять косы; но гравюра восхваляет вовсе не Триумф Смерти, а Триумф Везалия — молодого ученого, указующего перстом вверх, а другой рукой самолично касающегося раскрытых внутренностей. И слава этого просвещенного мужа умножает славу его родного города. Должны ли мы, перелистывая страницы атласа, видеть в тех декорациях, в тех задних планах, на фоне которых возникают существа с содранной кожей и скелеты, персонажи довольно странные (я уже не говорю об их еще более странных собратьях: о манекенах, сплошь состоящих из ветвей, корней и корневых волосков; об этих вьюнках, этих сколопендрах из артерий и вен; об этих безумных растениях в форме человеческого тела, наподобие мандрагоры, — все они просто висят в воздухе, парят, не имея иного пристанища, иных декораций, кроме белизны бумаги; их можно было бы принять за пришельцев из иного мира, а между тем эти корнеобразные ветвящиеся монстры обитают в собственных наших телах и ни об одном, даже самом дорогом для нас, создании мы не заботимся больше, чем о них: ведь эти узорчатые кружева суть сама наша плоть, этот темный кустарник — сад нашей крови, сокровенный слуга нашей жизни, наш ангел-хранитель и наша глубинная тень; однако этот сон, став зримой явью, ошеломляет и пугает нас)… Да, но вернемся к фразе, которую отклонило от ее курса зачаровавшее нас явление таинственных монстров: должны ли мы видеть в тех декорациях, на фоне которых возникают и как бы позируют, выставляя себя напоказ, существа с содранной кожей и скелеты — можно подумать, они не знают, в каком состоянии находятся, и полагают, что все еще остаются грациозными натурщиками учеников академии, героями, вождями, прославленными ораторами, дамами и надушенными принцессами (тогда как на самом деле они даже хуже, чем обнажены: куски их плоти в дидактических целях показаны отделяющимися от тела наподобие шарфов, а часть черепа у некоторых приподнята как шляпа, чтобы каждый мог наблюдать функционирование их мозга), — так вот, должны ли мы видеть в тех земляных валах и фронтонах, в тех руинах, реках, аркадах и рощах (несмотря на присутствие среди них нескольких пирамид и обелисков) некий пейзаж в окрестностях Падуи, может быть, родину Петрарки, нарисованную по поручению ван Калкара итальянским художником Кампаньолой? Или здесь все-таки подразумевается Брюссель? Или мы должны видеть в этих постройках и пейзажах условный, немного эклектичный город той эпохи (или нескольких разных эпох), просто сценическую площадку для описанных выше тел, просто занавес, на фоне которого разыгрывается макабрическая медицинская комедия? Несмотря на присутствие Скелета, опирающегося на свою косу, как далеко все это от работ Гольбейна! Здесь храм, лишенный внешних покровов, рассматривается и анализируется глазами Витрувия. (А храм этот — точнее, его руины и лохмотья — есть не что иное, как наше тело, даже более того: мы сами. Ты открываешь великолепную ученую книгу и погружаешься в катакомбы Смерти, видишь себя самого в виде обрубков и кусков плоти, в виде набора игральных костей: и это зеркало показывает тебя таким, каким без него ты не увидел бы себя никогда, — человеком, чьи глаза не вываливаются из орбит только потому, что их удерживают тонкие ниточки. И то знание, которое ты, читатель, сейчас приобретаешь, — ты уже знаешь, что время обратит его в прах, как оно обращает в прах всё: и эту плоть, и ее внутренние фильтры, и эту мыслящую коробку. Червь — вот кто царь над всеми этими чудесами, а небытие — царь над этим червем. Кто, увидев такое, сохранит способность верить, что нетленное Тело Воскресения ожидает нас за порогом катастрофы, что оно не изменит нам, как не изменяет нам в земном бытии наша тень?)
Прежде чем стать Везалием, он носил имя ван Веселе (
Легко представить себе маленького Везалия среди всех этих пузырьков с лекарствами, коробочек с мазями, весов, засушенных трав и цветов, корешков, мраморных ступок, горшочков из голубого и белого фаянса, ядов, запертых в железный ларец, мнимых противоядий. Вот он сидит на табурете — а у ног его примостилась собака, — сидит между стеной и прилавком, и слушает, и смотрит во все глаза на парад многообразных телесных немощей. Легко представить его подростком, занимающимся там наверху, в круглой библиотеке, среди книг по терапии и хирургии, астрономии и математике: он продирается сквозь описания чумы и язв, сукровицы и золотухи, как святой Георгий продирался сквозь огненное дыхание Дракона. И каково же ему было рассматривать эти рисунки и читать эти описания, как у него, должно быть, замирало сердце и как выворачивало желудок, если каждый день он видел через окно, издали, трупы повешенных на горе Галгенберг, а когда ветер дул в его сторону, то и вдыхал их резкий сладковатый запах?
Он не просто смотрел на повешенных издали. Ночами он выскальзывал из дома и поднимался на гору к этим виселицам и колесам, пробираясь во тьме, кишащей крысами и блуждающими огоньками. Приговоренные к смерти были лишены права погребения, они гнили на месте, пока не разлагались полностью. Их останки растаскивали крысы и собаки. И Везалий, держа в руке тусклый фонарь, в этой пустыне, усеянной падалью и костями, — а когда он поднимал голову, то видел огни города, лунный свет сквозь дымку тумана над полями, далекие фермы, с которых порой доносился крик петуха или лай собаки, — искал неповрежденный череп, как другие мальчишки ищут в песке камень или раковину редкой формы. Где же он мог раздобыть тот полный скелет, который подарил, уже став молодым ученым, своим коллегам в Падуе, или другой, преподнесенный им Лувенскому университету, если не у подножия брюссельской виселицы (или виселицы Монфокона — ведь свои ночные прогулки он продолжал и тогда, когда учился в Париже)? Я представляю его себе не как знахаря, который собирает в Адской долине свои травы, не как искателя корня мандрагоры или руки мертвеца[48] и даже не как мародера, рыскающего в поисках обломков кораблекрушений по этим островам Смерти, но как молодого человека с длинными волосами, в берете, украшенном экстравагантными перьями, такого, каким его запечатлел на гравюре Лука Лейденский: юноша задумчиво рассматривает, обернув полой плаща, человеческий череп с остатками земли, сей разбитый кувшин, некогда вмещавший мысли (а потом время их рассеяло, как рассеивает поутру лепестки розы). Точно так же, Везалий, время рассеет и твои знания латыни и греческого, твой плохой арабский или еврейский, твое страстное желание понять, как Великий Архитектор (именно так ты называл Его в своих письмах) сконструировал и воздвиг сей храм Духа — наше смертное тело, которому обещаны Воскресение и Судный день. (Но только для нас всегда будет менее непостижимой участь Адама, возвратившегося во прах, нежели судьба Лазаря, который,
В то самое время, когда Брейгель обосновывался в Брюсселе, Везалий мечтал покинуть Мадрид и отправиться в Иерусалим. Он более не мог выносить ревности своих испанских коллег, инквизиции, которая остекленевшим взглядом следила за его работой, невозможности доставать трупы, горькой участи фламандца при этом дворе, где презрение и ненависть к Нидерландам с каждым днем проявлялись все ощутимее. Поговаривали, что у него случилась неприятность: во время сеанса препарирования женщина под его скальпелем ожила и издала душераздирающий крик. Если верить этому, можно предположить, что паломничество было навязано ему в качестве акта покаяния.
Но, скорее всего, причиной паломничества была просто усталость. И, может быть, последней каплей, переполнившей чашу его терпения, стала болезнь инфанта дона Карлоса. Дон Карлос обнаружил в саду такое место, откуда мог незаметно наблюдать, как раздевается молодая служанка. Однажды ночью, не зажигая света, он спускался в сад по маленькой, но очень крутой лесенке, оступился и ударился виском о камень. Его нашли наполовину парализованным, с окровавленной головой. Одиннадцать испанских медиков, сменяя друг друга, непрерывно бодрствовали у его постели и пытались его лечить. Они пускали ему кровь и прочищали желудок, обрабатывали рану на голове — однако принцу становилось все хуже. Наконец вызвали Везалия. Он имел звание королевского медика, но, несмотря на это, коллеги чинили ему всяческие препятствия. Так, прежде чем обратиться к нему, они пригласили из Валенсии некоего мавра по прозвищу Пинтерете (Пропойца) с его отнюдь не католическими снадобьями; даже этого человека предпочли Везалию. Молодой принц все время бредил. Герцог Альба сидел у его изголовья, не раздеваясь в течение многих дней и ночей; он преданно заботился о юноше, с любовью склонял свое длинное суровое лицо к обезумевшему и потному лицу больного, у которого, казалось, уже началась агония. За принца молились. Бормотание молитв не прекращалось ни на минуту. Вся Испания выходила на улицы в покаянных процессиях. Но инфант умирал! Тогда спешно разыскали высохшие святые мощи монастырского повара, умершего в состоянии экстаза (это его Мурильо позднее изобразит на своем полотне «Кухня ангелов», ныне хранящемся в Лувре). В комнату умирающего инфанта принесли сию католическую мумию. Горели восковые свечи, и их аромат перекрывал запах крови. В конце концов тело мертвого монаха, эту жуткую реликвию, положили в кровать к Карлосу, вплотную к нему, и предоставили дальнейшее воле Божией. Тем временем Везалий сделал-таки принцу трепанацию черепа. И молодой человек — правда, с некоторым опозданием — ожил, поднялся, даже смог присутствовать на корриде, которую устроили в его честь. И что же — Везалия поздравляли, благодарили? Отнюдь. Все считали, что если инфант выздоровел, то произошло это благодаря заступничеству небесного повара (король даже потребовал, чтобы Рим канонизировал святого старца). Те же, кто в этом сомневался, были уверены, что чудо сотворила та или иная из местных ипостасей Богородицы — ведь за выздоровление принца молились во всех храмах Испании. И только один упрямый медик продолжал настаивать на том, что дон Карлос обязан своим выздоровлением исключительно ему (коллеги, к счастью, спасли неразумца от инквизиции, спрятав однажды ночью в сундук его непростительно дерзкую докладную записку).
Везалий устал. Пусть вся эта орава медиков, столь же ученых, как его, Везалия, сапоги, отныне сама заботится о здоровье короля, королевской семьи и свиты. Если речь идет о врачебной помощи, то лучше он будет оказывать ее беднякам, как делал когда-то в Венеции — именно там он стал очень богатым человеком. Однако больше всего он хотел бы приумножать свои знания, исследуя все механизмы, «колесики» и жидкости нашего организма. Ну и, конечно, учить других: Падуанский университет, как и прежде, с радостью принял бы его в число профессоров. Ему не было и тридцати, когда он сопровождал императора Карла от одного города до другого, от одной битвы к другой. Теперь ему почти пятьдесят. Он хотел бы насладиться тем большим и красивым особняком, который выстроил на месте дома, где родился, — слишком маленького и быстро ветшавшего; особняком с фруктовым садом, огородом, грядками лекарственных растений. Новый дом расположен на холме, с которого открывается прекрасный вид; и кажется, будто ты повернулся спиной к сильным мира сего.
Итак, Везалий сообщил всем, что хочет совершить паломничество. Он сядет на корабль, направляющийся в Святую землю. Он посетит Иерусалим. Это предлог, чтобы покинуть королевский двор: ведь, как бы то ни было, Эскориал не заменит Иерусалимского храма! А может, и не предлог. Может быть, Везалий, наконец признавшийся себе, что безумно боится смерти, что хотел бы жить вечно, спешит от всего сердца помолиться Христу в тех местах, где Он жил, умер и был погребен; где потом явился в образе садовника Марии Магдалине, которая по ночам зажигала светильник и созерцала человеческий череп; явился святому Фоме, который вложил персты в Его рану и с тех пор точно знал, что смерть не всесильна, — знал это так же точно, как сам Андреас Везалий знал, что смерть неумолима, знал молчаливую ухмылку ее беззубых челюстей.
Неизвестно, то ли корабль потерпел крушение, возвращаясь из Святой земли, и волны вынесли тело Везалия на песчаный берег острова Занте, где некий ювелир опознал утопленника и похоронил на свои средства; то ли Везалий серьезно заболел, и моряки, опасавшиеся чумы и уже готовые выбросить неудобного пассажира за борт, высадили его на первом же острове, мимо которого проплывали. Ходили слухи, будто он сам добрался от отмели до ворот города, где и скончался. На одинокой надгробной плите вырезали такую надпись: «Могила Андреаса Везалия из Брюсселя, усопшего 15 октября 1564 года, в возрасте пятидесяти лет, на возвратном пути из Иерусалима». Через Венецию известие о гибели Везалия дошло до Брюсселя; после этого в родном городе за упокой его души долго служили мессы, но с годами они становились все менее и менее частыми — так бывает, когда отпустишь веревку колокола, и удары с каждым разом слабеют, звучат все реже, пока, наконец, не воцаряется полная тишина, похожая на смерть.
Издали ты видишь деревню среди полей, на берегу моря: оно изображено в верхней части полотна. А когда приближаешься, понимаешь, что здесь люди все делают наоборот: кто-то бьется головой о стену, кто-то предлагает розы свинье.[49] Не я первым придумал этот фарс, эту деревню пословиц: эстампами на тему «Мир наизнанку» торгуют уже бог весть как давно. Но я с удовольствием писал эту картину. Другие рисуют Марса или Венеру в обрамлении цветочных гирлянд — я же предпочитаю рисовать серии шуточных картинок. И не перестаю удивляться тому, что наши поговорки, если представить их себе
В детстве, когда приезжал балаган, я всегда успевал занять место в первом ряду. Удары молотка, которым забивали колышки, уже были частью праздника, а шелест разворачиваемого шатра доставлял мне такое же удовольствие, как шум ветра в парусах. Нас толкали в спину, но мы держались стойко и не сводили глаз с помоста. Помню, что тележник смеялся громче всех. Я видел, как гримасничают Жадность, Злоба, Гнев. Я удивлялся, почему люди не узнают себя в персонажах на сцене, почему не видят другого, повседневного театра, где каждый из нас шаг за шагом приближается к разверстой могиле. Но те, кто спит на ходу и кого подталкивают в спину, чтобы они шли, — как они могут увидеть, что мир есть сцена? Они не отличают отражения в зеркале от самого зеркала, тела — от ожидающей его вечной славы или вечной тьмы. Они не проводят границы между мыслями и мечтами, между мечтами и снами. Не улавливают разницы между своими мыслями и своим настроением, своим духом и своей меланхолией, своей душой и своей ролью на путях этой жизни. Спящие на ходу — как они могут знать? А я сам — если сумею проснуться, — на какой насест мне взобраться, чтобы ясно увидеть место, в котором я нахожусь, и определенный момент жизни этого мира: движение, мельтешение, толкотню; толпы тех, кто, подобно муравьям, запасает солому или муку; сцены любви и труда; отбытие и возвращение флотов и армий?… Где находится тот персонаж, тот уникальный «я сам», которым каждый является для себя; тот, кто носит мое имя; кого я знаю с самого детства лучше, чем рука знает обтягивающую ее перчатку; тот, кто наделен моими чертами, моим лицом?
Я вижу себя директором труппы странствующих актеров: я ставлю пьесы «Война сундуков и копилок», «Встреча Медвежонка и Валентина», «Свадьба Мопса и Нисы-Замарашки».[50] Я бы охотно подносил миру зерцало комедии. Холщовый шатер свернули — и можно трогаться дальше. Порой я подбрасываю словечко или шутку риторам из «Левкоя», но, по правде говоря, это не мое дело. Мой театр — лист бумаги, холст или такая вот деревянная доска. Мой главный персонаж — рисовальщик и художник.
Я рисовал сцену мира, пустую. Был ли я драматургом? Скорее географом. Я рисовал горы, долины, реки, всю необъятную ширь пространства. Для меня оно не было просто местом, где разворачивается наша история: я видел историю и драму самой земли. Я видел, что земля, как и мы, — пленница времени, которое ее изменяет. Ошибаются те, кто видит в моих пейзажах только декорации: речной поток, который кажется неподвижным, на самом деле течет и ни на миг не остается одним и тем же — даже на том участке, что доступен нашему зрению, он одновременно и сын и отец самого себя. Облака то принимают четкие очертания, то вновь расплываются, растворяются — так же, как наши мысли. Вся эта смятая материя гор с бессчетными складками — она тоже подчиняется времени! Географ, писец, архивист земли, я протоколирую ее метаморфозы; но меня сменят другие, потому что я тоже уйду, перейду в какую-то иную форму бытия; я, собственно, ухожу уже сейчас, когда сижу под деревом на камне и смотрю на поблескивающую вдали горную речку, которая кажется неподвижной дорогой.
Только что лист бумаги был совсем чистым — был просто белой заснеженной пустошью, — и вот уже перо или карандаш превращают его в неподвижное зеркало движущегося мира. Кто обязал меня вести хронику этих пейзажей? Медленно-медленно, словно далекое стадо или тень облака на склоне холма, лес наступает или отступает, меняется; занятый им участок сжимается или расширяется. Так капля воды или чернил, упав на бумагу, мгновение как бы колеблется, подрагивает, прежде чем остановится и примет какую-то форму. Так собака на охапке соломы крутится, пробуя улечься поудобнее, прежде чем заснет. Этот камень, на котором я сижу, по мере движения солнца меняет свой цвет с розоватого на серый, а пятна мха на нем с каждым новым дождем делаются все больше. Я рисую и прислушиваюсь к шуму мира, который, подобно реке, безостановочно течет мимо. Я вижу, как сливаются воедино струи ветра, мои волосы, листья. Я смотрю, как стремит свои волны вдаль, прочь от этого места, текущее время года. Устроившись под навесом ветвей, я внимательно наблюдаю и зарисовываю окружающий пейзаж. Я рисую себя, прислонившегося к дереву с треснувшим стволом. Моя рука, как и этот ствол, стареет — в тот самый миг, когда рисует взлетающего птенца среди колеблемой ветром травы.
Еще я рисую горы, похожие на колизеи, и над ними — стаи кричащих ворон. Ливни разрушают эти горы, стачивают склоны. Сколько мини-потопов было со дня сотворения мира? А сколько уже несется сюда на крыльях времени? Сколько Атлантид спит под нашими ногами, под нашими веслами? Для муравьев, живущих среди древесных корней, мельчайший дождик и даже вода, которую я выплескиваю из бокала, — уже потоп. А что есть потоп с точки зрения звезд? Я рисовал озноб мира, его медленные содрогания. «Зрел я: что было землей крепчайшею некогда, стало / Морем, — и зрел я из вод океана возникшие земли. / От берегов далеко залегают ракушки морские, / И на верхушке горы обнаружен был якорь древнейший; / <…> / Говорят, и Занклея[51] смыкалась / Прежде с Италией, но уничтожило море их слитность / И, оттолкнув, отвело часть суши в открытое море. / Ежели Буру искать и Гелику, ахейские грады, — / Их ты найдешь под водой; моряки и сегодня покажут / Мертвые те города с погруженными в воду стенами»,[52] — так говорит Овидий.
Я писал Время.
Я написал шуточную битву Поста и Масленицы. Я написал два сопровождающих их кортежа — между гостиницей и церковью. Подталкиваемый ряжеными, под звуки роммел-пота (это миска с гремящим в ней шариком, сверху затянутая бычьим пузырем) великан-Масленица, тучный мясник, вдев ногу в котелок, как в стремя, движется вперед верхом на бочке; он вооружен вертелом с жареными цыплятами и головой свиньи. Навстречу ему под шум трещоток участники шествия тянут платформу на колесиках с поставленным на нее стулом, на котором восседает тощая старуха Воздержание — она держит на вытянутой вперед пекарской лопате двух копченых селедок. Они встречаются лицом к лицу: одно лицо пышет румянцем, другое — мертвенно-бледно! Битвой это можно назвать разве что в шутку: Скудость и Изобилие собираются учтиво поприветствовать друг друга и проследовать дальше, каждый своим путем, — так встречаются зевающая ночь, которая отправляется спать, и протирающий глазенки, только что проснувшийся ребенок-день. Однако год — это движение по кругу, движение дней друг за другом. Я же изобразил время Масленицы и время Поста столкнувшимися
Деревенская площадь — это календарь. Разные места на ней связаны с определенными днями года. В одном месте пекут блины — там Сретение, в другом — празднуют день Богоявления. Дурак, который сидит, свесив ноги наружу, в окне второго этажа желтого дома и является как бы ступицей этого колеса, видит только круговращение времени, прялку дней. Он олицетворяет наше безумие: независимо от того, бережем ли мы время или разбазариваем его, мы думаем, что оно — вся наша жизнь. Но Дурак должен напомнить нам и о мудром безумии тех, кто празднует истинную Пасху, кто ступил за порог года и приблизился к вратам вечности. Если мы перестанем крутиться как волчки, то увидим пустоты, проходы меж бегущими днями. Однако человек не думает о времени, а если думает, то воспринимает его как сплошную плотную ткань и приходит в отчаяние; на самом же деле сквозь нити времени, сквозь его полотно просвечивает Солнце.
Я изобразил четыре времени человеческой жизни. Я написал «Детские игры» и «Немощи старости», «Удовольствия молодости» и «Труды зрелости»; эти картины следовало разместить, сориентировав по четырем сторонам света. Друг, который их заказал, так и поступил: он повесил их в центральной зале своего дома, которую заливает солнце, вокруг круглого стола. Таким образом я запустил карусель наших четырех возрастов — со всеми ее инструментами, игрушками, эмблемами. Я показал люльку и детский обруч, наковальню, молот, лемех, парус, шлем и меч, котелок и кузнечные мехи, веретено и пучок кудели — одним словом, всё, от кеглей до костылей, от пеленок до погребальных пелен. Образы не новы, но я влил в них живые краски. Работая, я не раз повторял себе конец «Метаморфоз»: «Что же? Не видите ль вы, как год сменяет четыре / Времени, как чередом подражает он возрастам нашим? / <…> / Также и наши тела постоянно, не зная покоя, / Преображаются. Тем, что были мы, что мы сегодня, / Завтра не будем уже… / Плачет и Тиндара дочь,[53] старушечьи видя морщины / В зеркале; ради чего — вопрошает — похищена дважды? / Время — свидетель вещей — и ты, о завистница старость, / Все разрушаете вы; уязвленное времени зубом, / Уничтожаете все постепенною медленной смертью».[54]
А теперь я напишу Триумф Смерти. Триумф, еще более ужасающий, чем тот, что я видел в Палермо, во дворце Склафани, и чем та картина, что хранится в Пизе. Босх изобразил мир в виде телеги с сеном; и все человечество, во главе со священниками, суетится вокруг, стремясь набить этим сеном мешки и сундуки; люди перерезают друг другу глотки и гибнут под колесами ради охапки сего иллюзорного злата; а между тем телега, влекомая демонами, въезжает, как в ворота фермы, в адское пламя, которое вскоре должно ее поглотить. Я был бы счастлив, если бы сам придумал эту великую Пословицу, эту Притчу. Но, Бог даст, я придумаю другую, ни в чем ей не уступающую. Я напишу вселенскую империю Смерти. Все эти младенцы, которых я рисовал в их колыбелях, — я покажу, как Смерть забирает их, прямо из пеленок; как на их бледные лобики садятся мухи, похожие на огоньки свечей. Я не стану писать
Он одевается в черный бархат, а на шее носит колье Золотого Руна. Он почти не покидает своего сумеречного рабочего кабинета. Он — это Филипп II, король Испании. Он подписывается:
Проект строительства Эскориала постепенно воплощается в жизнь. Эскориал — громадный гранитный дворец, который возводят в стороне от Мадрида, в горах Кастильи, где пасутся черные быки: летом солнце буквально выжигает это место, а зимой оно наводит тоску полным отсутствием чего бы то ни было, кроме снега и льда, — настоящая пустыня, как место обитания подходящая разве что для демонов. Эскориал создается по образу пыточного приспособления: в плане дворец имеет форму решетки святого Лаврентия. Это будет одновременно прибежище и зеркало того короля, по воле которого каждодневно корчатся в муках враги католической веры.[56]
Из этого логова он, Филипп, будет наблюдать за всем, что происходит в мире. Он и сейчас видит каравеллы в Океане, нагруженные бочками с золотом: они возвращаются из Нового Света, который Господь даровал Испании. Видит, — как это золото преобразуется в казармы, в артиллерию. Боже, да послужит все золото, что Ты мне посылаешь, к вящей славе Твоей, и позволь мне, Господи, с Твоей помощью сокрушить врагов Твоих! Хвала Тебе, дарующему нам счастье защищать славу Твою и оборонять всю Европу от турецких полчищ!.. — Король видит, как золото обеих Индий превращается в мощь парусов и пушек — в Армаду, непобедимую жандармерию морей и всего земного шара.
Он видит и новых турок: они — увы! — являются нашими братьями-христианами, но христианами-еретиками, худшими, чем турки по рождению, ибо отвергают свое крещение и истинную веру, которую обрели в детстве. Он видит Германию. Видит Женеву и Лондон. Видит Фландрию. Видит Антверпен. Видит Брюссель. Да, конечно, эта страна приносит ему столько же доходов, сколько вся Америка. Но, будь это возможно, он с радостью сжег бы ее землю и ее народ — сжег, как стог сена!
Эскориал посвящен святому Лаврентию, потому что Сен-Кантен пал под ударами испанцев в день этого мученика. Сен-Кантен был больше Мадрида (с предместьями) и славился своим богатством: он служил перевалочным пунктом и складом для самых разных товаров, поступавших в Нидерланды. Испанская артиллерия долго обстреливала его стены. Потом город был взят штурмом и начался ужасный грабеж. Солдаты с остервенением набрасывались на мертвых и вспарывали им животы, надеясь обнаружить в желудках золотые монеты. Они рыскали по улицам среди обнаженных трупов с вывороченными внутренностями. Многие из них набрали более чем по две тысячи дукатов. Они поджигали все на своем пути. И, мародерствуя, не брезговали ничем — кто-то украл даже медную табличку с фасада ратуши. Король повелел щадить женщин. Но его не было рядом, когда ландскнехты хватали горожанок, раздевали их донага и ощупывали, чтобы найти спрятанные деньги и драгоценности; если не находили ничего, то, дабы заставить пленниц говорить, им уродовали лица или отрубали руки. Король появился только на третий день, когда город был уже сплошным пепелищем. Филипп продвигался вперед среди облаков летающих по воздуху перьев (солдаты вспарывали перины в поисках золота и серебра); он отводил глаза, чтобы не видеть голых трупов и собак, которые крутились возле них; он хотел было возблагодарить Господа за эту победу в местном соборе, но не смог войти туда из-за нечистот и зловония. Он приказал отвезти в соседний город всех, кто еще оставался в живых из жителей Сен-Кантена: три с половиной тысячи женщин — голых, голодных, больных, увечных. Эскориал должен стать истинным
Бабушкой короля была Иоанна Безумная. Инфант дон Карлос, его сын, — душевнобольной, которого придется, ради блага всех христиан, отправить в заточение (а может, и отравить). Это — сокровенная боль, внутренняя рана Филиппа II. Балансируя на грани между Смертью и Безумием, король Испании уповает только на власяницу Эскориала, свою духовную кольчугу.
Это начинается со своего рода видения — какое-то место, пейзаж, человек с волынкой у входа в трактир. Потом он поднимает глаза и видит раскачивающуюся на ветру вывеску:
Или же это начинается с цвета, с желания и предвкушения определенного цвета: цвета поля, рыжего, как горло лисицы; камня, коричневого, как гончарная глина; зеленой одежды всадника, контрастирующей с серым крупом коня; бледно-голубого фартука; красного или белого с желтизной рукава на фоне кувшина, золотистого каравая или лепешки. Да, тогда это начинается с нетерпеливого желания закрасить какой-то кусочек картины — например, тот фасад цвета соломы, на котором мы видим окно с Дураком, справляющим Пасху; едва первая краска наложена, ей немедленно отвечают, предлагая себя, другие; и потом сразу всплывают из небытия все краски образа: все они перекликаются и отвечают одна другой, меняя оттенки под влиянием соседних красок — так составляется букет, который не получится красивым, пока не попробуешь несколько раз переделать его по-новому; так инструменты в оркестре, чтобы он мог издавать совершенные звуки, должны быть сначала согласованы между собой. Краски имеют естественно присущие им симпатии и антипатии; нужно научиться радоваться вместе с ними их согласию; нужно понимать, что недостаточно просто поместить рядом две красивые краски, потому что с яркой краской должна соседствовать краска более или менее приглушенная — тогда каждая из них будет подчеркивать достоинства другой.
Не может быть настоящим живописцем тот, кто не испытывает удовольствия от самого процесса наложения краски — этого особого, вселяющего блаженство вещества, которое заставляет забыть обо всем на свете; так забываешься, сидя зимним вечером, когда крыши занесены снегом, у горящего очага, или запрокидывая голову, чтобы рассмотреть сквозь листья деревьев небо; или заглядывая в золотую чашечку лютика, сияющего среди травы. Художник вообще не мог бы создавать картины, если бы не испытывал, глядя на белый загрунтованный холст или подготовительный набросок-гризайль — но гризайль уже есть краска, есть
Бывает, что ты вдруг видишь будущую картину всю целиком, как сон, — а иногда это и происходит во сне.
Бывает и так, что все начинается с идеи. Тогда работа художника максимально приближается к тому ремеслу, которому Брейгель обучался у Кукке. В основе таких вещей, как «Добродетели и Пороки», «Изгнание мага Гермогена», «Осел в школе», «Страна лентяев», «Тучные и Худые», лежит определенная мысль, они должны быть придуманы. Иногда темой картины служит пословица: «Каждый за себя», «Большие рыбы поедают малых». Иногда — игра слов: «Алхимист, ал гемист»
Несомненно, именно работая иллюстратором, Брейгель впервые почувствовал влечение к тем
Никто не мог превзойти Брейгеля и в умении составлять композиции на манер Босха. Брейгель «проглотил» не только итальянские горы — он «питался» и работами мастера, жившего за столетие до него. «Питер Брейгель из Бреды, великий имитатор учености и фантазий Иеронима Босха, заслужил прозвище Второго Иеронима Босха», — писал Гвиччардини еще при жизни Брейгеля. А Лампсоний в своем альбоме
Брейгель, конечно, осознавал степень самобытности своего искусства. Однако приведенное выше суждение вряд ли вызвало бы у него неудовольствие. Несомненно, ему, как и всем его современникам, подражание учителям представлялось одним из необходимых условий овладения профессией; подражать следовало не конкретным приемам признанных мастеров, но их способу видения; так что, к примеру, имитируя Босха, то есть возрождая по просьбе Кукке или его заказчиков мотивы босховской дьяволиады и босховских моралите или босховские же образы отшельников в пустыне, молодой художник должен был испытывать ощущение, что он не столько копирует некий законченный шедевр, сколько припадает к источнику вдохновения, открытому учителем. Он сознавал себя духовным существом, с которым вступает в контакт другое духовное существо; сознавал, что в течение какого-то времени обязан воплощать в реальность — здесь, на земле, пользуясь собственными физическими возможностями, — те желания и видения, которые другое духовное существо, уже покинувшее этот мир, не успело воплотить в жизнь.
Так, Брейгель использовал босховский сюжет «Извлечение камня глупости» — впрочем, наверняка не являющийся изобретением самого Босха — в своей гравюре «Колдунья из Маллегема» («Маллегемом» во фламандском фольклоре называется деревня дураков). Глупость есть не что иное, как мудрость наоборот; а значит, если, как утверждает молва, алхимики умеют извлекать из собственной головы философский камень, то и в башке глупца должен обретаться некий камень придури — достаточно извлечь его, и дурак поумнеет. На картине Босха несчастный простак сидит, привязанный к креслу, в окружении трех персонажей: монахини, которая облокотилась на круглый стол, а на голове у нее лежит красный молитвенник, закрытый на застежку; священника с таким выражением лица, как будто он дает добрые советы осужденному на казнь в тот момент, когда палач уже поджигает костер; хирурга в длинном розовом одеянии, с кувшином на поясе и воронкой на голове, держащего в руке скальпель. Это все происходит на траве, изображенной в манере старых шпалерных мастеров; а на заднем плане мы видим уходящий вдаль пейзаж с преобладанием зеленовато-желтоватых тонов: фруктовые сады, дороги, рощи, белую лошадь под деревьями, колокольни и башни далекого города, голубую ленту холмов или гор под бело-голубым небом, несколько крошечных мельниц, колесо и виселицу. Брейгель, создавая свою версию сюжета, изменил место действия и увеличил число персонажей. Он перенес сцену операции, весь этот гадкий фарс, в деревню, где разворачивается действие его «Пословиц» (на обоих изображениях мы даже видим одну и ту же плывущую по морю лодку). Целая толпа дураков теснится около дома врача. Они стекаются отовсюду, жестикулируя, с раззявленными ртами. Так и слышишь, как они кричат: «И мне! И мне! Теперь моя очередь!» Двое любопытствующих приоткрыли ставень, чтобы лучше видеть весь спектакль (или, может, они желают убедиться, что паломничество к медику действительно приносит пользу?). В доме валяются в полном беспорядке кувшины, горшки, ножички. Каждый спешит избавиться от своего зернышка придури, словно это больной зуб. Работает мельничный жернов — какое зерно он мелет? Несколько монстров, будто сошедших с полотен Босха, крутятся под ногами у возбужденных пациентов, другие смотрят на происходящее с крыш. О чем разговаривают в углу у кирпичной стены монах и монахиня — члены дурацкого братства? Некая птица с половником в клюве высиживает стеклянную бутыль. Солдат — или, скорее, разбойник — в шлеме, надвинутом по самые брови, ждет, когда, наконец, врач займется им. Но разве врачи менее безумны, чем настоящие безумцы? В правом углу картины, внизу, изображено огромное яйцо, похожее на севший на мель корабль; оно треснуло, и с одного конца высыпаются зерна глупости, всяческие нелепицы, а через трещину видно врача, склонившегося к голове лунатика. Такого яйца нет в босховском варианте сюжета; но Брейгель мог придумать его, глядя на другую картину мастера, «Корабль дураков»: там человеческая глупость распевает на все лады в суденышке из ореховой скорлупки, и этот концерт на корабле воистину являет собой «яйцо дураков».
Выбирая сюжеты для своих картин, Брейгель не всегда удовлетворялся внезапно пришедшей ему в голову идеей, пословицей, присловьем. Нередко пищей для его воображения служила книга. Чаще всего — Библия. Стать художником значило научиться не только читать и понимать Слово Божие, но и видеть его (чтобы делать зримым для других). Как достойно изобразить Божественную Историю и показать лики пророков и святых, Непорочной Марии и Господа нашего Иисуса Христа? Как найти для такой картины самую запоминающуюся, ясную и наиболее соответствующую тексту Священного Писания композицию? Эти вопросы почти так же стары, как желание больного царя Эдессы направить к Христу художника, чтобы тот нарисовал портрет Учителя; почти так же стары, как жест Вероники.[58] Именно поэтому братство художников избрало своим покровителем святого Луку — евангелиста, написавшего портрет Девы Марии.
Но как изобразить то, чего ты в принципе не можешь увидеть? Как подготовить себя к созданию картины на тему Триумфа Смерти? Он читал Петрарку. Он видел его великую родину, у которой столько мертвецов, что ни прозой, ни стихами описать это невозможно. Он перечитал последнюю песнь поэмы Лукреция и ясно представил себе чуму, поразившую Афины. А потом оставил книги и стал смотреть на людей. Под шляпами, капюшонами и шлемами он видел гниющую плоть, которая вот-вот исчезнет, обнажив череп. Под рукавами — кости, фаланги пальцев. Кого бы он ни встречал, он пытался представить, какая агония ждет этого конкретного человека. Он наблюдал за танцующими на ярмарке; за волынщиком, который играет, сидя за праздничным столом; за процессией с церковными хоругвями; за моряками, поднимающими парус, — и думал, что все эти люди тоже станут трупами, скелетами. Он смотрел на гостей на свадьбе и воображал их мертвецами в общей могиле. А в жнецах посреди золотистого летнего пейзажа угадывал будущие иссохшие деревья. Он не боялся представить себе, как лицо его любимой Марии будет разлагаться подобно всем другим лицам, а ее позвонки рассыплются, словно бусины порванного ожерелья. Он не боялся думать и о том, как внезапная ночь опустится над ним самим и кто-то будет заколачивать гвоздями крышку его гроба. Он знал, какими будут его собственные останки — похожими на охапку хвороста, по которой ползают слизняки и улитки.
В то самое время, когда Брейгель обдумывал композицию «Триумфа Смерти», он написал для себя — и, быть может, держал на видном месте как напоминание о душевном здоровье посреди того хаоса, которым тогда были заняты его мысли, — маленькую картину-гризайль, выполненную пером и кистью по серой бумаге. В центре, около скалы, изображен округлый камень, в диаметре превышающий человеческий рост и напоминающий мельничный жернов: он откатился в сторону, открыв вход в пещеру. Входное отверстие пещеры-склепа похоже на пасть той огромной рыбы, которая некогда поглотила Иону. Ближе к входу можно различить тени на глинистом полу, но в глубине царит непроглядный мрак. Ангел с лучезарными крылами, в длинном одеянии, сидит на камне-жернове; достаточно поднять глаза, чтобы увидеть его лик и исходящий от него свет. На переднем плане, у подножия мертвого дуплистого дерева — возле его ствола сложен хворост, а с ветки свисает потухший фонарь, — мы видим солдат, которые, как когда-то пастухи Вифлеема, медленно пробуждаются от сна, потому что их ослепило сияние ангела. Один из них прикрывает глаза рукой, чтобы заслонить их от света, но остальные, похоже, еще спят, спят как младенцы в материнской утробе — свернувшись калачиком и подложив руки под голову. Один солдат приподнялся, заметил ангела и схватился за оружие; а его сосед, продолжающий спать на ходу, ангела не видит, хотя находится рядом с камнем: он делает шаг по направлению к гробнице, держа копье так, как держат палку. Самые бодрые из солдат — несомненно, смена караула, — похожие в своих кирасах на майских жуков, наклоняются к отверстию склепа и указывают на черную пасть пещеры: раньше там лежало тело, а теперь гробница пуста. Бодрствующие солдаты пытаются стряхнуть с себя ступор, более сильный, чем любая форма опьянения. У них такой вид, будто они сами только что восстали из гроба. Будут ли и у нас такие же застывшие, ненатуральные жесты, когда нам придется, наконец, поднять глаза к Христу и Его свету? Будет ли нам так же трудно восстать от тяжелого и долгого сна смерти? По дороге идут святые жены, несущие благовония. Они видят откатившийся в сторону камень и, присмотревшись, могли бы обнаружить, что гробница пуста. Но это еще не доходит до их сознания. Они говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба? И что сделают с нами солдаты?» А потом замечают солдат, которые производят впечатление пьяных или, быть может, сильно избитых. В головах женщин проносится ужасная мысль: какие-то воры — но почему? — похитили тело Иисуса. И тут их взорам открывается сидящий на камне безмятежный юноша, облаченный в белые одежды. Они слышат голос ангела. Однако никто еще не видит самого Христа, который как раз в этот момент возносится в небо на облаке, празднуя свой триумф над смертью.
Ни фонаря. Ни свечи. Непроглядная ночь. Едва слышное дыхание тех, кто ждет, чтобы сцена, наконец, осветилась. Далеко, очень далеко, за далекими кулисами мира, за черными горами под снежными шапками, над которыми взошли незримые звезды (если луна и светит, то светит сиянием льда; небо похоже на замерзший пруд, на сруб колодца мертвецов), где-то позади нас труба играет
Потом — внезапный порыв ветра. Справа возникает круглое пятно света; оно расширяется, и мы видим молодого человека, который схватился за эфес своей длинной шпаги. Он удивлен. Он растерян. Стены, куда подевались стены? Они исчезли как скатерть, которую сорвали со стола. У комнаты нет больше ни стен, ни потолка! Как будто какой-то великан просто поднял дом вверх, убрал его из пределов видимости — так поднимают стеклянный колпак, прикрывающий блюдо с сыром. Только что уютное сияние свечей и люстр отражалось в зеркалах, заставляло вспыхивать дорогое тиснение стульев из кордовской кожи, хрустальные бокалы и вазы; пиршество подходило к концу, гости смеялись, и играла музыка; соседка наконец удостоила меня благосклонным взглядом. И вдруг стены пропали. Не то чтобы они стали прозрачными как стекло — нет, мы все в самом деле оказались на улице. Мы — в саду, где-то в сельской местности. Я протягиваю руки и касаюсь лишь воздуха. Мои пальцы не встречают сопротивления. Поднимается ветер. Я ощущаю дыхание ветра на лице, чувствую его кожей ладоней. Я делаю вдох и улавливаю слабый запах гниения. Пытаюсь дышать глубже и теперь уже точно узнаю этот жуткий трупный запах. Запах смерти проникает мне в горло. Где же тот приятель, к которому я направлялся, чтобы выпить за его здоровье? Сейчас темная ночь — но я вижу все так же отчетливо, как днем. Рядом со мной два голоса продолжают петь о любви. Но какой странный шум на дорогах, как скрипят колеса телег! И эта отвратительная вонь протухшего мяса, которую доносит сюда ветер! Мое бедро еще касается круглого стола, накрытого белой скатертью — слишком белой в этом грозовом свете. Хотя обычно я не теряю мужества, сейчас меня охватывает леденящий страх. И этот шут, одетый в красно-белое домино, который пришел показывать нам фокусы, — я понимаю, почему он в ужасе пытается залезть под стол, укрыться за белой скатертью, словно испуганный пудель. Но я — благороден, молод, здоров и потому достаю из ножен мою длинную шпагу…
За спиной молодого человека, на этом круглом белом столе (белом, как ноябрьская луна или как восковая свеча у постели умирающего) прямо посередине стоит оловянное блюдо; на блюде помещается чаша, а в ней — глаз. Глаз? Нет! Пустая глазная впадина, которая пытается рассмотреть что-то, выглядывая из-за края чаши. На блюде, в чаше, лежит голова мертвеца — как десерт, который только что подали на стол. Голова смотрит на нас и, кажется, смеется над тем фарсом, что сейчас разыгрывается перед гостями. Точнее, не голова — перепачканный землей череп.
Слышится шум ветра, к которому примешиваются неясные крики, стоны, хихиканье трещоток. Любовный дуэт в итальянском стиле пока не прерывает своей плавной беседы и кажется безмятежной баркой посреди бушующего моря. Но к кавалеру уже обращается другой голос — голос скелета. «Твоя соседка, — шепчет он, — прелестная, остроумная и учтивая соседка, которая только что ответила на твои слова, порозовев от смущения, — ты о ней больше не думай. Я обнял ее за талию, дотронулся до ее груди — сделал то, что мечтал сделать ты. У нее цветущая плоть — а я сух и тощ. Она вскрикнула, взметнув вверх широкие рукава с меховой опушкой. Ее малиновые уста уже открылись, чтобы издать звериный вопль! Она пока не дается мне, ускользает меж пальцев. Действительно, что касается моих уст, то они не пахнут амброзией. И лицо у меня излишне худое, с провалами вместо глаз, и волос совсем нет, и мои замшелые ребра видны, ибо я гол как собака. Твоя возлюбленная, так часто вызывавшая у тебя приступы ревности, сейчас недаром отводит глаза: она уже увидала монаха в зеленой рясе, который несет ей рагу из черепа и костей. Увидала, что башку этого зеленого монаха украшает шутовской колпак с длинными ушами».
В нескольких шагах от пиршественного стола — напряженная фигура ландскнехта в безвкусном франтовском одеянии (пышные рукава с прорезями, чрезмерное обилие лент). Ландскнехт сражается со скелетом, закутанным в саван; но скелету, похожему на кузнечика (он опирается пяткой на каску убитого солдата), удается заблокировать в воздухе меч своего противника и одновременно затянуть веревочной петлей его бедро. Издали их можно принять за танцоров на свадьбе, выделывающих замысловатые па! Солдат рядом уже упал, сраженный косой другого скелета, который сейчас его прикончит. Какой-то крестьянин швыряет скамейку, обороняясь от целой орды нападающих. Всадник в покрытых пылью доспехах застыл в неподвижности, как пень. А что еще остается делать? Те, кто нападает на нас, — уже мертвецы. Их латы — саваны, их укрепления — груды костей! Все игры и игральные жетоны, карты, стаканчики для костей, триктрак и «жаке»[61] вперемешку валяются в траве — в этой партии нам не выиграть. Один мертвец твердой рукой поднял фонарь и светит мне в лицо. Другой уже успел порыться в наших шкафах, облачился во что-то золотисто-желтое и нацепил на себя карнавальную маску; он, как заправский кравчий, выплескивает в ручей вино из наших серебряных кувшинов.
На холме растет дерево, к нему подвешен огромный колокол, в который неутомимо звонят два костлявца. И все же какая-то пара исполняет любовный дуэт, не обращая внимания на лязг костей. Кавалер играет на лютне, а дама держит перед собой тетрадь с нотами. Мертвец за их спиной аккомпанирует им на инструменте, который я бы назвал скелетом виолончели. К нам быстро приближается толпа. Это горожане. Они теснятся, спеша опередить друг друга, как бывает в дни мятежей. Мертвецы пронзают их копьями. Рубят топорами. Подсекают косами. Перерезают им глотки или удушают. Убитые валяются на земле, как тряпки. Падают друг на друга, как бесформенные тюки. Те, кто еще не столкнулся лицом к лицу с костлявым воинством, пытаются бежать через странного вида портик с высокой и широкой подъемной дверью. Но за поставленными стоймя гробами-колоннами их ожидают в засаде неприятельские резервы: изготовившиеся к атаке, свежие, состоящие из молодых бойцов отряды преграждают все пути. Мертвецы расположились лагерем в саду. С каких пор укрываются здесь полки Смерти? Я вижу чадящие факелы над армией скелетов. Мертвецы терпеливо ждут, топчутся на месте. Они поднимутся в атаку по сигналу, а пока переговариваются друг с другом, сухо постукивая челюстями. Свистом подзывают к себе проституток. Им хочется подмигнуть — но нечем. Я слышу их жандармские шутки. Смерть никого не красит. А между тем избиение горожан продолжается. Трупы бросают поверх других трупов — так швыряют в корзину рыбьи тушки. Переплетающиеся тела уже не принадлежат живым. Огромный тощий конь — с него содрали шкуру, — на котором скачет скелет, со свистом рассекающий воздух своей косой, топчет всю эту груду тел. Живых людей, которых мы знаем в лицо, загоняют в утробу смерти. Они выходят оттуда с черепами вместо голов, с резко утончившимися руками и ногами — выходят, чтобы стать ландскнехтами этой армии теней и белых как мел скелетов. Они движутся, словно поток, чтобы сделать еще более полноводными реки Смерти, которые и так выходят из берегов. Земля извергает из себя целые груды лопаток и берцовых костей. Земля выплевывает легионы мертвецов — ни одна эпоха не знала армий, в которых было бы столько живых солдат.
Подними глаза! Ты только что видел крестьян, которых загоняли под подъемную дверь Тартара, как гонят на бойню скот. Теперь ты видишь всю агонизирующую землю. Ты видишь резиденцию Смерти и ее конные отряды. Ты видишь на горизонте пожары и кораблекрушения. Ты видишь на море горящие корабли и моряков, которым остался лишь один выбор — между костром и водной пучиной. Ты видишь все уловки и все механизмы Смерти. Ты видишь Черную Чуму и Синюю Чуму, разыгрывающих партию на шахматной доске, клетки которой — города и селения. Члены костлявого братства набрасывают на нас сеть, и мы кувыркаемся в ее ячейках. Они сталкивают нас в воду и топят. Труп с безобразно раздувшимся животом плывет по зеленой реке. С берега его приветствует целая монашеская община закутанных в саваны мертвецов; к нему вот-вот присоединится второй обнаженный труп с привязанным к шее мельничным жерновом. Когорты скелетов движутся со стороны кладбища на берегу моря и той башни, что построена на морском утесе. Те, кто умер раньше, помогают «новорожденным» мертвецам выйти из гроба. Двое монахов тащат в ящике на колесиках разлагающийся труп женщины; под голову ей подложили охапку соломы, но голова ее мертвого младенца все время стукается о деревянный борт. Ты видишь виселицы, колеса, другие приспособления для казней и пыток. Видишь гниющие тела, зажатые в развилках деревьев. Видишь большие виселицы со скелетообразными приставными лестницами — на тысячах голгоф. Видишь у подножия одного из колес палача — его торс состоит лишь из ребер и позвонков, — который уже занес меч над шеей охваченного ужасом человека! Как мы умеем сами помогать Смерти! Смотри! Они нападают на нас, преследуют нас повсюду — эти манекены, эти машины, лишенные сердец и плоти, — и у них такой вид, будто они над нами смеются! Будто приглашают на самый пышный праздник. Можно подумать, что им нас не хватает, что им не обойтись без нас. Смотри! Смотри на тысячи способов умерщвления, на тысячи смертных поз, на эту отвратительную буффонаду, на это великое сражение — битву битв; на этот сбор винограда, где вместо гроздей обрывают наши жизни; на эту жатву, где жнецы срезают колосья нашего дыхания; на то, как костлявые пятки выдавливают нашу кровь; смотри на тысячи способов разрушить наши тела: на то, как плоть нашу кладут под пресс, глаза наши складывают в корзины, а внутренности отдают паразитам; смотри, как копыта коней Смерти топчут наши черепа, как цветет пурпурная роза лихорадки, как выбрасывают на свалку наши руки и ноги. А наверху — над всеми вспоротыми животами, пытками, колесованиями, убийствами — раскинулся багряный от крови Сад Судей!
Слева споткнулся и падает король. Какой король? Это Нимврод, в сей миг уже не способный думать о Вавилонской башне, о своих дворцах и кораблях. Но это и ты, бедный Карл! Я узнаю твою корону и пурпурную мантию, подбитую горностаем! Нет, скорее, это я сам. Прелат, которому помогает идти скелет, — это точно я, ничтожный и скромный слуга Божий. Паломник, которого убивают на дороге, похож на меня лицом и кричит моим голосом. Я — гость на пиру, и я же — влюбленный кавалер; я защищаю свой стол и свои игральные кости. Я — тот, кто не слышит ничегр вокруг, очарованный звуками лютни и нежностью девичьей груди; за аккордами моего инструмента я не улавливаю скрипа телеги и ржания больной сапом изможденной лошади, на крупе которой примостился ворон. Подними глаза и посмотри на вереницу телег, везущих с полей урожай черепов, этих белых кувшинов с зияющими глазницами, — и на отвратительную Смерть, которая, размахивая косой, несется впереди обоза на исхудалой кляче. Подними глаза, смотри и слушай! Все уйдут отсюда — и я уйду! — через подъемную дверь, ведущую на глинобитный двор. Все исчезнут за кулисами мира. Где же Христос? Где обещанные нам ад и рай? Ад я вижу — вижу его цитадель, его печи — в центре картины, где суетятся дьяволы-стрекозы и дьяволы-кроты, передвигающиеся на утиных лапах. Ад из дурного сна, потрескивающее пламя… Торопитесь! Торопитесь! Близится время Последнего Суда. Собирайтесь на глинобитном дворе, чтобы там дожидаться судилища, если оно и вправду состоится. Всё. Все огни погашены. Конец пиесы.
Дом оказался не таким уж маленьким. Со временем он еще более расширился: за счет помещения, которое ранее было частью соседнего дома; каретного сарая, переделанного в столовую залу; нового погреба и лестницы с платяными шкафами. Благодаря этому росту, подобному росту дерева, в нем образовались множество укромных уголков и просторный чердак, фактически состоявший из нескольких чердаков, которые располагались на разных уровнях и имели разную высоту. Дом формировался постепенно и походил на дорогу, винтообразно поднимающуюся в гору; отсюда можно было увидеть — вдали — равнину, поля и леса, колосящиеся хлеба или заснеженные просторы, крыши города и (через узкое слуховое оконце) мрачную гору Галгенберг, грязно-желтую, как запаршивленная голова. Можно было увидеть и сельскую округу, и город. Можно было увидеть облака. Караваны облаков, медленное движение их воздушного флота. Их стада, пасущиеся на голубых лугах. Целые кипы облачной пряжи, которую ветер раздергивает на клочки и рассеивает по небу, а солнце окрашивает, уподобляя индийским, китайским, фламандским тканям. На берегу неба чувствуешь себя как на берегу моря. Ветры закручивались в вышине в вихревые потоки или тянулись в одну сторону подобно нескончаемому войску. Дни и времена года незаметно для глаза меняли оттенки воздуха и знакомых стен. Брейгель сделал чердачное помещение максимально доступным для солнечного света и устроил там свою мастерскую — точнее, мастерские, потому что стол, на котором он рисовал, находился в некотором отдалении от того места, где он обычно писал красками. Иногда он надолго застывал в неподвижности перед картиной, даже не брал в руку кисть — просто смотрел, как смотрят на равнину, на течение реки, на работающих крестьян. В такие моменты можно было подумать, что он прислушивается к происходящему на полотне. Но он также любил прогуливаться по этому чердаку, останавливаясь перед уже законченными картинами и перед теми, что были едва начаты. Когда он так ходил, то не всегда рассматривал свои работы — иногда просто думал, грезил. Ему и раньше казалось, что его мысли бывают более яркими и свободными, когда у него есть возможность побродить. Расхаживая по чердаку, он вновь обретал ту способность видеть сны наяву, которая пробуждалась у него на дорогах Голландии, на дорогах его детства, на дорогах Италии. Ковры приглушали шум шагов; дощатый настил в просветах между ними напоминал корабельную палубу; часть пола была вымощена розовыми терракотовыми плитками. Тут и там стояли низкие столы с лампами, на столах были разложены книги: латинские поэты, Гомер, Библия. Имелось и кресло с высокой спинкой, в которое Брейгель усаживался, чтобы почитать, подумать или хорошенько рассмотреть с близкого расстояния удивительную картину, которую, как ни странно, написал он сам. Здесь, наверху, в тиши мастерской, где слышно, как по черепично-шиферной кровле крадется ветер, стекают струи дождя или переступают птичьи лапки, постепенно образовались отдельные рабочие зоны, которые можно уподобить — в зависимости от избранной точки зрения — городским пригородам, созвездиям, разным периодам человеческой жизни. Всего несколько шагов отделяли комплекс «танцев» и «свадеб» от заснеженного Вифлеема. Среди этих огромных полотен Брейгель ощущал себя человеком, живущим в окружении образов, которые снятся ему на протяжении многих ночей, — и радовался этому как ребенок, бегающий между выстиранными простынями, когда женщины снимают их с веревок и растягивают, прежде чем убрать в шкаф. Чердак был его молельней, его лабораторией.
Рядом с этой мастерской находилась еще другая, поменьше, где обычно работали два ученика Брейгеля и где готовились все необходимые ему материалы. На чердаке было несколько дверей. Через самую большую из них мастерская сообщалась с рабочим кабинетом, откуда можно было попасть в жилую часть дома. Другая вела в тупиковую комнату и была занавешена куском парчовой ткани. Весь чердак, а в конечном счете и весь дом напоминал закрученную раковину. Узкие переходы, возникшие со временем в результате различных перестроек и «подгонки» отдельных частей здания, позволяли кратчайшим путем попасть из одной его зоны в другую — как тропинки, соединяющие два участка более широкой объездной дороги. Это был один из тех домов, в которых особенно хорошо чувствуют себя дети, потому что находят там множество тайников и закоулков, столь необходимых для их игр и фантазий.
Брейгель иногда думал о временах, когда дома еще не существовало. Он видел на его месте лесную чащу, деревья, бегущих кабанов, рога оленей. Там, где сейчас дымится на столе супница, некогда гирлянды омелы оплетали стволы дубов. Тот факт, что посреди дома имелось почти круглое помещение, навел его нового владельца на мысль, что здесь, на этом обдуваемом ветрами холме, все должно было начинаться с мельницы. Но, может, и сама мельница появилась лишь потому, что еще прежде нее на холме была построена башня? Башня часовни или монастыря. Или — как знать? — башня цитадели, военного укрепления. Да, мельница наверняка разместилась в развалинах башни. Мешки с зерном стали складывать туда, где прежде хранилось оружие или молились монахи. Песни мельника зазвучали вместо песен часовых, сигналов военных труб, гимнов и перезвона колоколов. Брейгель, живя в этом доме, частенько прислушивался к шумам прошлого. Так иногда, проходя мимо зеркал, можно поймать в них отражения других лиц, других взглядов — отражения тех, кто смотрелся в эти стекла раньше тебя. Говорят, что колдуньи, когда протягиваешь им тарелку, слышат шум едва различимых слов. Одна колдунья, войдя в дом женщины, которая обратилась к ней за советом, внезапно побледнела: она поняла, что поставленная перед ней суповая миска была свидетельницей убийства. Брейгель слушал, как шумят давно ушедшие времена, оставившие в его доме свои напластования. Если правда, что, как многие верят, поднеся к уху раковину, можно расслышать шум моря и даже скрипы его кораблей, то наверняка, хорошенько прислушавшись, можно услышать и то, о чем переговариваются стены, можно вникнуть в мрачные тайны подземелий под твоими ногами.
Это, наверное, была башня старинной крепости, башня форта еще римских времен. Столетия спустя в развалинах опустевшей, уже никому не нужной башни выросла мельница — или в них, среди зарослей кустарника, поселился какой-нибудь последователь святого Антония, длиннобородый отшельник, который молился, созерцая Книгу и Крест, а в лунные ночи, когда посверкивают каплями дождя цветки омелы, подвергался шутовским, но в то же время жутким искушениям: его соблазняли демоны с утиными клювами, с котелками вместо задниц, и целые бордели поддельных королев. От башни к тому времени не осталось ничего, кроме остова, силуэта, формы. А когда-то здесь происходила смена караула и звучали смачные ругательства античной Италии. Брейгель представлял себе римских солдат, спящих на соломе: некоторые даже не снимают панциря, лишь слегка его расшнуровывают, чтобы, проснувшись, тотчас заступить на вахту; этой туманной ночью они совершенно неотличимы от легионеров Пилата, заснувших близ гробницы Христа, — тех не смогло разбудить даже сияние снежно-белого ангела, настолько тяжел был их сон (отнюдь не блаженный). Солдатам снятся их семьи, оставленные в Кампанье, маленькие садики, обещанные ветеранам. Когда они вновь увидят тяжелые виноградные грозди своего детства? Могли ли они разглядеть — в ту эпоху, с этого вот холма, — как вдали, в серебряном тумане, по серебряной глади моря движутся римские корабли? Солдаты просыпаются. Он, Брейгель, слышит шаги патрульных, бряцание их оружия — точно с таким же шумом по сегодняшним улицам проходят испанские солдаты. Он видит блеск шлема, пурпурный плащ на плечах капитана. А потом на месте римской казармы вырастают заросли кустарника. И начинается эпоха мельницы — и светила небесные отныне указывают дни и часы уже не языческих, но христианских праздников.
В остове башни Брейгель разместил свои книги. Это была, так сказать, крепость слов и мыслей. Или мельница, перемалывающая пшеничные зерна человеческого духа. На самых нижних полках стояли высокие тома по географии и альбомы с изображениями птиц и рыб. Он ощущал себя здесь почти что Ноем: его окружали образы мира, память мира. Ему нравилось читать, сидя в деревянном кресле со шнуровым орнаментом, в то время как дождь промывает свинцовые переплеты и цветные стеклышки витражных окон. Посреди этой круглой библиотеки он был Ясоном, явившимся на поляну Додоны, чтобы священные дубы нашептали ему совет относительно предстоящего путешествия.
Здесь он хранил также те монеты, что привез из Рима: на них можно было разглядеть Минерву, опершуюся на копье; полустертые лица императоров; коней и колесницы; триремы. Библиотеку украшало несколько бронзовых статуэток, поднятых рыбаками с песчаного дна Шельды — бедные боги запутались в донной сети и лежали вниз головой среди пойманных рыб и ила. Здесь же помещался каменный межевой столб с грубо обозначенными контурами кошелька, посоха, крылатой шапочки и лица Меркурия; эта физиономия отдаленно напоминала черты самого Брейгеля — в фундаменте его дома истукан и был найден. Других Меркуриев — бронзовых, застывших в разных позах, — привезли из Велсеке, фламандского поселения близ Ауденарде, расположенного, как полагали многие ученые мужи, на территории древнего города Белгис.
В центре библиотеки Брейгель поставил глобус, который сам сконструировал и расписал, еще когда жил в Антверпене и посещал мастерскую Географа, — просто потому, что ему нравилась терпеливая работа с красками, а кроме того, он хотел понять и запомнить, как устроен мир; в то время он едва успел выйти из детского возраста и Питер ван Эльст оставлял ему много свободного времени, не требуя никакого отчета за долгие дневные часы. Пока маленький Питер мастерил эту сферу, Географ рассказывал ему о форме Земли и очертаниях материков, о старых и новых торговых путях. Мальчик часто приходил в красный кирпичный дом Географа, расположенный неподалеку от гавани. Обычно он сворачивал к этому дому, когда возвращался из порта или с загородной прогулки, еще ощущая на лице ветер полей или морских просторов. И вдруг наступала тишина. Тяжелая входная дверь на кессонах закрывалась, отгораживая его от улицы, и он ступал на толстый ковер — на персидский шерстяной луг. Здесь было место ученых занятий. Тишины. Зеленоватого света. Ты будто попадал в неподвижный центр мировой карусели. Географ одевался на старинный манер: в длинное платье зеленого бархата, с отделкой из меха горностая или рыжего шелка. Ты обитал как бы на дне колодезного сруба — в окружении книжных шкафов и приставных лестниц из меди и дерева, напоминавших корабельные снасти. Ступени вели на верхний этаж — в башенку. Там помещалась зрительная труба. Достаточно было повернуть ее, поднять, опустить — и ты узнавал о мире что-то новое. Можно было увидеть порт, а вдали — море с его кораблями, почти выпитыми светом. Ты видел матросов, работающих с парусами; они и не подозревали, что кто-то из такой дали смотрит на них. Тебе же казалось, что ты держишь их на ладони. Ты видел людей, беседующих на пристани, торговые лавки, бочки, чей-то берет с пером, большой задумчивый силуэт подъемного крана, похожий на кузнечика. А в другом конце города, близ земляного вала — женщину, которая поливала красные цветы на своем балконе. Она думала, что сейчас рядом с ней никого нет. Ты же видел ее жизнь так отчетливо, будто прочитал о ней в книжке. Трубу можно было направить и на луну, которая тогда внезапно приближалась и принимала вид каменистой равнины. Можно было рассматривать небо. И звезды, эти неведомые страны. Хозяин дома вносил в свои таблицы отметки о фазах луны и другие знаки. У тебя же начинала кружиться голова, когда ты грезил в этой обсерватории-колодце, сообщавшейся с мировыми безднами. Внизу, в мастерской Географа, на больших столах, обитых зеленой кожей с медными накладками, лежали карты и книги. Весь мир отражался в этой мастерской — как сад отражается в медном шаре, украшающем перила парадной лестницы.
Если подняться до середины лестницы, что ведет в библиотеку Брейгеля, то увидишь узкую дверь жилой комнаты. Здесь начиналась приватная часть дома, можно сказать, отдельный маленький дом, спрятанный в сердцевине большого. Когда Мария появлялась на лестничной площадке, одетая в золотое (золотисто-желтое) или голубое платье, — а Брейгель в этот момент задумчиво рассматривал глобус или выбирал на полке книжку, — он вновь видел ее юной Сивиллой, спускающейся по ступеням антверпенского палаццо.
В жилой комнате было много вместительных сундуков, наполненных одеждой и тканями, на кроватях — стеганые одеяла, на окнах — широкие тяжелые занавеси; деревянные потолочные балки и каминная доска натирались воском. К этой комнате примыкали две другие, меньшие по размеру, — детские. Через окно можно было увидеть сад, несколько соседних крыш, вдалеке — панораму города и часть сельской округи. А еще — калитку в глубине сада, в стене из бурого кирпича, и ручей под ивами.
«Триумф Смерти» сейчас находится в Мадриде, «Падение ангелов» — в Брюсселе, «Безумная Грета»
Вот они — на чердаке, который Брейгель превратил в свою мастерскую, — эти три картины. Я вижу, как они сияют в ночи. Мы никогда не постигнем — особенно если речь идет о таких шедеврах, — что происходит в тот период времени, когда они еще не ведомы никому, кроме самого художника. Когда в постели, бессонной ночью, он думает о них. Когда в темноте до него доходит их сияние — через все стены, перегородки, дощатый настил пола. Едва забрезжит день, на розовато-серой заре, он идет посмотреть на них еще раз. Этот визит художника к творению, из-за которого он не спал всю ночь, и есть его утренняя молитва. Порой Брейгель поднимается и среди ночи, когда его молодая жена еще спит; бесшумно, не зажигая света, он преодолевает несколько ступеней, ведущих в мастерскую, чтобы взглянуть на картину. Мне кажется, будто я тоже вхожу, пересекая полосы теней и лунного света, на этот чердак, где Брейгель, со свечой в руке, приближается к своим снам, запечатленным на деревянных досках, и очень внимательно их рассматривает. Они были здесь в те давнишние ночи — эти три картины, — их разделяло совсем небольшое пространство. Сегодня они сияют в трех разных музеях. Но как они сияли тогда — все вместе — теми брюссельскими ночами, в доме на Верхней улице!
Увидев их вместе хотя бы мысленно, мы сильнее ощутим их мощь и их тайну, их самоочевидность. Этих трех великих сцен вполне достаточно, чтобы мастер — даже если бы он не написал ничего, кроме них, — обрел славу. Сцены — вот определение, которое более всего им соответствует. Эти три огромные картины одинакового формата суть не что иное, как три театральные сцены, три акта Драмы. И изображают они три битвы. Первая битва разыгрывается на небе, как описано в Откровении Иоанна Богослова: это битва архангела Михаила и его ангельского воинства с полчищем Дракона. Вторую битву, пожалуй, правильнее было бы назвать агонией мира: Смерть одолевает живых, и происходит это на земле. Третья битва бушует под землей: это бурлескная битва, но место ее действия — ад. Как далеки эти сцены от «Детских игр» и «Пословиц», даже от «Битвы Поста и Масленицы»! Будто в душе Брейгеля отворилась дверь, распахнулись окна, чтобы впустить в эту горницу ветер сновидений и истины, ветер иного мира. Будто он поднялся на чердак собственного разума, спустился по скользкой лестнице в погреба и пещеры подсознания и открыл в своем доме то окно, из которого видно поле битвы со Смертью, болота гниющих тел, снежные сугробы костей. Создавая эти картины, он опирался на воображение: он их видел. В данном случае речь шла о чем-то ином, нежели обычный труд живописца. Сейчас эти три большие картины разделены в пространстве и настолько хорошо всем известны, что посетители музеев едва ли вообще их замечают; но для тех, кто их видел вместе, на чердаке, они были не столько картинами, сколько откровением. Когда Брейгель приподнимал свечу, онемевший посетитель, оказавшись между тремя живописными полотнами, чувствовал себя так же, как Данте, которого Вергилий привел на перекресток трех миров.
Все время, пока он обдумывал и создавал эти композиции, Брейгель ощущал на своем плече тепло и силу родительской руки Иеронима Босха и — за спиной — его любящий взгляд. Брейгель понимал Босха, понимал, что скрывается за его молчанием и его взглядами, и в тишине улавливал его совет, впитывал его энергию, вдохновлялся его присутствием; иногда этот безмолвный разговор двух сердец выливался в конкретные слова. Молодой художник обращался к старому мастеру, которого воображал своим отцом, как можно обратиться к ангелу-хранителю. Босх находился рядом с ним в мастерской — Брейгель почти видел его, как видят живого человека, осязаемого друга. Бывало и так, что старый мастер исчезал — на часы, дни, недели. Куда он уходил? По каким небесным дорогам, по каким изумрудно-росным лугам странствовал, вознося молитвы Всевышнему? Или он опускал свою горячую сильную руку на какое-то другое, еще хрупкое плечо? Тогда Брейгелю приходилось думать в одиночестве. Он привыкал к мысли, что должен решать все сам, полагаться только на свой труд. Работа продвигалась. А потом, внезапно, он снова ощущал это тепло на своем плече, и этот взгляд — отцовский, братский — снова устремлялся на большую картину, образы которой постепенно обретали форму и жизнь.
Никто не может идти по пути живописи или поэзии без того, чтобы учитель или отец шел впереди, вел его — до места, откуда дальше придется идти одному. Не всегда такой учитель появляется с самых первых лет овладения ремеслом. Питер Кукке и Иероним Кок, несомненно, были живыми учителями Брейгеля, его патронами. Босх же был его внутренним, сокровенным учителем. Он стал таковым не раньше, чем Брейгель вернулся из Италии и, отказавшись от искушения (но было ли оно вообще?) сделать карьеру в Венеции или Риме, как это удалось Иоанну Булонскому, совершил вместе с Франкертом из Нюрнберга путешествие по своей собственной стране, в результате которого открыл для себя Фландрию — одновременно как незнакомую землю и как свою родину. Он был бы горд, если бы родился итальянцем, а пересекая Альпы, понял, что вполне мог бы ощущать себя и горцем, а не только жителем равнины или морского побережья. Но он чувствовал себя сыном этой земли. Чувствовал, что принадлежит к той ветви человеческого рода, которая населяла и будет населять пространство между Маасом и Рейном. Он путешествовал по Фландрии и Голландии с тем же любопытством, которое в Умбрии, Тоскане, Апулии, Венеции и Палермо побуждало его подмечать всё: как люди говорят и одеваются, как они едят, как строят дома, как возделыванием земли добывают себе пропитание, — сам дух, формирующий народ и не сводимый к тому, что можно увидеть или описать словами; и однако же здесь он был у себя дома. Он вновь обретал свое детство и его далекие истоки. Он ощущал глубинную связь между собой и Яном ван Рёйсбруком, нашим святым Иоанном из леса Соань. Однажды — без спешки, но не без нетерпения — он отправился пешком в Хертогенбос,[62] «Герцогский лес»; и первый же человек в этом маленьком городке, который налил ему вина, хозяин постоялого двора на центральной площади, звался ван Акен.[63] А через открытое окно гостиницы Брейгель увидал то самое небо, на котором Иероним прозревал своего невозмутимого святого Антония, летящего в окружении зубастых рыб.[64]
Прямо перед собой мы видим низвержение чудовищ. Они падают с неба и подобны страшным морским рыбам: у них уродливые зубастые пасти, дряблые и бледные брюхатые тела. Как могли они так быстро — со скоростью молнии — утратить свои светоносные лики, свой небесный облик и скрыться под отвратительными личинами миног, превратиться в жаб и ужей, в крабов и глубоководных монстров? Один из них в своем падении и вырождении умудрился сохранить при себе превосходную теорбу[65] (по звучанию напоминающую большую виолончель), на которой прежде играл пред Всевышним и из которой теперь будет извлекать скрипучие звуки в каком-нибудь отвратительном грязном пруду. Они переворачиваются брюхом вверх, как дохлые акулы. Они терпят крушение и неминуемо должны низринуться в зловещее болото. Они суть не что иное, как мешки, набитые внутренностями; их утробы трещат и взрываются подобно гранатам — и оказываются полными глистных яиц, зародышей демонов. Но они переворачиваются брюхом вверх! Опускаются! Идут ко дну! Их неотвратимо гонят вниз сила и белизна верных ангелов! Они падают, как бочки с помоями, как гнилой виноград, который сейчас будет раздавлен прессом небытия. Они большие; они — тучные, непристойные — совсем рядом с нами; но они падают. Это гигантский гротескный резервуар с нечистотами, который опрокинулся — и его содержимое выливается. Им не за что ухватиться, чтобы затормозить падение, — разве что за тех, кто тоже падает вниз. Какие преступления могли они совершить, чем заслужили такую участь? Наверху — край светового колодца. Там — солнце; там — обитель Божией славы. Сохранят ли они в своем изгнании память и жгучее сожаление о ней? Скользя вниз, они издают квакающие звуки. Пищат. Они уже слишком далеки от Божественного света. Они низвергаются в область теней и хлада. Соскальзывают в пространство обжигающего льда. Ангелы, которые их преследуют и гонят, — сама молодость и грация. Они — почти дети, певчие отроки, которые лишь на миг удалились от Бога ради этой воинской службы, этого рыцарского подвига, этого необходимого очистительного труда. Они облачены в длинные белые одеяния, и мечи их — не столько оружие, сколько хворостины, ибо весят не больше светового луча. Действительно, чтобы победить это сборище тварей, нужны не сила мускулов, не прочные доспехи, не металлические орудия убийства — но свет, послушание, сила Духа. Ангелы подобны чистейшей весне, парящей над всем этим гниением. Они — снег, и они же — таяние снегов. Они летают поверх кишения гнусных тел, будто танцуют; они изящны и благоуханны, как раскачивающиеся кадила. И мы их узнаем: это, конечно, ангелы рая — но одновременно и ангелы ван Эйка,[66] ангелы Брюгге, ангелы древней и святой Фландрии; духовные братья прозрачных далей Фландрии, Фландрии лебедей и зеркал, белых чепцов, чистых взглядов, сияющей нежности. Некоторые из них дуют в легкие, изогнутые, тонкие трубы. Само их дыхание становится воинским кличем и кличем торжества: подобно тому, как Иерихон некогда пал от трубных гласов, нечестивые полчища тоже падут от сих кличей — и воссияет Новый Иерусалим! Среди ангелов, будто в окружении своих оруженосцев, рыцарь-архангел святой Михаил, их князь, сверкая золотыми доспехами и обратив в сторону бездны круглый щит с красным крестом, сражается супротив корня всего зла — Змия, или семиглавого Дракона.
Мы видим черную стрекозу и каких-то тварей близ адской башни, пламенеющей посреди «Триумфа Смерти». Та же стрекоза в «Падении ангелов» уворачивалась от ударов архангела Михаила. Однако те, кто на этой — второй — картине хватает нас, отрывая от нашей жизни и нашего смеха, от наших дел, вовсе не демоны. Они — ухмыляющиеся высохшие скелеты с движениями автоматов. Нас хватают и преследуют мертвецы — целая армия мертвецов. Они вторглись на нашу территорию, как вражеское войско. Объединившись в когорты и лязгая своими костями, они берут приступом городские укрепления — и что бы мы ни делали, их невозможно убить! Они плавают по нашим рекам, ходят по нашим дорогам, живут в наших домах, спят под нашими простынями. Вот в этом шкафу, который я сейчас открываю, расположился целый батальон мертвецов. Если я захочу преклонить колени на скамеечку бедняков у входа в церковь, дрожа всем моим бедным телом, они освободят мне место, а потом притиснут и утопят в чаше со святой водой — и пришлют за мной катафалк. Этот колокол — кто в него звонит с такой яростью? Скелет-ризничий, возвещающий, что город взят. Мой собственный конь, конь из моей конюшни, превратился в скелет коня — и несет меня в гущу мертвецов! Я вижу солдатские шлемы, края шлемов, но под ними — пустые кувшины черепов, ухмылки выжившей из ума нежити!
А кто эта рослая одуревшая баба, которая большими солдатскими шагами шествует по аду?[67] На голове у нее вместо каски железный котелок, и меч она выставила вперед, как будто это пика или вертел; в ее грязно-белом фартуке увязана целая батарея кухонной утвари; грудь прикрыта самодельной кирасой, судя по цвету — из обломка глиняного кувшина; она держит корзину с провизией, из которой торчит сковорода, и локтем прижимает к себе тяжелый ларец, наполненный монетами или жемчугом; на левую руку она напялила латную рукавицу. За ее спиной банда деревенских мегер подвергает разграблению ад (или то, что очень его напоминает); выглядят они так, будто сейчас отправятся с корзинами и тюками на рынок. Они колоритны, как жительницы городских предместий, как персонажи пословиц. Они пышут здоровьем и пребывают в превосходном расположении духа — несмотря на то, что эта сцена разыгрывается в аду, залита страшным багровым светом, а вокруг простираются какие-то болота, в которых плещутся самые разнообразные монстры. Взбудораженные женщины толпятся на маленьком мосту, размахивают руками, отбиваясь от демонов; они рвутся к некоему дому, из которого собираются вынести все имущество, — как те наемники, что, вступая во вражескую или даже дружественную деревню, пинком распахивают двери чужих жилищ. Они мародерствуют с таким увлечением, с каким другие женщины занимаются предпасхальной уборкой. Странный персонаж в коротком одеянии оседлал крышу дома, который они грабят, и вычерпывает половником содержимое разбитого яйца, выступающего из его задницы. Золото вперемежку с дерьмом сыплется на головы мегер. Крыша уже горит, и через пролом в соломенном покрытии видно, как кто-то внутри дома размахивает котлом. Персонаж с половником не только выскребает свою яичную скорлупу, но одновременно держит на плече лодку, внутри которой помещается стеклянный шар, а в нем, в свою очередь, — несколько человечков, что-то делающих около стола с большой жареной курицей. К поясу персонажа, сидящего на крыше, прикреплен на длинной шлейке кошелек, который свешивается почти до земли — и самая бойкая бабенка в нем роется. Маленькое войско сельских эриний ничуть не беспокоится по поводу происходящих рядом зловещих нелепиц. Эти прачки на берегу Стикса не видят ничего, кроме своих вальков. Они не удивились, обнаружив в аду дома, во всем подобные их собственным, привычные пейзажи и заурядную площадь. А может, ад находится здесь, на земле? Это зарево пожара в небе, эти пылающие стога, этот шабаш перепившихся дурным вином баб, эти кошмарные порождения горячечных видений, действительно ли все это — атрибуты Тартара, а не, скажем, нашей сельской округи? Там и тут над руинами и проломами в стенах, над коньками крыш домов Вельзевула развеваются флаги. Что они могут нам сообщить? Ничего ясного, ничего хорошего. Это дурная страна, в ней располагаются казармы и флоты того, чье имя — Легион. Хрюкает и лает колокол, укрепленный в развилке дерева. За деревом виднеется башня, оборудованная колесами и системой зубчатых передач. Здесь также имеются в изобилии: яйца; клетки, в которых бегают по кругу мыши; белые яйца, вставленные в яйца черные; яйца величиной с корзину и яйца величиной с дом; котелки и кувшины. Патрульные в латах проходят под аркадами моста. Какие-то абсурдного вида существа пролетают в пламенеющем небе над этим миром. Из пасти рыбы торчит чья-то тощая нога — я слышу вопли проглоченного, который задыхается в утробе миниатюрного Левиафана; несчастный кричит о том, как смердит проклятая рыба, — и, быть может, в ее черном нутре уже различает нелепый адский пейзаж, во всем подобный тому, в котором на наших глазах дергается его нога, похожая на взывающую о помощи руку человека, потерпевшего кораблекрушение в волнах жизни. Другие крики (или, скорее, военная песня) доносятся со стороны круглого водоема в освещенной багровым заревом деревне: там под мостом сбились в кучку жандармы — в высоких сапогах, шлемах, вооруженные копьями. Жизнь в аду идет своим чередом. Сидя на кочке посреди жалкого красного болотца, обнаженные, окоченевшие мужчина и женщина созерцают обступившее их царство беды. Это Адам… Адам и Ева.
Тот, кто до конца познал падение, уже ступил на путь возвращения, возрождения. Пока Брейгель писал — в Антверпене или Брюсселе — этот триптих (который ныне существует в виде разрозненных частей), он спускался в ад. Спускался по дороге кошмара в глубины собственного сердца, клубящиеся вихрями безумия. Он действительно жил — в своем духе — под землей, в тех местах, где бродит Мегера, издевательское олицетворение нас самих. Жил в том Вавилоне с его пещерами и пропастями, который есть наше собственное потаенное естество. Видел, как шествует, подобно хищному зверю, царица Вавилона: жадная до любых мирских побрякушек; пылающая страстью к безудержному накопительству — не только вещей, но и мыслей, и знаний; стремящаяся использовать к своей выгоде всё и всех — даже ангелов, которые иногда нас навещают; желающая владеть всем имуществом и властвовать над всеми жизнями. Перед ним раскрывалось человеческое сердце — беспредельное и голое, как пустыня. Он рисовал, работал и казался жителям своего города ничем не примечательным человеком; а между тем он спускался — как это бывает во сне — к самым глубинам, сокровенным тайникам, корням наших сердец. Его обдувал ветер ада. Он с трудом выбирался из трясины болот. Наблюдал, как черное солнце восходит на задымленном пожарами небе. Он спускался, как спускаются во сне, но дух свой сохранял бодрствующим — ведь ясное сознание было, если можно так выразиться, его фонарем, необходимым, чтобы все видеть и понимать. Он знал, как смеется обнаглевшее и нелепое в своей наглости «я». Он взглядом специалиста оценивал архитектурные достоинства кошмаров и измерял контуры горячечных видений. Его взгляд проникал в утробу земли, и он видел коней Смерти. Однако он нашел в себе силы поднять глаза выше мрачных гор — и узрел битву ангелов в небесах. Он узрел сияние вечного света — как напоминание об иной жизни и как обетование грядущего возврата к ней. И тогда он решил упорно пробиваться наверх, к свету.
Писать этот триптих, то есть спускаться в глубины собственного сознания, в адские подземелья, океанические бездны и пропасти, где обитает тот Левиафан, чья смердящая туша плещется в потаенных закоулках наших сердец; спуститься и пережить потрясающую судьбу Ионы, чтобы потом начать восхождение, пересечь самые мрачные равнины жизни, брести по кровавым лужам среди скелетов, испытать чувство, что все на свете тщетно, ибо в конечном итоге все возвращается во прах, — сие было для Брейгеля искушением, вполне сопоставимым с теми, что выпадали на долю многих отшельников, начиная со святого Антония Египетского. Когда он работал для Кока, ему нравилось составлять композиции на тему карнавала грехов, порочности мира: он уже тогда рисовал вереницы танцующих кувшинов; рыб, гонимых порывами ветра, — огромных, как бочки, рыб, в чьих лопнувших утробах, словно в погребках, сдвигают свои бокалы мордатые пьяницы; яйца величиной с корабль, откуда выходят целые отряды солдат с развевающимися знаменами; лягушек, разряженных, как девки в борделе; надутых жаб в папских тиарах; дебоширящих монстров в пещерах; покрытые плесенью восточные дворцы; непотребного вида акробатов; коров, играющих на арфах, с черепами вместо голов; беспорядочную сутолоку шабашей; постоялые дворы, устроенные в дуплах деревьев; жареных кур; стрекоз, слетающихся к месту пожара; уродливых воинов Вельзевула; тучи мух, которые тоже служат Князю Тьмы; какофонию негодных барабанов и волынок, разлаженных струнных инструментов; даже запахи, которые мы угадываем, глядя на завихрения дыма над горящими деревнями и биваками, — словом, он рисовал все те образы, которыми ад пытается соблазнять непоколебимых аскетов. А потом он сам стал отшельником и уже в другом — серьезном, строгом — стиле изобразил коленопреклоненного старца, громким голосом читающего Книгу, чтобы заглушить звон безумных колоколов и заразные, как чума, нашептывания Зла; может быть, старец читает не вслух, а про себя, но и в этом случае его внутренний голос настолько глубок, что воздушные пузыри искаженного, греховного мира лопаются при каждом произнесении нового стиха, даже слога. Брейгель сам ощущал себя этим старцем, нашедшим прибежище под деревом, — и с особо благоговейным чувством нарисовал нимб вокруг головы мудреца, сумевшего освободиться от всех соблазнов мира. Он, Брейгель, хорошо знал, что такое искушения, о которых рассказывается в книгах и которые запечатлены на картинах. Для него лично тяжелее всего было увидеть смерть и осознать тщету жизни. И тот череп на пне, в который святой Антоний смотрелся как в зеркало, превратился для художника в огромную армию ухмыляющихся скелетов, в мерзкий фарс
Но разве мог ощущать себя отшельником человек, только что женившийся на прелестной молодой женщине и писавший картины в уютной мастерской, расположенной, как казалось, вровень с небом, — в мастерской, за окном которой падал ноябрьский снег?
Сердце — это всегда пустыня, в которой нас пытаются соблазнить или устрашить разные монстры. И монстры в солдатских касках или папских митрах смущают наш дух ничуть не меньше, нежели те, что являлись в видениях отшельникам Египта. Сумею ли я уберечь мое сердце в этих бурях — не уступить врагу, не ослабнуть в борьбе, не стать предателем или богохульником? Брейгель рисует Терпение, Святую Пациенцию. Она сидит на прямоугольном камне, подняв глаза к небу, и молится среди гонимых ураганом темных туч, среди обступивших ее возбужденных чудовищ. Некое существо, по виду похожее на дуплистое дерево, но в кардинальском облачении, скачет верхом на яичной скорлупе, из которой высовывается голова, извергающая дым и пламя. Куда же они держат путь — они, Пустота и Смерть? Над миром опускается ночь. Ночь проникает в сердца. Сова уселась на другом, сухом и искривленном дереве, в ветвях которого уже устроили себе гнездышко блудницы. Да разве может быть зримая Церковь чем-то иным, нежели этот насквозь прогнивший кардинал, скачущий верхом на усыпальнице из белой яичной скорлупы? Истинная Церковь внутри нас. Да поможет нам оставаться верными этой Церкви Святая Пациенция — сила терпения в страданиях, надежды, веры в Свет. Она сидит в ночи, кишащей чудовищами, — но новорожденное солнце вот-вот взойдет из-за кромки моря. Заря на другом конце мира готовится к встрече с нами, и уже первые ее лучи принесут облегчение.
Он много работает. Со времени переезда в Брюссель работает больше, чем когда-либо прежде. Рано встает. Иногда поднимается и ночью, чтобы почитать, подумать, помечтать перед едва начатой картиной. Чтобы что-то нарисовать или чуть заметно прочертить — углем, мелом, серебряным карандашом или кистью — опорные линии, намечающие основные элементы картины. Охряные следы кисти почти невидимы, а следы мела или угля настолько легки, что могут исчезнуть от одного дуновения: когда начнется работа живописца, они полностью скроются под красочным слоем. Впрочем, он рисует и пишет одновременно, не фиксируя в своем сознании переходы от рисунка к живописи. Ему совершенно не нужен предварительный проработанный во всех деталях рисунок. Он рисует на самой доске — как на листе бумаги. Ему нравится этот гигантский эстамп, занимающий все пространство будущей картины. Нравится, как выглядят на нем черно-белые пейзажи и человеческие фигуры. Он ждет первых красочных мазков с таким нетерпением, как ждал бы рассвета в лесной чаще, где уже поют не до конца проснувшиеся птицы, — или как ждал бы его на холме, куда вот-вот должны подняться жнецы с серпами за поясом. В серых и черных штрихах эскиза он уже видит многоцветье живописи. Ему нравятся эти потенциальные картины, которые позже уступят место другим, исчезнут — и даже сейчас понятны только самому художнику. Образы Вавилонской башни или горной дороги к Дамаску поначалу были хрупкими, как крылья бабочки, и изменчивыми, как облака. Но разве и сам Вавилон не есть лишь огромное облако в человеческом сознании — или даже легчайшая тень облака?
Работа поглощает все его время. Может, он уже почувствовал, что жизнь коротка, что нельзя ни на миг упускать из виду сокровенные движения своего сердца, что следует торопиться. Он поднимается среди ночи, как монах, — но он вовсе не монах, он не ведет затворническую и полную лишений жизнь аскета. Просто знает, что не должен забывать, даже когда болтает о пустяках, картину, над которой работает. Он не отгораживается — ни в сердце своем, ни в душе — от окружающего мира. Он редко принимает приглашения в гости, но отдаляться от друзей не хочет. Франкерт, Ортелий — с ними он всегда готов встретиться. Человек не может жить без дружбы, без доброжелательного взгляда некоторых своих коллег. Брейгель не отказывается и от новых знакомств — когда представляется такая возможность. Он, как юноша, влюблен в свою жену. Подолгу беседует с ней и считает их отношения самой драгоценной из дружб. Он, уже немолодой человек, поверяет свои мысли той, что едва перешагнула за порог девичества — настолько он очарован ее мудрым отношением к жизни. Иногда он рассказывает ей о своих приступах печали, иногда — о своих наблюдениях, предчувствиях. Какую прекрасную книгу мы бы имели, если бы Майекен оставила воспоминания о муже!
К дому пристроили обеденную залу и переделали ряд других помещений. Наверху появились высокие и глубокие камины, широкие длинные столы с резными ножками в форме львиных лап, изумрудные витражи на окнах со сценами из жизни святого Роха и святого Мартина (и этот добрый знак никогда не обманывал нищих, которые стучали в дверь, чтобы попросить миску горячего супа, буханку хлеба, а порой, когда выпадал первый снег, и какую-нибудь теплую одежонку в дополнение к своим лохмотьям). Стены обили рыжеватой с золотым тиснением кожей, произведенной в мастерских Мехельна. Комнаты украсили несколькими шпалерами работы Питера ван Эльста: они изображали встречу Одиссея с его кормилицей; гусыню Филемона и Бавкиды, которая пытается забраться на колени к Юпитеру и Меркурию;[68] Энея, утешающего того спутника Одиссея, что был оставлен на Сицилии.[69] Через цветные стекла, как через струи дождя, остановленные силой магии, было видно улицу и людей, которые, попадая в обрамление свинцовых переплетов, сами становились персонажами витража. Брейгель любил тот особый нежный оттенок, который придавали свету эти цветные квадратики: все казалось близким, но в то же время несколько отдаленным, как во сне, и более безмятежным; даже голоса смягчались; жизнь приобретала бархатистый налет, подобно старой картине. С улицы доносился скрип ручных тележек; подковы лошадей цокали по мостовой; иногда проезжал мимо конный патруль, раздавались грубые голоса солдат, звякали оружие и сбруя. Порой патрульные останавливались — к чему бы это? За стеклом смутно маячили лошадиные крупы, животные фыркали у угловой каменной тумбы. Людям в комнате чудилось, что недобрый взгляд из-под забрала устремляется прямо на них. Но чужаки понукали лошадей и двигались дальше. Они спускались к воротам Халлепорт, выезжали за город. Окружали какую-нибудь ферму, грубо всех допрашивали — даже детей. Наступал вечер, зажигались фонари, и прохожих становилось все меньше. В доме старались говорить и смеяться тише. Плотно задергивали занавеси, чтобы с улицы нельзя было рассмотреть ничего подозрительного, чтобы дом казался уснувшим, почти пустынным. Дом снимался с якоря и отплывал в ночь. Теперь до утра никто не покинет его светлой палубы. Наступала пора мечтательной задумчивости, серьезных размышлений, дружеских бесед. Размышлений о Фландрии — измученной бурей, измученной войной. О деревнях, где расквартированы чужие солдаты. Об угрозе правительственных репрессий, которая может стать реальностью в любой момент — даже здесь. О туманном Антверпене и хуторах на равнине, светящихся в ночи подобно россыпи угольков.
Когда гостей не было, Питер и Мария трапезничали в просторной кухне. Они с удовольствием ели рядом с плитой, на которой подогревался котелок. И любили смотреть, как в отблесках огня сверкают бело-голубые изразцы стен, кирпичный навощенный пол. Вытяжной колпак и решетка для дров уже успели закоптиться, как будто плита прослужила по меньшей мере век. Кухня сообщалась с обеденной залой, дверь туда никогда не закрывали. На самом видном месте были расставлены котелки и тарелки. Низкорослые деревья из сада царапались в оконное стекло или, когда их сгибал ветер, задевали верхнюю перекладину двери. Сад был совсем маленьким: низкая ограда, шпалерные деревья, калитка во внутренней стене, ручей среди травы, мостик из старых досок и кирпича. Но этот сад-огород существовал в обрамлении небольшого поля, других домов, спуска, чужого фруктового сада, деревьев, изящество и высота которых в сочетании с зеленью далеких садов и красной черепицей крыш производили удивительное впечатление. И еще здесь водились самые разные птицы — от жаворонка до совы и соловья; они жили своей жизнью, отличной от жизни людей, и все еще посверкивали росой Эдема, хотя здешняя реальность и вынудила их обзавестись крепкими клювами.
Иногда к концу дня приходили друзья. В такие вечера Брейгель не писал маслом, не рисовал, не читал. Он устраивал себе праздник дружбы. Хорошо было ощущать духовную близость с собравшимися, сидеть за столом, накрытым белой скатертью, при свете свечей и в отблесках камина, где потрескивали поленья. История не сохранила для нас имена тех, кто в тот брюссельский период время от времени разделял жизнь Питера и Марии. Может быть, их навещали соседи. Наверняка в доме бывали художники, собратья по профессии, а также старые антверпенские друзья — Иероним Кок, Ортелий — и заезжие итальянцы. Иногда Брейгель приглашал гостей наверх, в свою мастерскую, а иногда — нет. В доме Брейгеля нередко музицировали. Играли, например, мелодии Орландо Лассо или пели «Над рынками Арраса». Здесь любили также старинные песни, которые можно услышать в деревнях. «Я бы хотел, — говорил Брейгель, — создавать живописные образы столь же выпуклые и простодушные, как те, что встречаются в наших старых песнях, которые поются на Сретение и Рождество, в день Богоявления и под майским деревом. Ребенком я любил исполнять их под звуки трещотки, когда в пасхальное утро мы ходили с крашеными яичками от двери к двери и христосовались с односельчанами; я и сегодня получаю от них огромное удовольствие. Дело не только в том, что, слушая их, я вновь вспоминаю детство, покрытую инеем траву, луг, как бы присыпанный сахарным песком, облачка пара, которые выходят из ноздрей быков и, смешиваясь с туманом, скользят меж ив, над ручьем, над рекой. Главное, я вижу все, о чем в них поется, — вижу в красках. Можно подумать, что эти песни, которые по-фламандски звучат так нежно, придумали пастухи Вифлеема — в ту ночь, когда вернулись в свои жилища, ослепленные обыкновенным на вид младенцем, коего освещал свет иного мира. Но действительно ли сами пастухи придумали эти песни? Скорее, они их услышали из уст ангелов, скрытых от человеческих глаз за снеговой завесой, и, вернувшись домой, сразу же попытались воспроизвести на своих волынках, чтобы никогда более не забыть. Похоже на то, что наши фламандские пастухи — потомки тех, кто тогда охранял отары Палестины». И Брейгель, сообразуясь с календарем, распевал с гостями те песни, которые вскоре вместе с Марией будет петь для своего первенца (у них конечно же родится мальчик, и его, как велит обычай, нарекут Питером). Они пели:
Когда Филипп Марникс ван Синт-Алдегонде пришел к Брейгелю — его привел с собой один из друзей дома, — он пел вместе с остальными. И никто не знал тогда, что однажды он сочинит «Вильгельмус» — песню соратников Вильгельма Молчаливого, гимн либеральных дворян. Придет день, и он станет одной из влиятельных фигур в нидерландском восстании против тирании католиков и испанцев. Будет причислен к лучшим писателям Северных провинций.[74] А сейчас, когда его знакомят с хозяином дома, он — всего лишь молодой человек, которому на вид можно дать лет двадцать пять, не больше. Он родился поблизости от дворца Нассау, в Брюсселе. Он на пять лет младше Вильгельма. Они друзья, а будут братьями по оружию. Прошло уже почти пять лет с тех пор, как Марникс вернулся в Брюссель, закончив обучение в Женевском университете, где изучал теологию у Кальвина. Но он чаще цитирует Рабле, чем Кальвина. Он — из тех дворян, что сражаются за свободу с «Пантагрюэлем»[75] в кармане; его упрекают в том, что он сделал своей религией раблезианство. Но не шутки и каламбуры Рабле более всего его привлекают. Он понимает, что в этих книгах сияет свет Эразма. Он ищет опору в философии Рабле. В данный момент его интересует главным образом проблема образования молодого поколения. И проблема тирании. Как вывести Пикрохоля[76] из того состояния, которое вредоносно для окружающих? Как построить Телемскую обитель?[77] Как следует воспитывать будущего государя?[78] Если бы можно было должным образом воспитать его, подавить в нем тирана, то, придя к власти, он стал бы оплотом против любой тирании. Рабле ответил на эти вопросы своими сказками. Показал, что разум и мудрость лучше всего усваиваются при посредстве смеха, в процессе игры. Его учение необходимо воплотить на практике. Брейгель смотрит на этого молодого человека в жакете[79] из зеленой замши, с волосами до плеч, с нежным лицом, с прекрасными, горящими энтузиазмом глазами. Юноша кажется хрупким, даже слабым; однако чувствуется, что он из тех, кто способен принять геройскую, мученическую смерть. Пришел ли он сюда, чтобы поговорить о Рабле и Пантагрюэле? Захватил ли с собой пятую книгу романа, которая только что вышла в свет?
Как бы то ни было, в тот вечер они не говорили о Рабле. Они говорили о любви, которую христианину подобает испытывать к своим врагам. Все думали об Испании, о том, как она рукой палача сжимает сердце Фландрии, терзает ее плоть. Предчувствовали еще большие жестокости власти, еще худшие бедствия. Как можно удержаться от ненависти к негодяю, который силой врывается в твой дом, судит тебя именем Евангелия, осуждающего всякое насилие, отправляет на костер?
— Заклинаю вас любовью к Христу, — говорит Марникс, — давайте не будем ненавидеть наших врагов! Лучше станем молиться, чтобы наши преследователи духовно преобразились, чтобы их коснулась благодать Божия, чтобы они обратились к истинной вере.
— Но, — возражает Брейгель, — если человек уподобился жестокому зверю, как вы можете думать…
— Кто был более жестоким, чем Павел? Сперва он еще слишком молод, чтобы убивать самому. Он охраняет плащи, пока другие собирают и взвешивают на ладони булыжники величиной с черепа. Охраняет эту груду плащей и мешков, пока маленькая группа самых метких стрелков забрасывает камнями дьякона Стефана…[80]
И тут Брейгель увидел Павла, закутанного в бледно-зеленый плащ, рядом с ворохом красных плащей. Чуть выше по склону — Стефан в бледной (белой) льняной рубахе, по которой расползаются кровавые пятна. На людей эта сцена производит не больше впечатления, чем если бы уличные мальчишки преследовали бегущую вдоль стены собаку, соревнуясь, кто лучше воспользуется рогаткой, — пока не размозжили бы ей голову. Кто-то шагает рядом со своим ослом, придерживая вьюк соломенного цвета. Двое беседуют в тени оливы. Говорят ли они о ценах на масло и сыр? Или хотят обсудить, как общими силами выкопать колодец? Пытаются ли согласовать два противоречивых талмудических высказывания или вспоминают греческих мудрецов? А может, разговор идет просто о дожде, о погоде. Их окружает просторный пейзаж. Небо не разверзается, являя нашим глазам сонмы ангелов, которых так любят изображать итальянские живописцы. Убивают человека — этим все сказано. Убивают, потому что он поклоняется Богу иначе, чем это делает большинство. Стефан молится. Молится, как молился Христос за своих убийц: «Господи! не вмени им греха сего».[81] Помолился ли он и за того молодого человека, который, как он мог заметить, стоит чуть в стороне, возле кучи плащей? У неба ничем не примечательный, будничный вид. Только он, Стефан, видел (когда обращался к безликой стене своих судей), как небеса внезапно приоткрылись и благодать Христова света излилась на группу святотатцев, которые в тот миг бросали последние собранные камни и собирались перевести дух. Вдалеке, в апрельском тумане, высится Голгофа. Брейгель различает на ней колеса и виселицы — такие же, как здесь. Удары колокола отмеряют время брюссельской ночи.
Я представляю себе Йоссе ван Ауденарде таким, каким изображен Босх в Аррасском сборнике, — напоминающим бродягу с картины «Воз с сеном» или роттердамского «Блудного сына». Он одет в рубаху из серого перекрашенного холста, на ногах — голубые гетры. На голове — широкополая шляпа, защищающая от дождя и солнца. Он — бродячий торговец. В зависимости от обстановки, от времени года товары, которые он предлагает, меняются — это могут быть креветки или иголки, но в любом случае что-нибудь легкое: заплечный мешок его не тяготит, а вот ручная тележка стесняла бы его свободу, мешала бы идти, как он любит, напрямки через лесную чащу. Он разносит не только товары, но и слова. Он всегда бывает окружен ребятишками, которые, едва завидят его, бросают свои обручи-серсо, шарики и волчки, чтобы послушать сказки про великанов, узнать о жизни Гавэйна, о четырех сыновьях Аймона или о Женевьеве Брабантской.[82] Иногда он рассказывает и другие истории — для взрослых мужчин и женщин. Это очень смешные, живые рассказы. Сам ли он их придумывает? Или, как он утверждает, говорит лишь о том, что ему довелось увидеть? Или пересказывает истории, которые слышал от заслуживающих доверия очевидцев, прежде всего от собственного деда? Этот дед был куда более удачливым купцом, чем Йоссе, и куда лучшим ходоком: он добирался от Брюгге до Константинополя и от Константинополя до Киева, говорил на всех языках, торговал слоновой костью и ювелирными украшениями; тогда как Йоссе никогда не покидал пределов Провинций — но зато знает Фландрию со всеми ее дорожными ухабами и перелесками как никто другой. О нем болтают, будто он своими глазами видел все, о чем так ярко и убедительно рассказывает. Говорят, он видел первых солдат Цезаря: грязные, озябшие, они толкали лодки и колесницы, которые застревали в снегу, а потом возводили квадратные ограждения из кольев вокруг своих походных палаток. Говорят, он видел чудеса святого Мартина и святого Элигия. Вот он поднимает глаза и смотрит вдаль — а людям кажется, будто он видит все это вновь. В конце концов, так ли уж сильно все изменилось с тех пор? Пласты тумана, плывущие над полями, подобны воспоминаниям и мыслям людей, которые в стародавние времена жили так же, как мы, на этом самом месте. Наверное, уже тогда Йоссе рассказывал им о жизненно важных вещах, о том, что происходит в мире, о деревенских событиях. Даже когда он замолкает, его продолжают слушать: вместе с ним совершают путешествие в страну его молчания. Он — говорящее дерево, у подножия которого всем хорошо. Да и сам он в любой обстановке чувствует себя свободно и уверенно. Стоит ему войти в трактир, за всеми столами люди приподнимаются, зовут его, освобождают ему место. Ему рады и на фермах, и в домах, где он обычно появляется ближе к вечеру. Бывает, он ничего не рассказывает — просто смотрит на огонь. Эти его глаза: переменчивого цвета, чаще всего голубые, как поле цветущего льна, как соцветия льна, а иногда серые, как море под крыльями чаек. Высокий — пожалуй, слишком высокий; худой — очень худой. Похожий одновременно на простолюдина и принца, старик со стариками, ребенок с детьми. Брейгель знал его, еще когда жил в деревне: Йоссе уже тогда был бродячим торговцем — им и остался до сих пор. С того времени он ничуть не изменился. Брейгель часто встречал его на дорогах, когда путешествовал по Фландрии вместе с Фран-кертом, переходя от одной деревни к другой. Потом сталкивался с ним на антверпенском рынке, близ порта. В шутку называл своего знакомца «Гермесом в голубых гетрах». Случалось, просил у него совета и слышал в ответ слово апостола, боговдохновенное слово; или запоминающееся народное присловье, которое произносят не просто так, а всегда по делу, — настолько легкое и краткое, что ты сперва сомневаешься, правильно ли понял, но с годами оно зреет в тебе, являя свою правоту и светоносную силу. Никто этих слов не записывает, но, если их повторить, они звучат с непритязательной убедительностью пословиц. Йоссе, Йоссе ван Ауде-нарде. Его знают все. Он непредсказуем, как облако. Иногда сменяются лето, осень, зима, и никто не может сказать, куда он запропастился. А потом в один прекрасный день Йоссе неожиданно возникает перед вами.
Он заходил к Питеру и Марии — время от времени. Часто шел к дому вдоль садового ручья, по тропке, которой пользуются разве что зайцы да птицы. Устраивался поудобнее, словно вернулся в собственную семью. Брейгель слушал его, как слушал бы голос своего детства — или сообщение об отрезке пути, который ему еще только предстоит преодолеть. Слышал из его уст слова самой Фландрии, овеянные дыханием Ветхого и Нового Завета. Йоссе приносил с собой не только сказки, не только простые житейские советы или побасенки из повседневной жизни — он рассказывал также о страданиях и бедах народа. Он говорил о том, что сам видел. Например, так: «Я знал эту женщину, она всегда с мужеством переносила житейские невзгоды, была хорошей католичкой и истинной христианкой, а они пришли в деревню и отправили ее на костер. Другая крестьянка попробовала за нее заступиться — так ту вообще закопали в землю живьем».
Однажды Хуго ван дер Гус постучался в ворота Красного монастыря. До этого он пересек весь шумный Брюссель, порядочный участок леса Соань и вот теперь стоит перед монастырской стеной, построенной из скрепленной цементом битой черепицы; он отпустил поводья, и его конь воспользовался моментом, чтобы полакомиться корой липы (а может, он добирался сюда пешком, как нищий, — зачем было седлать коня, если животное ему больше не понадобится?); он стучит в обитые гвоздями ворота, которые осеняет большой кованый крест — благословение для путников, бродяг, монахов; он пришел просить убежища. Этот жалкий проситель — знаменитый художник, известный своим высокомерием. Вот уже два года он является старшиной гентской корпорации живописцев: строго и неподкупно судит своих собратьев, наказывает их за мошенничество, за непозволительные слабости. Сегодня — как долго не открывают ворота! — он будет умолять, чтобы его приняли в качестве послушника в общину регулярных каноников[83] святого Августина из Красного монастыря; он надеется, что Николас, его сводный брат, пожертвовавший свое имущество здешним монахам и живущий при монастыре, будет за него ходатайствовать. Но все равно, несмотря на свои надежды и планы, Хуго имеет вид человека, начисто утратившего присутствие духа. В том ли дело, что прошлогодний мятеж в Артевелде, трупы на улицах города, многочисленные жестокости, которые творились у него на глазах, навсегда отравили его сознание страхом? Или в том, что ему не удалось жениться на Элизабет Вейтенс? Он написал для ее отца картину «Давид и Авигея», которую повесили над камином; когда он попросил руки Элизабет, отец девушки сжег его творение. Ворота наконец открываются, его встречают, подводят к огню, он плачет у высокого камина, кается в своей гордыне, дрожит, как ребенок. Кричит, что демоны харкают слюной на его картины, ломают его кисти и чашечки для разведения красок. Новиций из Турнэ, который вступил в Орден в 1475 году, назначается ему опекуном на период испытательного срока. Этому человеку поручено вести хронику аббатства. Несчастливая жизнь Хуго будет описана на ее страницах.
Поначалу он живет в монастыре тихо. Носит серую рясу до колен. Пишет иконы. Ходит на службы. Все кругом нежно заботятся о нем. Он рисует в просторной келье, которую ему предоставили. Братья умиляются, проходя мимо ее открытого окна. Но они бы очень удивились, если бы встретили его взгляд, увидали, с каким лицом он работает. Он порой застывает в неподвижности, и слезы скатываются по его щекам, по жесткой бороде. Он тяжело вздыхает, а по ночам плачет. Вздыхает потому, что не может писать так, как хотел бы, что его рука слишком тяжела, что холод сковывает его движения, вызывает судороги. Тем не менее он пишет. Пишет «Поклонение царей-волхвов», «Мадонну с младенцем», «Снятие с креста». Пишет «Успение Богоматери», картину, на которую братья не могут смотреть без чувства тревоги, потому что ее краски — это краски бури, пшеничного поля при блеске молний, а синий цвет покрова Мадонны вообще воспринимается как крик о помощи, как разверстая рана. Иногда художник надолго затворяется в полутемной мастерской, а иногда выходит погулять среди цветов и зонтичных растений монастырского сада — или бродит по лугу, вдоль ручья, поросшего нарциссами. Он принимает посетителей. Магистрат Лувена в самой любезной форме приглашает его для консультации по поводу нескольких картин, которые Дирк Баутс по каким-то причинам не смог закончить. Он соглашается, на время покидает лес Соань, и город Лувен устраивает в его честь роскошный банкет (в гостинице «Ангелы»). Думает ли он, что уже исцелился и может позволить себе небольшое путешествие? Сопровождаемый своим сводным братом Николасом и Питером Ромбутсом, каноником из монастыря Престола Богоматери в Гроббендонке, он отправляется в Кёльн. В хронике не сказано, намеревался ли он выполнить в Германии какой-то заказ или просто хотел посмотреть работы других живописцев и тамошние леса. Но сообщается, что на возвратном пути Хуго повредился в рассудке. Ехал ли он верхом (теперь это стоило ему больших усилий), останавливался ли в гостиницах, где его пугал вид горящего очага, шел ли пешком по дорогам под шквальными порывами ветра, оглушаемый криками воронов, трясся ли в скрипучих телегах — повсюду он не переставал повторять, что проклят и осужден на вечные муки, как бы ни старался избежать своей участи. Он бы нанес себе страшные раны и увечья, если бы спутники не воспрепятствовали этому. Напрасно они пытались напомнить ему о тех радостях, которые он познал в монастыре, и о посмертном блаженстве, которое уготовил себе, когда работал в мастерской, окруженный благожелательным вниманием всех братьев по Ордену. Его внезапная болезнь омрачила конец путешествия глубокой грустью. Между тем они прибыли в Брюссель, но Хуго не узнал города. Увидав же ограду своего монастыря, он принялся так кричать, как будто пред ним разверзлись раскаленные врата преисподней. Художника уложили в постель и, дав ему выпить успокоительного отвара из липы и мака, вызвали настоятеля. Тот решил, что Хуго поразила та же болезнь, которая некогда терзала Саула, и, вспомнив, как израильский царь успокаивался, когда Давид услаждал его игрой на гуслях, разрешил исполнять музыку в присутствии брата Хью,[84] а также предпринял другие естественные меры, дабы преодолеть его недуг и бред. В скорбном расположении духа, а иногда и с ужасом, монахи пели гимны и трактирные песни, играли — с жестами ангелов — на флейте и на виоле, стоя в ногах больного, который уже покрылся потом агонии.
Но, что бы они ни делали, говорится далее в хронике, брату Хью не становилось лучше. Он утверждал, будто проклят с самого детства. Повторял это снова и снова. Плакал и страдал. Помощь и забота братьев, тот дух милосердия и сострадания, который они проявляли ночью и днем, стараясь предусмотреть все, никогда не изгладятся из нашей памяти. Однако они никак не могли прийти к единому мнению относительно происхождения болезни. Одни видели в ней своего рода буйство, крайнюю форму исступления. Другие полагали, что больной одержим бесами. Действительно, брат Хуго одновременно являл признаки безумия и одержимоcти; однако за все время болезни он ни разу не попытался причинить вред кому-либо, кроме самого себя. А буйнопомешанные и одержимые, судя по тому, что о них рассказывают, ведут себя прямо противоположным образом. Один Бог знает правду о поразившем его несчастье. Медики же считают, что подобная болезнь может быть вызвана некоторыми видами пищи, способствующими приступам меланхолии; или крепкими винами, сжигающими жидкости организма; или воздействием разложившейся внутренней жидкости на тело человека, уже предрасположенного к такого рода недугам; или, наконец, неумеренными страстями. Что касается страстей, то Хуго всю жизнь был ими обуреваем. Например, излишне волновался, думая о том, как бы он теперь завершил работы, которые написал, когда ему не исполнилось и девяти лет. Он слишком часто заглядывал во фламандские книги. А вино пил с теми, кто его приютил, — и, видимо, это сильно ухудшило его состояние.
Может быть и так, что болезнь оказалась для него Божией благодатью. Почести и известность тяготили Хуго; недуг, который он не мог скрыть, освободил его от стремления к внешнему блеску и забот о славе мирской. Он стал вести себя скромнее. Трапезничал уже не с настоятелем, но с братьями-мирянами. Рассказ о нем в хронике заканчивается словами:
То, что картина «Встреча Давида и Авигеи» сгорела, Хуго мог видеть только в бреду. Он вообразил свое творение охваченным пламенем, а потом превратившимся в золу, когда ему было отказано в браке с Элизабет Вейтенс. Во времена Брейгеля эта картина все еще находилась в Ренте, в доме, со всех сторон окруженном водой, расположенном близ маленького моста Мийд и принадлежавшем Якобу Вейтенсу. Картина изображала тот миг, когда Авигея является пред очи царя.[85] Ее сопровождает кортеж дам, прекрасных и изысканных, как лилии. Давид, встречая их верхом на коне, сияет подобно солнцу. Ван дер Гус, когда создавал это чудо, знал, что сравнялся в своем искусстве с ван Эйком, что его картина выдержит сравнение с незабываемо-сладостным эйковским «Апокалипсисом». Своей Авигее он придал сходство с Элизабет. Когда Элизабет рассматривала картину, казалось, что она смотрится в зеркало. Имел ли Брейгель возможность увидеть это шествие дам, как видел во Флоренции крестьян и пастухов «Рождества» ван дер Гуса, а в Брюгге — его «Успение Богоматери»?
Быть может, иногда, работая, Брейгель размышлял об искусстве художника, скончавшегося в Красном монастыре, а также вспоминал о его безумии, его страданиях. В безумие входят — так человек, заснув, ступает на дорогу, которая вьется среди рощ и лесов сновидения. Быть безумным — не значит ли это жить как бы во сне, видеть сны, но с открытыми глазами, и принимать тени и краски фантазии за тела даже более реальные, нежели те, к коим можно прикоснуться рукой? И кто способен уберечь нас от безумия? Не позволить незаметно для себя очутиться в этом печальном царстве? Даже святой Антоний, пребывая в своей пещере, в пустыне, среди человечьих костей и соблазнявших его чудовищ — чешуйчатых, когтистых, со страшными зубастыми пастями, — даже он мог не устоять, низвергнуться в адские бездны. Безумие — это ад. Откуда мы знаем, что сама преисподняя не есть лишь гигантский карман, пазуха Безумия, его — Безумия — окаменевшее царство? В ад, в его каверны, грешники спускаются по лестницам для отверженных, проклятых. Но даже очутившись в его безднах, в его нутре, они продолжают карабкаться на головокружительные пики безумия. Те, что добираются до вершин, различают вдали ухмыляющиеся равнины, груды костей, какие-то кавалькады, складки холмов, бледно-серые пространства пустыни. Безумие (или «Глупость»), которое стало темой философских рассуждений Эразма, — вовсе не то безумие, что мучит и морочит человека, являясь ужасным спутником Смерти, пугающей тенью нашего разума. Истинное безумие, истинная скорбь — это то, что познал Хуго ван дер Гус. Он верил, что проклят. Видел, что проклят. И хватался за свое искусство, как утопающий в разбушевавшемся море под саркастическим взглядом урагана хватается за край лодки. Его ночные кошмары обретали материальные формы. Кто-то хрюкал и лаял в его келье. Он продолжал писать, в то время как голова его раскалывалась от звона колоколов и шороха вороньих крыльев. И сами его картины стонали — своими красками. Яд просачивался в его образы рая. А иногда он вообще не мог рисовать и безумие тоже на время отступало: через узкое оконце кельи он видел только снег и равнину, ничего больше — ничего, кроме льдистого неба, бело-черных полей, голых деревьев, похожих на воткнутые в землю вилы, россыпи трепещущих звездных семян, Вселенной; и потом начинался кошмар, самое худшее: ангелы с перерезанными глотками в небесных руинах; демоны, вооружившиеся булыжниками и выжидающие своего часа — часа стремительной атаки. На прогалине сам собою выстраивался театр. Хуго не в силах был отвести от него взгляд. Обезьяны, целые процессии обезьян сносили туда его картины — и харкали слюной на священные образы, на сцены из святого Евангелия; его, Хуго, обвиняли перед трибуналом, крыс, к тому времени успевавшим собраться, в том, что именно он написал сии гнусные иконы. Открывалась подъемная дверь: за ней были другие адские пространства, другие пылающие костры. И нечестивый художник летел в эти подземелья, как сброшенная в погреб бочка.
Меланхолия детей Сатурна… Почему некоторые люди, которые ищут пути к золотому веку, не в силах освободиться от оков свинцового страха? Брейгелю, которого все считали человеком солидным, уравновешенным, тоже не была чужда эта слабость. Он знал, что в глубинах его «я» есть ненадежное место, через которое могут проникнуть в его сознание — и обосноваться там — все ночные кошмары, карнавальные маски грехов, безумие саморазрушения. Он понимал, что несчастье Хуго ван дер Гуса может стать его собственным несчастьем. Испытал силу меланхолии. Слышал в своей душе искушающие голоса Тьмы. Знал, где пролегает путь в Царство Теней. Но однажды он поклялся себе, что будет счастлив. Принес нерушимую клятву, что сохранит душевное здоровье. Обещал себе, что никогда не захочет работать на собственную погибель. Он сделал выбор. Решил не становиться пособником своего внутреннего врага. И стая безумных маний с тех пор обходила его стороной.
Он никогда этого не рассказывал. Никогда не пытался объяснить самому себе этот период своей жизни (длившийся дни, недели, месяцы?). Это не было ни безумием, ни сном. Но не было и обычной жизнью. Он тогда отправился с Гансом, своим другом из Нюрнберга, в Хобокен, на ярмарочное гулянье. Они переходили от одного столика к другому, и везде бражники встречали их смехом, икотой, подначками, пьяными объятиями. Потом они вышли на воздух, под деревья. Там тоже толпился народ. Наконец наступила тяжелая, похмельная ночь. В какой-то момент Брейгель не увидел рядом с собой друга. Он немного поискал его между столами, на улице, на постоялом дворе, у ручья, на мосту; потом отказался от дальнейших поисков. Его одолела усталость, и он присел под вязом. Когда он очнулся, праздник кончился, площадь была почти пустынна, а перед ним стоял какой-то человек. Светало, утренний туман еще не рассеялся, и Брейгель почувствовал, что продрог. Или, вернее, это вначале у него было такое ощущение — холода и близости рассвета, — потому что, как только он поднялся на ноги и последовал за мужчиной, который подал ему знак, они вдвоем очутились в кромешной ночной тьме, на опушке леса. Мужчина произнес всего несколько слов. Да и говорил ли он вообще? Брейгель, однако, понял, что должен следовать за ним, должен оторваться от этого тяжелого и суетного праздника. Мужчина сказал ему: «Твоя шуба слишком хороша для того пути, который нам предстоит. Оставь ее у подножия вяза, на мху. Сегодня день святого Мартина.[86] Подумай, как обрадуется нашедший ее. Давай, поживее!» Брейгель сбросил шубу на землю. И удивился, обнаружив на себе нищенское одеяние. Они что, пойдут просить милостыню? Он, кажется, знает этого человека — но не узнаёт его. Он, собственно, так и не разглядел его лица. Он более вслушивается в голос, чем в слова, но этого достаточно, чтобы вникнуть в то, что ему следует понять. Он легко ступает по траве. Много ли они миновали деревень, хуторов, больших и малых перекрестков? Прогулка с равным успехом могла продолжаться годы или века. Они просят подаяния на порогах церквей; проходя мимо хижин, вдыхают аромат горячего супа. Они идут. Идут по Фландрии зрительных образов, сияющей, как оконное стекло. Как то стекло, в котором отражается красное заходящее солнце, или то, за которым — маленькое солнце ночи: камин или свеча. Облачка пара поднимаются над жующими траву коровами. Путники проходят мимо, идут дальше. Брейгелю кажется, что он держит путь в былое. Достаточно сойти с проторенной дороги, свернуть на боковую тропу, преодолеть небольшую полосу тумана — и ты оказываешься в местах, овеянных дыханием прошлого века (а может, и еще более далеких времен). Всего лишь шаг в сторону от дороги переносит его в страну, которая, как он думал, давно исчезла, стерлась — подобно тем морщинам, что оставляет на песке морской прилив. Древняя Фландрия — как те города и колокольни, что порой поднимаются из воды рядом с бортом лодки, а потом вновь погружаются в пучину. Куда они идут? Должен ли он совершить паломничество, испытать бедность? Он оставил свою теплую одежду и кошелек у подножия дерева. Он, может быть, утратил даже имя. Лай собак в отдалении. Иногда псы подбегают к самым его ногам. Красное солнце опускается за линию горизонта — красное на сером. Что это — время блужданий и покаяния или дорога в царство мертвых? Этот дощатый мост, по которому они сейчас переходят на другой берег, — не из гробовых ли досок он построен? Может, уже пробил его, Брейгеля, смертный час? А ведь он не сделал на земле ничего стоящего, растратил жизнь на бесплодные ожидания. Его теперешняя бедность, нищенское одеяние суть лишь внешние знаки его внутреннего ничтожества. Время, которое было ему отпущено, — он его выбросил на ветер. Он бредет сквозь этот холодный туман, как бродяга в лохмотьях, привыкший спать на соломе. Он проспал свою жизнь. Он не жил. Он идет, и Фландрия плачет над ним, а нежный звон колоколов сопровождает его, хочет утешить. «То подаяние, которое ты выпрашиваешь на грязных и холодных улицах, — это не хлеб или монетка из руки человеческой, но сострадание Божие и вечная жизнь». Они выходят на опушку леса. Пересекают заросли кустарника. Из листвы за ними наблюдают птичьи глаза. Спутник Брейгеля сразу же говорит ему: «Здесь я тебя покину. Иди. Ничего не бойся. Мы еще увидимся. Держись!» Ночь становится непроглядной. Он идет, вытянув вперед руки, на ощупь пробирается меж древесных стволов, порой задевая локтем колючие кусты. Как могло получиться, что под эти большие деревья намело столько снега? Под его ногами уже не склизкая грязь, а похрустывающая корочка льда. Ручей, вдоль которого он идет, сверкает подобно нити хрустальных бус. Хлопья снега опускаются на ветки деревьев с медлительностью разгорающегося огня. На прогалине, за снежной завесой, — монастырь, окруженный палисадом из березовых стволов. Несколько монахов с фонарями выходят за ворота. Они ищут настоятеля, который уже давно должен был вернуться в обитель. Они зовут его, и их голоса резонируют среди высоких деревьев. Я успел рассмотреть их раскрасневшиеся лица. Один из них был совсем молодой. Они, кажется, меня не заметили. Иначе наверняка спросили бы, не видал ли я того, кого они ищут. Я вошел на монастырский двор. Собака спала в своем соломенном домике. Снег уже выбелил поленья, сложенные у стены. Не знаю, почему я не заглянул на кухню, где кипели котлы. Зато я постоял под сводами часовни, в которой горело несколько свечей. Когда я спускался с крыльца, ветер закрутил пургу. Шорох пробежал по кронам деревьев. Я снова вышел на лесную дорогу. Я уже знал, что нахожусь в самом сердце леса Соань. Буря улеглась. Снег теперь падал медленнее. Между тем я услышал у себя за спиной колокол отшельнического скита. И увидел невдалеке слабый свет. Свет сиял над деревьями. Я направился в ту сторону. У подножия липы, залитой светом (который не исходил ни от луны, ни от снега, ни от какого-либо земного огня), молился закутанный в плащ лучезарный старик. Он поднял глаза и посмотрел на меня. А после я продолжил свой путь.
Наконец он позволил своим ученикам увидеть эту почти законченную картину. Он говорит: «Я все сомневаюсь, какое название ей дать». — «Разве это не „Пейзаж с землепашцем“? — спрашивает самый младший. — Нет, — отвечает Брейгель, — это „Падение Икара“». И он рассказывает историю, которая по-настоящему захватывает их. Они видят, как отец с сыном, соорудив для себя крылья, совершают побег с острова, от царя Миноса, и парят в голубом воздухе, повергая в ступор крестьян, вдруг заметивших, как эти двое пролетают над ними, гонимые ветром, в свете апрельского дня. Ученики будто сами ощущают, как воск, которым скреплены перья, начинает таять, как горячие капли падают на плечи и позвоночник Икара. Видят, как Икар словно бы спотыкается в воздухе, подобно потерявшему равновесие конькобежцу. Учитель хочет предостеречь их от излишней дерзости в ремесле? Хочет сказать им, чтобы они всегда держались безопасного срединного пути? Они подумают об этом после. Сейчас мораль сказки занимает их куда меньше, нежели этот удивительный свет над миром. Они смотрят на солнце, похожее на цветок калужницы, украшающий шею молоденькой девушки; на зеленое море; на красивый маневрирующий корабль с раздутыми парусами, по вантам которого карабкаются матросы; на острова и побережье в летней дымке тумана; на лодки и корабли, направляющиеся к горизонту; на розовые и белые силуэты далеких городов; на рыбака с корзинкой на берегу реки; на пастуха среди овец и его собаку; на лошадь, запряженную в плуг, и пахаря в красной рубахе под старинным кафтаном; на вспаханную землю со складками борозд, напоминающую разложенные на прилавке сукна или вымешанное тесто; на большое дерево меж двух полей; на кустарник; на птиц. Они смотрят на величие мира, величие простой, будничной жизни. Все слегка круглится — как в выпуклом зеркале. Все ясно видно — но в то же время покрыто прозрачной нежной дымкой, как бывает в некоторые дни, пронизанные совершенно особой радостью. Может ли быть, что повседневный мир столь прекрасен, что такое величие и благородство сквозят в облике того, кто ступает одной ногой по траве, а другой — по уже вспаханному куску поля, кто идет за своей спокойной лошадью, чью гриву он заботливо расчесал? Видеть эти тени на бурой земле — наслаждение. Ветви и листья большого дерева на фоне безоблачного неба — праздник. Мрамор далеких гор, их снега — прибежище ангелов, богов, странников, которые посещали наши деревни в былые годы. Закругленная линия, отделяющая море от неба, здесь становится границей нашего — общечеловеческого — надела. Море сияет утренним светом, однако послеполуденные тени уже легли в зарослях кустарника и на опушке леса. И этот пахарь в рубахе с такими широкими ярко-красными рукавами, что кажется, будто он облечен в солнце, этот пахарь, чьего лица мы не видим, а видим только профиль под круглой шапкой, представляется сказочным персонажем — благородным сеньором, переодетым в крестьянское платье. Величием и покоем дышит земля, в которой зреют живительные соки и над которой ветер бережно переносит птиц из одного времени года в другое. «Но, — прерывает молчание один из учеников, — где же Икар? Я его не вижу. Дедал уже пролетел, он миновал тот участок неба, который вы изобразили, хотя пастух, задравший нос вверх, несомненно, еще его видит, следит за ним глазами, пока тот не исчезнет из виду, подобно жаворонку; сам Дедал уверен, что сын следует за ним, неразличимый из-за блеска солнца; но я Икара не вижу». — «Он уже под водой», — отвечает Брейгель. И вспоминает о том художнике из Мехельна, который, оказавшись в Риме без средств, написал картину «Потоп»; на ней были представлены только земля, небо да еще наглухо задраенный ковчег под дождем — простой сундук, качающийся на волнах почти у самой линии горизонта. Когда его спросили: «А где же люди?» — он ответил: «Утонули! Когда вода спадет, вы их увидите на равнинах, на горных пиках и в прочих местах. А те, кто остался жив, укрылись в теплом ковчеге, вместе со зверями». Самое забавное заключалось в том, что все сразу же захотели иметь у себя подобную картину. Но была ли это просто шутка и способ быстро заработать деньги? Брейгель вдруг задумывается: а не скрыл ли художник за своей игрой — как скрыл людей под непроницаемыми волнами потопа — глубокий философский смысл? И говорит ученикам, что хотел бы нарисовать на оборотной стороне какой-нибудь своей картины «изнанку» того, что изображено на ее лицевой стороне, — а потом, прямо у них на глазах, набрасывает быстрыми ударами кисти ногу Икара, торчащую из морской пены, и несколько перьев, медленно опускающихся на поверхность воды. Ветер слегка относит их в сторону. Тот самый ветер, который раздувает паруса кораблей и вертит жернова мельниц — мельниц с льняными крыльями.
То, что он написал, удивило его — и погрузило в длительные раздумья. Действительно ли он смотрит на эту картину с меньшей наивностью, чем его ученики, — он, ее хозяин, по чьему хотению она возникла? Но было ли это хотение? Или она явилась к нему сама, как сон, а он только следовал за посетившим его видением, как пахарь следует за лошадью? Пахарь, конечно, хозяин на своей земле. Но тянет-то плуг лошадь. Человек, который пашет, завтра посеет семена, а потом, в должный срок, соберет урожай. Но какая сила заставляет семена прорастать и дает колосьям созреть? Какая сила одушевляет человеческий труд? Та же сила, которая, быть может, нежданно обратится против человека и заставит его покинуть еще не до конца вспаханное поле? Нет, пахарь — не хозяин. Как и художник не хозяин своих видений. Он просто старается их воплотить. Воплотить, чтобы не стать предателем. Чтобы не сдаться, сохранить свое достоинство. Он служит им. Хочет служить верно. Может быть, именно это зависит от него — быть верным и каждое утро приниматься за работу, как подобает хорошему слуге? Он ждет, чтобы образ проявился. Так человек, наклонившись над ручьем, внезапно покрывшимся рябью, ждет, чтобы в воде вновь отразились небо и облака. А когда он сочтет, что последний мазок наложен, что уже нарисованы последнее перышко над волнами, последний клок пены на море, последняя тень на пашне, последний рыжий лист на дереве, — тогда он удивляется собственному произведению больше, чем мог бы удивиться любому другому. Его видение обрело форму. Здесь нет ни одной черточки, ни одного мазка, возникшего без посредства его руки, — это бесспорно. Да, но откуда они взялись?
Знает ли он хотя бы, когда в нем началось это «Падение Икара»? И именно ли падение он хотел изобразить — или просто полет отца и сына над пашней, над большим кораблем, над побережьем цвета нарцисса, а также мраморное, как бы припорошенное цветочной пыльцой небо и под ним маленький букет овечьего стада? Знает ли он, с каких мыслей, с каких размышлений все началось? Установить это так же трудно, как провести разграничительную линию между последними мыслями и первыми грезами. Память не фиксирует моменты перехода. Она разглаживает оставшиеся позади складки. Человек постепенно погружается в сон. Он не помнит перехода от бодрствования ко сну — как не помнит и того перехода, что предшествовал его рождению. А переход к смерти — будет ли он тоже неосознанным? Рождающееся стихотворение или картина стирают в памяти следы своего появления — если только не создаются по заказу. Но и в этом случае первый трепет творческого усилия забывается. Художнику следовало бы вести дневник своих замыслов и работ, как ведут деловые записи. Брейгель такой привычки не имел (а может, позже все-таки стал вести подобный дневник, но велел сжечь его после своей смерти в том самом камине, возле которого любил предаваться мечтам, сжечь вместе с другими бумагами — ради спокойствия Марии?). Но все равно, в этой хронике не отразились бы начала маленьких этапов жизни. Начала этапов странствия осознаются как таковые только тогда, когда, уже завершив путь, ты оглядываешься назад. Юность приобретает в наших глазах сияющий ореол только тогда, когда, уже завершив путь, мы оглядываемся назад. Только тогда, когда мы вступаем в осеннюю пору нашей жизни. Молодой человек равно удивляется и зависти, с которой на него смотрят, и восхищению, какое вызывает у кого-то его юность, — он не может понять ни того, ни другого. Когда какие-то вещи начинаются, когда они только-только начались, они еще неразличимы, незримы, им не придают значения. А то, что люди принимают за начало, часто уже заключает в себе свой конец. Человек не мог бы жить без намерений. Однако сами намерения зависят от внешних обстоятельств. Человек хочет направлять ход своих мыслей, своих дел — но само возникновение этих мыслей и дел от него не зависит. Он действительно направляет их ход — как пастух, который заботится о порученном ему стаде. Он всего лишь управляющий господским хозяйством — преданный или вероломный, послушный или своенравный, изобретательный или не уверенный в себе. Он возделывает свой дух, как крестьянин возделывает поле, которое существовало задолго до его рождения. Если бы человек захотел добраться до истока собственных мыслей, он, несомненно, был бы ослеплен, погубил бы себя. Искать и находить истину мы можем только в полутьме. Телесная оболочка, в которой пребывает наш дух в период своего земного существования, есть всего лишь листва, фильтр, защищающий нас от слишком яркого для этой жизни солнца. Если Господу будет угодно, мы рано или поздно поймем, что Ему ведомы все наши замыслы. Мы увидим солнце прямо перед собой, без всякой преграды, — как видим апрельским днем цветок лютика на лугу или золотую овечью шерсть.
Быть может, все началось с чтения Овидия. Брейгель сидел в своем любимом кресле, кошка дремала на его коленях. Уже смеркалось, но в камине горел огонь. Слышно было, как ветер бежит по крышам. Брейгель почти наугад достал с книжной полки крайний том — маленькое издание Овидия в рыжеватом кожаном переплете. Он купил это издание в Италии, около Колизея, в первый же день, когда оказался в Риме. Сейчас, взяв книжку, он сразу вспомнил свет того далекого дня; комические эстампы, вывешенные у входа в лавку, в тени колонн, и слегка раздуваемые ветром; осень после возвращения на родину, когда, устроившись под деревом, лицом к нескончаемым холмам и лугам, он перечитывал «Метаморфозы». Овидий был ему дорог. Этот поэт покинул Рим, чтобы увидеть Афины, — как сам он, Брейгель, оставил берега Шельды, чтобы рассматривать панорамы Италии, облокотившись о перила моста через Тибр. По императорскому указу Овидия сослали в далекую страну, где тоскливый шум камыша преследовал его даже во сне. Он и там продолжал думать об изменчивости Вселенной и круговращении времени — главных темах его поэзии, наряду с темами любви и печали. Он хотел связать свою память с праздниками и повседневной жизнью Рима; он умер, чуть-чуть не дожив до фактического начала христианской эры.[87] Наш христианский календарь родился в катакомбах. Но теми же чернилами, которые служили для записи Псалмов, переписывались и история золотого руна, и все другие аллегории из «Метаморфоз». Овидию, как и Эзопу, мы обязаны теми зернышками, из которых выросли наши сказки.
Брейгель задумался об Овидии, о судьбе его книг и образов. Латинский поэт воображал, как его рассказы будут читаться на виллах и в виноградниках Сицилии, — но мог ли он предполагать, что ирландские монахи усмотрят в них символическое описание путешествия души? И, обратившись к Марии — она сидела ближе к огню, вносила в большую книгу пометки, касающиеся торговли шпалерами, — Брейгель вдруг сказал ей: «Я нарисую для тебя что-нибудь на сюжет из „Метаморфоз“. Четыре картона — или даже шесть». Почему у него возникло такое желание? Может, он вспомнил о Филемоне и Бавкиде, идеальной супружеской паре, чья любовь со временем пускала корни все глубже и которую благословили навестившие ее боги. (Эти страницы относились к числу его самых любимых.) Или захотел изобразить все обличья, которые принимал Вертумн, чтобы приблизиться к нимфе-садовнице Помоне — то смеющейся, то серьезной, никогда не покидающей пределов сада (за оградой весь день мелькала ее соломенная шляпа), остававшейся безразличной к ухаживаниям и не заботившейся ни о чем, кроме своего салата, яблонь, капусты и редиса? Вот Вертумн, переодевшись жнецом, приносит ей в подарок корзину колосьев. Вот он сплетает себе головную повязку из свежескошенной травы, чтобы девушка поверила, будто он только что ворошил сено. Стрекало в руке делает его похожим на волопаса, кривой садовый нож — на обрезальщика деревьев или виноградаря. Увидав его со стремянкой на плече, каждый сказал бы, что он собрался снимать яблоки; с удочкой — что отправляется ловить плотву… Шпалеры прославят изобретательную и терпеливую любовь, но одновременно — и карусель времен года. Маленький бог овидиевской эклоги выступит во всех ролях, свойственных деревенским жителям. В нем будет что-то от крестьянина Кемпена (области, расположенной чуть восточнее Брюсселя) — характерная брабантская медлительность, обстоятельность.
Однако книжка раскрылась на истории Миноса и Дедала. Овидий описывает рыбака с его подрагивающей удочкой; пастуха, опершегося на посох; землепашца, который налегает на рукоять плуга. Тот, кто увидел, как в облаках пролетают Икар и Дедал, застывает с разинутым ртом, в полной уверенности, что эти путешественники, которые управляют силой ветра, могут быть только прогуливающимися богами.[88] Между тем крылатые беглецы уже оставили слева от себя Самос, Делос, Парос, а справа — Лебинт и «обильную медом» Калимну. Вся Аттика разворачивается перед ними, блистая пенной каймой, как рулон восточной ткани на прилавке торговца. Они видят ее дороги и озера, горные пики и хребты, прибрежные отмели, корабли на море — будто смотрят на многоцветную карту. В ушах у них шумит легкий ветерок. Никогда ни один человек не испытал этого птичьего счастья, не взирал на мир с такой царственной высоты! Они плывут и скользят в голубом воздухе, словно в чистейшей прохладной воде. Дедал наставляет сына: «Полетишь серединой пространства! / Будь мне послушен, Икар: коль ниже ты путь свой направишь, / Крылья вода отягчит; коль выше — огонь обожжет их. / Посередине лети! Запрещаю тебе на Боота[89] / Или Гелику[90] смотреть и на вынутый меч Ориона. / Следуй за мною в пути».[91] Но Икар опьянен полетом и забывает советы. Он все лучше и лучше управляет своими крыльями и начинает, как бы играя, описывать большие круги над морем. Видит ли Минос, как его недавний пленник смеется и танцует на невидимом гребне мира? Икар подобен безрассудному купальщику, которого напрасно зовут с берега, а он заплывает все дальше — пока, наконец, не окажется в открытом море. Он уже не смотрит на широкие плечи Дедала, на его снежно-белые крылья и седые волосы. Он входит в пространство горней славы — как входят в сад. Икар внезапно оказывается в саду из пламени, и это пламя проникает в его легкие. «Солнце! Отец!» — кричит он огню, который окружил его сияющим ореолом. И пытается ударить пяткой по жаркой волне ветра! Напрягает поясницу, чтобы удержаться на плаву в стихии света! Но воск уже тает; перья с его крыльев осыпаются, как снежные хлопья.
Брейгель не станет изображать ни тот момент, когда Дедал конструировал крылья, прикрепляя орлиные и голубиные перья к остову в форме флейты Пана; ни полет отца и сына над кораблями — в том виде, как уже когда-то запечатлел его на гравюре; ни кувырканье в облаках безумного Икара, напоминающего изгибом тела лопасть игрушечной вертушки. Он отберет для своей картины те образы, которыми Овидий хотел всего лишь оттенить геройство Дедала. Он покажет землепашца, рыбака, пастуха; даже та куропатка, что кудахчет в конце рассказа о Дедале,[92] будет кудахтать и у него, Брейгеля, — на ветке кустарника. Он точно воспроизведет придуманные Овидием образы — в порядке их следования в поэме. Но и сам придумает кое-что новое: восславит то, что для поэта особой важности не представляло. Восславит землю, которую так любил Вергилий,[93] и эти возделанные поля, и эти леса, и это море, и этот ветер, сгибающий верхушки деревьев за окном. Он поместит на лучшее место, на передний план, фигуру крестьянина, налегающего на плуг, — ему, Брейгелю, еще в детстве нравилось наблюдать пахоту вблизи. Крестьянина с черными волосами, падающими на щеку, одетого так, как одевались в Кемпене в прошлом столетии; складки его кафтана — рельефные, как на древнегреческих драпировках, — будут перекликаться с бороздами взрезанного плугом поля. Сознательно ли Брейгель не стал изображать Дедала, а Икара показал уже почти ушедшим под воду? Видел ли художник несоответствие между огромной фигурой простого крестьянина и маленькой фигуркой героя, которую мы и узнаем-то по одной ноге, еще не успевшей погрузиться в морскую пучину? Видел ли он, что эти двое обращены в разные стороны, совершенно не замечают друг друга: тонущий и тот, кто так крепко стоит на ногах; один, настоящий гигант, и второй, кажущийся почти карликом; тот, что хотел испить росы из солнечной чаши, и тот, что, обливаясь потом, упорно возделывает свое поле? Художник вложил всю душу в этот самый прекрасный из мыслимых пейзажей. Роль стихотворных рифм и размера здесь играют согласующиеся между собой плавные кривые (очертания берегов, холмов и мысов, борозды поля и граница кустарниковых зарослей), а также идеальные вертикали и благородный треугольник, образованный фигурами крестьянина, рыбака и пастуха, — настоящее созвездие. Пропорции, которые использовал Брейгель, безупречны. А этот большой корабль с наполненными ветром парусами — он скользит в сиянии дня и сам придает особое, сияющее очарование всей картине. Мнится, будто большой корабль проплывает совсем близко от нас — в тот миг, когда последнее перо Икара медленно опускается, подобно снежинке, на прохладную пену.
И вот уже только палец ноги Икара виднеется на поверхности моря — сам же юноша с ужасом открывает для себя подводные небеса. Небеса бледные, как жемчуг, и окрашенные в цвет луны! Мгновение он еще медлит, прежде чем начать спуск, у него мучительно кружится голова. Он дрожит. Пытается ухватиться за сине-зеленое солнце пучины, но чувствует под руками только скользкую чешую волн. А потом устремляется вниз, задевая за какие-то окаменевшие корни времен Потопа. Он, поднимавшийся выше орла и феникса, теперь парит над руинами и рвами Вавилона; над его колодцами, рудниками, узилищами; над его тайниками и разбитой серпантинной дорогой; над лестницами и каменоломнями; над треснувшими куполами, меж которыми маневрирует армада крабов; над полушариями его амфитеатров; над его улочками; над его скрюченными мертвецами; над кариозными храмами и тюрьмами; над арсеналами и внутренними гаванями. Он медленно пролетает под сводами полуразрушенных арок. Касается замшелых колонн, обвитых гирляндами мидий, и натыкается на застрявшие в этих гирляндах бычьи черепа. Икар, Икар — где закончится твое путешествие? Маленький Одиссей небесного океана; крылатый моряк, смеявшийся в лазури; существо невесомое, как снеговая пушинка, — где ждет тебя твоя Итака, отдохновение от тяжких испытаний? Его относит течением. Он все больше удаляется от места, куда упал. Блуждает в лабиринтах Вавилона, в зазеркальных океанических горах. Он затерялся среди подводных облаков, грозовых туч, вихрей. Глубже, еще глубже! Он — свинцовое грузило рыбачьей сети, которую опускают на дно. Он проплывает — или пролетает — над развалинами вавилонских башен (и безднами, сотворенными Господом), наблюдая, как навстречу ему поднимаются их бухты, их цирки, их бреши, их темные эстуарии: весь огромный Колизей, в котором киты и отбросы Вавилона разыгрывают мистерию Апокалипсиса. Ниже, еще ниже! То, что ты видел, было только порогом, только первыми ступенями спуска. Ты все более тяжелеешь, все более коченеешь — легкий, легковесный, безрассудный Икар! Спеши же вниз, как спешит стрела к черному яблочку мишени! Он спускается. Или поднимается, неотвратимо возносится к черной пасти Левиафана — как раньше неотвратимо падал в пещь Солнца. Здесь все скользит мимо и все разлагается, становясь дряблым и медленным, словно колышущиеся водоросли. Дедал никогда не построил бы башни или лабиринта такой изощренной формы, какая свойственна этим нагромождениям лиловых стен, меж которыми пробираются осьминоги, этим дворцам из зеленого хрусталя со стенами, резонирующими, как колокола! Икар теряется среди этих стен, утрачивает способность ориентироваться, вязнет в иле. Горизонты морских глубин при его приближении отступают, ускользают. А он даже не может закричать, чтобы его услышали там, где дует сладостный ветер и шумит листва. — Прощайте, лесная земляника, роса, жемчужина дождевой капли на щеке — все то, что я запомнил из того прохладного вечера, когда незнакомая девчушка подняла на меня голубые глаза, не выпуская изо рта травинки! — В этих безмолвных гротах ничей голос не доберется до него, не поведет, не утешит. Он, словно мертвый лист, спускается в нисходящем потоке и потом снова перемещается в горизонтальной плоскости, гонимый холодными пассатами Нептуна. Минотавр, который подстерегает его в глубине мира — нет, который непрестанно заглатывает его, — есть не что иное, как дыра, дыра цвета ночи. Икар уже прошел сквозь влажные врата Ада, уже пересек семеричную реку. И мужество покидает его в этой чудовищной вульве, в этой могиле.
Погружаясь на дно и иногда медленно вращаясь вокруг собственной оси, следил ли он за тем, как этот черный полумесяц на куполе моря, этот остров, эта тень — корпус корабля — уменьшается в размерах и тает? Неужели ни один моряк не услышал крика Икара, когда тот упал в воду всего в трех кабельтовых от кормы судна? Может ли быть, чтобы человек умирал, окруженный столь полным равнодушием? Прекрасный корабль подрагивает, трепещет от радости на апрельском ветру. Это тяжелое сооружение из парусов и дерева разворачивается с легкостью детской коляски. Путешествие близится к завершению, и моряки машут рукой рыбаку, который притулился на обрыве, обмотал шею красным шарфом и не видит ничего, кроме своей удочки и корзины. Ветер доносит до него обрывки литании, которую вызванивают колокольчики овечьего стада; иногда — отрывистое тявканье собаки; запах травы, перемешанный с запахом вспаханного поля. По сравнению с ним фигура крестьянина на переднем плане кажется огромной. Один смотрит на солнце, другой — на рыбок, пляшущих между двумя водными пространствами, морским и небесным. Этот другой — такой же маленький, каким был бы Икар, если бы мы видели его в момент падения, в восточной части неба. Движения рыбака оставляют на воде лишь рябь, которая вскоре исчезнет без следа, тогда как крестьянин пласт за пластом переворачивает темную землю, открывая ее для воздуха, для дождя, для неба, для метеоров — чтобы добыть хлеб, без которого не пережить зиму. Здесь, на переднем плане, волны борозд; там, дальше, — бесполезная пена, слюна, выступающая в уголках губ по-стариковски болтливого моря. Здесь — хлеб, семейный очаг, жизнь; там — морская могила, которая смыкается над Икаром, и тот мрамор пучин, что станет его надгробной плитой. Знает ли крестьянин, что дорога солнца пролегает через этот пот и эту взлелеянную землю, через жатвы, которые достаются так же тяжело, как победы в сражениях? Скоро стадо потянется вниз по дороге, в деревню, и овцы на ходу будут срывать листики с кустов. Отсюда уже не видно большого корабля: в эту минуту он с королевским спокойствием и достоинством входит в порт. Между тем поле уже распахано до конца, и на него приятно смотреть — как на выстиранное белье, аккуратно сложенное в шкафу. Крестьянин распрягает лошадь, дружелюбно на него поглядывающую. Потом застегивает пояс и смотрит на дымок своего дома, поднимающийся над верхушками деревьев. Вернувшись из странствий, Одиссей уже на следующий день взялся за рукоять плуга. Заходящее солнце краем касается горизонта. Скоро ночь, ее дыхание, ее звезды, любовь и сон в застеленной грубыми простынями постели. Плуг покрылся росой, а рядом, в зарослях кустарника, выводит трели соловей.
Читая Овидия, Брейгель видит свою будущую картину. Видит этот волшебный свет. Всё уже присутствует здесь, в стихах, — изумленный пастух, рыбак, бьющая крыльями куропатка. Он видит побережье, бледное сияние вдали, плавную линию на краю мира — там, где море сходится с небом. Ему остается только следовать за порядком слов в поэме и одновременно придумывать, как должен перемещаться взгляд зрителя; искусно смешивать то и другое — литературные и живописные образы, — как смешивают звучание флейты с человеческим голосом или как ветви и листва деревьев смешиваются с легкой синевой неба. Он уже видит тот небесный свет, в котором тонул, которым опьянялся мальчик Икар. И тем не менее в момент перехода от подготовительного рисунка к живописи все окажется не совсем таким, каким виделось вначале: ведь и пшеничное поле начинает играть сверхъестественными красками, когда из-за завесы облаков внезапно прорывается солнце. Брейгелю знакомы эта земля и эта лошадь. Он вспоминает свет Сицилии. И тогда как бы одновременно видит две части своего жизненного пути — подъем и спуск. Он тоже летал в насыщенном солнечным светом, продуваемом ветрами воздушном пространстве. Юношей он, подобно Икару, смотрел, как его отец конструирует что-то вроде воздушного змея. А потом парил в вышине и нырял в облака, чувствуя, как растрепавшиеся волосы щекочут лицо. Но только ему очень рано пришлось стать мудрым Дедалом. И вскоре он сам будет учить сына во всем соблюдать меру. Эта история — для него, о нем. История отца и сына; отца, которому пришлось похоронить свое дитя: «…перья увидел на водах; проклял искусство свое, погребенью сыновнее тело предал…»[94] А может, речь тут идет о другом — о той печали, с которой каждый повзрослевший человек хоронит свою юность? Икара необходимо похоронить. А затем — мудро приняться за труд. Как Одиссей, который, вернувшись из дальних странствий, взялся за плуг и, работая, с радостью наблюдал смену времен года — таких же, как во дни его юности, — на родных холмах. Брейгель вспоминает, каким он был, когда итальянское путешествие подходило к концу. Вновь видит себя среди коз и храмов Сицилии, в Мессинском проливе, в самой южной точке Европы. Перед ним открывался весь мир. Африка. Он мог бы, как Питер ван Эльст, посетить Константинополь, стать купцом. Или отправиться с паломниками в Иерусалим, затеряться на Востоке. Может быть, он бы потом вернулся, а может — нет. Он помнит это искушение, которое испытал, когда плыл вдоль сицилийских берегов. И тот момент, когда нужно было сказать себе, что пора остановиться, что больше он не сделает ни шагу вперед. Что он возвращается — путешествие окончено. Кто знает, кем бы он стал, если бы продолжил странствие? И почему вернулся? Вернулся, чтобы жить здесь, чтобы жениться на Марии, чтобы сегодня писать Икара. Главное, чтобы жить здесь. А потому и рисует он крестьянина из Кемпена — крестьянина, похожего на Одиссея, короля своего домена, короля своего надела, короля своего арпана земли. Брейгель сейчас видит собственную жизнь так, как ее можно увидеть во сне: временные пласты соединяются в одну плоскость, и, например, друзья, приобретенные в разных краях, ведут общую беседу, хотя в реальности не знают друг друга. Его юность и его зрелость стали стенами одного дома. Вон там, на заднем плане — дальнее путешествие, земля Италии, ее свет; а здесь, совсем рядом — земля, на которой он родился и живет. Именно здесь он с наслаждением рисует эти корабли, купающиеся в свете! И этот остров, остров Дедала…
Если бы члены брюссельского магистрата поинтересовались, как обстоят дела с их заказом, он показал бы им эту картину. Они бы очень удивились: при чем тут Икар — ведь они просили прославить сооружение Вилбрёкского канала? Он бы тогда объяснил, что главный герой картины — вовсе не Икар, который уже исчез, а Дедал, покровитель всех ремесел, родоначальник всех архитекторов и всех инженеров. Он убедил бы их, что эта картина в аллегорической форме прославляет изобретение любых орудий и инструментов, восхваляет всяческие труды, символизирует преобразование мира нашими руками и нашим духом. «В этом пейзаже, в котором легко узнается земля Фландрии (но только Фландрии, открытой всему миру), — сказал бы он, — я изобразил величие и мудрость Труда. Я изобразил покорение мира людьми Дедалова типа. Я изобразил Индустрию — земледелие, скотоводство, рыбную ловлю; и Коммерцию — торговлю с далекими странами, которую воплощают корабли». (Такая трактовка не была бы ложью. Эта картина одновременно отражает поэму Овидия — эпизод полета Икара и Дедала — и являет нам театр человеческих трудов.) Я изобразил участь детей Адама: то, как они в поте лица своего добывают хлеб и как умеют превратить эти муки, свое наказание, в счастье; как делают суровую землю пригодной для обитания. Но только никто не задерживается в этом обиталище надолго. Эта светоносная среда, в которой золотистый парус корабля раздувается и выгибается подобно луку, — наши глаза видят ее лишь миг. Интересно, спросит ли кто-нибудь о том лице, что едва различимо на краю поля, под кустом, — лице человека, без сомнения, пожилого, который умер или заснул, лице землистого цвета? Ничто не обязывало меня изображать эту лежащую фигуру — ни поэма Овидия, в которой только Икар совершает смертельную ошибку и расстается с жизнью, ни собственное мое намерение восславить предприимчивость людей. Но если бы я не написал этого человека, который заснул или умирает (умирает незаметно для других); если бы мою картину не озаряло солнце его гаснущего взгляда, мне бы казалось, что она, картина, не отражает всей правды. А я хотел выразить естественную правду жизни. Крылатому Дедалу не нашлось места в этом обычном пейзаже. Я не стал его изображать. Эта мифологическая фигура лишила бы землю ее весомости, обратила бы деревья в туман. Потому ли, что я хотел избежать подобного, мне вдруг пришла мысль переделать случайное пятнышко под кустом в лицо мертвеца, лицо человека без имени, почти не имеющего индивидуальных черт? Как те бедняки, которые зимним днем валяются в канаве, — трудно сказать, пьяны ли они, больны или умерли прошлой ночью, в полном одиночестве. Всего в нескольких шагах от этого персонажа взрезывает землю плуг-кормилец и фыркает лошадь; пахарь опустил голову и не думает о неизбежной смерти; раздвинутые губы земли, на которые он смотрит, напоминают ему лишь о жатве, о хлебе насущном. Он не замечает человека, распростертого под кустом на соседнем поле. По правде сказать, ни одна тачка и ни один плуг никогда не остановятся ради умирающего. Ведь не останавливается же из-за погребального звона ветер, который вращает крылья мельниц! Не потому ли я пририсовал в углу картины этого человека, что вспомнил о своем отце, быть может, уже умершем вдали от родного дома; а люди, нашедшие его поутру, даже не знали, кто он? Или я все-таки изобразил себя самого — художника, пахаря этой картины, который проводит кистью линии подобно тому, как крестьянин проводит по полю борозды; который стоит в мастерской среди собственных разбредшихся мыслей как пастух среди своего стада; который забрасывает удочку в воду, отражающую его сны? Или я изобразил лицо обычного, любого человека, чью руку однажды, рано или поздно, остановит смерть — как художник рано или поздно подпишет картину, проставив внизу свое имя и дату? Питер, Питер, работая и радуясь своему труду, помни: ты тоже еси прах — и, может быть, уже завтра вернешься в прах и грязь, из которых вышел.
Кое-кому из друзей Брейгель намекнул, что картина «Падение Икара» представляет собой аллегорию Гермеса — бога торговли и стад, дорог и перекрестков, но также посланий и их толкователей. Он показал, что созданный им образ есть истинный лабиринт и что Гермес в облике пастуха, верхушка посоха которого является центром картины, охраняет вход в этот лабиринт. Подобно тому как дух переходит от вещей отчетливо видимых к видимым менее отчетливо и как потом, аналогичным образом, он может перейти от этих менее отчетливо видимых вещей к вещам незримым, а от вещей, незримых по естественным внешним причинам, к вещи, незримой по своей сути, то есть к идее, которая, наконец, сделает все вокруг зримым и постижимым, так же и искусно направляемый художником взгляд зрителя не будет заворожен и прикован к ноге Икара, но, остановившись сперва на большой фигуре пахаря, затем переключится на маленького тонущего персонажа, потом проследит в небесах путь Дедала (на местонахождение последнего ему укажет взгляд пастуха) и, наконец, уже чисто умозрительно отыщет шедевр мастера — Лабиринт, от изображения коего Брейгель в последний момент решил воздержаться. Не правда ли, это напоминает Платоновы рассуждения? По замыслу художника, зритель сперва должен принять то, что видит, за все, что вообще можно увидеть на этой картине; но потом взгляд его будет подниматься выше и выше над затененным передним планом — пока, наконец, смотрящий не доберется до сверхчувственного, умопостигаемого смысла. И разве не влиянием Платона обусловлено само обращение к теме безумия Икара, который из-за своего философского невежества низвергся в самые темные мировые бездны, тогда как мог бы — если бы обладал чувством меры — вознестись в небесные эмпиреи?… И тут кто-то из друзей художника, слегка ошарашенных, произнес фразу, которую потом часто повторяли: «В картинах нашего Брейгеля мыслей даже больше, чем живописи». Друзья были удивлены: как мог этот человек с его грубоватой, почти крестьянской наружностью — да, несомненно, большой книгочей и к тому же питающий интерес ко многим вещам, но все равно — как мог этот человек, которого, встретив на улице, вы бы не отличили от купца, приобрести вкус к столь утонченным играм? Брейгель, кажется, понял их недоумение, однако ничего не сказал — только пронзительный взгляд сверкнул из-под кустистых бровей.
«Милый Икар! — думал он. — Они полагают, что я изобразил тебя таким крошечным — более того, сделал так, что только нога твоя виднеется из пены, — желая над тобой посмеяться. Эта моя насмешка и равнодушие к постигшему тебя несчастью, которое на самом деле есть проявление твоего величия, — лишь кажущиеся. Чтобы понять мою мысль, нужно все перевернуть. Перевернуть все, начиная с расхожей морали, — чтобы понять, что с тобой произошло. Чего ты хотел, наивная душа? Двигаться в пламени, жить в пламени. Тебе было мало покорения стихий земли, воды, ветра. Тебя не удовлетворяло господство над Природой. Ты хотел вновь обрести небесную обитель. Разве это плохо? Солнце было твоей Итакой. Кто тебя в этом винит? Я внимаю уроку Дедала, уроку меры; но я слушаю и голос твоего безумия, твоего восторга, твоей катастрофы. Пахарь, рыбак, пастух: если бы они прислушались к собственному сердцу, то узнали бы, что каждый из них — Икар. Они узнали бы, что тоже обладают этой безумной жаждой жизни, стремлением жить вечно. И не согласились бы быть просто пылью, которая развеется на ветру; бороздой, от которой вскоре не останется и следа; волной, которая через мгновение исчезнет. Не согласились бы отцветать без пользы, как луговая трава. Им недостаточно затененного солнца здешнего мира, ибо не оно их прародина. Они — дети истинного солнца. Я для того написал пастуха, рыбака, пахаря и моряков на вантах, чтобы представить на картине всех людей, весь человеческий род; но только два персонажа — огромная фигура крестьянина и почти незаметная фигура Икара — вместе символизируют „сокровенного человека“, Адама. Адам, который трудится, несет свою кару, — это крестьянин; Адам, низвергнутый из рая, которому архангел с огненным мечом преграждает путь назад, в небесный сад, — Икар. Тот Адам, что обрабатывает свой клочок земли, помнит ли он еще, что жил в саду Света? Он трудится в поте лица, склонившись долу, отводя колючие ветки кустарника и отбрасывая камни. А тот ребенок, который погружается во тьму водных потоков, о котором он не заботится, о котором забыл, есть его собственная глубинная душа, его память. Это он сам некогда был искушаем запретным древом — в горних высях, посреди сада, райского сада, — и даже теперь, пребывая в подводном царстве теней, не оставляет надежды вернуться туда, прорваться назад через огненный заслон. Он упал, но когда-нибудь снова поднимется вверх. Однажды Солнце сломает врата и засовы Смерти. Солнце откроет закрытую книгу бездн, осветит мир, опрокинет, вывернет наизнанку Смерть. Оно нырнет в глубину и спасет дитя, подобно жемчужине затерявшееся в пучине. Илия протянет руку Ионе! Не думайте, что рассудительный крестьянин и безумный Икар не знают друг друга. Они — аверс и реверс. Труженик и потерпевший крушение ребенок, влюбленный в солнце, составляют одну, цельную личность. Я и есть тот крестьянин, что смотрит вниз, на пашню, в то время как мое сердце на дне моря вспоминает свое прошлое и знает: его истинная родина — нетленное солнце. И да простит мне Овидий, если я перетолковываю его поэму на свой лад».
Что с ним случилось в том лесу, среди зарослей ежевики, — лихорадка ли его свалила или на него напали хищные звери, разбойники, духи из иного мира? Кто вынес его на обочину дороги, где он очнулся на рассвете, дрожа от холода? Он никогда никому не рассказывал ни об этой ночи, ни о ледяном утре следующего дня, ни о том, что было дальше. Каждый из нас переживал в своей жизни какие-то вещи, которые невозможно объяснить; со временем мы начинаем думать, что они нам приснились, — но при этом знаем, что они существуют где-то в мире как нечто осязаемое и реальное и что из-за того, что мы столкнулись с ними, смысл и тональность наших дней изменились. Телега выныривает из-за поворота, из зарослей кустарника, и останавливается. У человека, который спрыгивает на дорогу и склоняется над ним, — лицо и голос Йоссе. Он, Брейгель, проваливается в сон. Иногда — из сновидения или из реальности — выплывают очертания деревьев, уходящая вдаль дорога, скрипящий под колесами телеги мост, теплеющее голубое небо. Потом — снова беспамятный сон. Он просыпается в хорошей приютской постели от звона колоколов: на стену молочного цвета падает зеленоватая тень, за окном щебечут птицы. Ему говорят, что он в Брюгге. Дают миску горячего супа и кусок мягкого серого хлеба. Женщины в голубых платьях и накрахмаленных чепцах жестами и интонациями напоминают ему мать, родную деревню, соседок, а лицами — святых жен на пути к Голгофе, какими они виделись Метсису или Мемлингу. Он поднимется завтра, обещают они ему, а пока пусть наберется терпения. Да, он поднимется завтра: уже приблизился пурпурный вечер, а вслед за ним вскоре появится и ковчег ночи. Он поднимается, идет, прогуливается (во сне) по берегу Озера Любви, что около шлюза, и смотрит на лебедей, скользящих по отражениям ив и облаков. С каждым шагом, который он делает, гуляя у озера, среди зеленых от мха древесных стволов, в нем крепнет ощущение, что он попал во Фландрию прошлого столетия, а может, в еще более глубинные временныме слои — такие глубинные, что все здесь кажется не земным, а небесным или, вернее, таким, каким видится отраженное в воде небо. Воздух, в котором он движется и которым дышит, имеет благородный привкус снега. В саду приюта Святого Иоанна он срывает примулу. Он может оставаться здесь, сколько захочет. Он уже поправился, окреп. Старается быть полезным. Он заново покрасил двери и ставни монастыря бегинок. Он радуется свету дня, каждому приходящему часу. Вечеру, который вскоре наступит. Он, никуда не торопясь, бродит по улицам Брюгге, города нежного и влекущего, как голубиные крылья. Порой добирается до моря, до Дамме — местечка, где есть только песок, забвение, ветер, да еще серо-белые птицы, сидящие на развалинах крепостных стен. — Что мне делать с моею жизнью? — Потом идет назад, к розоватому силуэту города, едва различимому вдали. В былые времена корабли теснились у пристаней Брюгге, как ныне теснятся в антверпенском порту, а банкиров и менял здесь было куда больше, чем монахинь-бегинок. Солнце, похожее на плод боярышника, освещает крыши и башенки безмолвного, все еще далекого города. Он, Брейгель, уже побывал во всех церквях Брюгге, этого истинного лабиринта. Он заходил в них, чтобы помолиться. Ему кажется, что Иерусалимская церковь — живое сердце города. Ему нравится видеть, как нежданно, в просвете между крышами, возникает ее восточный купол. Брюгге — зеркальное отражение земного Иерусалима, а также Иерусалима небесного, обетованного. В любимой церкви Брейгеля хранится изображение Гроба Господня; пелены Христа, брошенные на камне, свидетельствуют, что смерть побеждена. Именно в Брюгге однажды утром в памяти Брейгеля всплыл образ юной Сивиллы в платье из зеленого бархата — образ, наполнивший его душу волнением, радостью, уверенностью. Проходя по улице с белыми и розовыми фасадами, где живут кружевницы, он вдруг почувствовал, что больше не одинок.
В те времена люди с удовольствием отправлялись даже за тридцать лье,[95] чтобы погулять на чьей-нибудь свадьбе. И Гвиччардини удивляется пышности таких праздников: «Свадебные пиры в любом случае — хотя, конечно, каждый устраивает свадьбу соответственно своему положению — бывают щедрыми и роскошными, с множеством гостей, помимо родителей и друзей молодоженов, и длятся они обычно по три дня. Новобрачный одевается очень красиво, а новобрачная — еще лучше; причем в каждый из этих трех дней они облачаются в новые наряды, богато и изящно украшенные». Часто жених и невеста бывали уроженцами разных мест, и такие браки способствовали установлению дружеских связей. В целом можно сказать, что жители Нидерландов — будь то моряки или крестьяне, буржуа или ремесленники — устраивали свои свадьбы по-королевски. Великолепные подарки, как и сами пиры, были проявлениями той любви, с которой здесь относились к молодым; нежной заботы о них; готовности сделать всё для благополучия их жизни, их дома, их будущих детей. Во Фландрии люди умели веселиться за свадебными столами, всегда как бы озаренными светом Каны Галилейской. Эти свадьбы чем-то напоминали праздник урожая, который справляется в риге. Они тоже пахли соломой, пшеничной соломой. Крестьяне заканчивали жатву, и как раз в это время устраивались свадьбы. Свадьба ведь тоже жатва: сбор плодов любимого тела, ожидание следующего урожая — детей. Молодая семья ощущала в себе готовность жить в потоке жизни, текущем к тому особому часу, когда наступит конец мира, когда иссякнет последняя капля земного времени — времени года, объемлющего все четыре сезона, — ради нескончаемой Славы Господней, ради вечности вечного бытия. Если я и сейчас чувствую запах соломы и пшеницы; если слышу смех в риге, стук деревянных ложек, шелест вина, льющегося в кувшины и из кувшинов; если вижу крепкий стол, за которым собрались гости, — значит, я вспоминаю брейгелевскую «Крестьянскую свадьбу» из Вены. Вспоминаю эту новобрачную, такую серьезную под бумажной короной, разрумянившуюся, — она сидит как царица на фоне повешенной на стену зеленой драпировки, в риге. Для меня эта молодая женщина — олицетворение Земли, великий триумф жизни. Я вновь вижу прожорливого розовощекого мальчугана в красном берете, украшенном павлиньим пером, — он лакомится мармеладом. Вижу коренастых разносчиков лепешек и манной каши, соорудивших себе носилки из снятой с петель двери. Слышу голоса гостей, сидящих на дубовой скамье, на принесенном из хлева табурете, на кадке из-под молока. Замечаю у распахнутой двери соседей, которые тоже не останутся на пороге. Среди гостей присутствует и сам Брейгель, одетый в бархатный камзол цвета спелой сливы, в круглой шляпе, слегка сползшей на лоб. Он делает вид, что внимательно слушает соседа, но беседе мешают нестройные звуки волынки. Если, как сообщает ван Мандер, Брейгель охотно ходил на деревенские свадьбы в компании своего друга Франкерта и дарил невестам хорошие подарки, словно принадлежал к числу их ближайших родственников, то, несомненно, делал он это не потому, что его, горожанина, привлекали неотесанные красавицы и вольные сельские нравы, — просто он любил наблюдать полнокровную, бьющую ключом жизнь. В этих свадьбах ему виделось нечто библейское. Ему мнилось, он слышит на них смех Сары, которой три странника, поднявшись из-за стола, предрекли, несмотря на ее преклонный возраст, рождение сына. Он думал о Лии и Рахили: о том, как долго Иакову пришлось работать на Лавана, чтобы жениться сперва на одной из них, потом — на другой. Он думал о Руфи, собиравшей колосья. Его трогали лица новобрачных, редко отличавшиеся красотой. Слишком румяные лица людей, привыкших работать под ветром и солнцем. Лица настоящих мужчин и женщин. Лица двоих, которые полюбили друг друга. Да, Фландрия — библейская земля.
В день их свадьбы Питер был серьезным, а Мария — сияющей, как никогда прежде. Пиршество устроили за городом, в домике, который когда-то приобрел Питер Кукке, а потом унаследовала Мария Бессемере. В Брюсселе и его окрестностях имелось много таких ненаселенных, поросших лесом участков, где обычно выпасали скот. Дом стоял на краю луга, с другого конца которого тек ручей. Новобрачные на мгновение остановились у этого ручья — молча (ибо были слишком взволнованы, чтобы говорить) соединив свои руки, на которых поблескивали новые золотые кольца, — и посмотрели на воду, кишевшую уклейкой и корюшкой. Облака и деревья отражались в ручье, и казалось, будто в нем плавают хлопья овечьей шерсти. «Сколько времени нам осталось, чтобы прожить его вместе, Мари?» — «Сколько времени для такого великого счастья, Питер?» Пели птицы. Ветер комкал кроны деревьев и мял траву. Вдали звонили колокола Брюсселя. Они пошли через луг к дому. На хозяйственном дворе, под навесом, были накрыты длинные столы. Глядя на лица друзей, Питер вспоминал этапы своей жизни. Там были Мартин де Вое, с которым когда-то он проделал часть пути до Италии; Николас Йонгхелинк и его брат Якоб, скульптор. Ганс Франкерт и Герман Пилгрим, только что приехавший из Амстердама; Ортелий; многие поэты из «Левкоя», которые ждали удобного момента, чтобы прочитать свою эпиталаму; многие живописцы из братства Святого Луки; купцы из Брюсселя, Антверпена и Мехельна; кое-кто из будущих соседей. А эта пожилая женщина, одетая по-крестьянски, — мать Питера. Мария разговаривает с ней очень приветливо. Видимо, мать Питера чувствует себя немного чужой в этой компании, но тем не менее ей здесь хорошо. Питер к ней часто подходит. Он знает, что она не любит уезжать из деревни. Сын и невестка предложили ей переехать в Брюссель, поселиться с ними. Она не захотела. Видно, она из тех, кто предпочитает жить в тишине и одиночестве, затворившись в крепости своего преклонного возраста. Мария Бессемере смотрит на Питера и вспоминает время его ученичества — такое далекое, такое близкое. День незаметно клонится к вечеру, вот уже и Мария с Питером покинули застолье.
Он очень рано начал зарабатывать на жизнь своим ремеслом. Еще прежде чем его приняли в гильдию Святого Луки, он уже сотрудничал со старшими собратьями по профессии. В Мехельне, помогая Питеру Балтену, он написал гризайль для триптиха, который заказали перчаточники этого города, чтобы восславить своего покровителя святого Гуммара и святого Ромбальда. Кок всегда щедро оплачивал его рисунки. А как только Питер освоил живопись, у него появились и другие покупатели. Так, ван Мандер упоминает Германа Пилгрима из Амстердама, который приобрел у Брейгеля «очень хорошую картину „Крестьянская свадьба“, писанную маслом; там все лица крестьян и обнаженные части их тел были желтовато-коричневыми, ибо некрасивая кожа сельских жителей сильно отличается от кожи горожан». Ван Мандер также называет имя Ганса Франкерта, купца и члена палаты риторов «Левкой», «для которого Брейгель часто работал». Может, Франкерт поспособствовал тому, чтобы у его друга тоже был какой-то постоянный доход? Я легко могу представить себе, например, что Брейгель вложил деньги в торговое судно. Эти доходы дали бы ему возможность писать картины, не заботясь о веяниях моды. Художник, с такой достоверностью изобразивший работу подъемных механизмов на различных этажах Вавилонской башни, без сомнения, разобрался бы, как приумножить деньги, правильно их разместив.
Николас Йонгхелинк мог бы быть скульптором, как его брат Якоб, или художником, ведь он так любил все красивое; и не для того ли, чтобы собирать прекрасные произведения искусства, он, в конце концов, стал тем, кем стал, — банкиром и купцом? В этом смысле он как бы подражал семейству Медичи. Мы знаем, что ему принадлежало около шестнадцати картин Брейгеля. Одна из них, «Несение креста», висела в глубине длинной залы (на противоположной стене помещалась «Вавилонская башня», а две другие стены были пустыми). Глядя на картину издалека, поначалу можно понять только то, что она представляет собой пейзаж, в левой части которого изображены опушка леса и множество людей, в правой же — голый светлый холм. Несомненно, толпа спешит на какой-то праздник. Очень высоко над всем этим различима мельница, прилепившаяся к вершине крутой и неровной скалы. Только приблизившись к картине, зритель замечает на переднем плане фигуры Марии, святых жен и святого Иоанна, намного превосходящие по размеру всех других персонажей. Брейгель изобразил их в манере старых мастеров. Святые жены плачут так, как они плачут у подножия Креста на картинах живописцев из Брюгге; но только в данном случае находятся вовсе не у подножия Креста — они, Мария и святой Иоанн расположились на глинистом пригорке, рядом с пыточным колесом, у подножия которого белеет лошадиный череп, лежащий поверх черепа человеческого. Чуть дальше — дщери Иерусалимские, с печалью и ужасом взирающие на дорогу к Голгофе. А совсем вдалеке, на холме, различимы два уже воздвигнутых креста; вокруг них, на утоптанной белесо-желтой площадке, собрались в кружок самые нетерпеливые зрители. Примерно в середине картины мы видим пересекающую ручей телегу; двое осужденных, сидящих в ней, получают последнее утешение от монахов; одному из смертников протягивают распятие. Эта телега, просто большой ящик на четырех колесах, несомненно, в другие дни использовалась для перевозки скота или овощей; возчик, беспечно развалившийся на оглоблях, даже не задумывается о том, что ему приходится делать нынче. Огромная толпа движется от городских ворот. Одни хотят увидеть казнь, другие спешат по своим делам. Дорога длинной извилистой лентой поднимается в гору — туда, где тянутся целые аллеи виселиц, колес и крестов. Всадники в красных кафтанах (наподобие тех, что носят валлонские гвардейцы) надзирают за порядком. Но все идет хорошо, если не считать одного маленького инцидента: женщина с четками на поясе изо всех сил сопротивляется солдату, который хочет заставить ее мужа понести немного крест третьего осужденного — того, что лишен даже права ехать в телеге. Нужно подойти к картине еще ближе, чтобы, наконец, разглядеть Иисуса, упавшего под тяжестью креста. Брейгель поместил фигуру Христа в самый центр изображения — но она кажется такой маленькой посреди всего этого кишения людей, в огромном пейзаже, что привлекает к себе не больше внимания, чем привлекла бы в нашем мире, в наши дни, если бы мы увидели аналогичную сцену. Мы скорее заметим крупную белую лошадь, которая смотрит прямо на нас и скалит зубы.
Брейгель любил писать как философ: как Эразм или Мор писали свои книги, подчиняя их композицию своевольному движению мысли. Он также любил работать по заказу. Заказ пробуждал в нем нечто такое, что словно бы всегда в нем присутствовало и лишь ожидало подходящего случая, дабы обнаружить себя. Работа у Кока приучила его к этому. Он не брался за предложенный сюжет, если сюжет этот с самого начала не находил в его душе отклика. И потом, заказная тема никогда не ограничивала его творческую свободу. Он не был первым, кто включил сцену шествия на Голгофу в обширный пейзаж. До него это уже делали Амстел, Артсен, Херри мет де Блес. У них у всех слева, в синеющей дымке, был виден город Иерусалим, Христос шел по крестному пути в окружении солдат, странствующий торговец отдыхал у скалы, а гора Голгофа помещалась очень далеко, на заднем плане. Брейгель воспроизвел на своей картине эту модель — как мог бы сделать художник, учившийся у одного из упомянутых мастеров. Однако у него была особая задумка: поместить Марию и святых жен совсем близко от тех, кто будет смотреть на картину, — но придать им позы, которые они могли бы принять у подножия Креста. Он решил изобразить их в манере старых мастеров — как на иконе; а муки Христа написать словно бы с натуры, то есть показать казнь, какой она бывает в обыденной жизни. Хотел ли он сказать, что, если бы Христос явился среди нас сегодня, мы бы снова его распяли? В синей дали возвышается Иерусалимский храм. Это весенний день. Спешащие к месту казни то и дело перешагивают через лужи, их ноги скользят по грязи. Одна туча уже сейчас омрачает пейзаж, на который вскоре падут тени агонии и смерти. Рядом со спутницами Вероники, у края картины, справа, Брейгель изобразил нескольких своих современников, которые смотрят на Христа, держась за руки. Среди безразличной, любопытствующей, жестокой толпы они одни — истинные свидетели Христовы. А мужчина, который в отчаянии стискивает руки, — это, несомненно, сам художник.
Йонгхелинк заказывает Брейгелю серию картин для своего антверпенского дома. Картины должны будут украшать стены круглой комнаты, через окна которой можно увидеть вдали поля и море, реку, плывущие корабли. Брейгель говорит: «Я напишу мир и время». Его уже обступает со всех сторон то, на что он смотрит через одно окно, потом — через другое. Если бы мы имели возможность увидеть его в этот момент, когда он думает о мире и о своей картине, когда он, по существу, уже работает, мы бы поняли, что рисованный портрет художника в фетровой шляпе, с кустистыми бровями и суровым взглядом, — черно-белый портрет того, кто собирается писать красками, но чей холст пока остается белым, — есть не что иное, как правдивый образ Брейгелева духа. Да, именно так он, Брейгель, стоит в этой круглой комнате — и в круглой башне своей души, — задумчивый, внимательный к тому, что зарождается в нем самом; а следы преклонного возраста, которые мы замечаем на его лице, — это отражение возраста мира, образ времени, плещущего волнами у брега вечности. Именно так он пишет картины — стоя во весь рост посреди сновидения своей жизни, подобно дереву, сосущему грудь земной ночи и раскрывающемуся навстречу незримому ветру. Он окружен живописным полотном, родившимся в его духе. Он изобразит круглый горизонт, который есть круг нашей жизни. Глядя на этот круг, нельзя будет уловить момент перехода от одного месяца к другому, как нельзя усмотреть на земле линии границ между странами: они, эти границы, подобны теням от облаков, падающим на пашни и леса. Земля — как и человечество — это не кусок ткани, разрезанной на части закройщиком. Он, Брейгель, покажет незаметное скольжение времени, скольжение дней и лет. Ему так не терпится начать, что он поспешно завершает беседу с хозяином и, как во сне, возвращается из Антверпена в Брюссель, не отрываясь от своих грез о годовом цикле. На сей раз он, художник, не станет рассказывать никаких историй; никаких, кроме единственной — истории видимого мира. Он покажет время и землю. И труд людей, то, как они существуют под небесами. Это будет великая безмолвная Библия нашей общей жизни.
Ему кажется, он пришел на землю только ради того, чтобы написать эти «Времена года», и всё, что он делал до сего дня, было лишь подготовкой к этой работе. Последней его работе? Может, и последней. Он будет писать так, будто дал зарок: завершив картину, никогда более не прикасаться к кистям и отречься от мира. Гесиод, когда принялся за «Труды и дни», наверняка имел те же пронзительные глаза отшельника и носил на нечесаных волосах точно такую же фетровую шляпу. В нем, Брейгеле, зажегся огонь. Огонь полноты бытия, интенсивности видения. И этот огонь, который струится в его жилах и вдохновляет его, переливается всеми красками осенней листвы.
Он подпитывает свою работу долгими прогулками в окрестностях Брюсселя. Выходит из дома на рассвете, а возвращается почти ночью. Часто берет с собой сына и несет его на плечах. Он идет, и поверх его головы на все окружающее смотрят глаза ребенка. На снег, на сгущающиеся вечерние сумерки, на лес и поля, на дымки над крышами. Как удивительно быть здесь! Как удивительно быть в мире! Запомнишь ли ты этот миг, когда, сидя на моих плечах, увидал, как ворон летел в небе, а потом вдруг спланировал, опустился на ветку большого дерева? Запомнишь ли раскаленный котел солнца? Вопросы, не высказанные вслух. Он идет дальше. Идет по мокрой траве. Ощущает, что мир непрозрачен. Как поверить, что есть иной мир — помимо того, который мы видим? Мы не замечаем никакого перехода, никакой двери в Запредельное. Наше царство закрыто, замкнуто в себе. Мы живем в этом мире и в этом времени. Ребенок, сидящий на плечах отца, беззаботен, как птичка. Отец же, который его несет, понимает, что с каждым шагом не столько перемещается в пространстве, сколько приближается к концу собственной жизни. И все равно, в этот миг, шагая среди зримых вещей, он ощущает себя живым, а мир кажется ему вечным (хотя на самом деле он, мир, непрерывно разрушается, будто пожираемый огнем).
Он рисует не совсем то, что видит. Опускается вечер. Но и весь день был пасмурным, облачным. Огонь в печи плохо разгорался. Крестьяне срезают мокрые ветви ивы. Вдали, на зеленой реке с белыми клочьями пены (там, где она впадает в море), — несколько кораблей, застигнутых бурей. Вдоль моря тянутся горы, покрытые льдом и снегом. И еще — замок среди скал; город; красные и коричневые дома деревни, крытые соломой; двор и стена трактира. Все живое теснится под крышами и на узкой площадке среди деревьев. Хорошо оставаться здесь, в тепле, когда налетает порывами зимний ветер! Жуй свои вафли, добрый человек, и танцуй! А ты, малыш, коронованный бумажным венцом, освещай потайным фонариком весь этот обширный пейзаж! Хорошо оставаться здесь, когда опускается вечер и мы радуемся мигающим огонькам на равнине и горных склонах. Белая точка одинокой чайки в сумеречном небе. И этот беленный известью фронтон дома посреди застывших в блаженной меланхолии холмов и поваленных деревьев. Крестьянин увязывает хворост. Мы слышим мелодию танца, которую наигрывает в трактире неутомимая скрипка. И даже — потаенный ток живительных соков в телах ив.
Уже пребывая на пороге смерти, Брейгель велел сжечь часть своих рисунков. Это объясняли тем, что он сожалел о жестокости представленных на них сюжетов и хотел избавить Марию от возможных упреков. Однако на самом деле рисунки, которые сгорели в камине дома на Верхней улице, когда художник почувствовал, что покидает этот мир, изображали вовсе не палачей, судей или доносчиков. То, что он уничтожил, по сути, напоминало груду мертвых осенних листьев. Это были подготовительные наброски к «Временам года», которые он до сей поры сохранял. Зарисовка сборщиков винограда, срезающих гроздья неподалеку от виселицы, на берегу реки, в сладостном свете сентябрьского дня. Зарисовка крестьянина, который поднял кувшин и, запрокинув голову, пьет; молоденькой девушки — она танцующей походкой идет по дороге, неся на голове большую корзину с вишнями; тощей собаки, свернувшейся на снегу и прикрывающей свой хребет хвостом. Зарисовка большого дерева и корабля, застигнутого в открытом море бурей. Зарисовка коровы, которая повернула к нам голову (а вдали виднеются хлев и вся деревня, лежащая в затененной долине под холмом). Зарисовка хозяина, ремонтирующего крышу; и другого, разжигающего огонь в очаге; и еще одного, тянущегося вверх, чтобы обрезать ветви и верхушку всклокоченной ивы. Среди этих зарисовок попадались и расчеты, и чертежи — следы поисков гармонии. На чертежах можно было увидеть различные сочетания окружностей и углов: наклонные линии дорог и пологих спусков, огромное полотнище пейзажа с кругами полей и холмов — все просторное лоно земли, незримую кристаллическую решетку картины и мира. Во всем угадывался первоначальный план некоего согласующего Договора. Художник хотел добиться того, чтобы в его живописи
Итак, он пишет календарный цикл, круговращение месяцев и времен года. Круговращение мира. Вот рыже-белое коровье стадо возвращается в деревню по наклонной дороге — и на нас смотрят животные цвета глины и молока, а за ними простирается огромный пейзаж, в котором река и вереницы облаков тоже движутся куда-то по собственным путям. Был ли мир когда-нибудь более прекрасным, чем в этот осенний день? День, впрочем, уже кончается, и пастухи вскоре вернутся к своим столам, светильникам, постелям. А вот — среди величественно-неподвижных снежных просторов — возвращение охотников. Эти люди уже оставили позади себя гору и утомительный сияющий день, полный сурового труда. Они тепло одеты и несут на плечах длинные палки с железными наконечниками. То, что они видят, мы видим вместе с ними: снег и деревню под веселящим душу чистым снежным покровом. Даже при приближении к Итаке сердце изгнанника Одиссея не могло забиться сильнее, чем бьются наши сердца, когда мы смотрим на эту деревню с запорошенными снегом крышами, раскинувшуюся в долине, которая вселяет в нас чувство благоговейного восторга. Поля превратились в замерзшие пруды, по ним бегают на коньках дети. Кто-то подставил ветру свой зонт, словно раскрытый парус, и, подгоняемый воздушной струей, несется по льду, как настоящий корабль. Телега катится по дороге меж белых сугробов. Маленькие мосты перекинуты над застывшей рекой. Женщина несет вязанку хвороста. Птицы расхаживают по льду или сидят, внимательно поглядывая вокруг, на голых ветках. Струйки дыма поднимаются над трубами в прозрачном воздухе. Ах! В этом холодном беспощадном мире мы все же отыскали место, где можно жить и мечтать. Какая-то семья расположилась прямо перед нами — между заиндевелым садом и котлом, заманчиво булькающим на костре. Если я порой думал, что заблудился на дорогах жестокого мира, то здесь, в этом снегу и покое, я вновь обретаю детскую непосредственность восприятия и узнаю место моего рождения, мою родину. Мы все выходим из леса и спускаемся с горы к своему дому. В этот вечер, протянув руки над огнем, мы поймем, что еще какое-то время будем живы. Большая птица летит, распластав крылья, над долиной.
Я пишу тебе слишком редко. Но я вообще мало пишу. Я дал себе слово по пути в Италию каждый день записывать то, что увижу. И очень скоро пренебрег этим обязательством. Самое лучшее сохранилось в моих рисунках. Что касается всего прочего, то тут я положился на свою память. В ней теряется только то, что и должно быть утеряно. Когда мне случается перечитать несколько страничек, мною же и написанных, я замечаю, что уделял слишком много внимания собственным настроениям и всякого рода пустякам, — и ощущаю неловкость. И все же тот, кем я был десять лет назад, и тот ребенок, который однажды в грозу прятался под ивой у лягушачьего пруда (иву я и сейчас вижу), и я нынешний, пишущий тебе сии строки в нашем доме на Верхней улице, пока над Брюсселем уже третьи сутки идет проливной дождь, небо заволокло аспидно-черными тучами и струи воды стекают по окнам, — эти трое, я уверен, суть одно! А те странички или письма, что я тебе так и не отправил, — я сам удивляюсь портрету, который из них складывается. Я все вложил в рисунки, а потом в живопись. Иногда, без всякой причины, ко мне вдруг на мгновение приходит пронзительное ощущение собственной молодости или даже детства: я вижу какой-то день, какой-то жест; вижу их словно бы включенными в просторный пейзаж — очень далеко от себя, но вместе с тем близко и отчетливо.
Я закончил для Николаса Йонгхелинка работу, которую он мне заказал: серию картин, изображающих годовой цикл. После такой работы можно умереть, будучи уверенным, что явился на землю не напрасно. Господь даровал мне силы благополучно завершить сей великий живописный труд, ставший итогом моей жизни. Я сказал себе, что вполне овладел своей профессией и могу теперь занять место в ряду тех, кем восхищаюсь.
Между тем я замыслил вещь в совершенно ином роде. Я написал маленькую картину, на которой показал изгиб замерзшей реки или большого притока (несомненно, впадающего в Шельду). Небо желтое, река тоже желтая — очень нежного оттенка, как бывает, когда видишь цвета с большого расстояния. Сквозь небеса льется золотистый свет — словно свет лампы из-за стекла. Небо еще заряжено снегом. По затянутой льдом реке люди катаются на коньках, гуляют. Дети запускают свои волчки и гоняют биты. Это настоящий праздник льда, ледовое воскресенье (хотя, может, и в середине недели). Небо очень высокое, но никто на него не смотрит. Смотрят, скорее, на лед, который в середине реки имеет чуть более бледный тон. Справа — заросли кустарника, почти черные (такого цвета и сами кусты, и валежник, и торчащие из-под снега отдельные прутики). И большие темно-коричневые деревья, верхние ветки которых слегка припорошены. Две птицы летят по направлению к серому городу, едва различимому на горизонте, — туда, где река впадает в море. Вороны устроились на ветках деревьев и кустов. Ближайшие к нам птицы — по размеру такие же, что и фигурки людей, прогуливающихся по льду. Голые лучеобразные ветви ивы отчетливо выделяются на фоне желтого дома. Церковь, какие встречаются в крупных селах, и дома вдоль реки. А дальше — белые холмы, бескрайние поля, голые деревья. Фасады домов под занесенными снегом крышами, розовые (но также серые, коричневые), чем-то напоминают праздничный стол, накрытый белой скатертью. Одинокий черный ворон, сидящий на очень тонкой, очень высокой ветке, ничего этого не видит: он смотрит в небо, в ту его часть, которая не видна нам. У подножия дерева приготовлена ловушка с рассыпанными хлебными крошками — ловушка для птиц, которые уже приближаются к ней или чистят перышки совсем рядом, в черных кустах. Эти птицы не подозревают, что стоит потянуть за веревку, и старая дверь обрушится на них — как и конькобежцы не задумываются о том, что лед может провалиться. Жестокость людей, жестокость зимы, гибель, подстерегающая беззаботных; но прежде всего я хотел изобразить эти дома, эту деревню, эти лодки, скованные замерзшей рекой, эти жерди около них, воду, ставшую пешеходной дорогой, и снег, снег, снег…
Я полюбил Италию, получил у нее много уроков, но никогда — в отличие от некоторых других, у которых путешествие отняло их индивидуальность, — не испытывал желания говорить в моей живописи по-итальянски. Сегодня, когда я опять стал писать зиму и снег — а это мое время года (так же, как и осень), — я еще внимательнее, чем прежде, вглядываюсь в картины наших старых мастеров, мастеров моей родины. Нам повезло: в нашем доме в течение нескольких недель находилась картина, изображающая прибытие Святого Семейства в Вифлеем (с красными домами и телегами). Я сказал себе: именно так следует писать.
Вообрази себе маленькую картину на сюжет Поклонения волхвов. Путешественники оказались на прямой деревенской улице. Они плохо видят, что впереди, из-за сильной пурги. Да и мы едва различаем происходящее сквозь густые хлопья. Справа — какое-то жилище без окон и крыши, стену которого поддерживает толстая балка; внутри намело почти столько же снега, что и снаружи. Осел, который несет на себе поклажу царей, терпеливо ждет. Снеговая завеса нависла над замерзшей рекой. Ребенок на санках катится с горки меж белых кустов, мимо погребенной под снегом ивы. Мужчина с ведром поднимается по трем высоким ступенькам: он только что сломал лед и набрал воды. Жена ждет его на берегу с другим ведром. Какая-то мать зовет своего малыша, чтобы он не подходил слишком близко к проруби. Видны дома с законопаченными щелями, деревья, прямые красные трубы. Маленький мост из красных кирпичей. Арка, за которой угадываются другие улицы. Один царь преклонил колени перед Марией и младенцем: его трудно рассмотреть, хотя он облачен в длинный желтый плащ. Еще труднее различить в сумеречной глубине полуразрушенного помещения, где тоже густо падает снег, ребенка и мать. На улице люди ходят, опустив голову, спрятав ладони в рукава. Мороз такой, как был у нас в прошлом году. На путешественников никто не обращает внимания. Слишком холодно, слишком много снега! Да ничто и не указывает на то, что они — цари, прибывшие издалека. Место, где родился Иисус, едва ли уместно назвать домом — это просто закуток меж двумя стенами, с проломленной крышей, открытый ветру и снегу. Представляешь себе такое, дорогой Абрахам?
Он довел до сведения нашего Государя, что в некоторых лесах и потаенных местах в окрестностях этого города в последнее время стали проводиться собрания сектантов и еретиков — в частности, таковое собрание проводилось в лесу «де Хегде», когда миновал третий день Рождества, — и что это противоречит приказам и распоряжениям нашего всемилостивейшего Государя, Короля, которые неоднократно публиковались. Вышеупомянутые собрания устраиваются под прикрытием некоей новой религии, которую их участники якобы исповедуют и которой эти сектанты и неверующие пытаются соблазнять добрых людей, детей и простаков, равно как и всяческих темных личностей; на самом же деле сия религия опасна тем, что может вызвать волнения и мятежи в деревнях и городах, привести к общему пользованию всем имуществом, к великому разорению страны, к печали и страданиям вдов, сирот и всех тех, кто верует в Бога, ибо последние окажутся под серьезной угрозой смерти, пожаров…
Новая Церковь полей и лесов действует в окрестностях Брюсселя все более активно. Когда из Германии, Франции, Англии или откуда-нибудь из самой Фландрии сюда добирается проповедник, апостол, слухи об этом распространяются еще до его появления. Однако слухи всегда бывают неопределенными. Людей извещают накануне, в последний момент, и они — да будут благословенны местные туманы! — незаметно выходят из города, ночью выбираются за земляной вал и там встречаются с кем-то, кто затем отводит их к следующему проводнику. Тех, кто хочет принять участие в собрании, подвергают тщательной проверке; а если назначенный день кажется не очень надежным, если опасаются вылазки правительственных войск или какой-то иной ловушки, то всегда предпочитают вовремя разойтись. Настоящая опасность начинается тогда, когда все пришедшие собираются на лесной поляне или в заброшенной риге, когда они сплачиваются в одно целое. На дороге выставляют патрульных; считается, что они участвуют в молении, ибо посвящают себя общему делу. Некоторым из присутствующих на самом собрании тоже поручают обозревать окрестности. Кое у кого спрятаны под плащом пистолеты, у других — серпы, чтобы подрезать подколенные жилы у лошадей в случае нападения конной полиции. Использовать оружие в такой ситуации — значит пожертвовать жизнью ради спасения большинства и, в частности, тех немногих женщин, которых тоже можно встретить здесь, среди крестьян, ремесленников, кровельщиков, чесальщиков шерсти, нищих. Иногда на собрания приходят знатные сеньоры и дамы. В лицо друг другу стараются не смотреть, чтобы, если схватят, не назвать под пыткой ничьих имен.
Это братство молящихся и поющих псалмы есть истинный Израиль в пустыне; апостольская Церковь, на которую нисходят пламена Духа; наследники тех, кто во тьме языческого Востока собирался, чтобы послушать проповеди Павла или прочитать его письма. Апостолы этого братства не имеют крыши над головой и не знают покоя. Их арестуют и сожгут живьем, когда Господь того пожелает. Им на смену поднимутся другие — из этой сегодняшней толпы, из тех людей, что пока не умеют даже внятно говорить и лишь передают из уст в уста горячие слова своих наставников. Но пока апостолы свободны, они ходят по стране, беседуют со своей паствой, читают вслух Священное Писание, обращаются к Духу, поют псалмы. Лес дрожит на ветру. Ивы дрожат на ветру; и эта река, которая течет по равнине, — река их родной земли, где они вынуждены прятаться, чтобы помолиться вместе… Они распевают псалмы из Библии. Они слушают текст Библии. Стены и колонны их храма — дубы и ветер, да еще серо-бурые поля, виднеющиеся в просветах между деревьями. Их храм — это раскрытая Библия. Ворон, который парит над пашней, — это ворон Илии. Почти не различимый отсюда пахарь — это Елисей с его быками. Земля Брабанта не менее священна, чем Иудея. Незримый Христос странствует по нашим дорогам. Вот он идет рядом с нами в вечерних сумерках — и наши сердца горят, как горели сердца тех, кто уже завидел меж ветвями, пока еще далеко впереди, крышу постоялого двора Еммауса.[97]
Никогда прежде Брейгель не рисовал таких мощных деревьев. Они не растут прямо. Они искривлены из-за тех усилий, которых им стоил рост, — особенно одно дерево, в левой части картины. Их стволы образуют извилистые линии, подобные извивающейся ленте реки (мы видим ее издалека, гораздо ниже уровня той поляны, на которой проповедует и пророчествует Иоанн Креститель). Что же говорит пророк? Он говорит внимающим ему людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».[98] Брейгель изобразил в толпе несколько лиц с беспокойными взглядами, обращенных в нашу сторону, — это, скорее всего, осведомители, которым было поручено не пропускать ни одной проповеди Иоанна по прозвищу Креститель. Один слушатель слишком безразличен к происходящему, чтобы можно было отнести его к числу истинно верующих. А двое монахов в капюшонах, явно напуганные, о чем-то совещаются между собой: это наверняка «глаза и уши» епископа. Иоанн не смотрит на них. Он смотрит на эти огромные деревья, колонны лесной поляны, и на мальчишек в красных штанах, вскарабкавшихся на их ветки: сорванцы вполуха слушают проповедь, одновременно разглядывая похожие на шляпки грибов головные уборы дам или пытаясь отыскать гнездо с лакомыми яйцами либо совсем еще голенькой птичкой. Он смотрит на могучие деревья, которые медленно тянутся ввысь из черной земли — как человек тянется к Богу. «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».[99] И еще говорит: «Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви…»[100] Кого же он имеет в виду, почему выражается так таинственно?
Осведомители, поскольку им предстоит писать донесения, задают Иоанну вопросы. Идет ли речь об Илии? Или о Мессии? Нет, не об Илии и не о Мессии. Иоанн объясняет: «Он тот, о ком сказал пророк Исайя: „глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему;[101] всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть спасение Божие“».[102] Толпа, слушающая, как пророк произносит вслед за Исайей эти необыкновенные слова, — та же самая, которую можно увидеть на любом рынке. В ней есть и дети, и благочестивые женщины, и дамы, и один пилигрим, чья шляпа украшена раковинами, и пестро разодетый ландскнехт со шпагой на боку. У стариков такой вид, будто они спят на ходу. Молодые люди щеголяют красными головными уборами с затейливыми украшениями. Здесь, кажется, собраны дамские прически и чепчики всех мыслимых видов. Много лиц бедняков: эти люди плохо схватывают смысл проповеди, но в них, несомненно, живет смутная надежда на то, что произойдет чудо, что дыхание благодати коснется их горестной жизни. В последний ряд слушателей затесались двое цыган. Приближаясь к картине, вы сначала заметите только яркие драпировки, заменяющие им плащи. Одному рассеянному мужчине, который повернулся спиной к Иоанну, вместо того чтобы слушать его и думать об обращении в истинную веру, цыган предсказывает по руке судьбу. Этот персонаж символизирует всех тех, кто предпочитает следовать советам прорицателей, а не слову Евангелия. Теперь, когда вопросы подосланных доносчиков иссякли, несколько человек с уставшими лицами задают Иоанну свой вопрос: «Учитель! Что нам делать?» — «У кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же». К нему подходят и сборщики налогов — несмотря на то, что люди бросают на них неприязненные взгляды. И слышат наставление: «Ничего не требуйте более определенного вам». Группа солдат тоже решается подойти к рабби — и взгляды людей становятся еще более враждебными. Неужели пророк будет столь наивным, что попытается уговорить их расстаться с оружием? Но тот просто сказал: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованьем».[103]
Выписывая с явным удовольствием яркий плащ цыгана, широкополую «китайскую» шляпу его жены (мы не видим лица женщины — только эту огромную соломенную шляпу и шерстяную белую с красными полосами накидку, да еще ребенка у нее на руках, который подносит ко рту кусок хлеба, одновременно высматривая, кто идет по дороге); изображая этот букет лиц, очень близких нам и разнообразных, как само человечество, Брейгель вслушивался в слова и ответы Иоанна Крестителя. Пророк требовал немногого: чтобы солдаты занимались только войной, чтобы они воздерживались от грабежа, от жестокого обращения с крестьянами. И Брейгель рисует лицо Христа — малозаметное в толпе, хотя оно и находится в самом центре картины, — придавая ему черты фамильного сходства с Иоанном, который еще прежде, чем впервые увидал Иисуса, своего двоюродного брата, возвестил его скорое появление. Иисус одет в длинную серую рубаху — как те, что собираются принять крещение в реке; как те, кого отправляют на костер. Брейгель обозначил — немногими скупыми мазками — и сам обряд крещения. А что это за пейзаж, церкви, горы на горизонте? Иудея ли это? Или Шельда, устремляющаяся к Антверпену, или Маас, текущий по равнинной Фландрии? Эта река — река времени. Где бы она ни находилась, в ней плещет вода Иордана.
Вифлеемская гостиница, где обосновались сборщики подати, занимает почти всю левую часть картины. Мы видим ее с высоты — как и весь пейзаж, людей и телеги в снегу, крепостную стену с потерной, развалины башни рядом с какой-то проломленной крышей, которую хозяин так и не удосужился починить. Гостиница называется «Зеленая корона»: припорошенная снегом корона из листьев подвешена к колышку, вбитому над входом. Маленькая группа людей терпеливо ждет своей очереди. Они жмутся друг к другу, чтобы было теплее. Солдат-алебардщик в красной шляпе прислонился спиной к высокому дереву (сквозь голые черные ветви, которые кажутся мертвыми, видно пунцовое солнце, опускающееся за линию горизонта). Петух и две курицы между большой лоханью и телегой с выбеленными пургой бочками склевывают со снега корм. Рядом кто-то пересчитывает разложенные на скамье монеты. Слуга из гостиницы режет свинью: женщина подставляет сковороду под струю крови, а на месте, куда упадет животное, заранее разбросали хворост. Гостиница стоит у реки, которая сейчас покрыта льдом и имеет зеленоватый оттенок. На другом берегу — еще одна деревня и церковь из розового кирпича. Рядом с гостиницей застряла во льду большая баржа, белая от снега. Крестьяне, нагруженные мешками, под тяжестью которых подгибаются их колени, опираясь на палки, пересекают замерзшую реку; кто-то тянет санки с большой бочкой, его товарищ подталкивает их сзади. Весной станет легче — мы будем возить свои пожитки на барже. В верхнем левом углу гостиничного фасада, под крышей, с которой свисают сосульки, прикреплена доска с эмблемой Кесаря — двуглавым черным орлом на красном фоне. А прямо под зеленой короной — большой и крепкий деревянный крест, часть оконного переплета.
Иосиф и Мария — на заснеженной площади Вифлеема. На них никто не обращает внимания. Обычная семейная пара, направляющаяся к гостинице. Мужчина в коричневом кафтане и большой шляпе несет на плече корзину и пилу; наверняка это плотник из ближайшей деревни, который и сейчас, несмотря на мороз, готов построить вам ригу или каретный сарай (вроде того, что виднеется вдали). Молодая женщина прямо сидит на осле, кутаясь в длинный плащ. Они только что перешли через ручей, на котором малыши катаются на санках и запускают волчки. Девочка постарше тянет за веревку табурет: на нем сидит один из ее братьев, а другой, самый младший, ожидает своей очереди. Большая птица опустилась на застрявшую в замерзшей воде бочку, присыпанную снегом. Всё это происходит в правом нижнем углу картины. Мальчик на берегу застывшего ручья привязывает коньки — сейчас он сорвется с места и побежит, заскользит по превратившимся в ледяные пруды выгонам, которые никогда не бывают так прекрасны, как на Рождество, под снежным покровом. Еще одна семейная пара пересекает ручей: мужчина в желтой шляпе держит на руках младенца, прикрывая его красной (с исподу) полой своего шерстяного плаща; жена идет следом, с трудом удерживая равновесие на льду. Картинки повседневной жизни.
Иосиф приближается к гостинице, пробираясь между двумя заснеженными телегами; одна из них, несомненно, нагружена зерном, на другой — винная бочка (мужчина сейчас нацедит из нее вино, если оно не замерзло). Посреди площади скособочился какой-то нищий домишко — хижина с провалившейся крышей; в качестве дымохода его обитатели приспособили старый улей, во дворе посадили чахлое деревце, к коньку крыши приделали маленький деревянный крест. Бык поравнялся с ослом, на котором сидит Мария, и с тревогой смотрит прямо на нас — тех, кто рассматривает картину. Не заприметил ли он, что к деревне подъезжает конный отряд, ощетинившийся пиками и копьями? Охотники возвращаются домой вместе со своей собакой. Женщина расчищает метлой дорожку в снегу, а рядом дети катаются на ледяной горке. Колесо мира медленно поворачивается. Телега сломалась, попав в рытвину. Ее отлетевшее колесо остановилось точно в центре картины.
Мария бесшумно поднимается по лестнице, неся на руках маленького Питера, чтобы еще раз показать ему заснеженный Вифлеем. Над Брюсселем тоже идет снег — и сквозь маленькие окошки на лестнице видно, что их сад весь укутан снеговой шубой, а крыши соседних домов побелели. Дверь в мастерскую открыта. Рядом с картиной, изображающей перепись населения и сбор податей, висит другая, о которой муж ничего ей не говорил. Это та же деревня и та же зима. Та же деревня с ее занесенными снегом крышами, толстым слоем снега на площади, припорошенными бочками, деревцами, которые тянутся вверх прямо из ледяной лужи. Те же желтые и красные дома, зубчатый щипец вдали, высокие голые деревья с черными ветвями на фоне зеленого неба. И посреди этой слепящей чистой белизны — отряд угрюмых всадников в латах и шлемах, с поднятыми копьями, который въезжает на площадь. Другие всадники, в красных кафтанах, уже заняли все улицы деревни. Ударами сапог, колами, алебардами солдаты ломают двери и глинобитные стены. Топорами разбивают ставни и, подставляя бочки, залезают на подоконники, а оттуда спрыгивают во внутренние помещения.
Эта картина — немой крик. Мария стоит перед Питером, держа на руках ребенка, который пытается ухватить отца за бороду или за плечо. Бело-красное полотно воспринимается в полутемной мастерской как взрыв. Вифлеем ли это, или земля вообще, или наша собственная страна? Марии кажется, что она находится в Вифлееме, в момент этой резни, среди женщин, которых уже ничто не утешит. Однако Питер не просто рисует так, как если бы сам видел происходившее при Ироде. Легко поверить, что он видел и то, чему вскоре предстоит случиться здесь. Эти солдаты Кесаря — не римляне, но испанцы. Этот тощий бледный кавалер, командующий ими, сейчас застыл неподвижно, как судья перед костром еретика, кавалер с длинной седой бородой, спускающейся на кирасу, — Брейгель знает, что еще увидит его лицо на здешних заснеженных улицах.
Картина-гризайль, написанная в те же годы, изображает
Эта женщина подобна овечке, которую добрый пастырь несет на плечах, спасает. Она олицетворяет всё человечество, которое тоже есть заблудшая овца и которому предстоит восстать во славе, преодолев смерть и сбросив с себя оковы времени. Она истекала кровью в ночи, но Христос поднял ее и осветил своим солнечным сиянием. Христос дал Самарянке Свое Слово — воду живую. А этой женщине, которая должна была умереть, Он подарил жизнь. У нее лицо Евы, уже познавшей запретный плод. Она — само человечество. Книжники и фарисеи, приведшие ее к Христу, хотели заманить Его в ловушку. Но Он — тот, кто прощает. И Он говорит: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».[109]
Граф Эгмонт отправился в Испанию, чтобы довести до сведения короля пожелания своих соотечественников. Он возложил на себя эту миссию по поручению Совета. И уехал в январе, в минувшем году. Бредероде, Нуаркам, Кулембург, Хогстратен и многие фламандские вельможи сопровождали его до Камбре. Там на прощание устроили несколько банкетов. Увидятся ли они вновь? Когда он скрылся из виду за деревьями, его друзья скрепили своей кровью торжественную клятву: они отомстят за любое зло, какое — не дай бог! — будет ему причинено. Дело в том, что он должен был пожаловаться королю на чрезмерные налоги, преступления инквизиторов, слишком долгое пребывание в Нидерландах испанских войск и дать Государю понять: деятельность инквизиции в принципе несовместима с обычаями страны; Семнадцать Провинций не в силах более терпеть столь жестокое обращение.
Если не считать Вильгельма Оранского, который уклонился от этого поручения, где они могли бы сыскать лучшего посланника? Граф Эгмонт — принц Гаврский, барон Брабантский, наместник Фландрии и Артуа, сын герцогов Гелдерландских и потомок королей Фрисландии. Он — кавалер ордена Золотого руна, а супруга его — принцесса Пфальцcкая. Когда король Испании решил жениться на Марии Тюдор, Эгмонт представлял жениха на церемонии венчания в Вестминстерском соборе. Он был императорским пажом, потом камергером; уже в девятнадцать лет стал капитаном кавалерии и проявил чудеса храбрости под Тунисом. Столь же доблестно он сражался под Сен-Кантеном и под Гравелином, где стяжал свои последние лавры. По приказу короля Франции маршал Терм, губернатор Кале, захватил Дюнкерк и Берг, стал совершать набеги на Фландрию. Король Испании поручил Эгмонту остановить его. Под графом убили двух коней, но к концу дня две тысячи французских солдат лежали мертвые в дюнах, а еще три тысячи — включая самого господина маршала — были захвачены в плен. На возвратном пути повсюду, вплоть до Брюсселя, графа встречали с огромным воодушевлением. «Этот человек любит, чтобы ему пели дифирамбы», — писал королю кардинал де Гранвелла.
Король лично пригласил Эгмонта в Мадрид. Филипп, обычно столь холодный и сдержанный во время аудиенций, узнав о прибытии графа, вышел из своего кабинета и быстрым шагом направился навстречу гостю, в большой приемный зал; он не позволил графу преклонить колено, даже поцеловать монаршую руку, но сам обнял его. Король принял его как испанского гранда. И Эгмонта ослепило величие Испании: этот двор, это господство над Новым Светом, эти поэты и художники, эти солдаты, непобедимые и на суше, и на море, это несравненное искусство изысканных манер, это высокомерие… Король предложил ему посетить Эскориал, который построил по обету, принесенному в день победы под Сен-Кантеном. А потом принял его в своих апартаментах в Сеговии. И все придворные обращались с графом самым любезным образом. Среди этих пиров, осыпаемый почестями и принимаемый повсюду с таким радушием, как мог он заговорить о несчастьях своей родины? Он все-таки попытался — и был вознагражден персональными милостями монарха. Филипп освободил графа от долговых обязательств и сам позаботился, чтобы будущее его дочерей было устроено наилучшим образом. Каждый лишний день, проведенный при испанском дворе, всё больше компрометировал Эгмонта в глазах его сограждан. Но когда он наконец отправился в обратный путь, расставшись с королем в Вальядолиде, он еще не понимал, что не выполнил своих обещаний. Он еще мог верить, что все милости, которые снискал, предназначались не столько для него лично, сколько для посланца Нидерландов. Он записал в дневнике, что чувствует себя самым счастливым человеком в мире, и по прибытии в Брюссель поначалу изображал из себя суверенного правителя, благодетеля отчизны. Однако очень скоро люди убедились в абсолютной беспочвенности его обещаний. Он и сам в этом убедился. Ему казалось, что из-за этой комедии, этого оскорбления, нанесенного ему испанцами, а также из-за упреков Вильгельма Нассауского он умрет от стыда и печали. Он покинул двор, стал вести затворническую жизнь в своих имениях. И всё повторял, что король нарочно подстроил эту ловушку, дабы унизить его, Эгмонта, в глазах соотечественников: «Если он так выполняет обещания, которые дал мне в Испании, то пусть Фландрией управляет кто угодно другой; я же, удалившись от дел, докажу всем, что не причастен к этому вероломству».
Но как вообще можно было верить в успех подобного посольства — после стольких напрасных обращений к королю, жалоб, уведомлений о положении дел, не возымевших никакого результата? Филипп никогда не любил северные провинции и их жителей. Он считает себя мечом Церкви, рыцарем католической веры, а вся эта страна, расположенная близко от Германии, кажется ему зараженной ересью: стоит поднять с земли сухую на вид ветку, и под ней обнаружится слизняк. Он не хочет и не может ослабить свою хватку на горле этой страны. Если уменьшить размеры податей, взимаемых с Фландрии, то как финансировать армию и флот, как сохранить господство Испании над Новым Светом, обретенным для Господа? И потом, эти земли — бастион против немцев и французов, против англичан. Именно благодаря Нидерландам он одерживает победы в Германии, во Франции (а эта страна — как знать? — однажды может войти в число его владений); к берегам Нидерландов направляются английские эмигранты, которых он субсидирует, чтобы они плели заговоры против Елизаветы. Он поклялся отцу быть верным союзником австрийского дома; для этого Испания должна быть сильной, Нидерланды же — необходимый источник ее силы. Экономические и политические интересы, ненависть, гордость, благочестие — всё соединилось, чтобы сделать сердце этого человека еще более непреклонным. Невозможно, чтобы он вдруг стал относиться к Семнадцати Провинциям гуманно и справедливо. Ближайшие и самые преданные советники порой нашептывают ему, что пришло время несколько смягчить режим правления в Нидерландах; но для него значимы только «государственные интересы» — а значит, он внемлет лишь голосу безумия.
Именно в тот момент, кажется, несколько молодых дворян заключили между собой тайное соглашение. Люди видели, как они скакали на лошадях от одного замка к другому, иногда по двое, по трое, иногда более многочисленными группами. Они объясняли, что направляются на воды к источнику Спа или на соколиную охоту. Однако у тех, кто собирается весело провести время, не бывает таких серьезных лиц. Они составили документ, который впоследствии назвали «Дворянским компромиссом», ибо он должен был удовлетворить и католиков, и протестантов. Вся эта компания, к которой примкнули и юристы, собиралась вести себя благоразумно и осмотрительно. В упомянутом документе, заявив о своей верности королю, они обязались препятствовать учреждению особой инквизиции в Нидерландах, а также просить Государя, чтобы он отменил существующие указы о еретиках, дальнейшие же мероприятия в этом направлении согласовывал с Генеральными штатами. То есть они требовали того, чего не смог добиться Эгмонт. В число этих молодых людей входили Николас де Гамес, которого называли Золотое Руно, потому что он был знатоком геральдики ордена; Гийом де ла Марк, будущий адмирал морских гёзов; Эскобек ле Лиллуа, жизнерадостный кальвинист, который никогда не расставался с четками и «Пантагрюэлем»; Жиль ле Клерк, секретарь Вильгельма Нассауского; Людовик Нассауский, брат Вильгельма; Ян и Филипп Марникс ван Синт-Алдегонде; Генрих де Бредероде, сеньор Вианена и маркиз Утрехтский. Тех, кто составлял документ, было немного — но они разъехались по провинциям; и уже через несколько дней сотни дворян подписали «Компромисс», поклявшись жить «как братья и верные товарищи, готовые протянуть друг другу руку помощи». Подписавшие в большинстве были мелкопоместными дворянами или младшими офицерами. Наличие подписи Людовика Нассауского позволяло им думать, что Вильгельм тоже одобряет их союз, и эта мысль придала смелости даже самым робким. Ни один кавалер ордена Золотого руна не подписал документ; но Вильгельм Нассауский посоветовал своим друзьям подать петицию регентше[110] (со всей подобающей такому случаю торжественностью). «Чем более мирно вы будете действовать, — писал он брату, — тем лучшим получится результат. Вы от этого только выиграете».
Генрих де Бредероде играет в этой истории роль карнавального великана. Он — в меньшей степени герой, чем глашатай; в меньшей степени актер, чем символ. Он — Силен, восседающий на бочке с пивом, но при этом человек большого, золотого сердца, истинный друг свободы, справедливости и веселья. Он — грубо намалеванный образ живой фламандской души. Все революции нуждаются в театральных масках; его маска — маска заразительного смеха. Присутствие Генриха де Бредероде придает Нидерландской революции характер праздничного шествия, кавалькады. Он поджигает настоящий порох — а люди думают, что речь идет всего лишь о потешных огнях, о карнавальных хлопушках. Правда, в тот самый момент Вильгельм Молчаливый сказал регентше: «Я чувствую, что назревает великая трагедия». Бредероде произвел свои три выстрела, но на дворе стоял веселый месяц апрель и его действия все еще воспринимались как шутка, развлечение. Итак, он выходит на сцену и поднимает занавес — подобно Прологу в елизаветинском театре. Он — мощный резонирующий голос, который вдруг разразился великолепной бравурной тирадой, озвучив «Компромисс», документ столь серьезный, что до сей поры его читали лишь шепотом, распространяли тайно. Персонаж «Крестьянской свадьбы» Брейгеля? Скорее — подвыпивший кавалер Франса Хальса: с оранжевой перевязью поверх кирасы, в кружевной рубахе, в большой фетровой шляпе с развевающимся страусовым пером; или — Вакх Иорданса. Пей, гуляй, брюхо набивай! Он всегда готов принять смерть от несварения желудка, как и от мушкетной пули. («Мы очень весело провели День святого Мартина, — написал как-то Вильгельм Нассауский одному из своих братьев, — ибо компания подобралась хорошая. Правда, я было испугался, что господин Бредероде отдаст Богу душу, но все обошлось».) Народ его любит. Простолюдины считают его «своим»: выходцем из их рядов, который стал сеньором. Он разговаривает языком моряков, докеров, крестьян, смех же его заражает всех. Именно он станет рупором молодых мятежников.
3 апреля 1566 года, около шести часов пополудни, — запомните эту перевязь розоватых облаков на небе, это славное и нежное знамя над городом и его округой, засеянной вплоть до самого моря башенками колоколен, — великолепный Бредероде, во главе отряда в две сотни всадников (все они дворяне, и все имеют при себе, в седельных кобурах или за поясом, пистолеты), въезжает в Брюссель и привязывает лошадь у крыльца отеля Нассау. Его спутники слышат, как он говорит: «Они думали, я не осмелюсь показаться в Брюсселе, а я уже здесь. Уеду же отсюда, быть может, совсем по-другому». Никто так никогда и не узнает, кого Бредероде имел в виду и какой отъезд себе представлял. Его спутники тоже спешились и стали искать пристанища на ночь. Одни устроились во дворце Нассау, словно были туда приглашены; другие — в отеле Кулембург. Все эти хождения туда и сюда создавали впечатление, что молодые люди собрались поохотиться или покататься на лодке. Они прогуливались от одного дома к другому, им хотелось побыть вместе, потому что предстояло скорое расставание. Они долго беседовали под прекрасными деревьями. Апрельское небо казалось легким, невесомым. Весь Брюссель ожидал взрыва. Взрыв грянул 5 апреля.
Что делает Брейгель в эти апрельские дни? Он, несомненно, находится в Брюсселе. Быть может, рисует для Кока «Свадьбу Мопса и Нисы-Замарашки» или «Встречу Валентина и Медвежонка». Это заказные работы, от которых он не стал отказываться, в которых вновь обращается к своим старым сюжетам, к мотивам, хорошо освоенным им еще во времена написания «Битвы Поста и Масленицы». Пусть он и не вкладывает в них особо глубокого смысла, но все же солдат, который держит в одной руке символ земного шара, а в другой — арбалет… Или, быть может, Брейгель сейчас работает над той единственной гравюрой, которую от начала до конца сделал своей рукой, — над офортом «Охота на дикого кролика». Просторный пейзаж с рекой, лодками, привычными уже дальними планами. И человек с арбалетом, который целится в маленького кролика, чью норку мы тоже видим. И еще один человек, притаившийся за деревом с пикой. Эти два охотника (у одного из них к поясу прикреплен длинный кинжал) — явно не крестьяне, а солдаты; люди, привычные к оружию. Разве у них нет другой добычи, кроме этих кроликов, даже не чующих опасности?
Что делает Брейгель? Может, он только что начал «Нападение» (картину, которую закончит и подпишет в следующем году)? На ней мы видим, посреди голых полей (или участков земли, лежащих под паром), мужчину и женщину, которых с угрожающим видом окружили три здоровенных солдата — гротескных и страшных в своих съехавших на глаза шлемах; женщина в отчаянии стиснула руки, ее молодой спутник читает молитву. Они стоят на перекрестке дорог; борозды и колеи, мнится, убегают вдаль, гонимые ветром; плоская, круто обрывающаяся возвышенность вызывает головокружение; мир вокруг этих попавших в беду людей и их мучителей пустынен. Мертвое дерево… Быть может, это Дева Мария и святой Иоанн, терзаемые у подножия Голгофы римскими псами-солдатами или, скорее, вооруженными, как солдаты, разбойниками, дезертирами, которые живут грабежом.
Или он пишет «Доброго пастыря», защищающего свое стадо от волков, и «Нерадивого пастыря», который бежит от опасности, забыв об овцах? Нападение разбойников; волк, бросающийся на пастуха; другой пастух (жирный, как прелат), спасающий свою шкуру, — все эти сцены разворачиваются в одном и том же пейзаже, среди пустынных глинистых полей, печальной осенней порою или зимой. Куда подевались краски того сияющего утра, когда некий пастух наблюдал за полетом Дедала, а рядом с ним крестьянин в красивом кафтане обрабатывал свое поле? Кажется, холод заморозил само сердце мира. Или это сердце Брейгеля сжалось из-за тех бедствий, которых он насмотрелся в деревнях? Или он размышляет о добрых и нерадивых государях, о преступлениях королей, которые творятся в потаенных уголках леса руками звероподобных сержантов? Или думает о Христе, единственном истинном пастыре?
Он всегда искал и обретал свет у фонаря народных пословиц, у таинственного солнца библейских притч. Пока он писал эти большие картины, на которых преобладает цвет земли, а пейзаж как бы пытается убежать, но в то же время скован холодным оцепенением одиночества, у него перед глазами стоял рисунок, выполненный им в прошлом году, — гравюру с него сделал Филипп Галле. Гравюру легко принять за обычную икону для простонародья. И действительно, во многих крестьянских домах Фландрии ее пришпиливают к стене на кухне: когда семья садится обедать и все произносят благодарственную молитву, на нее поднимают глаза. Но для Брейгеля эта гравюра — не столько заказная работа, сколько символ веры. Христос стоит в прямоугольном дверном проеме хлева; у его ног теснятся овцы, а одну овечку он держит на плечах. Этот хлев — тот самый хлев Рождества, в котором маленький Иисус когда-то лежал в яслях, на соломе; но в то же время открытый проем — проем гробницы, из которого Христос выйдет, победив смерть. Так что же, это одно и то же место — тот грот, куда приходили пастухи и волхвы, и та совсем новая гробница, в которой Господь Наш преодолел смерть, как преодолеем ее все мы? Родившись, Он спустился в долину смерти, подобно каждому из нас; приняв смерть, Он родился для Воскресения. Вот Он стоит в прямоугольном дверном проеме. Сказано ведь: «Я есмь дверь».[111] Каждый может прочитать написанные на верхней перекладине двери слова:
Через пролом в крыше протискиваются толстые воры; другие проделали дыры в стенах и пытаются вытянуть через них добычу; солдат, монах, простолюдин — все они хватают овец за ноги или за загривки. Хлев построен у подножия горы. Если бы перед нами в самом деле было изображение Рождества, мы бы увидели на горе ликующих, забывших о морозе пастухов! А также ангелов, которые, как и пастухи, играют на флейтах и волынках. Но на этой гравюре в левом верхнем углу изображен добрый пастырь, который полагает жизнь свою за овец; в правом же — нерадивый пастырь, который оставляет овец и бежит. Христос сказал: «Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня».[114] И еще: «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец».[115]
Так что же делал Брейгель в апреле 1566 года? Был ли он настолько поглощен надвигающимися событиями, что на время забросил карандаши и кисти? Или, напротив, полагал, что его долг — выражать свое возмущение какими-то сторонами жизни и свои надежды на лучшее, создавая картины? Невозможно, чтобы он оставался в неведении относительно дипломатической миссии и последующего возвращения графа Эгмонта, политической жизни Конфедерации, «Компромисса». Что он говорил обо всем этом Марии? Что она отвечала ему? Вспоминал ли он тот далекий вечер у Корнхерта, их тогдашние мысли? Мне трудно представить его среди тех, кто восторженно провожал глазами гарцующих молодых дворян, членов новой лиги. Если он и смотрел на них, то скорее с тревогой, чем с надеждой. Тот апрель был на редкость солнечным, радостным, и многие говорили себе, что гнет испанской зимы скоро кончится, — но мне почему-то кажется, что у Брейгеля, когда он смотрел на первую траву в своем садике, пробившуюся у желто-розоватой стены, на душе было тяжело.
Аплодисменты и радостные крики на всем пути следования конного отряда. Колокола отзванивают полдень — и люди готовы поверить, что звон этот возвещает освобождение, праздник. Две сотни молодых дворян (а может быть, вдвое больше), парами, с Бредероде во главе (или он замыкал колонну вместе с Людовиком Нассауским?), сопровождаемые небольшой группой бюргеров Антверпена и других городов, направляются ко дворцу регентши. Она заранее знала об их прибытии и готова их принять. Она уже слышит, как шумит и ликует за дворцовыми стенами и деревьями парка толпа, приветствуя героев — таких юных, таких красивых, воплощающих в себе надежды народа. Она, дочь Карла V и простой служанки из Ауденарде, с радостью удовлетворила бы все требования Вильгельма — но вынуждена повиноваться своему брату, королю. Ей так легко жилось в Парме, во Флоренции! А здесь она должна выполнять свои обязанности в немыслимо сложной, непредсказуемой ситуации. Она знает о страданиях народа и сочувствует ему. Она так устала, что ее начинает знобить. Она плачет. Но подобает ли ей плакать перед членами лиги? «Неужели, Мадам, — обращается к ней один из советников, кажется, граф Берлемонт, — вы боитесь этих нищих?» И тут в зал Совета входит Бредероде, сопровождаемый несколькими дворянами. Это ему поручили зачитать вслух петицию, прежде чем передавать ее регентше. Он и читает — громовым голосом. Необходимо отменить указы Карла V против еретиков: времена изменились, и даже если применять эти указы с умеренностью, сие приведет только к тому, что в скором времени страну охватит всеобщий мятеж. Необходимо упразднить инквизицию в Семнадцати Провинциях, где людей давно от нее тошнит. Наконец, необходимо, чтобы Его Величество соизволил издать ордонанс по религиозным вопросам, с ведома и согласия Генеральных штатов. Петиция прочитана, ее кладут перед Маргаритой Пармской. Бредероде склоняется в преувеличенно глубоком поклоне. Другие члены лиги следуют его примеру. Их излишняя почтительность воспринимается присутствующими как насмешка над регентшей и королем, как предвестие смуты. Сразу после этого делегация покидает дворец Кауденберг — пройдя по галерее, на которой десять лет назад император Карл отрекался от престола, опершись рукой о плечо Вильгельма Оранского, своего пажа. Вспоминают ли они о том дне? Видят ли — вновь — замкнутое, болезненное лицо Филиппа, короля Испанского, речь которого зачитывал Гранвелла, епископ Арраса, потому что сам король не умел изъясняться ни по-французски, ни по-фламандски? Тогда Филипп обещал часто посещать Нидерланды, уважать обычаи, вольности, льготы и привилегии этой страны; защищать католическую веру. Пока кардинал зачитывал его речь, Филипп молчал. Но молчание было очень весомым.
Молодые дворяне в течение двух-трех месяцев готовились к этой встрече, которая закончилась почти мгновенно. Теперь они ощущают некоторую неудовлетворенность и растерянность. Ответ придет не раньше чем через несколько дней. Предвидел ли Бредероде, что за подачей петиции неизбежно последует спад воодушевления? Как бы то ни было, они не могут расстаться без прощального банкета. В отеле Кулембург уже накрыты семь столов для тридцати приглашенных. Вторая половина дня проходит незаметно — за разговорами, взрывами смеха. Вечереет. Зажигают факелы. На эстраду поднимаются музыканты. Погреба и кухни дворца переполнены пищевыми припасами — лучше бы здесь было столько же пороха и аркебуз. Теперь ли, когда пиршество достигло апогея, или еще раньше, днем, было произведено это шутовское нападение на попрошаек Брюсселя, в результате которого у них отобрали нищенские сумы и чаши для подаяния? Во всяком случае, когда Бредероде, всклокоченный, веселый, поднялся из-за стола и прокричал свой тост: «Они обошлись с нами как с нищими?! Ну что же! За здоровье нищих!» — все золотые и серебряные кубки мгновенно исчезли со стола и на их месте оказались деревянные чашки бедняков. «Да здравствуют нищие! Да здравствуют гёзы!» — эти слова повторялись беспрестанно, с каждым новым тостом. «Друзья, — громогласно заявил Бредероде, — поскольку те, во дворце, почитают нас за нищих, отныне у нас есть все основания пить вино из деревянных чашек и носить нищенскую суму!» Так он произвел еще один выстрел. Теперь мятежные дворяне обрели имя и боевой клич, обрели эмблему.
Быть может, эта выходка к утру была бы забыта, если бы Горн, Эгмонт и Вильгельм Нассауский не заглянули сюда, чтобы разыскать среди гостей Хогстратена — регентша пригласила всех четверых к себе, желая посовещаться с ними.
Пригласила среди ночи? Это было для нее в порядке вещей; к тому же утреннее событие чрезвычайно ее встревожило. Вновь пришедшие не собирались входить в пиршественную залу, но, услышав шум, решили уговорить героев разойтись, наконец, по домам. Не следовало давать Испании лишний повод для недовольства, и у них были основания опасаться последствий столь буйного кутежа. Едва вступив в залу, они увидели эти возбужденные лица. Увидели, что на груди некоторых гостей висят (наподобие нового орденского знака) деревянные чашки, а через плечо, как у нищих, перекинуты холщовые сумки. Этот маскарад не понравился Горну и Эгмонту, Вильгельма же сильно обеспокоил. Им уже протягивали деревянные чашки, предлагали выпить, убеждали присоединиться к общему тосту: «Да здравствуют гёзы!» Если они и отведали вина, то едва пригубив. И, конечно, не произнесли ни слова. За них кричали другие. Кричали: «Да здравствует Вильгельм Оранский! Да здравствует Горн! Да здравствует Эгмонт!» Их приветствовали так, как войска могут приветствовать трех победоносных генералов. Они отказались от своего намерения призвать эту компанию к умеренности. Хогстратен присоединился к ним, и они вышли из залы. Горн потом говорил, что они оставались там ровно столько времени, сколько нужно, чтобы прочитать
Маргарита Пармская не стала медлить с ответом. Она отправила посольство в Испанию,[116] сама же занялась инквизиционными судами, пытаясь смягчить суровость их приговоров. Члены лиги покинули Брюссель. Видел ли Брейгель, как они выезжали через ворота Халлепорт, одетые, по большей части, в серое или коричневое, словно нищие? Оказавшись по ту сторону ворот, Бредероде разрядил свои пистолеты в воздух и галопом помчался в сторону Антверпена. Вильгельм в это время находился в своем поместье в Бреде, и Людовик воспользовался его отсутствием, чтобы временно приютить во дворце Нассау тех, кто читал проповеди в близлежащих селениях и лесах. Эти собрания проводились на рассвете, с соблюдением всяческих мер предосторожности — но очень скоро все в городе уже были наслышаны о них. Ювелиры начали изготавливать крошечные золотые чаши для подаяния, которые использовались в качестве женских украшений или прикалывались на элегантные береты молодых людей. Крики «Да здравствуют гёзы!» раздавались на всех улицах — и даже у самой решетки дворца Кауденберг. Если раньше некоторые горожане бросали вызов кардиналу Гранвелле, прикрепляя к одежде красные погремушки или лисьи хвосты (намек на его лицемерие — или знак солидарности с его противником Симоном Ренаром)[117], то теперешние выходки гёзов были вызовом Испании и Церкви. Каждый день изобреталась какая-нибудь новая игра. Например, появились медали из воска, на одной стороне которых помещалось изображение сцепленных рук и девиз «Верные Королю», а на другой — изображение холщового мешка и слова: «Вплоть до нищенской сумы». Музыканты устраивали шествия и распевали хором песни, высмеивающие католический клир; во всех этих песнях повторялся рефрен: «Да здравствуют нищие! Да здравствуют гёзы!» В городе распространялись оскорбительные для властей пасквили и гравюры. На одной из таких гравюр три персонажа раскачивают колокольню, которую пытаются удержать в вертикальном положении епископы и священники. Подпись под первой группой действующих лиц гласит: «Лютеране в Германии, гугеноты во Франции, гёзы во Фландрии — мы низвергнем Римскую церковь». А под второй: «Если они будут продолжать в том же духе — прощай Папа и его шарашка». В Антверпене напечатали, а потом многократно перепечатывали гравюру, на которой были представлены «налагай»
Вильгельм Нассауский, виконт Антверпена, во исполнение народной воли и по поручению регентши обеспечивал порядок в этом городе. Антверпенцы переживали трудные времена: в порту не хватало работы. Протестанты — немцы, англичане, выходцы из разных частей Нидерландов — всегда пользовались здесь относительно большой свободой, что было неизбежно в столь крупном портовом городе. Вильгельм убедил муниципалитет открыть новые верфи, чтобы занять безработных. Кальвинистов же он уговорил не устраивать собрания за пределами города — или, во всяком случае, не брать с собой оружие, — пообещав, что никто не будет устраивать на них облавы. Совпадение интересов кальвинистов и голодающих бедняков не могло не привести к социальному взрыву, который и произошел, как только Вильгельм был послан с каким-то поручением в Брюссель и оставил город без присмотра. Принц и так задержал свой отъезд, чтобы присутствовать на празднике Успения. По обычаю в этот день по улицам Антверпена проносили маленькую черную статую Богородицы (из местного собора), убранную ради такого случая бриллиантами, золотом и серебряными кружевами, со скипетром и в короне. Отказаться от участия в процессии значило, как казалось Вильгельму, предоставить мятежникам свободное поле деятельности и дать Филиппу II повод вмешаться в здешние дела. Поэтому в день шествия сам Вильгельм, его жена и брат Людовик стояли на балконе ратуши и осенили себя крестным знаменем, когда мимо проносили статую Девы Марии. Если не считать того, что несколько мальчишек кричали: «Марион, Марион, это твоя последняя прогулка!» — никаких беспорядков в городе не наблюдалось. Может быть, гражданский мир постепенно все-таки будет восстановлен?
Во вторник 20 августа, ближе к вечеру, какой-то пьяница влез на кафедру собора Богоматери и стал кричать: «Приветствую тебя, Мариетта плотников, Марион иконописцев! Скоро тебе попортят фигурку!» Его прогнали. Он снова вернулся. Тех, кто его гнал, к тому времени избили прикладами мушкетов (некоторые из присутствовавших в церкви прятали под плащами оружие). Собралась толпа, и в соборе начался погром: немногие участвовали в нем, движимые благочестием и страхом перед идолами; другие просто хватали всё, что могли, дабы набить чем-нибудь голодное брюхо и прибарахлиться. Наступила ночь; толпа еще более увеличилась, собор стал похож на лавку торговца краденым, и грабеж продолжался уже при свете факелов. Принесли приставные лестницы, чтобы добраться до витражей и тех статуй, что располагались слишком высоко. В ход пускали молотки, мотыги, дубинки, колотушки. Священники спрятали маленькую черную Богородицу в боковом приделе, в нише, прикрытой железной пластиной, — но чудотворную статую нашли, играли с ней, как с куклой, сорвали платье, разломали на мелкие куски. Казалось, единый звериный крик перекатывается под сводами собора. Очень скоро от всех богатств и чудес, от всего, что Церковь почитает драгоценным и священным, осталась только куча обломков на полу, среди зловонных испражнений и блевотины. Грабители действовали с такой яростью и так быстро, что еще прежде, чем рассвело, в городе не было ни одной церкви, часовни или монастыря, которых не постигла бы та же ужасная участь.
Вскоре сформировалась банда, объединившая около трех тысяч фламандцев и валлонов[118] (последние в здешних местах были в основном землекопами и работниками на фермах). К ней присоединилось примерно двадцать всадников — судя по внешнему виду, людей благородного происхождения. Разбившись на группы по двадцать человек, члены банды врывались в церкви, ломали статуи, оскверняли или сжигали картины. Они разрывали на длинные полосы балдахины и хоругви, подрясники, епитрахили, ризы и все другие священные облачения, которые часто шились из парчи. Из этих полос они делали знамена, тюрбаны и ропильи,[119] как бы в насмешку пытаясь придать себе облик турок. Они оскверняли церковные реликвии. Самые озлобленные бандиты взламывали раки, выбрасывали на ветер (заодно разбивая витражи) священные останки и еще подсмеивались над этими дурно пахнущими костями, неотличимыми от обычных скелетов.
Иконоборческое движение —
Повсюду в стране происходили бесконечные мелкие стычки между католиками, лютеранами, кальвинистами и анабаптистами; между крестьянами и солдатами. Ландскнехты и рейтары из Германии, валлонские
Побывав в музеях Бельгии, я впервые задумался о шедеврах, которые исчезли в тот год, погибли под топором или в огне. Сколько картин ван Эйка и Мемлинга было растоптано сапогами, подобно старым половицам! Сколько скульптур, которые вмещали в себя всю нежность и трагичность мира, ибо повествовали о страстях Господних, было разбито! Прошло тридцать лет, а у ван Мандера все еще сжималось сердце, когда он думал об этом. Рассказывая о «Распятии» Хуго ван дер Гуса из церкви Святого Иакова в Брюгге, он пишет: «Изумительная красота этой картины спасла ее от уничтожения во дни зверского разрушения храмов; но позже, когда церковь стала местом протестантских проповедей, этот шедевр использовали, чтобы записать на нем черными буквами по золотому фону Десять Заповедей. И сие было сделано по совету некоего художника, его рукой! Я умолчу об имени этого человека, дабы никто не мог сказать, что представитель нашей профессии стал пособником уничтожения прекраснейшего творения — творения, которое сама Живопись не могла бы созерцать без слез. По счастью, старый красочный слой оказался весьма прочным, а золотые буквы и черный фон слились в плотную красочную массу на масляной основе. Она местами шелушилась, и ее всю позже удалось удалить».
Брейгель перебирал в памяти все картины, которые так подолгу рассматривал, когда путешествовал по Фландрии; картины, оказавшие значительное влияние на его собственную манеру письма. От многих из них не осталось ничего, кроме воспоминаний, да и те скоро исчезнут. Почему некоторые протестанты с такой яростью уничтожают образы Бога, ставшего человеком? Эти люди опасаются идолов, отвергают их. Но разве они не понимают, что тот, кто молится перед образом Богородицы или Христа, перед иконой Всех Святых, обращается не к раскрашенному дереву или размалеванному холсту, но к сердцу незримого Бога, присутствующего среди нас? Разве они никогда не видели, что у тех бедных женщин, которые молитвенно складывают руки перед распятым Христом, глаза закрыты — или наполнены светом иного мира? Разве не замечали, что человек, преклоняющий колени и благоговейно касающийся губами деревянного распятия, подобен той робкой женщине, которая осмелилась прикоснуться только к краю одежды Иисуса — и все равно исцелилась?[120] Господь стал человеком, принял наш облик, ибо наш дух, отягощенный плотью, не может возвыситься и приблизиться к тайне иначе как через осязаемые и зримые образы. Бог обрел человеческую плоть ради того, чтобы когда-нибудь наш дух облачился нетленной плотью. Мы не в силах летать как ангелы! Мы можем оторваться от земли только с помощью лестницы. Зримый образ и есть такая лестница к сокровенным тайнам души. Но, кроме того, образ — это чувственно воспринимаемая форма Евангелия. Это жест, сопровождающий и подкрепляющий слово. Это слово для наших глаз. Поскольку апостолы уже рассказали о жизни Господа Нашего и Он Сам дал нам узреть ее глазами духа, то будет хорошо, если мы узрим ее, как бы отраженную в зеркале, также и нашими земными глазами. Хорошо увидеть, как Христос и его ученики срывают колосья на наших полях; ведь это значит, что усталость и голод тех, кто последовал за Ним, заботят Его больше, нежели праздники и предписания фарисеев.[121] Хорошо увидеть Его, принявшего облик человека, под нашим грозовым небом, на нашей согретой летним солнцем земле, на пристани Антверпена или Дюнкерка. Тем, кто отвергает зримые образы святых и Христа, кто презирает веру своих братьев, ничего не стоит ударить человека по лицу: они не видят в этом лице подобия лика нашего Спасителя. Правда, и многие из тех, что почитают образ распятого Христа, воскуряют перед ним фимиам, способны на следующий или даже в тот же день пригвоздить своего ближнего к двери принадлежащего ему дома, сжечь его, как сжигают грязные тряпки, или просто с равнодушием пройти мимо, когда он умирает от голода.
Сосредоточенно обдумывая все это, Брейгель тем не менее старался работать так, будто ничто не нарушает его покой. На гибель стольких картин, уничтожение стольких скульптур он мог ответить только своим трудом. Он работал, как старые мастера: самозабвенно, моля Господа помочь ему, очистить его помыслы, открыть его сердце для восприятия евангельской мудрости и мудрости нашего мира, направить его неумелую руку. На тупую ярость — но ведь тех несчастных, что топорами разрубали на куски драгоценные плоды человеческого терпения, довели до отчаяния жестокости католиков — нельзя было отвечать злобой. Ее нужно было понять. И простить. Как можешь ты, Римская церковь, жаловаться, что люди разбивают твои иконы, расхищают твои богатства, — ты, благословляющая палачей, которые терзают сегодняшних нищих мессий? Они погубили деревянные статуи; ты же каждый день предаешь смерти, пытками доводишь до безумия тех, за кого Христос отдал Свою жизнь, — руками палачей, предвосхищающих твои желания.
Он пишет. Он работает. Он противопоставляет озлобленному безумию разрушения свой труд живописца, мудрость живописи. И на доске рождается тот образ, который формируется в его душе, вырастая из евангельского текста. Он, Брейгель, вслушивается в слова, собранные и записанные уже после того, как Бог говорил с человеками. Он в мыслях своих проходит весь путь апостолов — след в след. Он будет свидетельствовать об этих людях, которые своими руками дотрагивались до тела Христа, когда Тот проходил через стены, дабы поддержать в них огонек веры — более хрупкий, чем пламя свечи на ветру.
Поседевшие, белобородые, состарившиеся на дорогах мира, с телами, согбенными под гнетом лет, одеревеневшими, исхудалыми, все верные апостолы собрались здесь, как сыновья рядом со своей матерью; собрались, как они собирались в ночь Тайной Вечери или в тот день, когда на них снизошел Святой Дух, — собрались в доме Марии, двери которого закрыты. В доме, где Мария умирает, как предстоит умереть каждому из нас. И Павел, который не видал Господа глазами плоти, но был ослеплен грозным и сладостным светом Его Слова, тоже присутствует здесь, вместе с другими: он обнял Петра, неподвижно застывшего на пороге, и Иоанна, который первым вернулся в Иерусалим, любимого ученика Христа, по сути — Его сына. Апостолы окружили кровать Марии, как некогда окружали Христа. Каждый из них получил весть там, где находился, — а находились они очень далеко друг от друга, проповедовали, трудились, даже не зная, все ли они еще живы. Петр был в Риме, Фома — где-то в глубине Индии, Иаков — в Иерусалиме, Марк — в Александрии. Они получили весть так, как получили ее волхвы. Они восприняли ее во сне (хотя к кому-то сон этот пришел среди бела дня) и, как во сне, отправились в путь по пыльным или каменистым дорогам, по ледяным тропам над головокружительными горными пропастями, через ночные заснеженные леса — чтобы последний раз в своей земной жизни собраться всем вместе. И вот они собрались. Андрей (брат Петра), Лука, Симон, Филипп, Фаддей, уже не принадлежащие этому миру, тоже вернулись, чтобы бодрствовать у постели Марии. Сердца всех апостолов болят одной болью и светятся одним светом. Они — Церковь, и Церковь эта едина, как едина семья, в которой все любят друг друга.
Вот они собрались в этом доме, полном теней. Когда Мария покинет сей мир, когда станет недоступна для их глаз и рук и они не смогут больше видеть ее, слышать ее голос; когда дом опустеет, навсегда лишившись ее присутствия, — это будет, как если бы Иисус покинул их во второй раз; как если бы порвалась осязаемая нить, напоминавшая о Его приходе на землю. Конечно, Он останется с ними до скончания времен — в их духе, в их любви, в таинстве Евхаристии; но вере их всегда была свойственна некоторая тяжеловесность, приземленность, и приходили они к ней медленно, с трудом. Для того чтобы убедиться в близости Бога, им нужно было трапезничать с Ним за одним столом — и видеть, как на этом столе буднично поблескивает в лучах солнца глиняный кувшин; они и сейчас хотели бы держать в своих руках Его руку, дотрагиваться до Его Божественной плоти.
Высокое пламя бьется в камине. Кошка свернулась калачиком и спит у огня. Блестит прислоненная к стене медная грелка. На столе — горящая свеча, оловянные тарелки, кувшины. На выступе стены — еще две большие свечи. На стуле — закрытая книга. Другие книги громоздятся на каминной полке, а выше, на стене — изображение ангела, держащего в руке то ли меч, то ли лилию. Под столом валяются сандалии. Смерть придет в обычную жизнь. Никто не прибирал комнату; все вещи остаются там, где были оставлены вчера, сегодня утром. Высокое пламя горит в камине, и мы слышим непрерывное потрескивание дров, гудение ветра в дымоходе. Это поздний ноябрьский вечер? Или уже ночь? Наверное, ночь. На полу возле камина рассыпаны уголья; вокруг них — ободок пепла, такого нежного, нежного как шелк; кажется, вся комната окрашена цветом, и нежностью, и печалью пепла. Кажется, сама картина создана из пепла и пепел этот пронизан светом. Увидим ли и мы в наш последний день, в наш последний час, как сияет жизнь за драпировками смерти? Эта комната, в которой Богоматерь готовится к своей кончине, эта серая печальная комната, освещаемая свечами и по-зимнему жарко натопленным камином, — ее озаряет такой живой свет!
Мария лежит в постели. Какая-то женщина поправляет ей подушку. Перед глазами Марии, в ногах кровати, на другой, наклонно поставленной подушке, — образ ее распятого Сына. Ее лицо озарено светом, который исходит не от огня в камине, не от свечи на круглом столе, не от больших свечей. Вокруг нее стоят постаревшие апостолы, горюющие, как горюют в час расставания с близким человеком все смертные. Петр, облаченный в ризу, протягивает ей восковую свечу (из тех, что дают умирающим в момент агонии); и она, родившая Свет мира, берет эту свечу, как если бы Сам Господь захотел, чтобы мы, умирая, исполняли такой обряд. Небесная Дева, цветок человечества, сокрушившая Дракона тьмы и воссиявшая как луна и солнце;[122] Дева Мария, царица дщерей иерусалимских, слеплена из той же глины, что и мы. Она не хочет избавить себя от мучительного перехода, ибо она — само человечество. Она пройдет через врата смерти, как сделан это Бог, ставший человеком. И апостолы не могут сдержать слез, хотя и говорят себе, что их печаль свидетельствует о недостатке веры.
Человек, который спит (или предается экстатическим видениям), сидя на стуле у огня, со сцепленными на коленях руками, и кажется очень юным, — это Иоанн? Да, это Иоанн, тот самый, к кому Иисус обратился умирая: «Се, Матерь твоя!» — сказав перед тем Марии, ослепшей от слез: «Жено! се, Сын Твой».[123] Почему он сидит в стороне от всех? Потому ли, что обессилел от горя и усталости? Нет; если у него закрыты глаза, то лишь потому, что провидец Иоанн сейчас созерцает Христа и ангелов во славе, как бы просвечивающих сквозь пепельно-серый воздух комнаты, в которой умирает Мария. Свет, исходящий от нее; свет, коим сияет ее лицо; свет более живой, чем высокое пламя в камине, — этот свет есть не что иное, как отблеск солнечной обители Христа и Его ангелов. Иоанн видит все это во сне — как позже увидит на каменистом острове Патмос сияние Небесного Иерусалима, Вечного Града, в котором даже память о слезах изгладится навсегда. Иоанн созерцает славу незримого Христа.
Или так: это Иоанн; он сидит на стуле с высокой спинкой, как если бы внезапно, после долгого бдения у постели умирающей, его одолел сон; он соединил руки поверх плаща, которым прикрыт, и его дорожный мешок соскользнул на землю. Но как может быть, что он остался таким молодым, тогда как другие апостолы успели стать стариками? Если он держится в стороне — а должен был быть ближе всех к кровати, на которой мать Господа уже принимает в руки церковную свечу и смотрит на поставленное перед ней распятие, — значит, он находится в другом месте, в другом времени. Он не присутствует в этой комнате реально. Он в своем духе видит этот час, когда душа Марии расстается с телом. Этот образ — его видение. Вот почему у края кровати (рядом с занавесью и сундучком с маслом для последнего помазания) стоит на коленях монах из будущего, христианин наших дней, держа в руке маленький, еще беззвучный колокольчик, который вскоре возвестит начало погребальной церемонии. Вот почему женщины и мужчины, которые теснятся в затененной глубине комнаты, вне круга апостолов, — быть может, вовсе не жители Иерусалима, а мы сами; мы, обреченные на неизбежную смерть и верующие в Воскресение Христово.
На «Успении Богородицы» проставлена плохо различимая дата. Брейгель написал эту картину для своего друга Абрахама Ортелия, географа. Кажется, те немногие случаи, когда он работал в такой манере — в технике гризайль, используя минимум красок, смешивая тени и свет, — были не столько занятиями живописью, сколько молитвой. Кажется, такие картины рождались в сокровенных глубинах его души и он находил их, как Иоанн свои видения, устремив взгляд в собственное сердце, где сияла Книга и перед ней горел огонек свечи.
Очень может быть, что Ортелий заказал другу это «Успение Богородицы» как раз к тому празднику 15 августа 1565 года, о котором рассказывалось выше. Возможно, Ортелий уже задумывался о своей смерти и хотел иметь этот образ перед глазами каждый вечер, когда произносил слова «ныне и в час нашей смерти»; произносил, представляя себе миг, когда два эти момента соединятся в одно на обочине дороги Времени — подобно тому, как встречаются два пешехода, которые шли навстречу друг другу, или как соединяются в молитвенном жесте наши руки.
По просьбе Ортелия была напечатана в нескольких экземплярах гравюра с этой картины; оттиски он подарил друзьям. Внизу гравюры помещались латинские стихи, возможно, сочиненные им самим: «Дева, когда ты обретешь нетленное царство Сына твоего, сколь дивное ликование наполнит твое сердце! Что могло бы обрадовать тебя больше, нежели вознесение из земной темницы к столь желанному горнему храму? Но когда ты покинешь святое собрание тех, для кого была опорой, какая великая печаль охватит тебя! Печальные и радостные одновременно, стояли вокруг тебя, отходящей, и твои благочестивые близкие. Чего еще могли бы они пожелать для тебя, если не твоего царствия, и что могло опечалить их больше, нежели утрата возможности лицезреть тебя? Эта картина, созданная мастером, учит нас на примере праведных тому, как — с радостью — нести свою боль».
Маленький Питер кажется таким смышленым, когда сидит в мастерской отца, на скамеечке, поставленной здесь специально для него. Запомнит ли он этот сероватый пасмурный день и воркующих на крыше голубей? Ему три года. Он жует бутерброд, намазанный вареньем. Когда покончит с ним, вернется к листу бумаги, на котором рисует карандашом или кисточкой, как его отец и бабушка; а может, станет раскрашивать гравюру. Запомнит ли он эту картину, рождающуюся на его глазах, — сказку, которую не слушают, а рассматривают? К стволу дерева приделана, как к подставке, кольцеобразная столешница; она немножко наклонена вперед, но не настолько, чтобы кувшины или тарелки соскальзывали вниз. У подножия дерева спят блаженным сном: школяр, подложивший под голову чистые листы бумаги (рядом с ними лежит и книга); крестьянин с цепом; солдат с длинным турнирным копьем. Школяр, в белой рубахе и охряно-красных шоссах,[124] растянулся на своем подбитом мехом плаще. Крестьянин довольствуется простой одеждой жнеца. Солдат, чья латная рукавица валяется рядом в траве, облачен в кюлоты[125] темно-красного цвета (с черными поперечными полосами); почти такого же цвета и подушка, на которой покоится его голова. Земля медленно поворачивается, и три персонажа вместе с ней — как фигурки на карусели, как лотерейное колесо. Они нисколько не беспокоятся ни о погоде и видах на урожай, ни об арене для ристалищ, ни о пюпитре и перьях. Они спят, дремлют или просто отдыхают, грезят, устремив мечтательный взгляд в облака. Они спят в мире и покое — вокруг дерева, на буйно разросшейся траве. Когда они проснутся от нежных звуков музыки, им достаточно будет открыть рот, зевнуть — и на столе снова появится множество вкусных блюд. Они спят. Их тела образуют приятную для глаз гирлянду. Их укачивает легкий ветерок сиесты. Сама земля служит им мягкой постелью. Поверхность грунта скорее бережно поддерживает их, как вода — отдыхающих пловцов, нежели испытывает давление их веса. Тарелка с едой на постеленной прямо на земле белой скатерти приготовлена для четвертого гостя. Мимо «кактуса», целиком состоящего из золотистых булок, пробегает поросенок — уже зажаренный, с кухонным ножом, заткнутым за пояс. По траве семенит на маленьких ножках яйцо, сваренное всмятку, с предусмотрительно воткнутой в него ложечкой. Некий кавалер, устроившийся под навесом, который сплошь усеян сладкими пирогами, глотает жареного жаворонка — лакомая птичка свалилась ему в рот прямо с неба. Так и живут в Стране лентяев: незаметно переходя от отдыха к подкреплению сил и от подкрепления сил — к отдыху.
Питер Младший на всю жизнь сохранит чувство близости с отцом, хотя в реальности сможет общаться с ним очень недолго. Только ли ради заработка он станет копиистом картин отца,[126] возьмет себе в помощь дюжину учеников и будет тиражировать пейзажи с конькобежцами, крестьянские свадьбы и сцены ярмарочных гуляний? Когда я вижу его в своем воображении, мне представляется, что он делает это, движимый любовью к отцу. Он счастлив, что благодаря ему, Брейгелю Младшему, работы отца — отражения этих работ — распространяются по всей Европе. Он ищет отца, которого едва успел узнать, в созданных отцом картинах. Он видит то, что видел его отец. Его рука повторяет путь отцовской руки. Порой у него возникает чувство, что отец смотрит на него, когда он, сын, воспроизводит контур дерева, тщательно прорисовывает листву, подбирает нужную краску, чтобы изобразить суп в миске у крестьянки. Живопись отца стала для него страной, где ему знакома каждая травинка. Он точно знает — знают его глаза и рука, — как именно пальцы жнеца касаются красной подушки, на которой покоится голова солдата; он проследил за волнистым изгибом подушки и насладился единой плавной линией, образованной ее краем и ногой заснувшего; он радуется тому, как белизна рубахи школяра находит отзвук в белизне бумаги, которую тот подложил себе под голову, и как это белое обрамление подчеркивает блаженную расслабленность лица. Он знает наизусть фактуру этой картины, как комедиант знает текст своей роли и всей пьесы, восхищаясь больше, чем любой зритель, игрой рифм, сложным переплетением реплик, логичностью переходов от одного эпизода к другому, перекличкой ассоциаций. Не менее хорошо, чем эту картину, он знает всю страну, придуманную его отцом. Он — неутомимый исследователь, который путешествует по этой стране и составляет ее географическое описание. Если бы мы могли собрать и соединить образы наших сновидений, наших грез, наших кошмаров, какая необыкновенная, не похожая на серую повседневность жизнь предстала бы перед нашими глазами! Некоторые художники были наделены этим благодатным даром. Получил его и Питер Брейгель Старший.
Иногда Питер Младший делает зримым то, что на картинах его отца остается «за кадром». Например, копируя одно из полотен, он переместит танцующих из риги (где они почти не видны) на открытое пространство под деревьями. Он изобразит шествие на Голгофу так, будто его участники успели продвинуться на несколько шагов вперед. Он соединит в единый пейзаж холм с одной картины, сжатое поле с другой, горизонт с третьей. Он будет смотреть на уже законченную картину, которую хочет скопировать, как художник смотрит на мир: выбирая наиболее удачный угол зрения и момент времени. Он, конечно, сознает, сколь велика дистанция между ним и его удивительным отцом. Телемах — это не Одиссей. Икар — не Дедал. Доставшаяся ему, Брейгелю Младшему, благодать — быть сыном такого человека, жить в духовной близости с ним, верно ему служить. Теперь, достигнув возраста, в котором умер отец, он, глядя в зеркало или на тот свой рисованный портрет, что находится в работе у ван Дейка, видит напротив себя лицо отца. Иногда и в каком-то своем жесте, в своей манере произносить некоторые слова он неожиданно узнает отцовские черточки.
Наступил вечер. Они были вдвоем в мастерской; часы работы уже закончились. Отец взял его на руки. А потом посадил к себе на плечи и понес — как лошадка всадника — вниз по лестнице, в детскую, и сбросил, словно мешок с мукой, в кроватку. «Расскажи мне сказку
«Есть где-то на свете большая страна, которая называется Великая Страна Давным-Давно. В этой стране неделя состоит только из воскресений, и живут там в мире и дружбе два народа — лакомки и лентяи. Туда можно добраться по дороге сказок или через Сонный лес. Много лет назад Великая Страна Давным-Давно доходила прямо досюда — до калитки нашего садика. Достаточно было открыть маленькую зеленую дверцу — и ты видел ее коврижные холмы. Видел кремовые горы и вафельные замки. Поля из сливочного масла и дома, в которых двери и окна сделаны из пряников, а гвоздями служат мускатные орехи. Восхитительная страна! Там винные и медвяные струи начинают бить из-под земли в любом месте, стоит только этого захотеть. На дубах там растут торты, а на березах — омлеты! Чтобы сорвать их, не нужно даже поднимать рук, потому что они висят как раз на высоте рта. Под солнцем сверкают леденцовые деревья, а под луной — деревья с сахарными головами. Печеные груши растут вперемешку со свежими, и всю зиму те и другие остаются на ветках, припорошенные сахарным снегом. На ивах созревают простые белые булочки, на кустах орешника — сдобные, а на ольховых деревцах — булочки-coukestut, все реки в той стране молочные, а ручейки — из сиропа. Булыжники на дорогах — и те из сыра. Когда идет град, с неба падают конфеты-драже; когда дождь — изюм; когда же дует ветер, он приятно пахнет пекарней и свежими цветами. Ты послушай! На лугах там только и делают, что стреляют из лука, играют в кегли — и так круглый год! Тот, чья стрела больше всех других отклонится от цели, считается победителем — таков закон той страны. Гусь из „игры в Гуся“ венчает победителя короной и дает ему всё, чего тот пожелает. Оказавшийся последним в беге наперегонки получает кошелек из судейской руки и свершает круг почета в коляске красного плюша, запряженной Большой Улиткой из королевских конюшен. Каждый по очереди становится королем и все время своего правления питается одними десертами, а встает не раньше полудня. Ты уже видишь ее, эту страну мечты? Путник, который забредет туда и будет пировать в хорошей компании, получит по
Мальчик задремал. Проваливаясь в темноту, он пытался добраться до страны снов. Полз по туннелю через Блинную гору и, наконец, увидел Страну лентяев. Он едва расслышал последние слова отца: «А теперь мы живем в стране Сегодня. Здесь ничего нельзя получить даром, без труда. Когда дети подрастают, они покидают страну Давным-Давно».
Его отец писал эту картину в то самое время, когда Кровавый герцог производил расправы в деревнях. Тогда Фландрия была ох как далека от Страны лентяев! Хотел ли отец сказать, что пришло время проснуться? Но кто же во Фландрии спал в те дни? То было время тревожных ночных бдений. Бдений и бессонницы. И все же в домах по-прежнему царили уют и тепло — несмотря на мрак, сгустившийся над страной. Под деревенскими крышами матери продолжали укачивать в люльках младенцев. Материнская грудь и есть молочные реки Страны лентяев, материнские колени — ее холмы. Всё это сохранилось, несмотря на несчастья, обрушившиеся на страну, как сохраняются зерна озимой пшеницы под снегом и льдом. Какие сказки рассказывали своим малышам матери Вифлеема за миг до того, как солдаты Ирода начали взламывать двери и ставни их жилищ? Брейгель изобразил Страну лентяев такой, какой она была в сказке, которую он рассказывал на ночь своему сыну Питеру.
Прошел уже год после
Что успел он сделать за этот год? После разгрома собора восстановил порядок в Антверпене. Из всех арестованных бунтовщиков были наказаны только трое, да и то иностранцы, — он хотел, чтобы город успокоился. Он вступил в переговоры с кальвинистами: официально разрешил им устраивать собрания, и они в ответ вернули захваченные здания церквей. Он защищал монахов и священников, защищал всех католиков. Терпел недовольные письма регентши («Я не давала Вам права в таком расширенном смысле толковать статьи Соглашения…»). Сейчас он вспоминает, чем занимался, исполняя должность статхаудера.[129] Осень он провел в провинциях Голландия, Зеландия, Утрехт, постоянно поддерживая контакты с Антверпеном. Он обеспечивал безопасность на дорогах и на море. Сколько раз он встречался с горожанами Амстердама, Харлема, Гааги, Делфта, Утрехта — встречался с людьми, уже созревшими для убийства, чтобы убедить их жить по-христиански, терпимо относясь к вере и обычаям ближнего? Он объяснял им преимущества Соглашения — хотя знал, что регентша не считает себя связанной этим Соглашением, так как якобы подписала его под угрозой применения силы; знал, что она собрала вокруг себя католиков, не желающих идти ни на какие уступки, и по повелению своего брата навербовала наемников в Германии. Он знал, что испанская армия уже выступила в поход. Его брат Людовик, подстрекаемый Бредероде, готовил восстание и настойчиво уговаривал его присоединиться к инсургентам. Он, Вильгельм, отказался участвовать в этом безумии. Регентша настойчиво требовала, чтобы он предоставил ей информацию о планах брата и его друзей. Он верно служил ей до последнего — пока эта служба не вступила в противоречие с его честью. Он все еще надеялся на невозможную перемену в настроении короля, но уже должен был готовиться к войне. Он нуждался в средствах для набора солдат. В марте, после встречи с братьями, он продал свое столовое серебро и драгоценности, так как вся его наличность хранилась не здесь, а в Дилленбурге.[130]
Его лицо стало мокрым от дождя. Он слышит крики чаек и шум порта. Вскакивает в седло и трогает поводья. Его провожают, образуя почетный эскорт, около шестидесяти бюргеров. Из-за сильного ветра плащи их облепили плечи и развеваются за спинами как черные знамена. Едва они достигают земляного вала, следом за ними устремляется толпа; другая толпа преграждает путь. В голове Вильгельма проносится мысль, что надо было уехать на заре. Во взглядах людей — беспокойство и упрек. Они хотят знать правду. Правда ли, что он их покидает? Кто-то хватает его лошадь под уздцы. Он смотрит на них с искренней теплотой: «Я еду в Дилленбург. Хочу поохотиться на сокола». Какая-то женщина говорит: «Монсеньор, такому человеку, как вы, принцу Оранскому, сейчас подобало бы подыскать себе более достойное занятие!» Эскорт окружил его, расчищает для него путь. Ничьи руки уже не касаются его, но собравшиеся еще долго смотрят вслед. И вот он остался один — за пределами города, на равнине, терзаемой дождем и ветром.
Он пускает лошадь рысью. И мысленно перебирает в памяти события последнего месяца. Бредероде захватил Амстердам (оккупировав главным образом таверны). Ян Марникс, во главе маленького отряда, двинулся к Антверпену. В трех милях от земляного вала его окружили войска регентши. В Антверпене сразу начались волнения. Жена Яна Марникса бегала по улицам, умоляя горожан поспешить на выручку ее мужу. Две тысячи человек сломали городские ворота, которые Вильгельм незадолго до того приказал затворить, и устремились навстречу неизбежному сражению. Они в любом случае ничем не помогли бы Марниксу — просто были бы все перебиты. Вильгельм поскакал галопом, взяв с собой Хогстратена, и успел их перехватить. Он встал у них на пути: «Вы идете на верную смерть! Вас затопчет кавалерия! Если тут кому и нужна ваша помощь, так только мне. Помогите мне, и я обещаю жить и умереть с вами». Он увидел нацеленные на него дула пистолетов, услышал крик: «Предатель!» — «Если вы считаете, что я вас предал, убейте меня!» — Он подумал, что сейчас умрет. И двинулся вперед, на них. Они нерешительно подались назад. Он убедил их вернуться в город. Там толпа стала требовать, чтобы солдаты гарнизона открыли арсенал. Вильгельм крикнул: «Вы требуете оружия?! Оно — ваше!» Он таким образом сделал мятежную толпу частью гарнизона. Он лично, на площади перед ратушей и в четырех других местах Антверпена, выступал перед народом, каждый раз заканчивая свою речь возгласом: «Да здравствует король!» Ему отвечали: «Да здравствуют гёзы!» Он делал вид, будто не обращает на это внимания. Он говорил себе, что предотвратил кровопролитие, бессмысленную бойню. Но как долго еще может держаться это хрупкое равновесие противоборствующих сил? Он продал все, что у него оставалось, и взял в долг гигантские суммы у финансистов Антверпена, которые теперь, по прошествии нескольких месяцев, ему их предложили. Те, кто купил его шпалеры и мебель, по договоренности должны были вступить во владение своим новым имуществом с момента отъезда Вильгельма. Поэтому на протяжении этих последних дней он чувствовал себя в собственном доме гостем.
Он направляется к Бреде. Он спешит. В Виллебруке, возле канала, который соединяет Мехельн с Брюсселем, его ждет Эгмонт — ждет под этим непрекращающимся дождем. Что они могут еще сказать друг другу после той октябрьской встречи в Термонде, проходившей с участием Людовика, Горна и Хогстратена — под видом охотничьей прогулки? Тогда он хотел убедить Эгмонта, что король Испании готовится к вторжению в Нидерланды и что самое надежное средство избежать оккупации — это помешать испанцам войти в страну. Он хотел внушить участникам встречи, что им всем необходимо объединить свои усилия, избегать запальчивых выходок и излишней доверчивости, вовремя выступить против испанских солдат, не дав тем оправиться от тягот путешествия; что необходимо искать союза с лютеранскими князьями, ведь жена Вильгельма — племянница курфюрста[131] Саксонского, а жена Эгмонта — сестра курфюрста Пфальцского. Разве король Испании осмелился бы глумиться над правами нидерландских дворян, если бы могущественные германские князья поддержали их, стали их союзниками? Такую беседу вели тогда эти благородные сеньоры — стороннему же наблюдателю показалось бы, что они не думают ни о чем, кроме охоты. Осенний лес вокруг них шумел и полыхал огненно-рыжей листвой. В домике, выбранном для этой секретной встречи, было всего две комнаты: столовая, куда поставили стол (на светлой скатерти среди пирамид фруктов и корзин с виноградом сверкали хрустальные бокалы и серебряная посуда), и кухня, совершенно пустая, поскольку всю провизию привезли из Брюсселя. Эгмонт и Вильгельм ненадолго остались наедине в этой кухне. Эгмонт стоял у окна, на фоне будто охваченной пожаром листвы. Он напоминал фигуру кавалера, вытканного на золотистой шпалере. Унизительное пребывание в Мадриде ничему его не научило. Он по-прежнему видел в Филиппе II только герцога Бургундского и магистра ордена Золотого руна — и считал себя его преданным вассалом. Когда все доводы Вильгельма были исчерпаны, эти двое еще оставались какое-то время рядом, безмолвные и печальные. Роскошная осень, которая обрамляла их рандеву, вдруг показалась Вильгельму порой умирания, когда всё и вся сбрасывают с себя внешние покровы и ожесточается душой. Потом они вышли из кухни и присоединились к остальным. «К сожалению, Эгмонт, — успел еще прошептать Вильгельм, — вы и ваши единомышленники занимаетесь тем, что строите мост, по которому войдут сюда испанцы. Войдя же, они его сломают. То есть они сломают вас»… Сегодня, по прошествии полугода, под этим надоедливым апрельским дождем, каких других слов ожидает от него Эгмонт? Разве они могут позволить себе хотя бы взаимную откровенность? Эгмонт определенно просил о встрече по поручению Маргариты — за ним издали наблюдают двое агентов регентши. Он умоляет Вильгельма не покидать Нидерланды. Как дать ему понять, что испанский ястреб уже парит над ними и что он, Вильгельм, уезжает лишь для того, чтобы вернуться в более удачное для борьбы время и освободить свою несчастную родину? Они долго — молча — смотрят в лицо друг другу. Больше они не встретятся. Спускается ночь. Вильгельма томит желание поскорее оказаться в Бреде.
Бреда. Он прощается со своими вассалами, со своими слугами. Убеждает их не рисковать понапрасну жизнью, когда испанцы оккупируют страну. Говорит, что они должны продолжать верить ему и что он покидает их лишь на время, но не отрекается от них. Он смотрит на валы и стены своего замка, серые на фоне белесого неба. В последний раз шагает по мокрым лугам, вдоль ручьев, окаймленных ивами, среди нежных примул, которые растут по обеим сторонам дороги. Телеги, накрытые чехлами, вскоре повезут мебель из здешнего замка в Дилленбург. Вильгельм представляет себе, как испанские солдаты войдут в его парк, станут устраиваться на отдых сразу во всех комнатах его дома. И вот уже он — с женой Анной и тремя дочерьми — отправляется в дорогу. Он хочет создать видимость, что собрался в Дилленбург только для того, чтобы повидать родных. Поэтому оставляет в Лувене сына, Филиппа Вильгельма: сам факт его присутствия в Нидерландах должен будет усыпить все подозрения. Сын носит такое имя в честь своего крестного отца, короля Испании. Пусть же это имя его защитит! Ему четырнадцать лет. Вильгельм следил за его образованием, подбадривал его, напоминал, что дворянин должен учиться не ради приобретения внешнего лоска или собственного развлечения, но для того, чтобы подготовиться к служению тем, за кого несет ответственность. Они часто беседовали в большой университетской библиотеке или в аллеях парка, под птичьи трели. Сейчас Вильгельм задумался о том, что оставляет своего единственного сына заложником… И вот они с женой уже прибыли в страну и замок его детства: он видит знакомые остроконечные башенки, построенные еще в прошлом веке; виноградники; леса; реку Дилл и ее мельницы; мостки, на которых крестьянки стирают белье; маленькие, позеленевшие от мха деревянные мосты; сады со сливовыми и вишневыми деревьями и множеством дроздов. Маленький замок, маленькое имение, захудалый дворянский род… Ничто не предвещало, что Вильгельм Нассауский станет Вильгельмом Оранским, знатнейшим из вельмож, принцем, будущим освободителем Нидерландов; что он удостоится чести носить имя, которое Данте вписал в свою поэму. Но когда ему исполнилось одиннадцать (он тогда еще посещал школу, открытую его родителями для детей знатных сеньоров из близлежащей округи, равно как и для детей их слуг), к нему перешли по наследству права на всю Фландрию, Франш-Конте и Дофинэ, Шароле, часть Брабанта и Люксембурга, область Арль и герцогство Гравина — а также на три княжества в Италии, шесть графств и два маркграфства, два виконтских владения, примерно пятьдесят баронств и три сотни других доменов; наконец, на суверенное княжество Оранж. И он оставил Дилленбург с его кисловатыми вишнями и дроздами, оставил свою семью, оставил Лютеровы псалмы — ради брюссельского двора и ради того, чтобы император положил на его плечо руку, прежде чем объявить о своем отречении от престола.
Есть ли другой такой святой, который сначала, как Павел, исполнял бы роль палача своих будущих единоверцев, а потом занял бы место тех, кого недавно преследовал, и испытал на себе самом издевательства толпы, тюремное заключение, смерть под топором палача? Брейгель видит в своих грезах тот момент, когда Стефан, первый мученик за веру, умирает под градом камней, тогда как будущий апостол сторожит плащи его убийц, продолжающих тщательно целиться в человека, глаза которого уже закрылись. Почувствует ли Павел стыд — в тот вечер или в последующие дни — из-за того, что прислуживал подонкам? Нет. Только нетерпеливое желание сравняться с ними. Очень скоро он уже не будет довольствоваться ролью мальчика на побегушках, присматривающего за вещами тех, кто побивает камнями дурака, их же и благословляющего. Он больше не согласится наблюдать издали, как булыжники ударяются в грудь еретика и оставляют глубокие порезы на лбу — пока тот не свалится, словно подкошенный, наземь. Ему недостаточно будет просто смотреть на мертвое тело, накрытое белым плащом с проступающими пятнами крови, — тело, в которое еще летят последние камни. Он растет. Он хочет только одного — верно исполнять свою службу. Несмотря на юный возраст, он занимает почетное место в армейской иерархии. Он носит оружие с элегантностью и любит пускать его в дело. Но он также вооружен лаконичным и метким словом. Когда он ведет свой отряд или отчитывается перед старшим по званию, его слово — это уже поступок. С первого взгляда видно, что он — человек, который раньше других сообразит, куда вонзить клинок и как заманить противника в ловушку. Он — еврей и одновременно римлянин. Он — римский гражданин: его родители заплатили за это должную цену. Он охотно бросает римлянам упреки в том, что они забыли о славе Империи, о своем долге по отношению к Кесарю. Он презирает всех тех евреев, которые не хотят понять, что процветание детей Авраама начнется только после утверждения римского господства на всей земле. Он от души готов сотрудничать со строителями нового порядка. Те евреи, которые затаились в своих жалких убежищах и еще продолжают сопротивление, пожалеют об этом. Что же касается тех, кто принимает некоего Иисуса из Назарета (заслуженно распятого, но, по слухам, восставшего из мертвых) за Мессию Израиля, — их он просто ненавидит! Он ненавидит их с такой силой, что это удивляет его самого. У него есть достаточно причин, чтобы ненавидеть и убивать их: они лгут; они благословляют, поднимая глаза к облакам, своих палачей; они предали Бога Израиля, совершают святотатственные поступки и навлекают на весь свой народ гнев римлян (тогда как последние желают для провинций только блага). Они не понимают, что евреям достаточно быть трудолюбивыми и скромными, чтобы однажды обрести власть над Римской империей, которая властвует над всем миром. Они менее всех других способны постичь великий замысел Бога Израиля, близость осуществления Его обетования. Однако сия ненависть, вынужден он признать, сия ненависть в нем, подобная огню, подобная ране, подобная грозному светилу, подобная гною, подобная хищному зверю, которому выкололи глаза, — сия ненависть не может быть объяснена никакими разумными соображениями. Это — ненависть, которая разлита в крови. Это — ненависть, ниспосланная свыше. Если бы он, Савл, оказался на Голгофе в нужное время, он бы вырвал из рук солдата копье, которое тот с таким ленивым безразличием вонзил в бок распятого, и ударил бы преступника сам, изо всех сил, от всей души!
Он хочет только одного — быть полезным римлянам. Он — умелый воин, к тому же умеет убеждать людей и происходит из хорошей семьи. Если бы ему доверили когорту, они бы увидели, на что он способен! Кто сможет отказать в праве стать командиром этому серьезному молодому человеку? Кто сможет отказать? Евреи и римляне пришли, наконец, к согласию. В империи воцарился мир! Синагога и префектура находят общий язык куда лучше, чем полагают некоторые, во всяком случае, по одному пункту: та и другая видят в учениках мнимого Мессии Израиля заразу и угрозу для общества. Уже подписан и скреплен печатью соответствующий указ. Собран отряд. Савл из Тарса ведет его в поход, чтобы схватить в Дамаске этих злоумышленников и доставить их в Иерусалим, скованных цепями по трое. Какая дорога ведет из Иерусалима в Дамаск — пыльная и ровная? Брейгель представляет себе Павла на такой дороге, какую видел в Альпах. Вдали различимы море, крошечные корабли, прекрасная зеленая равнина с несколькими деревнями. Отряд в горном ущелье, среди камней цвета глины, похож на извивающуюся змею. Пешие солдаты — недавние крестьяне: они повесили шлемы на сгиб руки или же эти шлемы сползли им на глаза; всадники одеты по моде, их кафтаны сшиты из дорогих тканей — бледно-зеленых, золотисто-желтых. Колонна движется довольно быстро. Савл в военном обмундировании чувствует себя превосходно. Ему нравится держать руку на эфесе меча. Запах лошадиного и человеческого пота, перестук шагов и цоканье копыт, ветерок раннего утра, характерный шум воинского отряда на марше, ощущение собственной силы, бряцание оружия, сознание того, что он, Савл, наконец-то командует людьми и весь план операции находится у него в кармане, в его голове, — все это доставляет ему удовольствие, восхитительное именно по причине своей наивности. Но он не улыбается. Он запрещает себе улыбаться этому счастью молодого офицера, скачущего верхом среди своих людей и выполняющего задание, которое, возможно, принесет ему служебное повышение. Вместо этого он выпячивает грудь колесом, как настоящий римлянин. Изображает из себя конную статую. Разыгрывает перед своими подчиненными роль образцового начальника. К сожалению, в данный момент все думают только о трудном подъеме, а если и поднимают глаза, то лишь для того, чтобы бросить взгляд на прекрасный мир вокруг, на высокие скалы, большие темно-зеленые деревья и эту равнину внизу — далекую, безмолвную.
Свежесть сосен. Бряцание конской сбруи и оружия. Ржание лошадей. И вдруг — в середине колонны несколько человек стукаются в затылки впереди идущих. Что-то произошло. Оказывается, это их командир упал с лошади. Уже один из всадников поскакал к голове колонны, чтобы ее остановить. И тут кто-то говорит, что лошадь командира не споткнулась. Савл упал сам. А ведь он хороший наездник. Может быть, солнечный удар? Но нет, погода нынче прохладная. Скорее, какая-нибудь болезнь — так бывает. Павел лежит на земле, окруженный светом и ночной тьмой. Свет этот подобен слову: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» Он откликается — так человек с завязанными глазами нащупывает рукой дверь, проход. Он откликается как во сне: «Кто Ты, Господи?» И слышит в ответ голос (очень мягкий и очень печальный, звучащий издалека и одновременно совсем рядом): «Я Иисус, Которого ты гонишь…»[132] Когда его поднимают, когда он поднимается на ноги, света уже нет. Его окружает ночь, мрак подземелья. Он чувствует на своих руках кровь святых, которых предавал смерти, — и вот теперь именно ему поручено свидетельствовать, что Христос жив. Он хочет сесть на коня. Он знает, что должен ехать в Дамаск и что там люди отнесутся к нему с состраданием. Его берут за руку, подсаживают. Ведь он, который еще недавно выпячивал грудь и корчил из себя гордеца, теперь превратился в слепого — такого же, как те, что протягивают дрожащую руку за подаянием. Однако голос Христа остался в груди Павла и жжет его изнутри, как сладостный ожог. Выше, чем горы, которые он пересекал, стены внезапно обступившей его ночи. Вокруг него стук солдатских башмаков, грохот сорвавшихся где-то внизу камней, треск раскачиваемых ветром деревьев.
Какое безумие заставляло его желать смерти учеников Иисуса — так же страстно, как царь Саул желал смерти Давида?
Солдатам, которые шли рядом с ним, тоже показалось, будто они слышат обращающийся к Савлу голос. Они удивились, что никого не видят. Видели ли они ослепивший Савла свет? Время близилось к полудню. К тому же для них это был простой инцидент на дороге, который они тут же забыли. В этом свете, который ослепил Савла — и был для него солнцем, бурей, чем-то гораздо большим, чем то и другое, чем-то совсем иным, нежели светило или молния, — они, солдаты, не увидели (и не услышали) ничего особенного. Они не устрашились этого пламени, окутавшего его, словно плащ. Если мы посмотрим на картину Брейгеля, которая изображает этот эпизод, то прежде всего увидим горы, солдат, упорно преодолевающих подъем, знаменосца с розовой орифламмой, грациозно плывущей в небе, забавную шляпу всадника, сделанную как бы из листьев и напоминающую своей формой артишок. Мы можем даже и не заметить преображения гонителя христиан. Если бы маленький кусочек красочного слоя отвалился, мы бы поняли лишь то, что художник запечатлел переход обычного воинского отряда через горы. Мы бы остались в неведении относительно цели движения этого отряда и не узнали бы, что средоточием всего здесь является человеческое сердце, ослепленное неземным светом. Савл, подобно Моисею, встретил на своем пути Свет и Пламень. «Я есмь Сущий»,[133] — сказал Голос из горящего куста. А Свет на горе близ Дамаска: «Я Иисус, Которого ты гонишь; трудно тебе идти против рожна».[134] Тот самый Свет, Который говорил с Моисеем, захотел обрести имя — как каждый из нас. Бог сделал Себя неотделимым от плоти, которую могут истязать палачи. Незримый Отец людей стал человеком, ходящим среди нас; более того — отождествил Себя с самыми малыми, самыми последними из страждущих.
Тот, кто ранее не помышлял ни о чем, кроме преследования и убийства христиан (и потому весть о его приближении к городу повергла в ужас всю мессианскую общину), теперь входит в Дамаск беспомощным слепцом, которого каждый может ударить, — как ударяли Христа, предварительно завязав Ему глаза, во дворе дворца, где вершили над Ним суд. Некий человек по имени Анания видит Савла во сне и, придя к нему, именем Христа возвращает ему зрение. При этом он говорит: «Брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа».[135] И Павел отправляется в путь, в Антиохию. Его ведет Христос, присутствующий в нем самом. И уже не он, Павел, видит, но его глазами видит Христос. То, что он знает, он узнал благодаря Божескому, а не человеческому слову. Подобно Ионе, спасшемуся из бездны, он спешит к своей Ниневии. То, что он знает, он узнал, когда был во мраке — и тогда, когда мрак обратился в Свет. Пока на него не снизошел Дух, Книги, которые он знал наизусть — он выучил их у ног мудрого раввина Гамалиэля, — оставались для него темными; хуже того, они были как бы чешуей на его глазах, бельмами, мешавшими видеть. Но Дух коснулся его сердца. Дух обратил в веру мощь его заблуждений и преступлений. И он ощутил настоятельную потребность свидетельствовать в синагогах об Иисусе — хотя только вчера эти синагоги уничтожал. Позже он придет в Иерусалим, чтобы помолиться в храме, где проповедовал Иисус, и встретиться с Петром, главой апостолов. Он не сам возжелал этой встречи: его направил Христос как Своего посланца и служителя.
Питеру Брейгелю дорога независимость Павла, не склонявшегося ни перед кем, кроме всемогущего Бога, и получившего свои полномочия не от людей, но от Духа. Брейгель с нежностью смотрит на этого человека, упавшего с лошади на горной тропе, — он кажется таким маленьким среди огромного воинства. Когда он придет в себя после этой встречи с молнией, этой встречи с пламенем любви, тогда слово его достигнет самых отдаленных уголков мира. Он скажет Петру, еще скованному ритуалом и, быть может, в большей степени преданному старой, чем новой жизни: «Тебе — иудеи; мне же пусть достанутся все остальные: эти варвары, эти римляне, эти греки». А потом, еще дальше, — эта Галлия, эта Фландрия! Солдаты, которые думали, что идут воевать ради Кесаря, невольно стали первооткрывателями новых дорог для рождающейся Церкви. Но как нам поверить, Господи, что Ты всегда будешь обращать ужас в радость, а животное неразумие — в разум? Солдаты герцога Альбы уже выступили в поход, уже движутся по прохладным и солнечным альпийским дорогам, чтобы покарать народ Фландрии, воздвигнуть смертные костры на перекрестках дорог — там, где апостолы Церкви на заре христианства воздвигали стол Еммауса!
Филипп II составляет хартию об основании Эскориала. Говорят, для него нет большего удовольствия, чем проводить время в обществе тамошних монахов: он специально приезжает, чтобы пожить с ними в том маленьком доме, который служит им пристанищем на период строительства. Он всегда появляется там неожиданно и ненадолго, а хотел бы остаться навсегда. Он мучает своими расспросами и распоряжениями рабочих и подрядчиков,
Отцу Хосе де Сегуэнца — тому самому, который высказал столь разумные соображения по поводу босховского «Сада наслаждений», — принадлежит следующая мысль: «В тот же год, можно сказать, в тот же месяц, когда был заложен первый камень этого храма, закончился Тридентский собор — положили последний камень в его здание. Ради утверждения и сохранения принятых Собором святых догм и статутов католический Король заложил первый камень цитадели и храма, в которых эти догмы и статуты утвердятся навечно, — и им будут повиноваться всегда». Король с восторгом вглядывался в свое творение, видя в нем зеркальное отражение себя. Он — новый Давид, ибо сражается за истинный Израиль, который есть Церковь; новый Соломон, ибо построил этот храм и, подобно древнему царю, владычествует над Иерусалимом; новый Моисей, ибо запечатлел в этом каменном здании, среди скал и пустыни, пред лицом неверных и мятежных народов, Божий Закон, Символ Католической веры. А эта усыпальница, в которой покоится тело императора, — она достойна соперничать с памятниками Ватикана и Рима. В то время как еретики пытаются опорочить монашеский уклад жизни и разрушают монастыри, король Испании воздвиг особый, колоссальный монастырь. В то время как они оскорбляют Мессу, он насадил безграничный лес месс. В то время как они презирают блеск католических церемоний и отрицают святость икон, он выкачал из всей Европы лучшие произведения тысяч живописцев, шпалерных мастеров, рисовальщиков картонов, бронзировщиков, литейщиков колоколов, ювелиров, вышивальщиков, изготовителей органов; он бросил в этот тигель чуть ли не всё золото Испанского королевства и Нового Света. В то время как они швыряли собакам мощи великомучеников и смеялись над культом святых, он собрал в сем новом Ковчеге Завета, где уже хранилась рука святого Лаврентия, самые священные реликвии: мощи святого Юста и святого Пастора, святого Филиппа, святого Варфоломея, святого Иакова — апостола Испании, и многих других. Эти мощи прибывали в специальных ящиках со всех концов христианского мира. Длинные вереницы верующих тянулись через всю Испанию, дабы проводить их к месту последнего упокоения.
Кажется, будто целый город вырастает из-под земли посреди этой пустыни. Двадцать подъемников с подвижными блоками работают между колоннами церкви. Сорок волов, меся грязь или вздымая тучи пыли, тянут телеги, нагруженные гранитными блоками, резными капителями, карнизами, пилястрами. В горах непрерывно стучат топоры и визжат пилы: там валят и обтесывают дубы и сосны. Тогда ли, когда король, сидя на большом камне, наблюдал за этим движением, ему пришла в голову мысль раздавить Фландрию, как он только что раздавил каблуком нескольких муравьев? Или это решение созрело в нем, когда он предавался пламенным и слезным молитвам? Разграбление церквей оказалось удачным предлогом для вмешательства. Ничто не доказывает, что король намеренно спровоцировал действия мятежников. С другой стороны, ничто из того, что мы знаем об этой преступной и безумной душе, не мешает нам подозревать его в подобном вероломстве. Угроза гибели наползает на Фландрию, как удлиняющаяся тень Эскориала. Король назначает ответственным за операцию герцога Альбу. 17 апреля герцог отплывает из Картахены на Сицилию, чтобы набрать там
Когда Европа узнала, что десятитысячное войско этих ландскнехтов выступает в поход, ее охватил смертельный ужас. Альба пересекает Альпы: жители Женевы думают, что Испания решила стереть их город с лица земли, и готовятся к обороне. Однако испанская армия обходит город стороной. Теперь очередь Доля и Безансона опасаться осады или штурма. Но ужасное воинство минует их и направляется к Люксембургу. Там — та же паника. Повсюду по пути следования армии население вынуждено обеспечивать ее продовольствием и размещать на постой в своих домах. В те местности, где последний урожай был не слишком обильным, вслед за солдатами Альбы приходит настоящий голод. Маленькие деревни затоплены этим чудовищным потоком вооруженных головорезов! Старые страхи становятся былью. На крестьян обрушиваются всяческие бедствия. Солдаты опустошают житницы и риги, сжирают скот, порой оказываются виновниками пожаров — по небрежению или по злобе. Все должны им служить, всё подчинено их нуждам. За три месяца до прибытия первых кавалеристов в Нидерланды для них уже собирают селитру, изготавливают порох и фитили, отливают пули, выковывают пики, сооружают мосты, ремонтируют дороги, закупают в Германии шлемы и кирасы. По пути Альба вербует новых солдат. В итоге на подходе к Семнадцати Провинциям испанская армия насчитывает уже около сорока тысяч наемников, не считая их жен и слуг.
Еще месяц, еще неделя до появления этой чумы! Бредероде укрепил фортификационные сооружения Вианена и мобилизовал войска. На дорогах полно тех, кто из страха собрался бежать в Германию или Англию; они бредут с тяжелым сердцем, толкая перед собой тачки, груженные всем, что можно было захватить с собой. Филипп де Марникс, который сейчас носит траур по брату, находится среди этих несчастных, в Эмдене, — чтобы ободрить их и чем-то помочь. Эгмонт отправляется навстречу Альбе. Люди не так давно видели его в Валансьенне, где он вместе с Нуаркамом (зловещей фигурой, как мы увидим дальше) восстанавливал испанский порядок. Теперь его видят в Тирлемоне, недалеко от Брюсселя, — в местечке, куда только что вошла испанская армия. Хочет ли он вернуть герцогу долг вежливости, поприветствовать Альбу, как тот приветствовал его, Эгмонта, у ворот Мадрида? Или чувствует себя обязанным лично засвидетельствовать почтение посланцу испанского короля? Или еще надеется смягчить остроту ситуации, улучшить положение вещей? Как бы то ни было, вид у него такой, будто он начисто забыл о позоре, связанном с неудачей его испанской миссии.
Герцог и граф знакомы с давних пор. Они оба служили императору. Оба были в его ближайшем окружении во время битвы за Тунис. Знает ли Эгмонт, что Альба завидует ему и потому ненавидит? Сейчас они уже заметили друг друга — пока издали. «А вот и первый еретик, — говорит Альба Эгмонту и дружески пожимает протянутую руку, а потом кладет ладонь ему на плечо. — Учитывая мой возраст, граф, вы могли бы избавить меня от столь долгого путешествия!» Эгмонт преподносит ему в качестве подарка несколько великолепных жеребцов. Они идут по лагерю. Крупные капли дождя ударяются о крыши палаток, блестят на оружии и пушках. Солдаты не выказывают фламандскому сеньору ни малейшего уважения — они не расступаются, чтобы дать ему дорогу, не снимают шляп; его провожают холодными взглядами, а некоторые даже шипят сквозь зубы: «Лютеранин! Лютеранин!» или: «Предатель!» Под небом лилового цвета, на границе леса и луга, медленно перемещается стадо — как всегда.
22 августа, утром, герцог Альба входит в Брюссель.
Иногда, осенью или зимой, уже под конец дня, Брейгель испытывает потребность ненадолго оставить мастерскую, оставить свой уютный дом, чтобы понаблюдать, как вокруг Брюсселя, в далеких деревнях, зажигаются первые вечерние огни. Он долго смотрит на равнину, расстилающуюся за линией городских крыш, на телегу, которая едет по серой дороге, на дымки над хуторами, на сорок и воронов меж голых ветвей. Он не может не думать о горе, где свершаются казни, которая находится у него за спиной, — об этой Голгофе, нависающей над миром подобно черному солнцу. Он стоит неподвижно среди тишины и теней внезапно наступившего вечера. Он тепло одет, на голове шапка — как у дровосека в заснеженном лесу. А потом он опять спускается к дому по защищенным от ветра улицам, переулкам, маленьким площадям. Он любит этот час «между собакой и волком», этот неопределенный свет, этот момент, если можно так выразиться, «перехода от жара к пеплу». Он — не более чем прохожий, бредущий в сумерках, чье дыхание смешивается с холодным туманом. Он говорит себе, что и его земная жизнь есть всего лишь путь — путь, который привел к тому, что в этот конкретный час, на этой прямой брюссельской улице, он проходит мимо этих красных окон пекарни, мимо этой мясной лавки, где висят огромные рассеченные туши, мимо этой часовой мастерской или текстильной лавки. Сколько шагов успеет он еще сделать здесь, на земле? Он думает, что никогда больше не покинет пределов Брюсселя. Вся жизнь заключена для него в его работе, в его доме. Все его дальнейшие путешествия ограничатся такими вот шатаниями по улицам, прогулками под снегопадом или под летним небом, которые не заведут его слишком далеко от городского вала. Даже визиты друзей становятся все более редкими. Он хочет сосредоточиться на работе, жить в свете своей любви к Марии и Питеру — и к этому другому ребенку, который вот-вот должен родиться. Его не оставляют мысли о картинах на чердаке и о Марии, которая совсем недавно начала учить Питера читать, — не оставляют даже теперь, когда он блуждает по городским закоулкам. Двери питейных заведений открываются навстречу вечеру, навстречу наступающей ночи. Он входит в знакомую таверну, и его сразу охватывает радостное чувство от этого шелеста голосов, от этого света посреди тьмы. Хорошо вдруг оказаться участником шумного или тихого застолья, насладиться теплом. Здесь можно помечтать в одиночестве. Здесь также встречаешь разных людей — тех, которых знал раньше, и других. Сюда приходят заезжие путешественники — и местные, жители этого квартала. Люди, сидящие за разными столиками, переговариваются друг с другом. Порой сюда заглядывают и художники. Имена завсегдатаев заведения выгравированы на спинках скамеек. Написал ли и Брейгель свое имя на деревянной доске в одной из таких таверн? Или он предпочитал повсюду быть только случайным прохожим? Узнавали ли его, когда он спускался на несколько ступеней, отделяющих улицу от залы с длинными столами и сводчатым потолком? Заговаривали ли с ним? Знали ли, что он живописец? Ему нравится находиться здесь, где само время, кажется, течет медленнее, — в этом ярко освещенном полуподвале, таком тесном, что люди почти соприкасаются локтями, но это им не мешает. Побывать здесь — все равно что в час беды провести бессонную ночь рядом со своими близкими.
Испанцы никогда сюда не заходят. Между тем никакой опасности для них здесь нет. Не в местных обычаях — перерезать глотки в кабаках. Война есть война, праздник есть праздник, а таверна — тоже своего рода праздник, почти семейный. Люди собираются здесь, в тесноте, выпивают в компании других посетителей главным образом ради дружеского общения и хорошего настроения. Ради того, чтобы обменяться сегодняшними новостями и вспомнить о временах минувших, о днях своей молодости. Ради того, чтобы вместе посмеяться над какими-то вещами, столь ничтожными, что они не стоят даже серьезного разговора. Что испанцы могли бы понять во всем этом? Что они стали бы здесь делать? Хватит и того, что в любой час их солдаты патрулируют наши улицы. Нет, их удерживает не осторожность. Они могли бы приходить сюда целыми группами, хорошо вооруженные, бдительные. Просто, едва открыв дверь, они ощущают себя
Риторы больше не имеют права устраивать свои собрания и спектакли. Для испанцев невыносимы их смех, их бунтарские тайные сборища. Но марионетки пока свободны. Надолго ли? Церковь и раньше не отличалась особой терпимостью по отношению к этим куклам. Бывало, что кукольников — по подозрению в колдовстве или за богохульные реплики — отправляли на костер. Брейгель всегда любил спускаться в подземелья таверн, где перед ним открывался квадратный экран с образами из сновидений — это окно, распахнутое в мир, окрашенный цветами детства. Мог ли бы он сам сказать, чем именно его живопись, его видение мира обязаны тем кукольным спектаклям, что изображали торжество Смерти или страсти Господни? Ему никогда не наскучат и такие пьесы, как «Искушение святого Антония», «Фарс о Смерти, которая чуть было не умерла», «Дювелор, или Фарс о постаревшем дьяволе»… Сегодняшнее представление вот-вот начнется. Люди спускаются в нижнюю залу. Пока еще различим неясный гул наверху — там продолжают выпивать те, кто предпочел спектаклю свои разговоры или свою меланхолию. В пещере марионеток, очень тесной, зрители рассаживаются на скамьях и бочках, поставленных вдоль позеленевшей от селитры стены, на табуретах; те, кому не хватило места, просто стоят — сзади, чтобы не мешать другим; все фонари и свечи, кроме освещающих сцену, гаснут. Теперь все смотрят только на этот светлый квадрат и персонажей из раскрашенного дерева. Куклы обращаются к нам с какими-то вопросами, мы им отвечаем. Не всегда последнее слово остается за ними. Бывает, они сердятся на нас, убегают, прячутся, не хотят больше к нам выходить. Эта игра — тоже часть спектакля. Теперь, когда в городе расположились испанцы — страшные и тупые в своей жестокости, — в этом магическом квадрате появились новые персонажи: с грубо намалеванными лицами фанфаронов, в воинских шлемах или забрызганных грязью шляпах с перьями. Старик с длинной седой бородой, по прозвищу Витте, «Белый» (хотя одет он во всё черное), командует этими демонами, говорящими с нелепым акцентом. Каких только слов не услышишь здесь, среди своих, в таких вот потаенных подземельях, — слов, которые в другой обстановке остались бы непроизнесенными, их бы никто себе не позволил! На таких спектаклях люди набираются мужества. Испанцы обязательно уйдут! И тогда даже птицы Фландрии и Кемпена почувствуют перемену, их трели станут более свободными, радостными; даже маргаритки на лугах вздохнут с облегчением, и кусты будут веселее раскачиваться на ветру! Дымки из труб с легкостью воспарят прямо к облакам. Потому что никто уже не увидит черного дыма костров, на которых страдают и умирают те, кого мы любим.
Люди грезят все вместе. Одно слово влечет за собой другое. То, что говорится со сцены, рикошетом отскакивает от стен, находит отклик в зале — в шутках и возгласах зрителей. Это подобно сну, который ты видишь наяву, с открытыми глазами. Все понимают друг друга с полуслова. И от этого удовольствие увеличивается. Очутившись, не дай бог, перед судьей, ты сможешь сказать, что ничего предосудительного не говорил, не слышал. А между тем именно здесь рождаются и расходятся во все стороны особого рода истории, которыми вооружались все угнетенные со времен Фараона.
Они, конечно, вооружаются не только грезами и смехом. Под подземельями марионеток, несомненно, имеются и другие — длинные галереи, в которых можно собираться и, не таясь, говорить обо всем. Спускаясь по маленькой лесенке в пещеру кукольника, трудно не бросить взгляд на железную дверь в глубине залы, на деревянные откидные крышки люков, под которыми, когда ты на них ступаешь, угадывается огромное пустое пространство, наверняка предназначенное не только для хранения бочек.
Вся страна грезила этими подземными галереями, которые упоминаются в местных сказках и хрониках; прежде о них думали одни ребятишки, мечтая отыскать там скелеты или сокровища. Знающие люди утверждали, будто галлы были первыми, кто прорыл подземные коридоры на многие мили, от одного храма к другому; а потом галереи укрепили римляне — как это умели только они. Теперь обширный лабиринт служил прибежищем для беглецов и лагерем заговорщиков. Все эти подземные дороги соединялись в один узел под Брюсселем, как раз там, где обосновался герцог Альба. Подземелье имело выход в самом труднодоступном месте леса Соань. Длинная подземная дорога, скрытая под корнями деревьев и камнями, вела в Германию; другая — к побережью, откуда отходили английские корабли. По этим дорогам в Брюссель доставляли оружие, книги, деньги. В подземных гротах печатали прокламации и переводы Библии, изготавливали порох и аркебузы.
Картина выполнена на холсте, темперой, и имеет подпись, сделанную старинным почерком:
От dat de Werelt is soe ongetru
Daer от gha ic in den ru.
Поле картины круглое, как на «Пословицах», которые Брейгель написал десять лет назад, — круглое, как мир. Старик в опущенном на глаза капюшоне, скрестив руки поверх длинной шерстяной рясы, произносит эти горькие слова:
Поскольку мир — сплошной обман,
Я из него уйду, печалью обуян.
Поредевшая седая борода спускается ему на грудь. На дороге, по которой он идет, впереди торчат четыре гвоздя: какая-то приготовленная для него ловушка. Притаившись за спиной старика, вор (он находится внутри стеклянного шара, который символизирует мир) срезает его кошелек — красный мешочек, имеющий форму сердца. Должны ли мы полагать, что сей мудрец, бегущий от мира, вложил свое сердце — и все свои сокровища — в этот кошелек? Вокруг него простирается безрадостный пейзаж. Рядом с мельницей пасутся несколько баранов, разбредшихся в разные стороны; пастух стоит, опершись на посох. Если здесь и содержится намек на библейскую притчу, то его можно уподобить звучащему вдали — и уже почти не различимому — голосу. Отшельник чем-то напоминает каменные фигуры плакальщиков в бургундских усыпальницах. Какой смысл несет в себе эта аллегория? И почему вдруг художник возвращается к старинной манере письма? Ему впервые изменила сила собственного воображения? Кок в свое время опубликовал гравюру Мартина ван Хемскерка, навеянную, быть может, монологом, который Эразм вложил в уста Глупости: «Но я сама была бы всех глупее и вполне достойна того, чтобы Демокрит хохотал надо мной во всё горло, если бы вздумала исчислить здесь все разновидности глупости и безумства, существующие в народе».[142] На гравюре по обеим сторонам от сферы мира, увенчанной крестом, с накинутой на нее шутовской мантией, были изображены смеющийся Демокрит и плачущий Гераклит. Пейзаж пересекала та самая река, в которую нельзя войти дважды. Может быть, Брейгель тоже обратился к этому сюжету, но решил изобразить Демокрита на отдельном холсте, чтобы плачущий и смеющийся философы смотрели друг на друга с противоположных стен? Или художнику вообще уже не хотелось рисовать того, кто смеется над бедой и безумием мира?
Беда и безумие мира — а вот это он написал, в тончайшей технике миниатюры, на маленькой доске. Изобразил нелепый балет, исполняемый пятью калеками, еле-еле передвигающимися на костылях и протезах. Изобразил этот задний двор, на котором толпятся безногие, — им бросают подаяние, даже не глядя в их сторону, настолько уродливы их культи, их идиотские лица. Они — нищие! Они — убогие! Кто станет смотреть как на людей на этих жабообразных существ? Кто сможет без отвращения взглянуть на их перекошенные рты, на бегающие глаза? Они греются под лестницами богачей, ворча, как паршивые псы, или протягивают руки за милостыней, когда мы с чистой душой выходим из церкви после мессы — и не желаем понять, что, буде Господь того пожелает, сами окажемся на месте этих навязчивых вонючих попрошаек. Это — бедняки! Это та изуродованная рука, которая хватает нас за подол, чтобы мы снизошли к ее безмолвной мольбе. Это — Лазарь у дверей Богача, которого Богач даже не замечает. Они со стуком подпрыгивают на своих деревянных ногах. К их лохмотьям прикреплены лисьи хвосты — опознавательный знак прокаженных; головы некоторых увенчаны картонными митрами, потому что эти несчастные для смеха избирают своих епископов. К одежде одного из них пришиты бубенчики: это чтобы люди его избегали. Брейгель уже обращался к подобным персонажам — когда писал «Битву Поста и Масленицы». Тогда он включил их в праздничную процессию, которая символизирует понедельник Богоявления. На сей раз он сделал их главными героями картины. Где они находятся? Перед кирпичной стеной — возможно, оградой церкви. Через арку в стене виден прекрасный сад. Здесь, на переднем плане, месят грязь эти золотушные уроды; там, на заднем плане, — безмятежно-упоительный весенний мир, из которого они исключены. На обороте картины написана фраза:
Вы спрашиваете, откуда взялся странный персонаж другой картины, тот, что стоит на берегу ручья?[146] Он показывает пальцем на разорителя гнезд, устроившегося в развилке дерева, — мальчишку, у которого слетает с головы шапка. Однако не замечает, что сам уже поскользнулся на глине и сейчас упадет в воду. Не ищите здесь пословицу. Это просто эпизод из моего детства. Я и сейчас вижу ту низкую ферму вдали; лошадь, грезящую наяву; опрокинутую тачку с торчащими вверх рукоятками. Вижу бледное послеполуденное небо, березы, траву, более яркую под ивами; слышу шелест птичьих крыльев, журчание ручья под деревьями. Вижу глинистый берег, истоптанный деревянными башмаками, лягушек на пне, безлистную искривленную иву. Я и был тем мальчишкой, который здесь, на картине, радуется найденным яйцам и испуганной птичке, зажатой в его руке. Ведь ребенок не способен понять чужую боль. Только гораздо позднее мы научаемся ценить дружелюбие дрозда, присевшего на человеческое плечо. Я снова вижу того большого глуповатого парня, который падает в ручей. Жив ли он еще? Может, как раз сейчас он доит корову в каком-нибудь хлеву? Или скрывается в лесах вместе с другими, чтобы вскоре вступить в борьбу с испанцами? Когда я думаю о моем детстве, оно представляется мне островом.
«Нищие» — очень маленькая картина. Может быть, Брейгель покинул свою мастерскую? И если эта картина написана на холсте, то не потому ли, что холст возить с собой легче, чем доску? А если Брейгель уехал из Брюсселя в 1568 году, то куда? Скорее всего, в Антверпен. Предположим, он ищет корабль, который в назначенный день примет его с семьей на борт и переправит в Англию или Германию. Лукас де Геер (он, кстати, переделал свое имя в анаграмму
Он поднялся, сумев не разбудить Марию. Оделся по-уличному. Сейчас только начинает светать. Он видит в окно, что небо еще почти черное. Заходит в свою мастерскую. Йоссе уже там, ждет его. Присутствие друга его не удивляет. «Одевайся теплее, — говорит Йоссе, — нам предстоит долгий путь». Он берет дорожный плащ, широкополую шляпу. В голове мелькает мысль, что он покидает свой дом навсегда, что для него пробил час перехода в иной мир. Он смотрит на черновые наброски, стоящие в полумраке. Уже не будет времени закончить картины. Он хочет разбудить Марию или оставить ей записку, чтобы она не волновалась. Но Йоссе уже шагнул за порог. Он тихо прикрывает за собой дверь. У крыльца привязаны две лошади. Они выезжают из Брюсселя по знакомым улицам. Часовой на земляном валу не останавливает их, даже не спрашивает имен. Они минуют его. Видят солдат, сидящих на корточках или спящих вокруг костра, — некоторые оперлись локтями о каски; под ногами валяется оружие. И вот, наконец, они за городом. «Там, куда мы едем, тебя ждет трудное испытание», — говорит Йоссе. Светает. День — пасмурный и холодный. Ветки кустарника хлещут лошадей по бокам. Всадники не разговаривают друг с другом. Ничего не видно — лишь иногда вдали мелькнет какой-нибудь крестьянин, который идет по дороге в тумане или стоит у ворот с ведром в руке. Так продолжается долго. Наконец он узнаёт лес: неподалеку должна быть деревня его детства. Он понимает, куда его привез Йоссе, и у него сжимается сердце. Вот и деревня, где живет его мать, — он подумал: деревня, где
Вот они появляются на холсте, еще почти белом. Они все перед нами. Чувствуют ли они, что мы на них смотрим? Они поднимают лица к небу, как будто видят там что-то. Их пятеро. Каждый положил руку на плечо впереди идущего — как в детской игре. Последний совершенно спокоен. Я бы сказал, что он спит на ходу. Одной рукой он, с помощью крепкой палки, ощупывает землю, другой сжимает более короткую палку, за которую держится и идущий впереди. У этого второго — зеленая шляпа, к поясу привязаны литавры, а на груди, поверх темно-красной рубахи, он носит нитку бус, к которой подвешен образ распятого Христа. Лицо у него перекошено гримасой беспокойства, потому что его рука как-то странно скользит по плечу того, кто его ведет. Этот третий, запрокинув голову с пустыми глазницами и разинув от усилия рот, пытается удержать за плечо четвертого, с бельмами на глазах: тот споткнулся и, поскольку не отпустил палку, которую держит пятый, сейчас упадет вместе с ним. Пятый, падающий, обратил к нам свои пустые глазницы. Еще мгновение, и он присоединится к тому, кто уже распростерся в канаве и чья виела тоже упала в грязь. Краски, которыми изображен этот жалкий кортеж, изысканны: сероватые, сине-зеленые, охристые тона плащей и шляп; белые чепцы и чулки; желтоватые или блекло-красные рукава — всё это обретает особую, мелодичную красоту на фоне деревьев с легкой листвой и мягких переливов глинистой дороги. В безмятежных домах живут все те, кто не знает, как горько брести вот так — в полной тьме. Церковь с зеленой колокольней и розовой черепичной крышей высится на заднем плане.
Христос ходил по водам и исцелял от болезней целые толпы людей. Книжники и фарисеи, прибывшие из Иерусалима, были возмущены увиденным и услышанным. Ученики Иисуса не омывали рук перед тем, как сесть за стол, а сам Он говорил совершенно невразумительные вещи, в таком роде: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека; но то, что выходит из уст, оскверняет человека».[147] Когда ученики рассказали Ему об их недовольстве, Он сказал только: «Оставьте их, они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».[148] Но Брейгель слышит и другие слова Евангелия: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно».[149] Он вспоминает, как Христос говорил, что светильники следует держать горящими.[150] Вспоминает о мудрых девах со светильниками и о девах неразумных, чьи светильники погасли, и они остались на улице, в ночи, в то время как верные души веселились на светлом брачном пиру с женихом, сияющим как солнце.[151] Вспоминает о Преображении Христа на горе, когда «просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет».[152] Не есть ли вообще всё Евангелие прославление и обещание Света?
Эти Слепые, с открытыми лицами и «темными» телами, появились в его жизни и его видениях внезапно. Они пришли не из евангельской притчи. И даже не из воспоминания о гравюре Корнелиса Массиса, которую он, Брейгель, часто рассматривал: там четверо слепых, держащихся за руки, падают один за другим в грязную канаву. И не из набросков к «Пословицам». И не из детских воспоминаний. Они — порождение всей его памяти, но прежде всего — порождение его страха, страха человека и художника. Если он потеряет зрение, что с ним будет? Все время, пока он с упоением изображал плащи и шляпы слепых, он мучился мыслью, что может перестать видеть. Он испытывал томительный страх перед смертью и тьмой. И даже не думал обращаться за помощью к тем, что выступают от имени Христа, а сами лишь вводят в заблуждение людей — и хорошо еще, если не пытают и не убивают их. Он давно знал, что каждый должен вслушиваться в голос, звучащий в его собственной душе, просветлять себя своим внутренним светом. Однако бывает и так, что внутренний голос умолкает; тогда человек бредет, спотыкаясь во тьме. Вера — это способность видеть во тьме, вопреки тьме. Фома видел тело воскресшего Христа, дотрагивался до Него, но это не было настоящей верой. Мы все на ощупь пробираемся вперед в ночи земного времени — сомневающиеся, жалкие. Мы оскальзываемся на глине и вот-вот упадем в пропасть. Веришь ли ты, что глаза твои останутся живыми и на дне этой грязной канавы, что там они так же жадно, как прежде, будут пить свет?
Брейгель задает себе этот вопрос в тот миг, когда свершается обряд крещения его второго сына. Он смотрит на ребенка, который открывает навстречу миру свои голубые глаза; эти младенческие глаза цвета перванш — как вспышка в полутемной церкви! Свеча освещает книгу приходских записей. Его второго сына назовут Яном — в честь Иоанна Крестителя. «Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир…»[153]
Альба расквартировывает в Генте
Трибунал — сборище теней и бандитов. Некоторые его члены целыми днями наслаждаются в подземельях зрелищем пыток и не способны почти ни на что иное, кроме как насыщать глаза видом крови, а уши — криками терзаемых жертв. Другие — раболепствующие чиновники, думающие лишь о том, чтобы вовремя открыть судебное заседание и никоим образом не навлечь на себя недовольство начальства. Доверенным лицом Альбы стал некий Варгас, который родился в Испании, но бежал из своей страны после того, как изнасиловал маленькую девочку, находившуюся на его попечении. Преданность герцогу приносит ему немалую выгоду. Он не говорит ни по-французски, ни по-фламандски и добился того, что приговоры начали составлять на латыни. Но и латынь его ублюдочна — он, например, любит повторять фразу:
Трибунал действует вопреки всем законам. Тем, кто пытался протестовать против его тирании, ссылаясь на факты нарушения прав Провинций, Альба отвечал, что оскорбление Величества автоматически влечет за собой утрату виновными всех привилегий, всех обычных прав; кроме того, если он, наместник, будет обращать внимание на подобные мелочи, это пойдет лишь во вред королевской власти. Кавалеры Золотого руна по уставу могли быть судимы только членами своего ордена — Альба вообще запретил им проводить какие бы то ни было собрания, «хотя бы даже устраиваемые с единственной целью совместного произнесения молитвы „Верую“».
Столовое серебро и драгоценности, шпалеры и ковры, картины, золото и деньги осужденных на смерть и отправившихся в изгнание свозят в отель Кулембург целыми телегами. Одни только столовые приборы из дворца Эгмонта заняли шестнадцать сундуков. Имения принца Оранского конфискованы; правительственные чиновники опустошили арсеналы и фехтовальные залы его замков: семь барж, загруженных пиками и аркебузами, порохом, ядрами и пушками, были отправлены в Гент — и вскоре это оружие обратилось против фламандского народа.
Удивительная машина! Усердие в католической вере, забота о государственных интересах и финансировании административного аппарата, стремление чиновников обеспечить себе личный доход — все это вместе запустило и поддерживает в действии механизм жестоких гонений. Осудить кого-нибудь на смерть или вынудить отправиться в изгнание — значит стать наследником его имущества. Костер, на котором горит подозреваемый в ереси, — это гарантия попадания определенной суммы в сундуки Альбы, что позволит ему компенсировать расходы на правосудие. Конфискованное имение — это возможность выплатить жалованье целому полку или одному офицеру. За счет грабежей удастся сколь угодно долго финансировать оккупационную армию. Ведь кормит ее и предоставляет постой местное население.
Бюргерам, ремесленникам и простолюдинам запрещено «уезжать с места жительства, будь то в одиночку или с семьями, тайно или открыто, а также транспортировать куда бы то ни было, по воде или сухопутным путем, свое движимое имущество или товары — в противном случае их будут считать виновными или подозреваемыми в устроении беспорядков и преследовать по закону, а вышеозначенное движимое имущество, приготовленное для транспортировки, конфисковывать; лодочники или извозчики, которые не сообщат властям об обратившихся к ним потенциальных эмигрантах, будут считаться подозрительными лицами и подвергнутся наказанию, а их лодки, телеги и лошади будут конфискованы». Едва успели опубликовать этот ордонанс, как десять бюргеров из Турнэ были схвачены на дороге; их раздели и голыми отправили по домам. Нескольких жителей Антверпена подвергли порке за то, что они прятали у себя пакеты с товарами и одеждой, намереваясь переправить их в Англию.
Отель Нассау грабили несколько недель. Долбили стены, разбивали лестницы, надеясь найти тайники с секретными бумагами или драгоценностями. Альба разыскивал для своего короля определенные картины, которые, как он знал, находились в собственности Вильгельма, — прежде всего «Сад наслаждений» Босха. Долго пытали Питера Кола, привратника дворца, — заставляя, во-первых, предать принца, подтвердив выдвигаемые против него обвинения, и, во-вторых, показать, где спрятаны сундуки с наиболее ценными вещами. Подозревали, что он закопал в парке лучшие столовые приборы. Он так и не проронил ни слова. В конце концов, солдаты, которые простукивали стены, обнаружили босховский триптих. Альба сам спустился, с факелом в руке, чтобы посмотреть на него — так смотрят на эксгумированный труп. Группа самых доверенных приближенных помогала наместнику в этой странной миссии: они должны были «арестовать» шедевр, вывезти за пределы Фландрии принадлежащее ей чудо. Картину отправили в Эскориал.
Эгмонт не уехал из страны. Неужели — после всего, что было, — он еще полагается на слово Альбы? Горн удалился в свой замок Веердт. Он не хочет появляться в Брюсселе, заполненном испанцами. Альба говорит его секретарю: «Я сожалею, что король не вознаградил должным образом вашего господина. Великие государи порой запаздывают с признанием заслуг своих подданных. Если бы мне представился случай увидеться с графом, я бы доказал, что желаю ему добра. Недоверие, с каким относятся ко мне сеньоры этой страны, глубоко ранит меня. Ведь я — друг и слуга их всех». Горн, наконец, сдается, надеясь получить должность вице-короля Неаполя. Он приезжает в Брюссель. Фернан де Толедо, родной сын Альбы и великий магистр ордена Святого Хуана, приглашает к себе его, а также Эгмонта, секретарей того и другого — Бакерзеела и Лалоо — и бургомистра Антверпена ван Стралена. Банкет, согласно планам хозяина дома, должен продолжаться весь день. Однако около трех часов пополудни герцог Альба присылает своих трубачей, чтобы они развлекли гостей сына, и записку, в которой просит обоих графов чуть позже пожаловать к нему, ибо он хочет проконсультироваться с ними относительно архитектурного проекта будущей цитадели Антверпена. Понял ли сын Альбы, какую роль уготовил ему отец? Почувствовал ли стыд, угрызения совести? Да, несомненно. Он, олицетворение испанской чести, не мог допустить того, что должно было произойти. И хотел избавить отца от подобного позора. Он наклоняется к Эгмонту, который, ничего не подозревая, подносит к губам бокал с маасским вином, и шепчет ему: «Сеньор граф, возьмите лучшего коня и бегите! Клянусь вам, что ваша жизнь в опасности». Эгмонт поднимается. В голове проносится воспоминание о том миге, когда рука Альбы легла на его плечо и они вместе пошли по испанскому лагерю, а солдаты осыпали его, Эгмонта, грязными оскорблениями; он вновь испытывает краткий прилив страха — как тогда. Он выходит в соседнюю комнату, чтобы обдумать услышанное и посоветоваться со своим другом Нуаркамом, который доставил записку. Но Нуаркама уже назначили будущим судьей Эгмонта: его, Нуаркама, час пробил — он мог спасти себя только такой ценой. Если граф сумеет бежать, что будет с ним самим? Ведь он обещал герцогу вынести Эгмонту смертный приговор. Поэтому Нуаркам только весело смеется и убеждает друга в нелепости его подозрений. Говорит, что совет Фернана де Толедо есть не более чем хитрость, попытка испытать благонадежность графа: бежать — значит показать свое недоверие к Альбе, стать его врагом. Нуаркам возвращается вместе с графом в обеденную залу и садится рядом с ним за празднично накрытый стол. Час спустя Эгмонт уже входит в кабинет герцога; инженер развернул на столе пергамент, на котором обозначен план замка. Эгмонт мысленно упрекает себя, что сомневался в честности Альбы. Потом Альба вдруг исчезает. Эгмонт тоже хочет покинуть комнату. Но в этот момент Санчо де Авила, комендант испанского лагеря, приближается к нему, сообщает, что он, Эгмонт, арестован, и отбирает оружие. Через несколько минут арестовывают и Горна. Обоих секретарей, которых Альба собирается заставить — под пытками — давать показания против их господ, задерживают в гостинице. Ван Стралена, вместе с Эгмонтом и Горном, отправляют в Гентскую крепость. Там всех троих содержат в одиночных камерах, обитых черной тканью и освещаемых лишь одной свечой. Они теряют счет дням заточения. Ни малейший шум не проникает через толстые стены их узилища. Сон их наполнен томительным ожиданием смерти. Просыпаясь, они видят стены своей будущей гробницы. Дважды в ночь, когда меняется караул, капитан с факелом в руке входит в камеры и заглядывает им в лица. Испания времен Альбы умела гениально организовывать деятельность полиции и театральные эффекты, пыточные процедуры и террор…
Процесс Горна и Эгмонта тянулся долго. Может быть, Альба надеялся, что в короле все-таки проснется великодушие? Их обвиняли в мятеже и предательстве. Атака Людовика Нассауского на испанские войска и его победа при Хейлигерлее ускорили вынесение приговора. Казнь назначена на 5 июня — воскресенье, Троицын день. Эшафот, обтянутый черным, воздвигнут на Большой площади Брюсселя. Огромное количество солдат, вооруженных пиками и аркебузами, заполняет площадь и прилегающие улицы. Эгмонту и Горну сообщили о дне их смерти только накануне. У них не было возможности попрощаться хоть с кем-то из близких. За всё утро никто ни разу не подошел к их дверям. Эгмонт требует, чтобы этому томительному ожиданию был, наконец, положен предел. И вот их ведут по улицам, а народ молчит или плачет. В лучах июньского солнца блестят фасады и крыши домов. Эгмонт бледен, но он не дрожит и не замедляет шагов. Надеется ли он на милость (точнее, справедливость) короля; на то, что вся эта чудовищная церемония окажется инсценировкой, испытанием их мужества? Или он понял — пусть поздно, — какому безумному и коварному животному хотел быть верным слугой? Эгмонт и сейчас не утратил самообладания, никогда не покидавшего его в минуты смертельной опасности. Он одет, как во дни больших праздников, в малиновый с узорами шелковый пурпуэн и черный плащ с золотым позументом, в шоссы из черной тафты и замшевые чулки цвета зеленоватой бронзы; его высокая шляпа, тоже из черной тафты, украшена черно-белым плюмажем; на груди сверкает орден Золотого руна. Он проходит между ротами солдат, выстроенными в боевом порядке, с развернутыми знаменами. Он приветствует всех капитанов и солдат, прощается с ними, и многие плачут. Наконец он видит эшафот и плаху, священника с крестом. Он сам подходит к палачу и становится на колени. Через несколько мгновений Горн, поднявшись на верхнюю ступеньку лестницы, замечает пятна крови на затянутых черным бархатом досках эшафота. Те, кто рядом, слышат его шепот: «Друг, это ты лежишь здесь?» Но его самого уже хватают сзади, подталкивают к плахе… На протяжении двух часов головы Эгмонта и Горна были выставлены в медных тазах для всеобщего обозрения. Тело Эгмонта передали для погребения в монастырь Святой Клары. Туда стекались толпы народа, люди целовали гроб и орошали его слезами. Ночью, по повелению герцога, головы казненных были помещены в ларцы из эбенового дерева и под охраной солдат отправлены в карете в Мадрид.
Герцог наблюдал за казнью из окна одного дома на Большой площади, отступив на несколько шагов вглубь комнаты. Он смотрел. Его же самого видно не было. Этого человека народ вообще никогда не видит. Когда он едет из Брюсселя в Антверпен, или перемещается из одного гарнизона в другой, или даже просто направляется по делам в какое-то место Брюсселя, густая сеть пик и аркебуз отделяет его от всех тех, кто попадается ему на пути. Ему пятьдесят девять лет. Он — высокий, худой, с суровыми чертами лица, нездоровым цветом кожи, поредевшей седой бородкой. Его отец погиб, когда ему было четыре года (пал от рук мавров). Дед с самого детства воспитывал его как будущего военного. Он научился скрывать под изысканными манерами и любезными словами приступы внезапного гнева, которые случаются у него нередко. Ему свойственны немногословие, жесткость, надменность. Королю он предан более, чем Папе (с которым ему случалось сражаться). Он лютой ненавистью ненавидит фламандцев и всю эту страну. Жесток ли он? Он просто хороший солдат, исполнительный служака: прикажут распять кого-то — распнет. Хотя сам он, возможно, предпочел бы более мягкие меры.
«Сей народ настолько благодушен, — пишет он Филиппу II, — что прояви Ваше Величество милосердие, это побудило бы здешних жителей нести бремя послушания настолько же хорошо, насколько ныне они несут его дурно. Казни поселили в их сердцах такой ужас, что они убеждены, будто наше правление всегда будет кровавым. А пока подданные живут с такой мыслью, они не могут любить короля». Когда графиня Эгмонт, с распущенными волосами, босая, похожая на безумную или на кающуюся грешницу, бросалась от одного алтаря к другому, от двери к двери, умоляя, чтобы ее мужу сохранили жизнь, герцог никак на это не реагировал. Он выполнял свой долг — и сознание этого делало его совершенно непреклонным. Однако потом, с тем же курьером, который сопровождал ларцы из эбенового дерева, он отправил королю письмо, где были такие строки: «Я чувствую самое глубокое сострадание к графине Эгмонт и ее детям. Я умоляю Ваше Величество проявить милосердие и сделать для них что-то, что позволит им прокормить себя. Я даже не знаю, будет ли она ужинать сегодня вечером — настолько она покинута всеми и несчастна; я думаю, что на земле нет ничего печальнее ее участи». Когда же король ответил, что препоручает эту семью Богу и уже распорядился, чтобы за нее молились во всех церквях Испании, герцог еще раз попытался настоять на своем: «Графиня умерла бы от голода вместе с детьми, если бы я не послал ей немного денег». Может быть, он все-таки способен испытывать жалость. Но, как бы то ни было, свою миссию он исполняет. А миссия его заключается в том, чтобы искоренять любой мятеж, даже если для этого потребуется уничтожить в Нидерландах всё живое — искоренить всё, вплоть до самой маленькой деревушки. Один из его ордонансов против подозрительных лиц (а есть ли хоть кто-нибудь, кто не вызывал бы подозрений у этого бешеного испанца?) гласит: «Необходимо с большим тщанием выявлять таковых лиц и места, где они прячутся; и первых, кого обнаружат, будь то мужчины или женщины, следует немедля повесить либо удавить, а дома их разрушить вплоть до основания, чтобы этой жестокой демонстрацией внушить им тем больший ужас и заставить их стать благоразумнее, дабы впредь они воздерживались от подобных дурных поступков».
Он не претендовал на роль борца с ересью, а видел свою задачу лишь в том, чтобы покончить с беспорядками и непослушанием. Он просто, как и многие другие, был готов скорее разорить эту страну войной, но сохранить ее для Бога и короля, нежели дать ей спокойно развиваться в мирных условиях, но уступить дьяволу и еретикам, его приспешникам. Что он видел, когда смотрел на свое отражение в зеркале — ранним утром, собираясь на заседание трибунала? Видел ли он стареющего человека, которого долг перед Испанией и Богом удерживает вдали от родины, от Толедо, от апельсиновых садов и дворцов на берегах Тахо? Или он видел в себе ангела смерти, карающий меч, олицетворение Террора? Но не утратил ли он вообще способность видеть свое лицо?
По распоряжению Альбы в каждый брюссельский дом вселили до шести испанцев. Эти солдаты и офицеры, рассредоточенные по семьям горожан, в которых вели себя как хозяева, фактически были «глазами и ушами» короля. Люди осмеливались говорить лишь намеками, а чаще молчали, даже когда оставались одни в своих комнатах: ведь испанец за стенкой мог их подслушивать. Никто больше не приглашал к себе друзей. Испанская ночь просочилась в самые интимные сферы жизни. Только красноречивые взгляды, которыми порой обменивались члены семьи, были относительно безопасным средством общения. В архивах сохранилась запись о том, что «мастер ван Питер Брейгель» освобожден от обязанности принимать на постой солдат. Идет ли речь о художнике или о его однофамильце — враче? Если льгота была предоставлена художнику, то не потому ли, что городские власти захотели таким образом выразить свое уважение к его труду и таланту? Здоровье Брейгеля начало резко ухудшаться. Участились приступы страшной усталости, головокружения. Однажды во время работы он вдруг стал харкать кровью, Не по этой ли причине магистрат Брюсселя взял дом Брейгеля под свою защиту?
Осенью Вильгельм Оранский, собрав, наконец, войска, пересек границу Нидерландов. Однако три его армейских корпуса — северный, центральный и южный — были один за другим разбиты. Когда он, навербовав новых солдат, встретился лицом к лицу с Альбой, у него уже не оставалось надежды на победу. Его армия была не менее многочисленной, чем армия противника, но, в отличие от последней, не представляла собой однородной массы, так как состояла из наемников, которые, стоило задержать им выплату жалованья, переходили на сторону противника или начинали грабить близлежащие фермы, замки и церкви. Этим бандам Альба противопоставил отряды уверенных в себе бойцов, скованных железной дисциплиной. В конечном итоге Вильгельм, измотанный противником, который дразнил его, вступая в мелкие стычки, но уклоняясь от решающего сражения, был вынужден отступить. Он потерпел полный крах. Наступила зима. Армия Вильгельма откатывалась к французской границе — голодая, грабя по пути деревни. Крестьяне отказывали в какой бы то ни было помощи, нападали на отставших с вилами и дубинами. Кавалеристы Альбы, бодрые и сытые, преследовали по пятам солдат Вильгельма, которые от усталости и недоедания еле держались на ногах. Когда Вильгельм, в один из дней 1569 года, добрался, наконец, до Страсбурга, выяснилось, что и сам он последние несколько суток ничего не ел. Больной, дрожащий от лихорадки, он даже не мог сидеть в седле. Капитаны наемников взломали дверь того дома, где он находился, и угрожали убить его, ежели он не выплатит им жалованье. Он продал магистрату свои последние пушки, бросил все вещи и ночью тайно переправился на другой берег Рейна — на барже без сигнальных огней.
Альба написал королю, что считает принца Оранского конченым человеком. Любой алькальд[155] мог бы теперь управлять Нидерландами. Приближенные наместника видели в нем «инструмент, поистине избранный Богом, чтобы покарать этих демонов». Папа, который еще недавно увещевал короля Испании несколько смягчить режим правления в Семнадцати Провинциях, воспринял известие об июньских казнях с удовлетворением. Он отметил победу Альбы под Йеммингеном — над Людовиком Нассауским, — устроив в Риме праздничные процессии. Он даже пообещал внести свой вклад в финансирование испанских войск, расквартированных в Нидерландах, и участвовать в других расходах, связанных с поддержкой там католической веры. Папский нунций назвал герцога Альбу «мечом Господа». Весть об окончательной победе испанцев привела Пия V в восторг. По обычаю, каждый год на Рождество Папа благословлял меч и шляпу и посылал их в подарок какому-нибудь прославленному христианскому князю: меч — в знак того, что светская власть дается для служения Христу; шляпу — как символ защиты, которую Христос дарует тем, кто защищает Его на поле брани. Павел III отправил эти почетные дары Филиппу II — в 1549 году, когда испанский король находился в Брюсселе, — вместе с посланием, в котором превозносил его за заслуги в деле искоренения ереси. Пий V оказал подобную честь герцогу. Альба с благоговением застегнул на себе осыпанную бриллиантами портупею, на которой висела длинная шпага, и надел серую бархатную шляпу, отороченную горностаем и расшитую жемчугом. Позже по распоряжению герцога в цитадели Антверпена была воздвигнута статуя, изображавшая его самого: на грандиозном цоколе, отлитая из бронзы переплавленных пушек Вильгельма Молчаливого, она символизировала укрощение Мятежа и Ереси. На одной стороне постамента была выгравирована помпезная латинская надпись, другую украшал рельеф: Рассвет (так переводится с испанского слово
Теперь, раскрывая Библию, он порой замечает, что у него дрожат руки. Он не хочет верить своим глазам — ведь ему еще далеко до пятидесяти! А сколько лет было Питеру ван Эльсту, когда он умер? Примерно столько, сколько сейчас ему. Он подходит к зеркалу, с удивлением смотрит на свое внезапно осунувшееся, бледное лицо, на совершенно белые пряди в давно поседевших волосах, на почти целиком побелевшую бороду. Синдикат торговцев рыбой из Мехельна заказал ему картину «Иона». Сколько лет было Ионе, когда Бог повелел ему отправиться в Ниневию? (Ниневия — это почти то же, что Вавилон с его башней, ведь и она входила в царство Нимврода.) Несомненно, Иона был тогда человеком уже не первой молодости. Он проводил осенние дни, сидя на стуле с набитым соломой сиденьем, у очага; прислушиваясь, как шумит ветер на крыше и радуясь тому, что у него нет дел на улице, — и как-то незаметно для себя начал стареть. Осенние дожди и зимние морозы теперь отзывались болью в его плече. Конец жизни тоже может быть сладостным. Но Бог почему-то захотел послать его в Ниневию.
Брейгель набрасывает карандашом фигуру Ионы, только что извергнутого гигантской рыбой на мокрый песок: Иона, прежде чем пуститься в путь, позволяет себе передышку и радуется свежему ветру, дующему ему в спину. Он почти обнажен, у него голый череп новорожденного, руки молитвенно сложены — чтобы возблагодарить Господа за чудесное избавление от морской пучины и спасение из чрева чудовища — или чтобы набраться мужества не уклониться от своей миссии во второй раз? Чудовище еще различимо вдали: у него маленькие глазки и гигантская пасть. Всё это происходит ранним пасмурным утром. Ниневия — где-то на краю мира. Чайки кричат под низко нависшими облаками. Хорошо было бы остаться здесь, построить хижину в дюнах, питаться крабами и мидиями, рыбой. Он бы повесил фонарь на дверь, как делают паромщики. Он бы молился, постился — и постепенно, коротая дни в своем уединенном убежище на песчаном берегу, превращался бы в святого старца, назидательный пример для моряков и странников. А моряки, застигнутые штормом в ураганные ночи, смотрели бы на него как на спасительное Провидение. Разве такая жизнь не была бы достаточной жертвой Господу (особенно если учесть, что Иона лишился родного дома)? Когда-нибудь ветер с дождем пронесся бы над его могилой, как сегодня несется над морем и пустынным пляжем. Но Иона встает на ноги. Кит уже почти погрузился в воду. Он — не более чем пятнышко на горизонте. Он возвращается к своим пастбищам, где растут водоросли. А Иона идет искать сыновей Хама. Потоп ничему их не научил. И теперь он, маленький одинокий человек, должен противостоять целому преступному городу! Северный ветер насквозь продувает его лохмотья.
В библейском рассказе упоминается только один корабль — тот, с которого Иону бросили в море. Но Брейгель видит на море множество кораблей с черными или белыми парусами (в зависимости от того, как падает свет) — они застигнуты бурей. Он видит черное грозовое небо с дождем. Видит огромные водяные валы, которые догоняют друг друга и сшибаются, словно гигантские рыбины, наносящие удары противнику плавниками и хвостом. Кажется, будто и большие рыбы, мелькающие среди клочьев пены, — не что иное, как ожившие волны. Черные и белые птицы мечутся в небе, спасаясь от урагана. Вдали видна земля. На фоне внезапно образовавшегося аркообразного просвета в тучах можно даже различить постройки порта, церковь. Но как это всё далеко! Большой треугольник зеленой водной глади открывается среди конвульсий волн. Что это — с корабля вылили масло, чтобы хоть ненадолго утихомирить разбушевавшуюся стихию? Или источник этого сверхъестественного света — бездны неба либо морских глубин? Кит упорно следует за кораблем, играя с качающейся на волнах бочкой. Наверняка моряки уже выбросили за борт все тюки, которые были так аккуратно разложены в трюме, все бочки, все товары и прочие вещи, чтобы дать себе еще один шанс избежать крушения. Так бывает: когда подступает смерть, мы вдруг становимся совершенно безразличными к собственности! Кит, однако, не позволит одурачить себя бочкой. Он ждет Иону и уже разинул красную пасть.
Но об Ионе ли здесь речь? Этот корабль — просто судно, застигнутое бурей, как и все остальные. При такой непогоде, с такого расстояния мы не можем различить ни одного человека на вантах или на палубе. Мы видим целый флот, потрепанный ураганом, противостоящий, насколько это в его силах, порывам ветра и ударам волн. Нет, все-таки именно Иона заставил Брейгеля заглянуть в самого себя. Разве когда-нибудь прежде Брейгель изображал корабли на фоне столь враждебной человеку стихии? Раньше он видел их в окружении водной и небесной лазури, в пронизанном солнечным светом воздушном пространстве. Он не понимал тогда, что запечатлевал на полотне собственную молодость и силу. Сегодня он открывает для себя другой — темный, угрожающий — лик моря. Сегодня он видит свою жизнь как опасный переход, который свершается в сумерках, под шквальным ветром.
Усталость ли остановила его руку? Картина кажется незавершенной. В той части, где изображено небо, из-под красочного слоя кое-где проглядывает грунтовка. И эти косые линии, оставленные кистью, — трудно сказать, исчезли бы они под последним слоем краски, или Брейгель намеренно обозначил таким образом струи ливня.
Ортелий, приехавший навестить Брейгеля, очень опечалился, увидав, каким болезненно-бледным, исхудавшим, слабым стал его друг. Брейгель теперь редко покидает свое просторное кресло. Они все-таки поднимаются наверх, в мастерскую, — но художнику трудно стоять. За несколько месяцев Брейгель превратился в старика. Порой он говорит так тихо, что собеседнику приходится напрягать слух. Его борода кажется скорее белой, чем серой, — и волосы на голове тоже. Правда, знакомая улыбка осталась, и по-прежнему в этом человеке ощущается внутренняя сила.
Ортелий рассказывает Брейгелю о своей работе. В будущем году должен выйти в свет
Они говорят о бедах, обрушившихся на страну; о своих друзьях — тех, кто бежал за границу, и тех, кто остался и был арестован. «Католическая болезнь», «гёзовская лихорадка», «гугенотская дизентерия» — такие выражения Ортелий употреблял еще совсем недавно. Переменил ли он свои оценки сегодня?
Они в мастерской. Ортелий долго рассматривает картины, изображающие сцены деревенской жизни: «Крестьянский танец», «Крестьянская свадьба». Писал ли Брейгель мир — когда-нибудь прежде — с такого близкого расстояния? Очевидно, что художник стоял всего в нескольких шагах от своих персонажей, среди них. Никогда его краски не были такими яркими. Но радость ли они выражают? Ортелий всматривается в лицо одного из танцоров — уже не молодое, с огрубевшими чертами; этот человек тяжело опускает ногу на две перекрещенные соломинки. Мог ли Брейгель — неосознанно, непреднамеренно — изобразить под ногами танцующего крестьянина хрупкий соломенный крест, символ Рождества и Голгофы?
На мольберте стоит большая, почти квадратная картина. В центре, на глинистом холме, — виселица (без повешенного). Холм по форме напоминает череп; в одной из его «глазниц» помещаются череп лошади — такой же, как в «Шествии на Голгофу», — и кости. Надо бы бежать от этого места смерти, но крестьяне, изображенные слева, наоборот, приближаются к нему, танцуя; они держатся за руки по двое, по трое, кружатся в фигурах танца, образуют шествие; их видишь как бы с высоты птичьего полета, и они кажутся очень маленькими — скорее фигурки, чем фигуры. Они что — не видят виселицу? Забыли о ней? Или лихие времена уже миновали — и это ужасное место стало для них всего лишь привычной частью природы? Эти крестьяне — жители безмятежной деревни, которую мы видим в просвете между деревьями. Дальше — нежные очертания замка, сливающиеся с небесной синью. Очень высоко в небе летают птицы.
На виселице — почти точно в центре картины — сидит сорока. Нет, в данном случае это не аллегория болтунов или воров, а просто черно-белая птица, окрашенная в цвета дня и ночи, — образ времени. Не ворон и не голубь — сорока. Птица середины, птица-посредник. На картине она занимает срединное место; она подобна ступице в колесе дней. Ниже, у подножия виселицы, — другая сорока, в пару первой. Пара сорок, пары крестьян.
Всё это происходит среди зелени деревьев, на опушке леса. Ручей, струящийся под холмом, вращает колесо мельницы — еще один символ быстротечного времени. Сама же мельница напоминает о том, что из зерен дней складывается целая жизнь. Мельница на ручье, танцующие крестьяне, земля, которая их окружает и питает…
«Это мое завещание», — говорит Брейгель.
Между виселицей и мельницей возвышается крест — из тех, которые ставят на перекрестках дорог. Пейзаж напоен неисчерпаемой нежностью. Ручей вдали смешивает свои воды с огромной, но тихой и ласковой рекой. Земля — зеленовато-голубая — всё еще напоминает райский сад. «Я написал эту картину для Марии».
Сегодня пришел врач. Он приходит почти каждый день. Брейгель знает, что скоро умрет. Когда? Через несколько недель, месяцев, через год?
Скажет ли он об этом Марии? Сейчас — нет. Но он будет жить так, как живет человек, который вскоре должен покинуть сей мир.
Он сознает, что умирает.
Его охватывают приступы слабости, но и в промежутках между ними он чувствует себя немногим лучше.
Иногда он может писать, иногда — нет.
Он работает наперекор времени. И вместе с тем готовится выйти из времени. Эти дни, последние дни перед смертью, — он удивляется, что они уже пришли. Он воспринимает свою смерть как работу, которую ему предстоит сделать. Не жаловаться ему подобает — как будто его постигло какое-то особое несчастье, необъяснимая и единственная в своем роде несправедливость, — а знать, что таков общий для всех путь. Пройти этот путь до конца. И еще какое-то время терпеть компанию своего попутчика — этой разладившейся плоти, которую боль не отпускает уже ни на минуту.
Брейгель чувствует, что умирает. Начинает падать снег. Постепенно он как бы перестает видеть окружающие его реальные вещи. Он видит Триумф Смерти — такой, каким написал его когда-то. Только теперь это не просто картина, а настоящая жизнь. И потом, в знакомом пейзаже движется процессия, которую он узнает не сразу: это ведут на Голгофу Христа. На короткий миг взгляд Христа, затуманенный потом и кровью, встречается с его собственным.
Кто-то — Мария? — входит в комнату, поправляет подушку, протирает влажным полотенцем его лоб. Дает ему выпить целебного отвара. Он пытается что-то сказать — и не может.
Он отчетливо видит Вавилонскую башню. Видит тысячи разных человеческих дел, трудов, путешествий — и свое детство. Вавилонская башня и тот мир, который он, Брейгель, знал, суть одно и то же. Он видит движение своей жизни и ее отдельные эпизоды. Он вновь встречается с теми, кого когда-то знал, хотя некоторые из них давно умерли.
Но сейчас он уже покинул Вавилон. Он минует деревни, бредет по полям. Вавилон остался у него за спиной, едва различимый на линии горизонта. Он, Брейгель, пересекает пустыню. Вдали показался караван. Верблюды, слоны — они принадлежат царям-волхвам. Наступает ночь. Вспыхивает необычно яркая звезда. Кто-то помогает ему подняться. Ведь он лежал в канаве. Мелкие камешки больно впивались в позвоночник. Он идет вместе с другими. Караван прибыл издалека — это можно определить по странным шляпам путешественников. Караван прибыл из глубины времен. Все спускаются по склону горы к жалкой деревушке, состоящей всего из нескольких хижин.
И опять вокруг него мир живых. Колокольный звон. Шум. Колокольный звон — или удары молота по наковальне в деревне его детства (ныне от нее не осталось ничего, кроме черной золы)? Шум повседневной жизни. Какой-то разговор вполголоса. Кто-то читает молитву на латыни, кто-то обращается к нему. Он отвечает — но не знает, слышат ли его. Сыновья стоят у него в ногах. Удивленные, примолкшие. Видят ли они, что он им улыбается? Жаль, но он уже не сможет подняться с кровати и подойти к ним.
Они приблизились к полуразрушенному хлеву. Но кто же он сам? Пастух — или, быть может, маленький мальчик. Он видит Рождество — такое, каким всегда его воображал, каким написал. Только сейчас это всё
Снегопад — как прерывистое дыхание больного. Мужчина; рядом женщина на осле, прижимающая к себе младенца, закутанного в полу плаща. Бегство в снежную ночь. Переход.
Мастерская, опустевшая навсегда. Этот человек уже не поднимется на рассвете, чтобы работать, стоя во весь рост посреди своего правдивого сна. Осталась молодая женщина с двумя детьми, которой придется привыкать к этой тишине наверху, к его — Брейгеля — отсутствию. Он мог бы прожить в два раза дольше, чем прожил. Многие художники достигали глубокой старости, и в конце жизни их живопись пела так, как никогда прежде. Их можно уподобить мореплавателям, обнаружившим на закате своих дней поистине райский остров. К тому времени их тела становились больными и слабыми, пальцы утрачивали гибкость — но они создавали картины, странствовали в иных мирах, и это было не постепенное угасание, а обретение всё большей свободы. Брейгель же умер задолго до своего пятидесятилетия — 5 сентября 1569 года. В тот день колокола церкви Нотр-Дам де ла Шапель отзвонили по нему панихиду. В доме занавесили зеркала. Занавесили ли — как это принято, когда кто-то в семье умирает, — также и его картины? В мастерской начнут прибираться только завтра — или еще позже. Пока эти мольберты и палитры, столы, кисти и карандаши остаются в таком же беспорядке, в каком были прежде, мы отдаем последний долг человеческого участия телу, над которым еще витает дух. Птицы садятся на подоконник, как если бы Брейгель был жив. Свет над садом такой же, как всегда, — и тех, кто скорбит об усопшем, это удивляет. Брейгель, наверное, знал в глубине души, как мало времени ему отпущено: этим и объясняется потрясающая сила его живописи, успевшая воплотиться в полотна за столь немногие годы. Кто приходил в те дни, чтобы увидеть его лицо с уже закрывшимися глазами? Кто приходил помолиться у его изголовья? Колокол Нотр-Дам де ла Шапель звонит в последний раз. Дух, уже не обремененный плотью, отправляется в иномирное странствие…
Итак, еще одна книга о Брейгеле… Там-то, за рубежом, о нем написано так много, что еще одна — ни прибавит, ни убавит. А вот у нас их можно пересчитать по пальцам. И, естественно, каждая новая книга, в особенности если она выходит в серии «ЖЗЛ», — событие для нас. Питер Брейгель Старший — фигура таинственная, зашифрованная, чуть ли не мистическая… Всем известно, что он — великий художник; наверное, многие видели репродукцию с одной из его картин, в просторечии окрещенной «Зимним пейзажем». И это всё. Характерно, что в музеях нашей страны, столь богатых западной живописью, нет ни одной картины Брейгеля. Поэтому новая книга, тем более книга необычная (об этом ниже), заставляет еще раз вернуться к «проблеме Брейгеля» — предмету многолетних искусствоведческих дискуссий — и, выявив ее основные аспекты, представить общий фон, на который наложен пестрый, оригинальный и во многом спорный материал повествования Клода Анри Роке.
Гигантская фигура Брейгеля покоится в рамках так называемого «Северного Возрождения», где ей, правда, несколько тесновато; и все же вырвать ее из этого контекста невозможно. А потому — начнем именно отсюда.
«Северное Возрождение» — термин, родившийся по аналогии с итальянским Возрождением (Ренессансом) XIV–XVI веков. Термин немного условный: если для Италии он связан с подлинным возрождением интереса к традициям и памятникам Античности, то на севере Европы (в Нидерландах, в Германии), собственно, «возрождаться» было нечему, поскольку там ни подобных традиций, ни подобных памятников не было и быть не могло. Тем не менее тенденции в области искусства и юга и севера Западной Европы во многом были общими, а в основе их лежали изживание средневекового, феодального миросозерцания и зарождение новой буржуазной культуры. Особенно бурно и впечатляюще процесс этот проходил в Нидерландах — стране, как и Италия, раннего и быстро развивавшегося капитализма.
Средневековые Нидерланды территориально не совпадали с нынешними; они были, по крайней мере, в два раза больше и включали в свой состав современные Нидерланды, Бельгию, Люксембург и часть Северной Франции. В XV веке все эти земли входили в состав могущественного герцогства Бургундского, лежавшего на стыке Франции и Германской империи. Возрождение здесь началось с рукописной миниатюры братьев Лимбургов и достигло блеска в станковых картинах Яна ван Эйка (1390–1441), Рогира ван дер Вейдена (1400–1464), Хуго ван дер Гуса (ок. 1440–1482) и Ханса Мемлинга (ок. 1435–1494), блеска такого же яркого и ослепительного, как и блеск бургундского двора при герцогах Филиппе Добром (1396–1467) и Карле Смелом (1433–1477), столь исчерпывающе описанный И. Хейзингой.[157] Для этого «бургундского» периода Возрождения характерны яркость красок (недаром братьев ван Эйков считали изобретателями масляной живописи), простота и ясность сюжета на религиозные темы, преобладание портрета (прежде всего — представителей правящей элиты), появление (хотя и робкое) бытового жанра. Всё это, однако, кончается с распадом Бургундского государства (1477) и началом кризисных лет, связанных с установлением испанского господства в Нидерландах. Уже поздние произведения Хуго ван дер Гуса, художника умиротворенного и лиричного, приобретают черты дисгармонии, смятения, разобщенности с миром. А на грани XV и XVI веков появляется удивительный мастер аллегории и мистических образов Иероним Босх (ок. 1450–1516), своим «Возом сена», «Садами земных наслаждений» и «Кораблем дураков» впервые показавший изнанку видимого мироздания. Впрочем, этот художник, давно ставший предметом нескончаемых дискуссий, требует особого места и особого разговора; здесь же будет достаточно вспомнить, что его называют обычно духовным отцом Брейгеля. И не зря.
Мало найдется в истории искусства личностей столь загадочных и неоднозначных, как Питер Брейгель Старший. Начать с того, что неизвестны ни среда, из которой он происходил, ни его родители, ни место и время его рождения. Сведения, которые по этому поводу передает первый (и единственный) его биограф Карел Мандер, явно анекдотичны и не подтверждаются никакими другими данными; легенда о том, будто он происходил из деревни, базируется лишь на его прозвище «Мужицкий», которое, в свою очередь, объясняется тем, что в последние годы жизни он часто писал крупным планом крестьян. Разумеется, подобное утверждение абсурдно: Томас Гейнсборо, сын провинциального суконщика, портретировал английских аристократов, а потомственный аристократ Анри Тулуз-Лотрек живописал дно Парижа — примеры можно умножить. В течение всей своей жизни Брейгель продолжал оставаться «немым»: он не писал статей и трактатов, не оставил переписки и не знал друзей — за исключением двух-трех близких по духу лиц, также бывших «немыми» по отношению к нему.[158] Что же касается документов, относящихся к Брейгелю непосредственно, то их обнаружено всего три. Это справка о принятии его в гильдию живописцев Антверпена (1551), регистрация его брака с Марикен Кукке (1563) и сведения о его смерти и погребении (1569). Первый из этих документов дает возможность приблизительно вычислить год его рождения: поскольку в гильдию обычно принимали мастера в возрасте двадцати — двадцати пяти лет, время рождения Брейгеля можно (условно) определить 1525–1530 годами; следовательно, прожил он всего около сорока лет. И это всё, что можно сказать о нем с большей или меньшей достоверностью. Единственной подлинной биографией художника являются его произведения, значительная часть которых, к счастью, датирована.
На основании этих материалов мы узнаем, что Брейгель начал свою творческую деятельность как график, что жил он в то время в Антверпене, совершил короткую поездку в Италию (остались любопытные альпийские зарисовки) и работал на владельца мастерской эстампов Иеронима Кока. И еще одно: уже в этот период определилась его творческая индивидуальность. К началу XVI века в живописи Нидерландов стало преобладать направление «романистов» — художников, подвергшихся сильному влиянию итальянского маньеризма и отошедших от старонидерландской традиции. В числе их находились такие известные мастера, как Ян Госсарт, или Мабюз (ок. 1478 — ок. 1535), Ян ван Скорел (1495–1562), Мартин ван Хемскерк (1498–1574) и Франс Флорис (1518–1570). Романизмом «грешил» даже знаменитый Лука Лейденский (1489–1533). Романистом был и учитель Брейгеля, Кукке ван Эльст. Однако сам Брейгель не поддался новым увлечениям, но остался верен традициям ван Эйка и Рогира. Один из рисунков Брейгеля, выгравированный Коком в 1557 году, особенно характерен ясностью понимания происходившего на его родине. Речь идет о широко известном рисунке 1556 года «Большие рыбы поедают малых». Искусствоведы трактовали смысл рисунка по-разному, хотя, на наш взгляд, смысл этот однозначен и лежит на поверхности. Если отбросить «босховский» антураж, то содержание рисунка элементарно простое. На берегу моря лежит огромная рыба, над которой производит экзекуцию человек в одежде солдата и глубоко надвинутой каске. Человек этот большим зазубренным ножом вспарывает брюхо рыбы, из которого, а также и из ее пасти, вываливаются груды рыб меньших размеров, а у них, в свою очередь, торчат изо рта еще меньшие рыбешки. На лезвии ножа солдата изображен кружок, увенчанный крестом, — символ вселенной. Другой солдат взбирается на рыбу с противоположной стороны, готовясь нанести ей удар трезубцем. Что это, если не эзоповское изображение действительности, окружавшей художника? Большая рыба — не символ ли это Нидерландов, раннекапиталистического хищника, пожирающего своих мелких конкурентов? Но всех их — и крупных, и мелких — ждет одно: иноземный солдат с претензией на мировое господство вспорет им животы и нанесет смертельный удар… Гениальное предвидение того, что произойдет одиннадцать лет спустя!
Хотя в антверпенский период Брейгель был в основном занят графикой, он отдал дань и живописи, создав в 1555–1558 годах «Падение Икара» — знаменитую «картину-загадку». Ибо зритель как в те дни, так и сегодня, смотря на этот яркий, словно купающийся в солнечном свете пейзаж, с недоумением спросит: «А где же Икар? И при чем тут Икар?» Согласно античной легенде, пересказанной Овидием, искусный мастер Дедал соорудил себе и сыну Икару крылья из птичьих перьев, скрепленных воском. Взлетая над морем, Дедал предупредил сына об опасности слишком большой высоты полета. Но Икар не послушал отца, взлетел к самому солнцу, которое растопило воск; крылья разрушились и дерзкий юноша рухнул в морскую бездну… Но на картине Брейгеля ничего этого нет. Мы видим пейзаж с морем, по которому плывут корабли, над морем — высокий берег, окантованный зеленью, и на этом фоне — троих людей, в современных Брейгелю одеждах, каждый из которых занят своим делом: пахарь пашет землю, ложащуюся под его плугом ровными пластами; пастух сторожит стадо; рыболов удит рыбу. И только случайно, переведя взгляд с рыболова на море, замечаешь какой-то белесый предмет, торчащий из воды… Да это же человеческая нога, нога тонущего Икара! Его еще можно спасти — ведь корабль совсем рядом, неподалеку и рыболов… Но Икара никто не спасет. Ибо мы увидели его ногу, но присутствующие на картине — ни пахарь, ни пастух, ни люди на корабле — ее не видят, точнее, не замечают. Не замечает ее даже рыбак, хотя, следя за своей леской, смотрит именно в нужном направлении!.. Вот и решение загадки: человеческое отчуждение, характерное для нашего «перевернутого» мира, в котором исчезли милосердие и сострадание к ближнему, а все ушли в свои частные, сугубо материальные интересы…
Тема отчуждения останется одной из постоянных тем всего дальнейшего творчества Брейгеля. Она присутствует и на трех быстро последовавших одна за другой картинах, написанных вслед за «Падением Икара». Это необыкновенно яркие по краскам, многофигурные «Пословицы» (1559), «Битва Поста и Масленицы» (1559) и «Детские игры» (1560). Сама композиция картин, с огромным числом действующих лиц и очень высоким горизонтом, создающим впечатление обзора с птичьего полета, напоминает знаменитые триптихи Босха; что же до содержания, то в первой и во второй картинах оно сродни босховскому «Кораблю дураков». Особенно это характерно для «Пословиц». Здесь изображено множество людей, которые суетятся и словно бы делают какое-то дело. Но на поверку выходит, что все эти «дела» оборачиваются абсурдом. Один — сосредоточенно стрижет свинью, точно овечку; другой — бросает свиньям под копыта цветы; третий — пытается прошибить головой стену; четвертый — греется у горящего дома; пятый — старается удержать за хвост ужа; шестой — зарывает колодезь, в котором плавает теленок… Вот женщина душит чертенка, а повар жарит блины на крыше дома, как на сковородке, в то время как какая-то пара, сидя в деревенском нужнике, головы спрятала внутрь, а голые зады выставила наружу… Да мало ли еще всякого? Человек в одежде патриция пригоршнями бросает золото в реку, и туда же рыбак выкидывает рыбу, стрелок пускает стрелы в небо, монах подвязывает святому бороду; над всем этим господствует уже знакомая нам сфера с крестом, но теперь, в двух случаях из трех, крест обращен книзу… Символ понятный: мир навыворот — страна дураков…
Теми же настроениями проникнута и вторая картина. Что же касается третьей — здесь всё сложнее. На первый взгляд — картина умилительная: на большой площади перед красивым зданием резвятся дети — милые крошки в ярких, пестрых одеждах. Но присмотримся внимательнее и увидим, что умиляться нечему — большинство их забав носит жестокий характер: здесь и пощечины, и выдирание волос, и растягивание на доске, и коллективное избиение… Да, не так уж всё мило и трогательно в этом «перевернутом» мире, где дети стремятся не отставать от взрослых…
В 1563 году в жизни Брейгеля наступил перелом: он женился на дочери своего бывшего учителя, оставил Антверпен и переехал в Брюссель. Чем был вызван этот внезапный переезд, оборвавший многое в судьбе художника, в том числе и обеспеченную работу в мастерской Иеронима Кока? В Брюсселе жила его теща, вдова ван Эльста, и, по утверждению Мандера, именно она потребовала переселения молодых, поскольку-де у художника в Антверпене остался некий «грешок», с которым иначе покончить было нельзя. Быть может, это и так. У холостого мужчины в годах Брейгеля мог быть и не один «грешок», хотя толком об этом ничего не известно. И всё же объяснение биографа представляется нам если не ложным, то во всяком случае недостаточным. Вероятно, были и другие, более глубокие причины, связанные то ли с политикой, то ли с конфессиональными гонениями, которые уже шли полным ходом. Так или иначе, но истину мы не узнаем, хотя один намек на нее всё же имеется. Брюссель, город гораздо менее богатый, чем Антверпен, был вместе с тем административным центром страны. В Брюсселе жила наместница Нидерландов, сестра испанского короля Маргарита Пармская; там же обитал и ее ближайший помощник, хитрый бургундец кардинал Гранвелла. Есть данные, что Гранвелла благоволил к Брейгелю; во всяком случае, он собирал его картины. Некоторые исследователи на этом основании придерживаются взгляда, что в творениях Брейгеля власти не видели ничего «крамольного». Мы же придерживаемся обратного мнения: «крамолой», если она талантлива и остроумна, будь то в искусстве или в литературе, всегда увлекались именно те, кто должен бы ее бояться, — сильные мира, против которых она направлена. Вспомним, как упивались «пикантностью» антифеодальных и антицерковных писаний кюре Мелье французские аристократы XVIII века! Или еще ближе к нашей теме — как обожал изувер и фанатик Филипп II «еретические» картины Босха! Очевидно, то же можно сказать и о главных картинах Брейгеля брюссельского периода.
Сюда художник привез новую триаду, чем-то напоминающую предыдущую, но гораздо более сложную по содержанию и трудную для восприятия. Это «Падение ангелов», «Безумная Грета» и «Триумф Смерти», датированные 1562 годом. Эти три картины — наиболее «босховские» из всего творчества художника. Особенно это относится к «Падению ангелов», где разнообразные чудовища, в которых превращаются падшие ангелы, удивительно напоминают адских монстров Босха. Эта картина — самая простая и понятная из триады, «Безумная Грета» — гораздо сложнее и зашифрованнее. Что же касается «Триумфа Смерти», то она перекликается с многочисленными средневековыми «Плясками смерти», в частности, с аналогичными композициями Гольбейна; смысл ее тот, что от смерти не уйти никому, будь ты простой человек, рыцарь, монах или император. В целом триада как бы объединяет три ипостаси, три неизбежных пристанища всех персонажей «перевернутого» мира — землю, небо и ад.
Не рассматривая оба варианта «Вавилонской башни» (1563), перейдем прямо к той картине, которая является одним из высших достижений брейгелевского творчества. Речь пойдет о «Несении креста» (1564), в котором синтезируются все прежние раздумья и достижения мастера. Сюжет этой картины довольно часто встречается в предшествующей живописи, в том числе дважды повторен Босхом. Но то, что сделал Брейгель, до него не делал никто. И первое, что бросается в глаза, — очевидный отход от традиций «духовного отца»: Брейгель впервые отходит от Босха и становится подлинным Брейгелем, Великим Брейгелем. Вместе с тем «Несение креста», как и «Падение Икара», является картиной-загадкой: при беглом осмотре видишь одно, а при внимательном — совсем другое.
Картина, как это и прежде бывало у Брейгеля, панорамна, с высоким горизонтом и узкой полоской неба. Перед зрителем расстилается необъятная пересеченная поверхность земли, с оврагами, скалами и городом-крепостью на горизонте. В панораме три плана, но глаз останавливается на первом и третьем. Первый план — очень крупный, как бы приближенный к зрителю, и на нем обычная группа оплакивающих Христа: Богоматерь, Иоанн Богослов и две их спутницы. Это — традиционная группа, многократно повторенная в живописи и обычно сопровождающая сюжет «Снятие с креста». Но здесь она вроде бы «не на месте», ибо зритель не видит мертвого Христа! Невольно взор поднимается кверху — к третьему, очень мелкому плану; здесь, в правом верхнем углу картины, зритель сразу замечает тесный круг мельчайших человеческих фигурок, обступивших открытое место. Ясно, это Голгофа, об этом свидетельствуют и два врытых в землю креста. Но почему их только два, а между ними лишь готовится место для третьего, главного? Значит, Христос еще не распят? И тогда начинаешь всматриваться во второй, промежуточный план, сначала пропущенный ввиду его какой-то бессистемности, разобщенности. Здесь тоже мелкие фигурки, хотя и значительно крупнее, чем на Голгофе. Но сразу не поймешь, что они делают, куда и зачем идут: здесь и пешие, и конные, они движутся группами и в одиночку, и, как поначалу кажется, в разные стороны. Но нет, они движутся в одном направлении — к Голгофе; но движутся нестройно: по дороге останавливаются, оглядываются, словно сомневаются, идти ли дальше. И только всмотревшись в этот бестолковый муравейник, замечаешь где-то в толще его диагонально лежащий крест и упавшего под его тяжестью Христа… В этой удивительной композиции Брейгеля, представляющей безумное, бестолковое и безразличное человечество, мотив «отчуждения» выражен наиболее ярко, с помощью средств, впервые — и только им — примененных в живописи. Это впечатление усугубляется еще одним нестандартным приемом. В нижнем правом углу картины, у самого ее края, можно разглядеть полузаслоненного сухим деревом человека в черном костюме, наблюдающего за «действом». На его худом изможденном лице — печать беспредельной грусти; широко раскрытые глаза словно видят дальше и глубже лежащего перед ним, проникая за пределы «перевернутого» мира.[159] В целом картина производит сильное впечатление. Она глубоко потрясла Бертольта Брехта, живо интересовавшегося творчеством Брейгеля.
Вслед за «Несением креста» Брейгель написал еще несколько картин на библейские темы: «Проповедь Иоанна Крестителя» (1566), «Перепись в Вифлееме» (1566), «Избиение младенцев» (1566) и «Обращение Павла» (1567). Но когда он заканчивал последнюю из них, уже третий год шла Нидерландская революция; в движении конного отряда на картине многие усматривали намек на кровавую экспедицию герцога Альбы, ставшего новым хозяином страны. Вот здесь-то и будет уместно поставить полемический вопрос об отношении художника к реальным событиям, проходившим не в абстрактном мире, а на его родине.
Еще в то время, когда Брейгель жил в Антверпене, накал политической жизни в стране усиливался от года к году. Экономический кризис, охвативший Испанию в правление Филиппа II (1556–1598), заставил короля обратить пристальное внимание на богатства Нидерландов. Получая с них больше налогов, чем со всех остальных своих владений вместе взятых, он рассчитывал эти доходы еще умножить. С этой целью было решено «испанизировать» подопечную страну или, попросту говоря, превратить ее в колонию и грабить теми же методами, какими уже были ограблены заокеанские земли. Здесь на подмогу Филиппу пришла любовно опекаемая им католическая церковь. Ревностный католик, оплот и радетель «святой инквизиции» у себя дома, Филипп решил создать нечто подобное в Нидерландах и уже приступил к реализации этого плана.
В стране запылали костры, на которых усердно жгли кальвинистов, лютеран, анабаптистов и прочих «еретиков», составлявших немалую часть населения, особенно на севере. Тогда поднялось всё население Нидерландов. Первыми заявили о себе дворяне, возглавляемые лидерами национальной аристократии — принцем Вильгельмом Оранским, полководцем, графом Эгмонтом и адмиралом Горном. В 1565 году была организована «Святая лига», и в Брюссель, ко двору Маргариты Пармской, отправилась депутация дворян с требованием отменить репрессивные меры правительства. Но народ не стал ждать официальных решений и дружно поднялся на борьбу. Осенью 1566 года в двенадцати провинциях из семнадцати вспыхнуло восстание под флагом «иконоборчества» — борьбы против «римского идолопоклонства». Толпы людей, вдохновляемые кальвинистскими проповедниками, врывались в храмы, ломали церковную утварь, уничтожали иконы и статуи. Маргарите (не без помощи струхнувшего нидерландского дворянства) с трудом удалось подавить восстание. Но Филипп решил использовать повод для задуманной акции. Маргарита Пармская фактически была отстранена от власти, а ее место занял суровый и жестокий полководец герцог Альба. Немедленно по прибытии в Нидерланды новый наместник учредил «Совет по делу о мятежах», по приговору которого погибло около восьми тысяч человек, в том числе Эгмонт и Горн… Дальнейшего Брейгелю увидеть не довелось — он умер в 1569 году, за три года до начала нового восстания, ставшего пиком Нидерландской революции.
Как реагировал Брейгель на все эти события, и реагировал ли вообще? Постановка вопроса для всякого, кто знаком с творчеством художника, должна показаться странной. Тем не менее она закономерна, ибо с легкой руки крупнейшего «брейгелеведа» Ш. Тольная сложилось мнение, будто Брейгель, поглощенный «глобальными» проблемами, был абсолютно равнодушен к «мелочам», иначе говоря, ко всему, что происходило в его стране. Сторонники этой теории в качестве одного из наиболее сильных аргументов приводят то обстоятельство, что именно в самые горячие годы (1565–1568) Брейгель обратился вдруг к пейзажу и жанру — создал свои замечательные «Месяцы» (один из них — упоминаемый выше «Зимний пейзаж», который правильнее называть «Охотники на снегу», — общепризнанный шедевр), а также не менее замечательные жанровые картины из жизни простого народа (за которые и получил прозвище «Мужицкого») — такие, как «Крестьянский танец» и «Крестьянская свадьба». На это можно возразить, что пейзаж был одной из центральных тем Брейгеля всегда, начиная с первых альпийских зарисовок, а народ (именно простой народ, крестьяне) заполнял все его полотна, в том числе и «глобального» характера. Не видеть же того, как живо и глубоко (конечно, прибегая к «эзоповскому» языку) художник реагировал на всё, происходившее вокруг него, может только тот, кто не хочет этого замечать. Вспомним хотя бы одну из его ранних работ, разобранную выше, — рисунок 1556 года «Большие рыбы поедают малых». Что же касается поздних произведений Брейгеля, относящихся ко времени начала революции, то здесь тоже всё прозрачно, а «библейская» форма — всего лишь защитная оболочка, чуть-чуть прикрывающая подлинную суть. В этом смысле особенно характерны три полотна 1566 года (времени иконоборческого восстания и начала карательных акций Испании) — «Проповедь Иоанна Крестителя», «Перепись в Вифлееме» и «Избиение младенцев».
Первая из этих картин наиболее сложна по смыслу и не сразу поддается прочтению. На ней, как и на «Несении креста»!! огромное количество людей; но теперь они представляют не разобщенные группы, а целостную, сплоченную массу, занимающую большую часть картины. У зрителя сразу создается впечатление, будто он видит некое сборище, спонтанно собравшееся в глубине леса. В центре этой массы народа, составляющей замкнутый круг (или, скорее, амфитеатр), проповедует Иоанн, указывающий обеими руками направо, в просвет между деревьями. Там открывается прорезанная широкой рекой поляна, но такая бледная и воздушная, что может быть принята за видение или сон. На этом призрачном фоне едва различимы две крохотные фигурки, совершающие обряд крешения. Таким образом, мы видим как бы картину в картине: одна реальная, весомая, ощутимая в своей материальности — проповедник вещает собравшимся слушателям; другая призрачная, отличная и по цвету, и по интенсивности — тот же Иоанн крестит Иисуса Христа. Очевидно, вторая картина — предмет повествования проповедника в первой, реальной. Это — основной смысл картины. Но в ней определенно проглядывает и другой смысл, зашифрованный, обнаруживаемый тем, что в толще слушателей мы замечаем обращенное к нам лицо… Брейгеля![160] Причем выражение лица трагическое, полное скорби!..
Трудно отделаться от впечатления, будто присутствуешь на одной из тайных сходок, сопутствующих иконоборческому восстанию, и что художник, создавший это полотно, вне зависимости от своей конфессиональной принадлежности, с пониманием и болью относится к происходящему…
Две другие картины гораздо более откровенны и смотрятся как диптих, ибо показывают два евангельских сказания, привязанных к одному и тому же месту и хронологически следующих друг за другом. Первое относится к переписи населения по распоряжению римского императора; второе изображает избиение детей по приказу Ирода, рассчитывавшего таким образом уничтожить ребенка-Христа. Оба события происходили в Вифлееме. И у Брейгеля изображен Вифлеем. Но какой! И тут, и там мы видим засыпанную снегом деревню с характерными фламандскими домиками; и тут, и там группы людей, одетых в современные Брейгелю костюмы; лишь на одном из них — видимо, в целях маскировки — полосатый восточный халат.
На первой картине главное событие происходит в нижнем левом углу, где толпятся люди, ожидающие своей очереди, в то время как переписчики в темных одеждах, сидя у открытого окна одного из домов, записывают в книги имена собравшихся. Характерная деталь: высоко на стене дома, где обитают переписчики, прибита доска с черным имперским орлом Габсбургов; а рядом стоит охранник с алебардой. Всё это очень похоже на выколачивание очередного (или внеочередного) налога с жителей Нидерландов.
Что происходит, если налог вовремя не уплачен — об этом повествует вторая картина. Мы видим те же заснеженные домики, и тот же имперский орел красуется на груди главного распорядителя. И не сразу понимаешь, что полным ходом идет расправа — обнаженные мечи, убитые дети, женщины с заломленными над головой руками, мужчины, о чем-то тщетно умоляющие ландскнехтов. А вдали, словно окостенелый бездушный механизм, застыла монолитная группа конных солдат в кирасах и с поднятыми пиками, видимо страхующая убийц…[161] И это ли не отклик чуткой души художника на увиденное в реальной жизни, если не «перевернутого мира», то «перевернутого мирка» своей страны, своего города, своей деревни?…
Можно было бы говорить еще, но это вряд ли многое прибавит, а потому перейдем к последней картине Брейгеля. Мы не уверены, что она действительно последняя по времени написания — она датирована 1568 годом, когда художник создал еще и другие первоклассные картины; но по смыслу она должна быть последней: здесь, как бы подводя черту, Брейгель от частного снова переходит к общему и говорит свое последнее слово, произносит свой беспощадный приговор обществу, в котором, волею Провидения, ему довелось жить и умереть. Речь пойдет о «Притче о слепых» (другие названия: «Слепые», «Парабола слепых»).
В картине как бы два изолированных друг от друга плана. Дальний — мирный и безлюдный фламандский пейзаж: несколько островерхих деревенских домиков, маленькая уютная церквушка, там и сям разбросанные деревья, птицы, высоко парящие в небе, кустарники, речка, заросшая зеленью. Передний план — шестеро слепых, бредущих не по дороге, не по тропинке, а по неровной, словно вздыбившейся земле, резко отделенной от зеленого ковра дальнего плана. И деревья, и дома, и церковь, и река для них чужие, они не видят ничего этого — глазницы их пусты, а у иных уже полностью закрыты кожными складками. Они проходят мимо, движимые какой-то своей целью. Чтобы не сбиться с пути, они держатся друг за друга. Но вот происходит беда: слепой поводырь не нащупал посохом конца пригорка и вместе со своим скарбом полетел в реку. Следующий, с искаженным от ужаса лицом, падает на него. Третий, связанный со вторым посредством посоха, уже пошатнулся и сейчас последует за своими предшественниками. Четвертый еще устойчиво держится на ногах, но чувствует неладное — это написано на его безглазом лице. Пятый и шестой пока ни о чем не догадываются, но и им неминуемо быть в реке следом за их товарищами. Таково внешнее, зримое содержание картины. Внутреннее же, незримое, но постигаемое, прочитывается без особого труда: природа вечна и совершенна, а жизнь людей — это путь слепых, кончающийся неизбежной гибелью.
Таков последний аккорд художника-философа в его многочастной мировой симфонии.
Прочерченная на предыдущих страницах краткая канва творчества Брейгеля, равно как и заключительная хронологическая таблица, — необходимое приложение к книге, лежащей перед нами. Ибо книга эта, как уже отмечалось, необычна, как необычен и ее автор.
Клод Анри Роке, родившийся в 1933 году, литератор весьма широкого профиля: он культуролог, эссеист и поэт. И хотя перу его принадлежит ряд работ по архитектуре и скульптуре, главное в его творчестве — своеобразные интервью, «беседы»
Что же касается видения автором отдельных картин Брейгеля и его творчества в целом, то в эту сферу мы вторгаться не станем. Наша концепция довольно полно высказана выше, а сравнить ее со взглядами Роке и принять ту или иную точку зрения — дело читателя.
Книги и статьи, посвященные Брейгелю, столь многочисленны, что я отсылаю читателя к библиографическому указателю, который приводится в каталоге выставки, проходившей в 1980 году во Дворце изящных искусств в Брюсселе:
Тем не менее я хочу упомянуть здесь некоторые работы, из которых в основном черпал материал для своей книги:
Я цитировал Гвиччардини по брюссельскому изданию 1943 года, Ван Мандера — по парижскому изданию 1965 года.
Редакция позволила себе дополнить библиографию, представленную К. А. Роке, списком литературы о Питере Брейгеле на русском языке.
Золотой век нидерландской живописи: Альбом / Авт. — сост Н. Н. Никулин. М., 1981.
Питер Брейгель: Альбом. М., 1995.
Шедевры Фландрии и Голландии: Альбом / Авт. — сост. Ю. И. Кузнецов // Рисунки старых мастеров. Вып. 4. М., 1981.
«Художник и знаток».
«Не хлебом единым жив человек».
«Весна».
«Корабль и галеры».
«Корабль между двумя галерами и падение Фаэтона».
«Большие рыбы поедают малых».
«Башни и ворота Амстердама».
«Встреча Медвежонка и Валентина».
«Война сундуков и копилок».
«Я есмь пастырь добрый…».
Христос и грешница.
Воскресение Христа.
Триумф Смерти.
Триумф Смерти.
Триумф Смерти.
Триумф Смерти.
Триумф Смерти.
Триумф Смерти.
Успение богоматери.
Эльк.
Терпение (Святая Пациенция).
Обезьяны.
Вавилонская башня.
Падение ангелов.
Безумная Грета.
Притча о слепых.
Калеки.
Падение Икара.
Перепись в Вифлееме.
Перепись в Вифлееме.
Избиение младенцев.
Несение креста.
Несение креста.
Зимний пейзаж с ловушкой для птиц.
Охотники на снегу.
Охотники на снегу.
Охотники на снегу.
Страна лентяев.
Сорока на виселице.
Крестьянский танец.
Крестьянская свадьба.